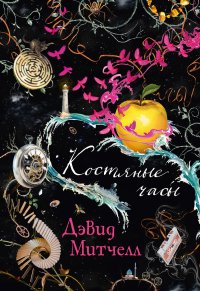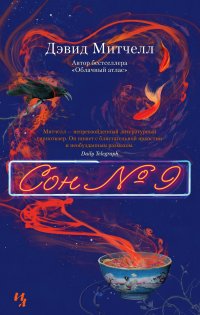
Читать онлайн Сон № 9 бесплатно
- Все книги автора: Дэвид Митчелл
David Mitchell
NUMBER9DREAM
Copyright © 2001 by David Mitchell
This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency
All rights reserved
Перевод с английского под редакцией Александры Питчер
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© М. Нуянзина, перевод, 2003
© А. Питчер, примечания, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство ИНОСТРАНКА®
* * *
Я считаю Чехова своим святым покровителем. Конечно, так думают многие писатели, но я читаю Чехова каждый год. Он напоминает мне о том, что самое главное в литературе – это не идеи, а люди. Очень люблю Булгакова. Он достаточно популярен в англоязычном мире. Булгаков очень изобретателен, и у него большое «чеховское» сердце. Например, Набоков тоже изобретателен, но у него «платоновское» сердце. Его волнуют идеи, а не люди. Ну и конечно же Толстой. Например, «Анна Каренина» – 700 страниц, но не скучно ни на секунду, Толстой умудряется оставаться увлекательным даже на такой большой дистанции.
Дэвид Митчелл
Сравнения Митчелла с Толстым неизбежны – и совершенно уместны.
Kirkus Reviews
Дэвид Митчелл – английский Харуки Мураками.
The New Yorker
Митчелл – один из лучших писателей современности.
San Antonio Express-News
Гениальный рассказчик. Возможно, именно Дэвид Митчелл окажется наиболее выдающимся британским автором нашего времени.
Mail on Sunday
Митчелла сравнивали с Харуки Мураками, Томасом Пинчоном и Энтони Берджессом, но на самом деле он занимает особое место в литературном ландшафте. Восемь его книг экспериментальны, но удобочитаемы. Его предложения лиричны, но повествование стремительно мчится вперед. Под наслоениями аллюзий и необычных конструкций скрывается прозрачный нарратив. В созданной Митчеллом фантастической метавселенной его интересуют общечеловеческие проблемы: как за отпущенный нам краткий срок раскрыть свой потенциал и понять, кто ты и как связан с окружающими.
Time
«Сон № 9» – натуральная феерия, затмевающая даже прошлый митчелловский роман, «Литературный призрак». Будущее британской литературы в надежных руках.
Independent Books of the Year
Головокружительная смесь триллера, трагедии, сказочной притчи, видеоигр и портрета современной неспокойной Японии. Достойнейший кандидат на Букера.
Guardian
После успеха «Литературного призрака» Дэвид Митчелл удвоил усилия – и выдал книгу еще более искрометную.
Independent on Sunday
Источником вдохновения здесь служит не только литература, но также кинематограф, комиксы и даже видеоигры. Токио в изображении Митчелла предстает восхитительно головоломным цифровым лабиринтом. И что самое удивительное: добравшись до конца, гадая, не приснилось ли вам все это, вы ни в коей мере не чувствуете себя обманутым…
Evening Standard
А. С. Байетт назвала «Литературный призрак» одним их лучших дебютов, какие ей только доводилось читать. При работе над вторым романом любому писателю грозят две опасности: попытаться повторить формулу прежнего успеха или, наоборот, как огня бежать всего, связанного с первой книгой. Так вот, в «Сне № 9» Митчелл умудрился пройти между Сциллой и Харибдой: сохранил то лучшее, что было в «Литературном призраке», и создал нечто оригинальное, даже более замысловатое.
Times Literary Supplement
Реальность дробится, слоится и перемешивается в этом романе, который не боится испытывать пределы воображения на прочность. В «Сне № 9», сочетающем элементы «Матрицы» (многоуровневая реальность, игры разума, хореографическая эстетика насилия) с дождливым кибершиком «Бегущего по лезвию», все не то, чем оно кажется.
Big Issue
Изобретательно до безумия.
Sunday Times
Эта фантасмагория, дошедшая до Букеровского шорт-листа, подтверждает статус Митчелла как наиболее одаренного из молодых британских авторов. Немало лет проживший в Хиросиме, он представляет нам феноменальное литературное кабаре из снов, видений и стилизаций, гангстерских баталий и дневников камикадзе.
Independent
Не роман, а сгусток неудержимой энергии, джойсовское извержение языковых игр.
San Francisco Chronicle
«Сон № 9» описывали как смесь Дона Делилло с Уильямом Гибсоном. Можно, конечно, сказать и так, но этот рецепт коктейля и близко не описывает того удовольствия, которое вам предстоит.
The New Yorker
С непринужденностью воздушного гимнаста Митчелл перепрыгивает от романа воспитания к сюрреалистической притче, от разборок якудза к предсмертным запискам человека-торпеды – и после всех кульбитов безупречно приземляется под аплодисменты восторженной публики.
The Seattle Post-Intelligencer
Роман представляет из себя чудовищный водоворот событий, часть из которых происходит с героем во сне, часть – непонятно где, а часть, возможно, и в реальности.
Незаконнорожденный приехал из деревни в большой город искать отца, просто так, без определенных целей, по самим же выдуманному «зову крови», – такова основа сюжета. Отец вовсе не рассчитывал на его появление, а, точнее, предпочел заранее сделать все, чтобы встреча не состоялась, и возвел непреодолимый барьер из бессердечной адвокатессы. Вот, пожалуй, и все, что можно сказать определенно, – дальше лирика переходит в киберпанк, который вдруг сменяется боевиком, тот – «лав стори», потом немного военной мемуаристики, переходящей в детектив, который оказывается вовсе не детективом… И так далее.
Довольно трудно, не дав читателю стройного повествования, удержать его интерес. Митчелл смог, хотя и не совсем честно: без предупреждения меняя акценты, подбрасывая герою (то есть опять же читателю) все новые варианты реальности, автор каждый раз беззастенчиво врет, что именно эта и есть подлинная, единственная. Стилизации начинаются, как правило, незаметно, и когда понимаешь, где очутился, – уже поздно менять отношение к прочитанному. То, что книга читается с удовольствием, во многом определено удачным выбором героя. Симпатичный меломан, с личной трагедией в душе, чужой в огромном Токио, – практически идеальная модель для литературного квеста по жанрам.
Игорь Пронин(Gazeta.ru)
Творчество Митчелла отличается жанровым и стилистическим многообразием, но его проза всегда кристально ясна и динамична…
The New Yorker
Митчелл слышит музыку окружающей действительности и, не сбиваясь с ритма, глубоко погружается в нее.
Booklist
Дэвид Митчелл не столько нарушает все правила повествования, сколько доказывает, что они сковывают живость писательского ума.
Дин Кунц
Дэвиду Митчеллу подвластно все.
Адам Джонсон(лауреат Пулицеровской премии)
Дэвид Митчелл давно и по праву считается одним из лучших – если не самым лучшим современным писателем, который способен держать читателя в напряжении каждой строчкой и каждым словом…
Джо Хилл
Околдовывает и пугает… истинное мастерство рассказчика заключается в том, что Митчелл пробуждает в читателе неподдельный интерес к судьбе каждого из героев.
Scotland on Sunday
Дэвида Митчелла стоит читать ради замысловатой интеллектуальной игры, ради тщательно выписанных героев и ради великолепного стиля.
Chicago Tribune
Дэвид Митчелл – настоящий волшебник.
The Washington Post
Ошеломляющий фейерверк изумительных идей… Каждый новый роман Митчелла глубже, смелее и занимательнее предыдущего. Его проза искрометна, современна и полна жизни. Мало кому из авторов удается так остроумно переплести вымысел с действительностью, объединить глубокомыслие с веселым вздором.
The Times
Митчелл – непревзойденный литературный гипнотизер. Как жаль, что в обычной жизни так редко встречаются изящество и воодушевление, свойственные его романам. Он пишет с блистательной яркостью и необузданным размахом. Воображаемый мир Митчелла радует и внушает надежду.
Daily Telegraph
Митчелл – один из самых бодрящих авторов. Каждый его роман отправляет читателя в увлекательнейшее путешествие.
The Boston Globe
Дэвида Митчелла бесспорно можно назвать самым многогранным и разноплановым среди всех писателей его поколения. Он пишет стильнее Джонатана Франзена, его сюжеты стройнее, чем у Майкла Шейбона, повествование глубже и сложнее, чем у Дженнифер Иган, а мастерством он не уступает Элис Манро…
The Atlantic
Митчелл – прекрасный писатель. Один из секретов его популярности и заслуженной славы заключается в том, что его творчество совмещает неудержимый полет воображения гениального рассказчика с приземленным реализмом истинного гуманиста. Его романы находят отклик у всех, будь то любители традиционного реалистичного повествования, постмодернистского нарратива или фантастических историй.
The New Yorker
Митчелл – писатель даже не глобального, а трансконтинентального, всепланетного масштаба.
New York
Я хочу продолжать писать! Почему по-настоящему хорошие, многообещающие произведения пишут тридцатилетние писатели, которые в свои шестьдесят не всегда могут создать нечто столь же потрясающее и великолепное? Может, им мешает осознание собственного выхода на пенсию? Или они когда-либо сотворили безумно популярное произведение, а потом строчили все менее качественные дубликаты своего же успеха? А может, просто нужно быть жадным и всеядным в чтении, в размышлениях и в жизни, пока вы еще на это способны, и тогда каждый ваш роман будет лучше предыдущего. Я на это надеюсь.
Дэвид Митчелл
* * *
Посвящается Кэйко
Намного легче похоронить действительность, чем избавиться от грез.
Дон Делилло. Американа
Благодарности
А. С. Байетт, Иокасте Браунли, Эмме Гарман, Хироаки Ёсиде, Джен Монтефиоре, Лоуренсу Норфолку, Аласдеру Оливеру, Йену Патену, Джонатану Пеггу, Йену Уилли, Кэрол Уэлч, Джеймсу Хоффману, Майку Шоу.
Нобури Огава, смотритель Мемориального музея кайтэн в Токуяме, предоставил ценные сведения о торпедах кайтэн и их пилотах. Техническую информацию я почерпнул из книги Ричарда О’Нила «Взводы самоубийц» («Suicide Squads», Salamander Books, 1999). Все ошибки являются моими собственными.
1. Паноптикум
«Тут дело простое. Мне известно ваше имя, а некогда вам было известно мое: Эйдзи Миякэ. Да, тот самый Эйдзи Миякэ. Мы с вами занятые люди, госпожа Като, обойдемся без пустых любезностей. Я в Токио, чтобы отыскать отца. Вам известно и его имя, и его адрес. Сообщите мне и то и другое. Немедленно». Ну, или как-то так. В кофейной чашке расползается спираль сливочной галактики, невнятные разговоры обретают четкость. Мое первое утро в Токио, а я уже забегаю далеко вперед. В кафе «Юпитер» плещут волны пятничных планов, обеденного смеха, звяканья посуды. Трутни рявкают в мобильники. Трутни женского пола берут тоном выше, чтобы звучать женственнее. Кофе, сэндвичи с морепродуктами, моющие средства, пар. Мне прекрасно виден центральный вход в «Паноптикум» на противоположной стороне улицы. Впечатляющее зрелище. Верхние этажи готического небоскреба из цирконита скрываются в облаках. Токио варится на пару под плотно притертой крышкой – 34 оС при влажности 86 %, если верить большому дисплею «Панасоник». Город так близко, что его не рассмотреть. Расстояний нет. Все – над головой: стоматологические клиники, детские сады, танцевальные студии. Дороги и тротуары подняты на сумрачные ходули свай. Осушенная Венеция. По зеркальным граням зданий скользят отражения самолетов. Я считал Кагосиму[3] огромной, но она затеряется в любом переулке Синдзюку[4]. Закуриваю сигарету – «Кул», такие же купил байкер в очереди передо мной, – и смотрю на поток автомашин и прохожих на перекрестке Омэ-кайдо и Кита-дори. Трутни в костюмах в тонкую полоску, парикмахер с пирсингом в нижней губе, полуденные пьянчужки, домохозяйки с выводками малышей. Никто не стоит на месте. Реки, снежные бури, потоки машин, байты, поколения, тысяча лиц в минуту. Якусима[5] – тысяча минут на одно лицо. И у каждого есть шкатулки воспоминаний с надписью «Родители». Хорошие снимки, плохие снимки; страшные картинки; кадры, полные нежности; размытый фокус; поцарапанные негативы – не важно: люди знают, кто привел их в этот мир. Акико Като, я жду. Кафе «Юпитер» – ближайшее к «Паноптикуму» место, где можно пообедать. Вот бы вы заглянули сюда на чашку кофе с сэндвичем. Я узна́ю вас, представлюсь и постараюсь убедить, что закон природы на моей стороне. Как грезы воплощаются в реальность? Я вздыхаю. Не очень хорошо, не очень часто. Чтобы получить желаемое, придется штурмовать крепость. Хорошего мало. В огромном здании «Паноптикума» наверняка есть и другие выходы, и собственные рестораны. А вы – императрица, и обед вам подают рабы. И кто сказал, что вам вообще нужен обед? Может, человеческое сердце на завтрак насыщает вас до самого ужина. Я погребаю окурок в останках его предшественников и решаю покинуть наблюдательный пост, как только допью кофе. Я иду к вам, Акико Като. В кафе «Юпитер» работают три официантки. Одна – начальница, высохшая, как вдова императора, которая свела мужа в могилу своим нытьем, у второй – визгливый голос ослицы, а третья стоит ко мне спиной, но у нее – самая прекрасная шея во всем мироздании. Вдова рассказывает Ослице о недавно распавшемся браке своего парикмахера:
– Когда жена перестает удовлетворять его запросам, он вышвыривает ее за дверь.
Официантка с прекрасной шеей отбывает пожизненный приговор у мойки. Это вдова с Ослицей обращаются с ней холодно или она сама прохладно к ним относится? Этаж за этажом «Паноптикум» исчезает из виду – облака спустились до восемнадцатого. Я отвожу взгляд, а они продолжают опускаться. Высчитываю на бумажной салфетке количество прожитых дней – 7290, включая четыре високосных года. На циферблате без пяти час, и поток трутней изливается из кафе «Юпитер». Наверное, трутни боятся, что их реструктурируют, если к часу дня они не вернутся в залитые флуоресцентным светом соты. Моя пустая чашка стоит среди кофейных лужиц. Что ж. Как только часовая стрелка дойдет до единицы, я отправлюсь в «Паноптикум». Признаюсь, я волнуюсь. И хорошо, что волнуюсь. В прошлом году к нам в школу приезжал вербовщик из министерства обороны. Он говорил, что армии не нужны люди, невосприимчивые к страху: бойцы, которые не испытывают страха, погибают всем взводом в первые пять минут сражения. Хороший солдат контролирует свой страх и использует его, чтобы обострить чувства. Еще кофе? Нет. Еще одну сигарету, чтобы обострить чувства.
Стрелка часов доходит до половины второго – крайний срок давно истек. Пепельница переполнена. Я встряхиваю пачку сигарет – выкурю последнюю. Облака спустились до девятого этажа «Паноптикума». Акико Като вглядывается в туман из окна своего роскошного офиса с кондиционированным воздухом. Чувствует ли она мое присутствие, как я чувствую ее? Знает ли она, что сегодняшний день – судьбоносный? Еще одна – последняя, последняя, последняя сигарета; потом – на штурм, иначе из нервного я превращусь в бесхребетного. Когда я пришел в кафе «Юпитер», здесь уже сидел старик. Он так и сидит, не в силах оторваться от своего «видбоя». Вылитый Лао-цзы[6] из школьного учебника – с голым черепом, сморщенный как орех, бородатый. Другие посетители входят, заказывают, пьют, едят и уходят – и все за несколько минут. Идут десятилетия. А Лао-цзы сидит и сидит. Официантки, наверно, думают, что меня продинамила девушка или что я псих и поджидаю кого-нибудь из них, хочу выследить, где они живут. Звучит ресторанная версия «Imagine»[7] – Джон Леннон[8] от ужаса переворачивается в гробу. Противно до невозможности. Записывать такое – просто позор; наверняка даже те, кто это делал, понимали, что творят мерзость. Входят две беременные, заказывают лимонный чай со льдом. Лао-цзы, сотрясаемый необоримым приступом кашля, рукавом стирает с экрана брызги мокроты. Я глубоко затягиваюсь, тонкой струйкой выпускаю дым через ноздри. Нужно хорошее наводнение, чтобы отмыть Токио дочиста. И чтобы по Гиндзе[9] поплыли гондольеры с мандолинами.
– Заметь себе, – продолжает Вдова, обращаясь к Ослице, – все его жены такие прилипчивые и жеманные создания, что вполне заслуживают своей участи. Как надумаешь замуж, выбирай мужа так, чтобы его мечты точно совпадали по размеру с твоими.
Потягиваю кофейную пенку. На ободке чашки – следы губной помады. Подыскиваю прецедент, чтобы доказать, что касаться губами этой стороны чашки – значит целовать незнакомку. Это увеличило бы количество целованных мною девушек до трех, что все равно ниже среднестатистического уровня. Оглядываю кафе «Юпитер» в поисках претендентки на поцелуй и останавливаюсь на официантке, обладательнице живой, мудрой луносветной шеи с изгибом скрипичного грифа. Шею щекочет прядка, выпавшая из прически. Сравниваю фуксиево-розовый отпечаток на чашке с розовой помадой на губах официантки. Если это и совпадение, то с большой натяжкой. Кто знает, сколько раз чашку мыли, вплавляя атомы помады в молекулы фарфора? Кроме того, у очаровательной жительницы Токио наверняка столько поклонников, что их именами можно заполнить карманный компьютер. В возбуждении дела отказано. Лао-цзы ворчит на свой «видбой»:
– Проклятые биоборги. И так каждый раз, будь они прокляты!
Я допиваю остатки кофе и надеваю бейсболку. Пора идти на поиски родителя.
Холл «Паноптикума», огромный, как чрево каменного кита, заглатывает меня целиком. В пол вмонтированы сенсорные указатели; повинуясь им, иду к свободной пропускной кабинке. За спиной с шипением закрывается дверь, и я запечатан в глухой темноте. Сканер просвечивает меня с головы до ног, распознавая штрихкод на идентификационной табличке. Загорается желтая подсветка – я вижу свое отражение. Выгляжу как полагается, не придерешься. Комбинезон, бейсболка, чемоданчик с инструментами, планшет с зажимом для бумаг. На экране передо мной возникает ледяная дева. Она безупречно, симметрично красива. На лацкане светится бейджик: «ОХРАНА».
– Назовите свое имя, – произносит она, – и род занятий.
Интересно, насколько она человек. В наши дни компьютеры обретают облик людей, а люди уподобляются компьютерам. Я разыгрываю деревенщину, которого обуял благоговейный страх.
– День добрый. Меня зовут Рэн Согабэ. Я – Друг золотых рыбок.
Она морщит лоб. Отлично. Она всего лишь человек.
– Друг золотых рыбок?
– Видали нашу рекламу? – Я напеваю: – «Мы сделаем все для друзей с плавниками…»
– Зачем вам нужен доступ в «Паноптикум»?
Изображаю недоумение:
– Я обслуживаю аквариум фирмы «Осуги и Косуги».
– «Осуги и Босуги».
Гляжу на листок в зажиме планшета:
– Во-во, она самая.
– Сканер обнаружил в вашем чемодане странные предметы.
– Только что получены из Германии. Позвольте продемонстрировать вам фторопластовую кормушку с ионизатором, – без сомнения, вам известно, насколько важна pH-стабильность для поддержания благоприятной среды в аквариуме. Из всех компаний, занимающихся аквакультурами в стране, мы – первые, кто взял на вооружение это маленькое чудо. Могу предложить вам краткую…
– Положите правую руку на сканер доступа, господин Согабэ.
– А это щекотно?
– Вы положили левую руку.
– Прошу прощения.
Проходит целая вечность, и зажигается зеленая надпись: «АВТОРИЗОВАНО».
– Ваш код доступа?
Ее бдительность неусыпна.
Я напряженно щурюсь:
– Так сразу и не припомнишь… Триста тринадцать – шестьсот тридцать шесть – девятьсот шестьдесят девять.
Взгляд Ледяной девы бликует.
– Код доступа действителен…
Он и должен быть действителен. За эти девять цифр я отвалил целое состояние лучшему независимому хакеру Токио.
– …до конца июля. Должна вам напомнить, что уже август.
Вот дешевки! Уроды, дрянь, хакеры дерьмовые!
– Как интересно… – Почесываю в паху, чтобы выиграть время. – Этот код мне дала госпожа… – кидаю страдальческий взгляд на планшет с бумагами, – Акико Като, адвокат из «Осуги и Косуги».
– «Босуги».
– Как вам угодно. Что ж, если мой код недействителен, я, понятное дело, не могу войти, так? Жаль. Когда госпожа Като захочет узнать, почему ее бесценные окинавские серебристые погибли в результате отравления собственными экскрементами, я направлю ее к вам. А напомните, как вас зовут?
Ледяная дева застывает. С такими усердными экземплярами легко блефовать.
– Возвращайтесь завтра, когда обновите код доступа.
Я качаю головой:
– Исключено! Да вы знаете, сколько рыбок на мне висит? Раньше у нас был более свободный график, но с тех пор, как за компанию взялись профессиональные менеджеры, мы должны управляться минута в минуту. Один пропущенный заказ, и наши друзья с плавниками наглотаются фосфатов. Вот мы сейчас с вами препираемся, а девяносто скалярий в столичной мэрии вот-вот задохнутся. Ничего не имею лично против вас, но требую, чтобы вы представились – для внесения вашего имени в официальный протокол об отказе от ответственности. – Я выдерживаю драматическую паузу.
Ледяная дева трепещет.
Я смягчаюсь:
– Позвоните секретарше госпожи Като, она подтвердит, что мне назначено.
– Я уже позвонила.
Теперь моя очередь поволноваться. Если этот хакер еще и с псевдонимом ошибся, то меня порубят на фарш.
– Но вам назначено на завтра.
– Верно. Совершенно верно. Мне было назначено на завтра. Но вчера вечером Министерство рыбнадзора экстренно оповестило всех, занятых в этом бизнесе. С Тайваня получена зараженная, э-э-э, эболой партия серебристых рыбок, началась эпидемия. Зараза распространяется через систему воздухообмена, попадает в жабры и… в общем, отвратительное зрелище. Рыбку буквально раздувает, пока она не лопнет и внутренности не вывалятся. Ученые работают над вакциной, но, между нами говоря…
Ледяная дева дает слабину:
– Вам предоставляется служебная авторизация на два часа. Из пропускной кабины следуйте к турболифту. Не отклоняйтесь от сенсорных указателей на полу, иначе включится тревога и вам будет предъявлено обвинение в незаконном вторжении. Лифт автоматически доставит вас в офис «Осуги и Босуги», восемьдесят первый этаж.
– Восемьдесят первый этаж, господин Согабэ, – объявляет лифт. – Всегда к вашим услугам.
Двери открываются, и я попадаю в тропические заросли папоротников и других растений в кадках. Птичьими трелями звенят телефоны. Молодая женщина за конторкой из черного дерева снимает очки и откладывает в сторону опрыскиватель.
– Охрана сообщила, что сейчас подойдет господин Согабэ.
– А вы, значит, Кадзуё? Кадзуё, верно?
– Да, но…
– Понятно, почему Рэн называет вас своим Паноптикумным ангелом!
Секретарша игнорирует наживку.
– Как вас зовут?
– Дзёдзи! Я ученик Рэна! Только не говорите, что он обо мне не упоминал. Обычно я обслуживаю Харадзюку, но в этом месяце пришлось взять и его клиентов в Синдзюку, из-за его, э-э-э, генитальной малярии.
Она меняется в лице:
– Простите?
– Рэн вам не говорил? Ну, можно ли его винить? Босс думает, что у него просто сильная простуда, вот почему Рэн не отменил встреч с клиентами… Все шито-крыто!
Я робко улыбаюсь и оглядываюсь, ища камеры наблюдения. Не видно ни одной. Опускаюсь на колени, открываю чемоданчик так, что крышка не позволяет рассмотреть его содержимое, и собираю свое секретное оружие.
– Знаете, к вам сюда так просто не проберешься. Искусственный интеллект! Искусственная тупость. Кабинет госпожи Като дальше по коридору, да?
– Да. Но сперва, господин Дзёдзи, вы должны пройти сканирование сетчатки.
– Это щекотно?
Все. Закрываю чемоданчик и подхожу к стойке, держа руки за спиной и глупо улыбаясь.
– Куда смотреть?
Она разворачивает сканер в мою сторону:
– В этот глазок.
– Кадзуё, – смотрю, нет ли кого вокруг, – знаете, Рэн рассказал мне о… Это правда?
– Что правда?
– Что у вас одиннадцать пальцев на ногах?
– Одиннадцать пальцев?!
И как только она переводит взгляд на свои ноги, я выпускаю ей в шею порцию микрокапсул транквилизатора немедленного действия, достаточную, чтобы свалить с ног всю китайскую армию. Секретарша обмякает на конторке. Собственной потехи ради завершаю сцену тонким каламбуром в духе Джеймса Бонда.
Стучу три раза.
– Друг золотых рыбок, госпожа Като!
Загадочная пауза.
– Войдите.
Удостоверившись, что в коридоре никого нет, проскальзываю внутрь. Логово Акико Като именно такое, каким я его себе представлял. Клетчатый ковер. Мельтешение облаков за изогнутым окном. Старомодные шкафы с выдвижными картотечными ящиками во всю стену. На другой стене картины – столь безупречного вкуса, что взгляду не за что зацепиться. Между двумя полукруглыми диванами стоит огромный шар аквариума, в котором флотилия окинавских серебристых осаждает коралловый дворец и затонувший линкор. Девять лет прошло с тех пор, как я видел Акико Като в последний раз, но она не постарела ни на день. Ее красота все так же холодна и бессердечна. Акико Като глядит на меня из-за письменного стола:
– Вы не тот, кто обычно приходит к рыбкам.
Запираю дверь и кладу ключ в карман, где уже лежит пистолет. Она окидывает меня взглядом с головы до ног.
– Я пришел не к рыбкам.
Она откладывает ручку.
– Тогда с какой стати…
– Тут дело простое. Мне известно ваше имя, а некогда вам было известно мое: Эйдзи Миякэ. Да, тот самый Эйдзи Миякэ. Верно. Прошло много лет. Послушайте. Мы с вами занятые люди, госпожа Като, обойдемся без пустых любезностей. Я в Токио, чтобы отыскать отца. Вам известно его имя. Вам известен его адрес. Сообщите мне и то и другое. Немедленно.
Акико Като моргает, проверяя факты. Потом смеется:
– Эйдзи Миякэ?
– Не вижу ничего смешного.
– А почему не Люк Скайуокер? И не Зэкс Омега? Ты в самом деле рассчитываешь, что эта уморительная речь заставит меня повиноваться? «Юный островитянин отправляется в опасное путешествие, на поиски отца, которого никогда не видел». А знаешь, что бывает с юными островитянами, когда они расстаются с фантазиями? – С притворной жалостью она качает головой. – Даже друзья называют меня самым ядовитым адвокатом в Токио. А ты врываешься ко мне и хочешь запугать, чтобы я выдала тебе секретную информацию о своем клиенте? Очнись.
– Госпожа Като. – Я выхватываю «Вальтер ПК 7,65 мм» и направляю на нее. – Досье на моего отца находится у вас. Дайте мне его. Пожалуйста.
– Ты мне угрожаешь? – притворно возмущается она.
Щелкаю предохранителем.
– Надеюсь. Руки вверх, чтобы я их видел.
– Ты не по тому сценарию играешь, малыш.
Она тянется к трубке, и телефон взрывается, как пластмассовая сверхновая. Пуля отскакивает от пуленепробиваемого стекла и вспарывает картину с неестественно яркими подсолнухами. Акико Като таращит глаза на прореху:
– Варвар! Ты испортил моего Ван Гога! Ты за это заплатишь!
– Да, в отличие от вас. Досье. Живо!
Акико Като рычит:
– Охрана будет здесь через тридцать секунд.
– Я видел схему вашего кабинета. Он недоступен для внешнего наблюдения и звуконепроницаем. Никакой информации ни извне, ни изнутри. Бросьте пустые угрозы и давайте досье.
– У тебя могла быть такая счастливая жизнь! Торчал бы на своей Якусиме, собирал бы апельсины с дядюшками и бабушкой…
– Больше просить я не буду.
– Не все так просто. Видишь ли, твоему отцу есть что терять. Если о его байстрюке – то есть о тебе – станет известно, то позор коснется многих высокопоставленных особ. Поэтому он и платит нам за то, чтобы эти сведения хранились в строжайшей тайне.
– И что?
– И то, что эту уютную лодочку ты и пытаешься раскачать.
– А, понятно. Если я встречусь с отцом, вы больше не сможете его шантажировать.
– Между прочим, за слово «шантаж» приходится отвечать в суде даже тем, кто все еще ищет подходящее средство от угрей. Адвокатам твоего отца необходима осмотрительность. Ты знаешь, что такое осмотрительность? Это то, чем порядочные граждане отличаются от вооруженных преступников.
– Без досье я отсюда не уйду.
– Что ж, у тебя уйма времени. Я бы заказала сэндвичей, да ты расстрелял телефон.
Так, пора с этим кончать.
– О’кей, давайте обсудим все по-взрослому.
Я опускаю пистолет, и Акико Като победно улыбается. Капсулы транквилизатора вонзаются ей в шею. Она оседает в кресле, безмятежная, как морские глубины.
Скорость решает все. Наслаиваю пленку с отпечатками пальцев Акико Като поверх отпечатков Рэна Согабэ и получаю доступ в ее компьютер. Откатываю в угол кресло с неподвижным телом. Не очень приятно – меня не оставляет чувство, что она вот-вот проснется. Многие компьютерные файлы защищены паролями, но я могу вскрыть электронные замки картотечных шкафов. МИ для МИЯКЭ. Мое имя появляется в меню. Двойной клик. ЭЙДЗИ. Двойной клик. Слышу многозначительное механическое клацанье – и один из центральных ящиков выдвигается. Пробегаю пальцами по ряду плоских металлических контейнеров. МИЯКЭ – ЭЙДЗИ – ОТЦОВСТВО. Контейнер отливает золотом.
– Брось.
Акико Като ногой закрывает за собой дверь и направляет «Зувр лоун-игл 440» мне между глаз. Онемев, смотрю на тело в кресле. Акико Като, стоящая у двери, криво усмехается. В ее зубах сверкают изумруды и рубины.
– Это биоборг, дурень! Репликант! Ты что, не смотрел «Бегущего по лезвию»[10]? Мы видели, как ты идешь сюда. Наш агент сел тебе на хвост в кафе «Юпитер». Помнишь старика, которому ты купил сигарет? Его «видбой» – это камера наблюдения, подключенная к центральному компьютеру «Паноптикума». А теперь встань на колени – медленно! – и подтолкни ко мне свой пистолет. Медленно. Не нервируй меня. С такого расстояния «зувр» так раздербанит тебе рожу, что родная мать не признает. Кстати, в этом она и так не сильна, верно?
Пропускаю шпильку мимо ушей.
– С вашей стороны неосмотрительно приближаться к незваному гостю без подкрепления.
– Досье твоего отца – очень деликатный вопрос.
– Значит, биоборг сказал правду. Вы не хотите лишаться денег, которые отец платит вам за молчание.
– Сейчас тебя должны волновать не этические принципы, а то, что я вот-вот превращу тебя в омлет.
Не отводя от меня взгляда, она наклоняется, чтобы подобрать мой «вальтер». Я направляю чемоданчик ей в лицо и отщелкиваю замки. Срабатывает вмонтированное под крышку взрывное устройство, яркая вспышка слепит ей глаза. Акико Като пронзительно визжит, я кувырком откатываюсь в сторону, «зувр» стреляет, стекло лопается, я взмываю в воздух, в прыжке бью ее ногой в висок, вырываю пистолет – он снова стреляет, – разворачиваю ее и апперкотом отправляю через полукруглый диван. Настоящая Акико Като больше не двигается. Сую запечатанное досье отца под комбинезон, собираю чемодан с инструментами и выхожу в коридор. Тихонько закрываю дверь – по ковру в коридоре уже медленно расплывается пятно. Непринужденной походкой иду к лифту, насвистывая «Imagine». Это была не самая трудная часть дела. Теперь нужно выбраться из «Паноптикума» живым.
Трутни суетятся вокруг секретарши, лежащей без сознания среди тропических зарослей. Странно. Куда бы я ни пошел, за мной остается череда потерявших сознание женщин. Я вызываю лифт и выказываю подобающую случаю озабоченность:
– Мой дядюшка называет это синдромом высотной качки. Верите или нет, на рыбок это действует точно так же.
Приходит лифт, из него появляется пожилая медсестра, рассекает толпу зевак. Я вхожу внутрь и быстро нажимаю кнопку, пока никто не вошел.
– Погоди! – Начищенный до блеска ботинок вклинивается между закрывающимися дверями, и какой-то охранник с усилием раздвигает их. Громадой туши и раздутыми ноздрями он напоминает минотавра.
– Нулевой уровень, сынок.
Я нажимаю кнопку, и мы начинаем спуск.
– Итак, – произносит Минотавр, – ты промышленный шпион или кто?
От резких выбросов адреналина в кровь у меня появляются странные ощущения.
– А?
Минотавр невозмутимо продолжает:
– Ты ведь хочешь побыстрее сбежать, верно? Вот почему ты чуть не зажал меня дверями наверху.
О-о. Шутка.
– Ага. – Я похлопываю по чемоданчику. – Здесь у меня шпионские данные о золотых рыбках.
Минотавр фыркает.
Лифт замедляет ход, двери открываются.
– После вас, – говорю я, хотя Минотавр и не собирается пропускать меня вперед.
Он исчезает в боковой двери. Указатели на полу возвращают меня к пропускной кабинке. Дарю Ледяной деве лучезарную улыбку:
– Так мы с вами встретились и на входе, и на выходе? Это рука судьбы.
Она взглядом указывает на сканер:
– Стандартная процедура.
– О!
– Выполнили свои обязанности?
– Полностью, благодарю вас. Знаете ли, мы в «Друге золотых рыбок» гордимся тем, что за восемнадцать лет существования нашего дела ни разу не потеряли рыбку по собственной небрежности. Мы всегда проводим вскрытие, чтобы установить причину смерти: в большинстве случаев это старость. Или – в период предновогодних вечеринок – отравление алкоголем, спровоцированное самим клиентом. Если вы не заняты, то за ужином я бы с удовольствием рассказал вам об этом подробнее.
Ледяная дева окидывает меня леденящим взглядом:
– У нас нет абсолютно ничего общего.
– Мы оба созданы на основе углерода. В наши дни этот факт нельзя оставлять без внимания.
– Если вы хотите отвлечь меня от вопроса, почему у вас в чемоданчике находится «Зувр четыреста сорок», то ваши усилия напрасны.
Я профессионал. Страх подождет. Как, как я мог так сглупить?
– Это абсолютно невозможно.
– Пистолет зарегистрирован на имя Акико Като.
– А-а-а… – кашлянув, открываю чемодан и достаю пистолет. – Вы имеете в виду это?
– Именно это.
– Это?
– Это самое.
– Это, э-э, для…
– Да? – Ледяная дева тянется к кнопке тревоги.
– Вот для чего!
Первый выстрел оставляет на стекле щербину – взвывает сирена – второй выстрел покрывает стекло лабиринтом трещин – шипит газ – третий выстрел разносит стекло вдребезги – я бросаюсь в проем – крики, топот – колесом качусь по полу, мигающему стрелками-указателями. Люди в ужасе приседают, жмутся к стенам. Шум и суматоха. В боковом коридоре громыхают ботинки охранников. Снимаю «зувр» с двойного предохранителя, переключаю на непрерывный плазменный огонь, кидаю под ноги преследователям и бросаюсь к выходу. До взрыва три секунды, но их недостаточно – меня подбрасывает, швыряет во вращающуюся дверь, и я кубарем скатываюсь по ступенькам. Оружие, способное взорвать владельца, – неудивительно, что «зувры» сняли с производства через два с половиной месяца после того, как их в производство запустили. Позади – хаос, клубы дыма, брызги спринклеров. Вокруг – шок, оцепенение, аварии на дорогах и – что мне нужно больше всего – перепуганные толпы.
– Там псих! Псих на свободе! Гранаты! У него гранаты! Вызовите полицию! Нужны вертолеты! Окружить все вертолетами! Больше вертолетов! – ору я и ковыляю в ближайший универмаг.
Достаю из нового портфеля досье отца – оно все еще затянуто в пластик – и мысленно запечатлеваю этот момент для потомков. Двадцать четвертого августа, в двадцать пять минут третьего, на заднем сиденье такси с водителем-биоборгом, огибая западную часть парка Ёёги, под небом, замызганным, как чехол на футоне[11] холостяка, меньше чем за сутки после приезда в Токио, я устанавливаю личность отца. Неплохо. Поправляю галстук, представляю, что Андзю, болтая ногами, сидит рядом со мной.
– Видишь? – говорю я ей, похлопывая по досье. – Вот он. Его имя, его лицо, его дом, кто он, что он. Я это сделал. Ради нас обоих.
Такси прижимается к обочине – на нас в синем смещении движется машина «скорой помощи». Ногтем разрываю пластик, извлекаю картонную папку. ЭЙДЗИ МИЯКЭ. ЛИЧНОСТЬ ОТЦА. Глубоко вдыхаю – вот оно, то, что казалось таким далеким.
Первая страница.
Воздухочувствительные чернила расплываются белизной.
Лао-цзы ворчит на «видбой»:
– Проклятые биоборги. И так каждый раз, разрази вас гром.
Я допиваю остатки кофе, надеваю бейсболку и мысленно разминаюсь.
– Эй, Капитан, – хрипит Лао-цзы. – Сигаретки, часом, не найдется?
Показываю пустую пачку «Майлд севен». Он смотрит страдальчески. Мне все равно нужно купить еще. Впереди напряженная встреча.
– Здесь есть автомат?
– Вон там, – кивает он. – У кадок с растениями. Я курю «Карлтон».
Приходится разменять еще одну купюру в тысячу иен. Деньги в Токио просто испаряются. Надо бы заказать кофе, чтобы повысить уровень адреналина перед встречей с реальной Акико Като. Вместо воображаемого «Вальтера ПК». Призываю на помощь свои телепатические способности. «Официантка! Вы, с самой прекрасной шеей во всем мироздании! Прекратите доставать стаканы из посудомоечной машины и подойдите к стойке!» Сегодня телепатия не срабатывает. К стойке направляется Вдова. С близкого расстояния я замечаю, что ноздри у нее как розетка для фена – маленькие узкие щелочки. Она небрежно кивает, когда я благодарю ее за кофе, будто это она покупатель, а не я. Медленно возвращаюсь на свое место у окна, стараясь не пролить кофе, открываю пачку «Карлтона» и безуспешно пытаюсь высечь пламя из зажигалки. Лао-цзы сует мне коробок рекламных спичек из бара под названием «У Митти»[12]. Прикуриваю сигарету себе, потом ему – он поглощен новой игрой. Он берет сигарету – его пальцы грубы, как шкура крокодила, – затягивается и издает благодарный вздох, понятный только курильщикам.
– Преогромное спасибо, Капитан. Моя невестка пристает, чтобы я бросил, а я говорю: все равно умираю, так зачем мешать природе?
Бурчу в ответ что-то сочувственное. Эти папоротники слишком красивы, вряд ли они настоящие. Слишком густые, слишком перистые. В Токио привольно живется лишь голубям, воронам, крысам, тараканам и адвокатам. Присыпаю кофе сахаром, кладу ложечку поверх чашки, вогнутой стороной вверх, и мееееееееедленно выдавливаю в нее сливки. Пангея[13] вращается, в первозданном виде покачивается на поверхности, а потом разделяется на материки поменьше. Играть с кофе – единственное удовольствие, которое в Токио мне по карману. Свою капсулу я оплатил за три месяца вперед, истратив все деньги, что скопил, работая на дядюшку Апельсина и дядюшку Патинко[14], и оказался перед проблемой «курица или яйцо»: если не работать, то я не смогу остаться в Токио и найти отца, но если работать, то когда его искать? Работа. Слово как гора шлака, что застит солнце. Двумя моими талантами много не заработаешь: я умею собирать апельсины и играть на гитаре. Сейчас до ближайшего апельсинового дерева километров пятьсот, а на гитаре я никогда в жизни не играл на публику. Теперь мне ясно, что движет трутнями. Работай – или пойдешь ко дну. Токио превращает тебя в баланс на банковском счете с притороченным к нему телом. Размер баланса на счете определяет, где тело может жить, на какой машине ездить, как одеваться, перед кем пресмыкаться, с кем встречаться и на ком жениться, мыться в канаве или нежиться в джакузи. Если мой домовладелец, уважаемый Бунтаро Огисо, меня обжулит, я окажусь в безвыходном положении. Он не похож на жулика, но жулики всегда притворяются честными людьми. Когда я встречусь с отцом – самое большее через пару недель, – то хочу продемонстрировать, что твердо стою на ногах и не нуждаюсь в подачках.
Вдова картинно испускает трагический вздох:
– По-вашему, это последняя упаковка кофейных фильтров?
Официантка с прекрасной шеей кивает.
– Самая последняя? – уточняет Ослица.
– Самая-самая последняя, – подтверждает моя официантка.
Вдова возводит очи горе, качает головой:
– Как такое могло случиться?
Ослица юлит:
– Я отослала заказ в четверг.
Официантка с прекрасной шеей пожимает плечами:
– Доставка занимает три дня.
– Надеюсь, – предостерегающе заявляет Вдова, – вы не вините в этом кризисе Эрико-сан.
– А я надеюсь, вы не вините меня за напоминание, что к пяти часам мы останемся без фильтров. Кто-то должен был об этом сказать. – (Патовая ситуация.) – Если хотите, я могу взять наличные из кассы и купить фильтры в магазине.
Вдова гневно зыркает на нее:
– Я начальница смены, мне и решать.
– Я не могу пойти, – хнычет Ослица. – Я утром сделала перманент, а с минуты на минуту начнется ливень…
Вдова обращается к официантке с прекрасной шеей:
– Ступайте, купите упаковку фильтров. – Она открывает кассу и достает купюру в пять тысяч иен. – Сохраните чек и принесите сдачу. Чек – самое важное. Не портите мне бухгалтерию.
Официантка с прекрасной шеей снимает резиновые перчатки и фартук, берет зонтик и выходит, не сказав ни слова.
Вдова прищуривает глаза:
– Эта девица слишком много о себе воображает.
– Подумать только, резиновые перчатки! – фыркает Ослица. – Как будто она рекламирует крем для рук.
– Студенты сейчас слишком избалованы. Интересно, что она изучает?
– Снобологию.
– Она считает, что для нее закон не писан.
Я смотрю, как она стоит у светофора на переходе через Омэ-кайдо. Погода в Токио не подчиняется общепланетарным законам. Жарко, как в духовке, но черная крыша облаков вот-вот обрушится под тяжестью дождя. Это чувствуют прохожие, стоящие на островке посреди Кита-дори. Это чувствуют две молодые женщины, которые затаскивают рекламный щит в «Нерон пицца эмпориум». Это чувствует армия стариков. Болиголов, соловьи, ми минор[15] – громмммммммм! Плюх пузом по воде – громмммммммм, как гудение ослабшей басовой струны. Андзю любила гром, наш день рожденья, верхушки деревьев, море и меня. Всякий раз, когда громыхал гром, она сияла гоблинской ухмылкой. Капли дождя – их сначала слышно – шшшш-ш-ш-ш-ш-ш – а потом видно – шшшш-ш-ш-ш-ш-ш – шелест призрачной листвы – пятнают тротуар, щелкают по крышам автомобилей, барабанят по брезенту. Моя официантка открывает большой сине-красно-желтый зонт. Загорается зеленый свет, и пешеходы бросаются к укрытию, под ненадежной защитой пиджаков и газет.
– Она промокнет насквозь, – говорит Ослица почти радостно.
Яростный ливень стирает с лица земли дальний конец Омэ-кайдо.
– Насквозь или не насквозь, а кофейные фильтры нужны, – отвечает Вдова.
Моя официантка исчезает из виду. Надеюсь, она найдет, где спрятаться. Кафе «Юпитер» наполняется ликующими беженцами, которые соревнуются друг с другом в любезности. Вжикает молния, и – контрапунктом – мигает свет в кафе «Юпитер». Беженцы хором вопят: «Уууу-у-у-у-у-у!» Беру еще одну спичку и закуриваю еще одну сигарету. Не могу же я пойти на очную ставку с Акико Като, пока не кончилась гроза. Если я промокну, то в ее офисе буду выглядеть так же внушительно, как мокрый суслик. Лао-цзы посмеивается, тут же заходится кашлем и судорожно ловит ртом воздух.
– Ого! Такого ливня не было года с семьдесят первого. Видно, конец света пришел. По телевизору говорили, он вот-вот наступит.
Час спустя перекресток Кита-дори и Омэ-кайдо представляет собой слияние бурлящих, необузданных рек. Дождь просто неправдоподобный. Даже у нас, на Якусиме, не бывает таких сильных дождей. Праздничное настроение иссякло, посетителей обуяла безысходность. Пол кафе «Юпитер» фактически весь под водой – сидим на табуретках, столах и стойках. Движение на дорогах замирает, машины исчезают в пенных потоках. Семья из шести человек жмется друг к другу на крыше такси. Младенец начинает орать и никак не хочет заткнуться. Подчиняясь невидимой силе, посетители сбиваются в кучки, и вот уже слышны разговоры о том, чтобы перебраться на верхние этажи, а то и на крышу; о вертолетах военно-морских сил; Эль-Ниньо[16]; о том, не лучше ли залезть на деревья; о вторжении северокорейской армии. Закуриваю еще одну сигарету и не говорю ни слова: если у корабля много капитанов, он непременно налетит на скалу. Семья на крыше такси теперь насчитывает всего троих. В водовороте кружатся разные предметы, отнюдь не созданные для сплава. Кто-то включает радио, но не может поймать ничего, кроме лавины помех. Уровень воды за стеклом поднимается все выше и выше, окна уже затоплены до половины. Под водой почтовые ящики, мотоциклы, светофоры. К окну вальяжно подплывает крокодил и тычется мордой в стекло. Никто не кричит. Мне хочется, чтобы кто-нибудь закричал. У него в пасти что-то дергается – чья-то рука. Его взгляд останавливается на мне. Мне знаком этот взгляд. Глаза сверкают. Зверюга, дернув хвостом, скользит в сторону.
– Токио, Токио, – хмыкает Лао-цзы. – Не пожар, так землетрясение. Не землетрясение, так бомбы. Не бомбы, так наводнение.
Вдова квохчет со своего насеста:
– Пора эвакуироваться. Первыми – женщины и дети.
– Эвакуироваться – куда? – спрашивает мужчина в грязном плаще. – Один шаг за дверь – и течение смоет вас дальше острова Гуам.
Ослица подает голос с самого безопасного места – с полки для кофейных фильтров:
– Если мы останемся, то утонем!
Беременная трогает рукой живот и шепчет:
– Ох нет, не сейчас, не сейчас.
Священник, вспомнив о своем пристрастии к выпивке, отхлебывает из плоской фляжки. Лао-цзы мурлычет себе под нос матросскую песенку. Младенец все никак не заткнется. Вижу, как неистовый поток увлекает вдаль раскрытый зонт, красно-сине-желтый зонт, а с ним и мою официантку – она то скрывается под водой, то выныривает, судорожно молотит по воде руками, ловит ртом воздух. Не раздумывая, я вспрыгиваю на стойку и открываю верхнее окно, до которого еще не дошла вода.
– Не надо! – хором кричат беженцы. – Это верная смерть!
Швыряю свою бейсболку Лао-цзы, будто фрисби:
– Я вернусь.
Сбрасываю кроссовки, подтягиваюсь на руках и вылезаю в окно – бурлящий поток, словно мифическая стихия, колошматит меня, топит и снова выталкивает на поверхность с дикой скоростью. Вспышка молнии освещает Токийскую телебашню[17], наполовину погруженную в воду. Здания пониже тонут у меня на глазах. Должно быть, количество погибших исчисляется миллионами. Лишь «Паноптикум» не пострадал, возвышаясь в самом сердце урагана. Море кренится, вздымается, завывает ветер – обезумевший оркестр. Официантка и зонт то близко, то далеко-далеко. Когда мне уже кажется, что я вот-вот пойду ко дну, она подгребает ко мне на своем зонте-коракле[18].
– Тоже мне, спасатель выискался, – говорит она, хватая меня за руку.
Она улыбается, глядит мне за спину, и ее лицо тут же искажает гримаса ужаса. Я оборачиваюсь – к нам приближается крокодилья пасть. Резко высвобождаю руку, изо всех сил отталкиваю зонт и поворачиваюсь навстречу смерти.
– Нет! – кричит моя официантка, как и подобает.
Я молча жду своей участи. Крокодил изгибается и нырком уходит на глубину, его туша погружается под воду, пока не исчезает даже хвост. Может, он просто хотел меня напугать?
– Скорее! – зовет официантка, но зазубренные клыки впиваются мне в правую ногу и тащат под воду.
Я лягаю крокодила, но с тем же успехом мог бы пинать кедр. Все глубже, глубже, глубже; я пытаюсь вырваться, но безуспешно; облака крови из прокушенной икры становятся гуще. Мы опускаемся на дно Тихого океана, в гущу городских кварталов, – оказывается, крокодил решил утопить меня перед кафе «Юпитер»; это доказывает, что у земноводных тоже есть чувство юмора. Посетители и беженцы смотрят на нас с беспомощным ужасом. Буря, должно быть, утихла, потому что вода вокруг голубая и прозрачная, как в бассейне; в ней пляшут лучики света, и я четко слышу «Lucy in the Sky with Diamonds»[19]. Крокодил смотрит на меня глазами Акико Като, предлагая разделить его радость, ведь он несколько недель будет лакомиться моим раздувшимся трупом в своем логове. Я слабею, тело наполняется легкостью. Лао-цзы закуривает последнюю сигарету из моей пачки и напяливает мою бейсболку. Потом изображает, будто вонзает что-то себе в глаз и указывает на крокодила. Мысль приходит сама собой. Вчера мой домовладелец дал мне ключи – тот, который открывает ставни витрины, целых три дюйма длиной и может послужить мини-кинжалом. Изогнуться так, чтобы нанести удар, – подвиг не из легких, но крокодил задремал и не замечает, что я просовываю кончик ключа между сомкнутых крокодильих век и вбиваю резким ударом. Хлоп, хрясь, хлюп! Крокодилы визжат, даже под водой. Ножницы челюстей распахиваются, чудовище бьется в конвульсиях, вертится штопором. Лао-цзы аплодирует, но я уже три минуты под водой без воздуха, а поверхность до невозможности далека. Вяло отталкиваюсь ото дна. В мозгу пузырится азот. Я лениво парю, а вокруг поет океан. В воду погружается лицо, ищет меня, свесившись с каменного кита, – это моя официантка, верная мне до конца; в легких струях колышутся пряди волос. Наши взгляды встречаются в последний раз, а потом, зачарованный красотой собственной смерти, я погружаюсь на дно, описывая медленные печальные круги.
С первым лучом рассвета священнослужители храма Ясукуни[20] разжигают погребальный костер из сандалового дерева. Мои похороны – самое величественное зрелище на памяти ныне живущих; вся страна объединилась в трауре. Все движение пущено через Куданситу[21], чтобы дать возможность десяткам тысяч скорбящих отдать мне дань уважения. Языки пламени лижут мое тело. Послы, всевозможные родственники, главы государств, Йоко Оно в черном. Мое тело вспыхивает одновременно с первыми лучами солнца, раскалывающими темницу нового дня. Его Императорское Величество пожелал поблагодарить моих родителей, так что они снова вместе, впервые за двадцать лет. Журналисты спрашивают у них, что они чувствуют, отец с матерью задыхаются от избытка эмоций, не могут отвечать на вопросы. Я не хотел такой помпезной церемонии, но что поделать – героизм есть героизм. Моя душа возносится к небу вместе с моим прахом и парит среди набитых телевизионщиками вертолетов и голубей. Я усаживаюсь на гигантские ворота-тори[22] – они такие огромные, что под ними свободно пройдет военный корабль, – и наслаждаюсь возможностью читать в людских сердцах, которую дарует смерть.
«Мне не следовало покидать этих двоих», – думает мать.
«Мне не следовало покидать этих троих», – думает отец.
«Интересно, можно ли оставить себе задаток?» – думает Бунтаро Огисо.
«Я так и не спросила, как его зовут», – думает моя официантка.
«Ах, если бы Джон был сегодня с нами, – думает Йоко Оно. – Он написал бы реквием».
«Ублюдок, – думает Акико Като. – Источник пожизненного дохода безвременно иссяк».
Лао-цзы посмеивается, заходится кашлем и судорожно ловит ртом воздух.
– Ого! Такого ливня не было года с семьдесят первого. Должно быть, конец света. По телевизору говорили, что он вот-вот наступит.
Едва он это произносит, как ливень прекращается. Беременные смеются. Размышляю о младенцах. Что возникает в их воображении все эти девять месяцев в утробном узилище? Буераки, болота, поля сражений? Для человека в материнском чреве воображаемое и действительное, должно быть, одно и то же. Снаружи пешеходы опасливо смотрят вверх, поднимают ладони, проверяя, идет ли дождь. Зонтики закрываются. Облака театральным задником затягивают небо. Дверь кафе «Юпитер» со скрипом отворяется – помахивая сумкой, входит моя официантка.
– Вы не особенно торопились, – ворчит Вдова.
Моя официантка кладет на прилавок коробку с фильтрами:
– В супермаркете была очередь.
– Вы слышали гром? – спрашивает Ослица, и тут мне кажется, что она не такой уж плохой человек, просто слабохарактерная и попала под влияние Вдовы.
– Да слышала она, слышала! – фыркает Вдова. – Его даже моя тетушка Отанэ слышала, хоть вот уже девять лет как покойница.
Я больше чем уверен, что Вдова подделала завещание и спустила тетушку Отанэ с лестницы.
– Чек и сдачу, если позволите. В головном офисе меня считают образцовым бухгалтером, и я не намерена портить свою репутацию.
Моя официантка подает ей чек и стопку монет. Безразличие – мощное оружие в ее руках. На часах половина третьего. Зубочисткой я рисую в пепельнице пентаграммы. Мне приходит в голову, что прежде, чем идти к Акико Като, нужно, по крайней мере, удостовериться, что она в «Паноптикуме», – а то прорвусь через секретаршу, обнаружу на экране компьютера госпожи Като листочек с надписью «Вернусь в четверг» и буду выглядеть полным идиотом. Визитка госпожи Като лежит у меня в бумажнике. Я позаимствовал ее из бабушкиного несгораемого шкафчика, когда мне было одиннадцать лет, собираясь изучить вуду и использовать ее в качестве тотема. «АКИКО КАТО. АДВОКАТ. ОСУГИ & БОСУГИ». Адрес в Синдзюку и номер телефона. Сердце колотится. Договариваюсь сам с собой: один кофе со льдом, последняя сигарета, и я звоню. Дожидаюсь момента, когда моя официантка встанет за стойку, и подхожу получить свой кофе вместе с ее благословением.
– Стаканы! – Вдова рявкает так резко, что мне кажется, будто она обращается ко мне.
К стойке подходит Ослица, а моя девушка отправляется обратно к раковине. Мне грозит передозировка кофеина, но отказываться уже поздно.
– Кофе со льдом, пожалуйста.
Дождавшись, когда биоборги в очередной раз убьют Лао-цзы, вымениваю спичку на «Карлтон». Пытаюсь разделить пополам пластинку миндаля, но она застревает у меня под ногтем.
– Добрый день. «Осуги и Босуги».
Пытаюсь придать голосу хоть немного солидности.
– Д-да… – Голос ломается, будто у меня яйца не созрели. Краснею, притворно кашляю и снова начинаю говорить, теперь пятью октавами ниже: – Скажите, Акико Като сегодня работает?
– Вы хотите с ней поговорить?
– Нет. Я хотел бы узнать… да. Да, пожалуйста.
– Пожалуйста – что?
– Не могли бы вы соединить меня с Акико Като? Будьте любезны.
– Простите, а как вас представить?
– Так она, э-э, сейчас в офисе?
– Простите, а как вас представить?
– Это… – (Это какой-то кошмар.) – …конфиденциальный звонок.
– Мы гарантируем полную конфиденциальность, но мне надо знать, как вас представить.
– Меня зовут, э-э, Таро Танака[23].
Самый дурацкий из всех возможных псевдонимов. Идиот.
– Господин Таро Танака. Понятно. А по какому вопросу вы звоните?
– По юридическому.
– Вы не могли бы объяснить конкретнее, господин Танака?
– Э-э… Нет. В самом деле. – Медленный выдох.
– Госпожа Като сейчас на совещании со старшими партнерами, поэтому не сможет переговорить с вами немедленно. Но если вы оставите ваш номер телефона и название компании, а также, в общих чертах, обрисуете суть вашего дела, то я попрошу ее перезвонить вам попозже.
– Естественно.
– Итак, какую компанию вы представляете, мистер Танака?
– Э-э-э…
– Мистер Танака?
Замолкаю и вешаю трубку.
Двойка с минусом за стиль. Но зато я знаю, что Акико Като прячется в своей паутине. Насчитываю двадцать семь этажей «Паноптикума», остальные скрыты облаками. Я выпускаю дым вам в лицо, Акико Като. Вам осталось меньше тридцати минут жизни, в которой Эйдзи Миякэ – всего лишь туманное воспоминание с туманного гористого острова у южной оконечности Кюсю. Вы никогда не мечтали о встрече со мной? Или я – только имя на соответствующих документах? Айсберги в кофе, позвякивая, липнут друг к другу. Лью в чашку сироп и сливки из крошечных кувшинчиков, смотрю, как жидкости смешиваются, перетекают друг в друга. Беременные рассматривают журналы о младенцах. Моя девушка ходит от столика к столику и высыпает пепельницы в ведро. «Подойди сюда и высыпь мою». Она этого не делает. Вдова разговаривает по телефону, умильно улыбается. Мое внимание привлекает человек, пересекающий Кита-дори: по-моему, минуту назад он уже переходил эту улицу. Я внимательно слежу, как он движется сквозь прыгающую через лужи толпу. Он переходит на противоположную сторону, ждет, когда человечек на светофоре позеленеет. Переходит Омэ-кайдо, ждет, когда человечек на светофоре позеленеет. Потом снова переходит Кита-дори. Ждет светофора и переходит Омэ-кайдо. Делает один, два, три круга. Частный детектив, биоборг, сумасшедший? Солнце вот-вот протрет пелену облаков. Проталкиваю соломинку между льдинками, сосу. Мочевой пузырь требует моего внимания. Встаю, иду к туалету, поворачиваю ручку – заперто. Чешу в затылке и смущенно возвращаюсь на место. В дверях появляется оккупант – какая-то секретарша, – я отвожу взгляд, чтобы она не заподозрила, что это я дергал дверную ручку, и пропускаю свою очередь. Меня опережает застенчивая старшеклассница в школьной форме – и через пятнадцать минут появляется в бело-розовом полосатом топе и мини-юбке – влажная мечта, а не девушка. Встаю, но на этот раз меня обгоняет мамаша с маленьким ребенком.
– У нас авария, – хихикает она.
Я понимающе киваю. Может, я попал в один из тех снов, где чем ближе к чему-нибудь подходишь, тем дальше оказываешься?
«Эй, – визжит мочевой пузырь, – давай скорее, или я за себя не отвечаю!»
Я встаю рядом с дверью и пытаюсь думать о песчаных дюнах. Вот он, токийский порочный круг: чтобы сходить в туалет, приходится покупать напитки, снова наполняя мочевой пузырь. На Якусиме можно отлить за ближайшим деревом. Наконец мамаша с ребенком выходят, и я врываюсь внутрь. Задержав дыхание, судорожно запираюсь. Поднимаю крышку унитаза и отливаю три кофе. Воздух в легких кончается, приходится вдохнуть – в общем, не очень тут и воняет. Моча, маргарин, лавандовый освежитель. Отбрасываю мысль вытереть ободок унитаза. Раковина, зеркало, пустая бутылочка жидкого мыла. Выдавливаю парочку угрей и разглядываю свое отражение со всех сторон: вот он я – Эйдзи Миякэ, житель Токио. Интересно, я хоть кого-нибудь обдурил или смешки, улюлюканье и косые взгляды адресованы именно мне? На угри сегодня урожай. Неужели загар, который я привез с Кюсю, уже сходит? Мое отражение играет со мной в гляделки. Оно выигрывает – я первым отвожу взгляд и начинаю трудиться над вулканической цепью угрей. Снаружи стучат и дергают ручку. Я зачесываю назад смазанные гелем волосы и открываю дверь.
Это Лао-цзы. Я бормочу извинения за то, что заставил его ждать, и решаю без промедления идти на штурм «Паноптикума». И тут на авансцену широкими шагами выходит Акико Като. Из плоти и крови, здесь и сейчас – между нами всего лишь пять миллиметров стекла и максимум метр воздушного пространства. Совпадение, о котором я так мечтал, случилось, едва я перестал на него надеяться. Она, будто в замедленной съемке, поворачивает голову, смотрит на меня в упор и идет дальше. Невероятность происходящего застает меня врасплох. Акико Като подходит к перекрестку, и все зеленеют, завидя ее приближение. В моей памяти она не постарела; в действительности это не так, но воспоминания на удивление точны. Коварно полуприкрытые веки, орлиный нос, холодная красота. Пошел! Я жду, пока двери со скрипом откроются, выбегаю на улицу и…
Бейсболка, идиот!
Бросаюсь обратно в кафе «Юпитер», хватаю кепку и снова мчусь к переходу. Зеленые человечки уже мигают. После двух часов, проведенных в помещении с кондиционером, чувствую, что кожа потрескивает и лопается от полуденного зноя. Акико Като уже на дальнем берегу – я, рискуя жизнью, бегу за ней, перепрыгивая лужи и полоски «зебры». Донорциклы всхрапывают и рвутся вперед, светофор вспыхивает красным, автобус сердито гудит, но мне удается вынырнуть на другой берег, не отскочив ни от одного капота. Моя добыча уже на ступенях «Паноптикума». Бегу сквозь толпу, на ходу отмахиваюсь от оскорблений, рассыпаю извинения – если она войдет внутрь, я упущу шанс встретиться на нейтральной территории. Но Акико Като не входит в «Паноптикум». Она идет дальше, по направлению к вокзалу Синдзюку – надо догнать ее и задержать, но я вовремя соображаю, что на улице приставать к ней не следует, это настроит ее против меня, а не расположит в мою пользу. В конце концов, я собираюсь просить ее об одолжении. Она решит, что я ее выслеживаю, и будет права. Вдруг она неправильно меня поймет, а я не успею ей все объяснить? Вдруг она закричит: «Насильник!»? Однако нельзя допустить, чтобы она растворилась в толпе. Поэтому я следую за ней на безопасном расстоянии, напоминая себе, что взрослого Эйдзи Миякэ она в лицо не знает. Она не оборачивается ни разу – а зачем? Мы проходим под строем чахлых деревьев, отряхивающих последние капли дождя. Акико Като откидывает прядку длинных волос, надевает темные очки. Подземный переход ныряет под железнодорожное полотно, выносит нас на яркий солнечный свет посреди запруженной транспортом и людьми Ясукуни-дори, с рядами бистро и магазинов мобильной связи, из которых рвутся гитарные риффы. В реальной жизни не так просто кого-то преследовать. Больно ударяю лодыжку о чей-то велосипед. Промытая дождем солнечная линза утюжит улицу паровым утюгом. Липкий пот намертво приклеивает футболку к коже. Акико Като проходит мимо магазина с девяносто девятью сортами мороженого и сворачивает на боковую улицу. Иду за ней, продираясь сквозь джунгли женщин у входа в бутик. Никакого солнца, мусорные баки на колесиках, пожарные лестницы. Декорации к фильму про Чикаго. Она останавливается перед каким-то кинотеатром и оборачивается, проверяя, нет ли за ней слежки, – я ускоряю шаг, делаю вид, что ужасно тороплюсь. Отвожу глаза, низко надвигаю бейсболку, пряча лицо. Беглым шагом возвращаюсь обратно, но она уже скрылась в кинотеатре «Ганимед». Это место видало лучшие дни. Сегодня здесь показывают фильм «Паноптикум». Афиша – ряд кричащих матрешек – ни о чем мне не говорит. Задумываюсь. Хочется курить, но сигареты остались в кафе «Юпитер», так что обхожусь шипучим леденцом. Фильм начинается через десять минут. Пытаюсь войти, тяну дверь на себя, вместо того чтобы толкнуть. Пустынный вестибюль устлан психоделическим ковром. Не заметив ступеньки, спотыкаюсь и чуть не подворачиваю ногу. Обшарпанный шик, запах отсыревшей штукатурки. Унылая люстра струит коричневатый свет. Женщина в кассе с явным раздражением откладывает пяльцы:
– Да?
– Это, э-э, кинотеатр?
– Нет. Это линкор «Ямато»[24].
– Я зритель.
– Рада за вас.
– Э-э. А фильм… Он, э-э, о чем?
Она продевает нитку в игольное ушко.
– А что, у меня на столе стоит табличка: «Здесь продается краткое содержание»?
– Я только…
Она вздыхает, будто ей приходится иметь дело с недоумком.
– Так стоит на столе табличка: «Здесь продается краткое содержание»?
– Нет.
– А почему, скажите на милость, ее нет?
Так бы и пристрелил эту язву, но «Вальтер ПК» остался в прошлой фантазии. Можно уйти, но я точно знаю, что Акико Като где-то здесь, в этом здании.
– Один билет, пожалуйста.
– Тысяча иен.
На сегодня бюджет исчерпан. Она вручает мне лотерейный билет. Там и сям валяются куски штукатурки. По справедливости, это заведение должно было прекратить свое существование не один десяток лет назад. Она возвращается к вышиванию, поручив меня нежным заботам надписи, гласящей:
ВХОД В ЗАЛ – ДИРЕКЦИЯ НЕ НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСЧАСТНЫЕ
СЛУЧАИ НА ЛЕСТНИЦЕ
Лестница уходит вниз круто, почти отвесно. На блестящих стенах висят афиши фильмов. Ни один мне не знаком. Каждый пролет кажется последним, но всякий раз я обманываюсь. В случае пожара зрителей любезно просят спокойно обугливаться. Похоже, становится теплее? Внезапно лестница кончается. Пахнет горьким миндалем. Путь мне преграждает женщина с обритой головой в пятнах синяков, будто после химиотерапии. Глазницы – две бездны. Я хмыкаю. Она не двигается. Пытаюсь протиснуться мимо, но ее рука вздымается, преграждая путь. Указательный палец сросся со средним, а безымянный – с мизинцем, как свиное копытце. Я стараюсь не глазеть. Она берет у меня билет, разрывает на клочки.
– Попкорн?
– Спасибо, обойдусь.
– Вы не любите попкорн?
– Никогда об этом не задумывался.
Она осмысливает мое заявление.
– Так вы отказываетесь признать, что не любите попкорн?
– Попкорн не относится к вещам, которые я люблю или не люблю.
– И зачем вы со мной в эти игры играете?
– Я ни во что не играю. Я только что плотно пообедал. Я не голоден.
– Терпеть не могу, когда лгут.
– Вы, должно быть, меня с кем-то спутали.
Она качает головой:
– Случайные люди в такую глубь не забираются.
– Ладно, ладно, я возьму попкорн.
– Невозможно. Его нет.
Я чего-то не понимаю.
– Тогда зачем вы мне его предлагали?
– У вас что-то с памятью. Я ничего вам не предлагала. Вы будете смотреть фильм или нет?
– Да. – Все это начинает меня раздражать. – Буду.
– Тогда зачем вы меня отвлекаете? – Она приподнимает занавес.
В зале с покатым полом ровно три человека. В переднем ряду Акико Като. Рядом с ней – какой-то мужчина. Внизу, в дальнем проходе, в инвалидном кресле сидит третий – судя по всему, покойник: шея закинута назад, будто свернута, челюсть отвисла, голова болтается; он совершенно неподвижен. Его взгляд устремлен в ночное небо, нарисованное на потолке кинозала. Я крадусь по центральному проходу, надеясь подобраться к парочке поближе и подслушать разговор. В проекционной что-то грохает. Приседаю на корточки, прячусь. То ли выстрел, то ли неумело открытый пакет картофельных чипсов. Ни Акико Като, ни ее спутник не оборачиваются – подкрадываюсь поближе, останавливаюсь в паре рядов позади. Свет гаснет, поднимается занавес, открывая прямоугольник бликующего света. Реклама курсов вождения – то ли очень старая, то ли на курсы принимают только тех, кто одет и причесан под семидесятые. Саундтреком служит песня «Y.M.C.A»[25]. Следующий рекламный ролик – пластический хирург по имени Аполлон Сигэнобо дарит вечные улыбки всем своим клиентам. Поют о лицевой коррекции. В кинотеатре Кагосимы мне нравится смотреть анонсы «Скоро на экране» – это избавляет от необходимости смотреть саму картину, – но здесь их не показывают. Титановый голос объявляет о начале фильма «Паноптикум» – режиссер, имя которого невозможно произнести, удостоен награды на кинофестивале в городе неизвестно на каком континенте. Ни титров, ни музыки. Сразу действие.
В черно-белом зимнем городе сквозь толпу пробирается автобус. Усталый пассажир, человек средних лет, смотрит в окно на деловито падающий снег, на разносчиков газет военного времени, на полицейских, избивающих спекулянта, на голодные лица в пустых магазинах, на обгоревший остов моста. Выходя, человек спрашивает у водителя дорогу – и получает в ответ кивок в сторону громадной стены, заслоняющей небо. Человек идет вдоль стены, пытаясь найти дверь. Вокруг воронки от бомб, поломанные вещи, одичавшие собаки. Развалины круглого здания, где косматый безумец разговаривает с костром. Наконец человек находит деревянную дверь, наклоняется и стучит. Ответа нет. Из каменной кладки торчит обрывок провода, к нему привязана консервная банка. Человек произносит в нее:
– Есть тут кто-нибудь?
Субтитры на японском, сам же язык шипящий, хлюпающий, трескучий.
– Я доктор Полонски. Начальник тюрьмы Бентам ждет меня.
Он прикладывает консервную банку к уху и слышит что-то вроде криков тонущих моряков. Дверь открывается сама собой, за ней продуваемый ветром двор. Пригнувшись, доктор входит. Ветер разносит странное напевное эхо.
– Жаблинг, к вашим услугам, доктор. – Человечек очень маленького роста распрямляет согнутую в поклоне спину, и доктор отшатывается. – Сюда, пожалуйста.
Под ногами скрипит снег. Напевы кружат, стихают и снова начинаются. На поясном ремне Жаблинга позвякивают ключи. Лабиринт тюремных коридоров; надзиратели играют в карты.
– Вот мы и пришли, – хрипит Жаблинг.
Доктор холодно кивает, стучит и входит в обшарпанный кабинет.
– Доктор! – Начальник тюрьмы дряхл и пьян вдрабадан. – Присаживайтесь, прошу вас.
– Спасибо.
Доктор Полонски ступает осторожно – половицы голые, половина из них выломана. Он садится на стул, который размером больше подошел бы школьнику. Начальник тюрьмы фотографирует земляной орех в высоком стакане с жидкостью.
– Я пишу трактат, посвященный поведению закусок в бренди с содовой, – объясняет начальник тюрьмы.
– Вот как?
Начальник тюрьмы сверяется с секундомером.
– Что будете пить, док?
– Спасибо. На работе не пью.
Начальник тюрьмы выливает последнюю каплю из бутылки бренди в яичную рюмку и швыряет бутылку в дыру между половицами. Отдаленный вскрик и звон.
– Ваше здоровье! – Начальник тюрьмы махом опустошает рюмку. – Дорогой доктор, если позволите, я буду резать крякву-матку. То есть правду-матку. Наш доктор Кениг умер от чахотки перед Рождеством, а из-за войны на Востоке нам пока не прислали никого взамен. В военное время тюрьмы не представляют первостепенной важности, в них сажают только политических. А у нас были такие планы! Утопия. Идеальная тюрьма, где повышают умственные способности заключенных, чтобы они давали волю своему воображению и обретали в нем свободу. Чтобы…
– Мистер Бентам, – прерывает его доктор Полонски. – А в чем же правда-матка?
– Правда в том, – начальник тюрьмы подается вперед, – что у нас проблемы с Воорманом.
Полонски ерзает на крошечном стульчике, боясь последовать за бутылкой.
– Воорман – ваш заключенный?
– Именно так, доктор. Воорман – заключенный, который утверждает, что он Бог.
– Бог.
– Ну, как говорится, каждому свое, но он убедил все население тюрьмы в своей бредовой идее. Мы его изолировали, а что толку? Слышали пение? Это псалом Воормана. Я боюсь беспорядков, доктор. А то и бунта.
– Я понимаю, вы в трудном положении, но как…
– Я прошу вас обследовать Воормана. Выяснить, симулирует он сумасшествие или у него действительно съехала крыша. Если вы решите, что он клинически ненормален, я отошлю его в психушку, и мы разойдемся по домам пить чай с пирожными.
– За какое преступление осудили Воормана?
Начальник Бентам пожимает плечами:
– Прошлой зимой все личные дела заключенных пошли на растопку.
– Как же вы определяете, когда кого освобождать?
Начальник тюрьмы в недоумении:
– Освобождать? Заключенных?
Акико Като оглядывается. Я приседаю – надеюсь, успел. В конце ряда, в серебристой лужице экранных отсветов, крыса встает на задние лапки, смотрит на меня и шмыгает под обивку кресла.
– Надеюсь, – вполголоса говорит спутник Акико Като, – что это действительно срочно.
– Вчера в Токио появился призрак.
– Вы вызвали меня из Министерства обороны, чтобы поведать историю о призраках?
– Конгрессмен, этот призрак – ваш сын.
Отец ошеломлен не меньше, чем я.
Акико Като отводит прядку волос.
– Уверяю вас, он очень бойкий призрак. Вполне себе живой. Он в Токио и ищет вас.
Очень долго отец ничего не говорит.
– Он хочет денег?
– Крови. – Я выжидаю, а Акико Като продолжает затягивать петлю на своей же шее. – И позвольте мне сказать без прикрас: ваш сын – героиновый наркоман. Он заявил мне, что убьет вас, потому что вы украли у него детство. Мне встречалось немало юных извращенцев, но ваш сын – полный психопат с пеной у рта. И ему нужны не только вы. Он сказал, что сначала разрушит вашу семью, чтобы наказать вас за то, что случилось с его сестрой.
Камера Воормана – царство отбросов.
– Итак, мистер Воорман… – Доктор Полонски расхаживает среди фекалий и мух. – Как давно вы полагаете себя Богом?
Воорман в смирительной рубашке.
– Позвольте задать вам тот же вопрос.
– Я не полагаю себя Богом.
Под ботинком доктора что-то хрустит.
– Но вы полагаете себя психиатром.
– Верно. Я – психиатр с тех самых пор, как с отличием окончил медицинский институт и начал практиковать.
Доктор поднимает ногу – к подошве прилип дергающийся таракан. Доктор соскребает насекомое об обломок каменной кладки.
Воорман кивает:
– А я – Бог с тех самых пор, как начал практиковать в своей области.
– Понятно. – Доктор отрывается от своих записей. – Из чего же состоит ваша деятельность?
– В основном из поддержания вселенной в надлежащем состоянии.
– Так это вы создали нашу вселенную?
– Именно. Девять дней назад.
Полонски осмысливает это заявление.
– Однако существует масса веских доказательств, что вселенная несколько старше.
– Знаю. Эти доказательства тоже создал я.
Доктор сидит на откидной койке напротив.
– Мне сорок пять лет, мистер Воорман. Как вы объясните мои воспоминания о прошлой весне или о детстве?
– Я создал ваши воспоминания вместе с вами.
– Значит, все в этой вселенной – плод вашего воображения?
– Совершенно верно. Вы, эта тюрьма, крыжовник, туманность Конская Голова.
Полонски дописывает предложение.
– Вероятно, у вас работы невпроворот.
– Больше, чем может представить ваш хилый гиппокамп – не в обиду будь сказано. Приходится воображать каждый атом, иначе – фьють! «Солипсист» пишется с одним «л», доктор.
Полонски морщится и перекладывает блокнот.
Воорман вздыхает:
– Я знаю, что вы скептик, доктор. Я вас таким создал. Позвольте предложить вам объективный эксперимент, чтобы подтвердить мои притязания.
– Что именно?
– Бельгию.
– Бельгию?
– По-моему, даже бельгийцы не заметят ее отсутствия. А вы как считаете?
Отец не отвечает. Он сидит склонив голову. У него густая шевелюра – можно не бояться, что к старости я облысею. События разворачиваются таинственным, захватывающим и непредсказуемым образом. Я могу в любой момент заявить о своем присутствии и выставить Акико Като лживой гадиной, но лучше подождать, воспользоваться недолгим преимуществом, вооружиться перед предстоящей схваткой. У Акико Като звонит мобильник. Она достает его из сумочки, бросает: «Перезвоню позже, я занята» – и снова прячет.
– Конгрессмен, выборы через четыре недели. Ваш портрет будет расклеен по всему Токио. Вы будете каждый день выступать по телевизору. Вам никуда не скрыться.
– Если бы я мог встретиться с сыном…
– Если он узнает, кто вы, вы обречены.
– У каждого есть хоть капля благоразумия.
– Преступлений – тяжкие телесные повреждения, кража со взломом, наркотики – за ним числится не меньше, чем мехов в гардеробе вашей жены. Жуткая кокаиновая зависимость. Представьте реакцию оппозиции. «Побочный сын министра встал на стезю преступности и готов убить отца!»
Отец вздыхает в мерцающей темноте:
– Что вы предлагаете?
– Ликвидировать эту проблему, пока она не стала причиной вашей политической смерти.
Отец чуть поворачивается к ней.
– Надеюсь, вы не имеете в виду насильственные меры?
Акико Като осторожно подбирает слова:
– Я предвидела, что такой день настанет. Все подготовлено. В этом городе несчастные случаи не редкость, а я знаю людей, которые знают людей, которые помогают несчастным случаям произойти раньше, а не позже.
Жду, что ответит отец.
Чета Полонски обитает в квартире на четвертом этаже старого дома с двориком и воротами. Вот уже несколько месяцев они живут впроголодь и почти без сна. В полумраке подрагивает бледный огонь. За окном грохочет танковая колонна. Госпожа Полонски нарезает черствый хлеб тупым ножом и разливает по тарелкам пустой суп.
– Тебя беспокоит этот, как его, Бурмен?
– Воорман? Да.
– На тебя возложили обязанности судьи. Это несправедливо.
– Это меня совсем не беспокоит. В этом городе тюрьма мало чем отличается от сумасшедшего дома.
Ложкой он вылавливает из супа хвостик морковки.
– Тогда в чем же дело?
– Раб он или хозяин своего воображения? Он заявил, что к ужину Бельгия исчезнет с лица земли.
– Бельгия – это тоже заключенный?
Полонски жует.
– Бельгия.
– Новый сорт сыра?
– Бельгия. Страна. Между Францией и Голландией. Бельгия.
Госпожа Полонски недоверчиво качает головой.
В улыбке мужа сквозит раздражение.
– Бель-ги-я.
– Ты шутишь, дорогой?
– Ты же знаешь, я никогда не шучу, когда говорю о пациентах.
– Бельгия… Может, это графство или деревня в Люксембурге?
– Принеси атлас!
Доктор открывает карту Европы и каменеет лицом. Между Францией и Голландией находится нечто под названием Валлонская лагуна. Как громом пораженный, Полонски вглядывается в карту:
– Не может быть. Не может быть. Не может быть.
– Я отказываюсь верить, – настаивает отец, – что мой отпрыск способен на убийство. Возможно, разговаривая с вами, он потерял самообладание, а вы превратно истолковали его слова, потому что у вас разыгралось воображение.
– Я адвокат, – отвечает Акико Като, – мне платят не за воображение.
– Если бы я мог встретиться с ним и объяснить…
– Сколько раз вам повторять, господин министр? Он вас убьет.
– Значит, я должен санкционировать его смерть?
– Вы любите свою настоящую семью?
– Что за вопрос?
– Тогда вам должны быть очевидны шаги, которые нужно предпринять для ее защиты.
Отец качает головой:
– Это форменное безумие! – Он приглаживает прическу. – Позвольте спросить вас начистоту…
– Вы же здесь главный, – отвечает Акико Като далеко не тоном подчиненной.
– Как именно наш с вами договор о сохранении секретности влияет на ваши дальнейшие действия?
Акико Като дает жесткий отпор:
– Я возмущена подобным предположением.
– Но признайте…
– Я так возмущена подобным предположением, что удваиваю цену молчания.
Отец сдавленно выкрикивает:
– Не забывайте, кто я, госпожа Като!
– Я помню, кто вы, господин министр. Вы тот, кто может все потерять.
Время пришло. Я встаю во весь рост в двух рядах от отца и этой гадюки, которая им манипулирует.
– Прошу прощения.
Они оборачиваются – виновато, удивленно, встревоженно.
– В чем дело? – шипит Акико Като.
Я перевожу взгляд с нее на отца и обратно. Ни один из них меня не узнает.
– Что за фигня?
Я сглатываю:
– Тут дело простое. Мне известно ваше имя, а некогда вам было известно мое: Эйдзи Миякэ. Да, тот самый Эйдзи Миякэ. Правда. Прошло много лет…
За окном камеры Воормана торчат клыки сосулек. Веки Воормана очень-очень медленно поднимаются. В небе гудят бомбардировщики.
– Доброе утро, доктор. Фигурирует ли Бельгия в ваших сегодняшних заметках?
Надзиратель с электрошокером в руке захлопывает дверь. Полонски притворяется, что не замечает. Под припухшими глазами у него темные круги.
– Плохо спали, доктор?
Полонски с напускным спокойствием открывает саквояж.
– Дурные мысли! – Воорман облизывает губы. – И это ваше медицинское заключение, доктор? Значит, я не сумасшедший, не симулянт, а дьявол? Будете изгонять дьявола?
Полонски пристально смотрит на заключенного:
– Вы полагаете, поможет?
Воорман пожимает плечами:
– Демоны – это всего лишь люди с демоническим воображением.
Доктор садится. Скрипит стул.
– Предположим, вы действительно обладаете… властью…
Воорман улыбается:
– Говорите, доктор, говорите.
– Почему же тогда Бог – в тюрьме, в смирительной рубашке?
Воорман сыто зевает.
– А что делали бы вы, если бы были Богом? Целыми днями играли бы в гольф на Гавайях? Вряд ли. Гольф – это так скучно, особенно если знаешь наверняка, что первым же ударом отправишь мяч прямиком в лунку. Существование тянется так… несущественно.
Полонски уже ничего не записывает.
– Так как же вы проводите время?
– Я ищу развлечение в вас. Вот, к примеру, эта война. Дешевый фарс.
– Я не религиозен, мистер Воорман…
– Поэтому я вас и выбрал.
– …но что же это за бог, который считает войну развлечением?
– Бог, которому скучно. Да. Вам, людям, даровано воображение, чтобы вы придумывали новые способы меня развлечь.
– А вы будете развлекаться в роскоши своей камеры?
Из соседнего квартала слышен треск перестрелки.
– Роскошь, нищета – какая разница, если ты бессмертен? Мне нравятся тюрьмы. Для меня они как шахты, где добывают иронию. К тому же узники забавнее, чем сытая паства. Вы тоже меня развлекаете, добрый доктор. Вам приказано доказать, что я либо мошенник, либо безумец, а вы доказываете мое божественное могущество.
– Ничего подобного я не доказываю.
– Верно, доктор Крепкий Орешек, верно. Но не бойтесь, я несу вам благую весть. Мы с вами поменяемся местами. Пожонглируете временем, силой земного притяжения, волнами и частицами. Просеете шлак человеческих устремлений в поисках крупиц незаурядности. Полюбуетесь, как падают на землю птицы малые[26] и как во имя вас разграбляют континенты. Вот. А я верну вашей жене способность невольно улыбаться и отведаю бренди начальника тюрьмы.
– Вы больной человек, мистер Воорман. Да, фокус с Бельгией меня озадачил, но…
Доктор Полонски цепенеет.
Воорман насвистывает французский гимн.
Смена кадра.
– Как время пролетело, – говорит доктор. – Мне пора.
– Что… – У заключенного перехватывает горло.
Доктор разминает новообретенные мускулы.
– Что вы со мной сделали? – пронзительно кричит заключенный.
– Если вы не способны поддерживать разумную беседу, я ее прекращу.
– Верните меня обратно, чудовище!
– Ничего страшного, вы быстро всему научитесь. – Доктор защелкивает саквояж. – Следите за Балканами. Горячая точка.
Заключенный вопит:
– Охрана! Охрана!
Дверь со скрипом отворяется, и доктор сокрушенно качает головой. Узник бьется в истерике. К нему подступают надзиратели с жужжащими электрошокерами.
– Арестуйте этого самозванца! Я настоящий доктор Полонски! Это исчадье ада, вчера он стер Бельгию с лица земли!
Охранники пропускают через его тело пять тысяч вольт. Заключенный визжит и корчится:
– Остановите этого аспида! Он намерен надругаться над моей женой!
Ноги в кандалах колотят по полу. Тук, тук, тук.
Лучше бы я не трогал угри – теперь физиономия как у жертвы нападения летучего краба. Снаружи стучат и дергают ручку. Я зачесываю назад смазанные гелем волосы и открываю дверь. Это Лао-цзы.
– Вы не торопитесь, Капитан.
Я извиняюсь и решаю, что почти настало время штурмовать «Паноптикум». Вот только выкурю последнюю. Рабочие устанавливают гигантский телеэкран на стену здания по соседству с «Паноптикумом». Официантка с прекрасной шеей закончила работу – на часах без шести минут три – и сменила униформу на лиловый свитер и белые джинсы. Выглядит она круто. Вдова отчитывает ее у автомата с сигаретами, но тут Ослица взывает о помощи. Вдова бросает мою официантку на полуслове и идет разбираться с внезапным наплывом посетителей. Девушка с прекрасной шеей беспокойно поглядывает на часы. Ее мобильник вибрирует. Она, повернувшись в мою сторону, отвечает на звонок и прикрывает рот ладонью, чтобы никто не слышал разговора. Ее лицо светлеет. Я чувствую укол ревности и вот уже стою у автомата рядом с ней – выбираю сигареты. Подслушивать нехорошо, но кто обвинит меня, если я случайно услышу, о чем она говорит?
– Да-да. Позовите Нао, пожалуйста.
Наоки – парень или Наоко – девушка?
– Я немного задержусь, начинайте без меня.
Начинайте – что?
– Фантастический ливень, правда? – Она делает движения свободной рукой, как будто играет на пианино. – Да, я помню, как добраться.
Куда?
– Комната сто шестьдесят два. Я знаю, что осталось две недели.
До чего? Тут она смотрит на меня и замечает, что я смотрю на нее. Вспоминаю, что должен выбрать сигареты, и начинаю изучать ассортимент. На рекламной картинке женщина, напоминающая юриста, курит «Салем».
– У тебя разыгралось воображение. Увидимся через двадцать минут. Пока.
Она кладет телефон в карман и, кашлянув, спрашивает:
– Вы все услышали или мне повторить то, что вы пропустили?
О ужас – она обращается ко мне. Я вспыхиваю так жарко, что почти дымлюсь. Смотрю на нее снизу – потому что стою согнувшись, чтобы забрать из автомата свой «Салем». Она не так уж и рассердилась, но напором может поспорить с буровой установкой. Подбираю слова, чтобы растопить лед ее презрения и сохранить лицо.
– Э-э-э… – Это все, что мне приходит в голову.
Ее взгляд безжалостен.
– Э-э? – повторяет она.
Я с трудом сглатываю и касаюсь листьев фикуса в кадке.
– Я все думал, – с запинкой начинаю я, – настоящие они или искусственные. Растения. В смысле.
Ее взгляд – луч смерти.
– Некоторые – настоящие. Некоторые – подделка. Некоторые – просто дерьмо.
Вдова возвращается, чтобы закончить прерванную речь. Я, как таракан, отползаю к своему кофе. Хочется выбежать на улицу и попасть под самосвал, а еще выкурить сигарету, чтобы успокоиться, прежде чем идти узнавать у отцовского адвоката имя и адрес ее клиента. Возвращается Лао-цзы, хлопает себя по заду:
– Ешь больше, сри больше, мечтай меньше, живи дольше. Эй, Капитан, не найдется сигаретки?
Прикуриваю две от одной спички. Девушка с прекрасной шеей наконец-то выбирается из кафе «Юпитер» и газелью перескакивает через лужи, переходя Омэ-кайдо. Зря я честно не признался. Вот так солжешь разок – и доверия к тебе уже не будет. Забудь о ней. Не твоего поля ягода. Она – музыкантша, учится в Токийском университете, а ее бойфренд – дирижер по имени Наоки. Я – безработный и окончил среднюю школу только потому, что учителя прониклись сочувствием к моему бедственному положению. Она из хорошей семьи, в ее спальне – настоящие картины маслом и энциклопедии на компакт-дисках. Ее отец, кинорежиссер, позволяет Наоки оставаться на ночь, поскольку у того есть деньги, талант и безукоризненные зубы. У меня нет семьи, сплю я в капсуле размером с упаковочный ящик в Кита-Сэндзю[27] вместе со своей гитарой, зубы у меня не шатаются, но и ровными их не назовешь.
– Прелестное создание, – вздыхает Лао-цзы. – Мне бы ваши годы, Капитан…
Сам себе удивляюсь: я все-таки не струсил и не отправился прямиком на вокзал Синдзюку, хотя, переходя Кита-дори, чудом избежал смерти под колесами «скорой помощи». Редкие светофоры на Якусиме стоят просто для красоты, а здесь они – жизнь и смерть. Вчера я вышел из автобуса и сразу заметил, что воздух в Токио пахнет изнанкой кармана. Сегодня я этого больше не замечаю. Наверное, теперь я тоже пахну изнанкой кармана. Поднимаюсь по ступеням «Паноптикума». Здание подпирает небеса. За последние семь лет я так часто представлял себе этот момент, что сейчас просто не верю, что он настал. Но он настал. Вращающаяся дверь медленно ползет по кругу. От охлажденного воздуха волоски на руках встают дыбом – зимой при такой температуре включают отопление. Мраморный пол цвета выбеленной кости. Пальмы в бронзовых вазонах. По отполированному полу идет на костылях одноногий человек. Пищит резина, клацает металл. Цветы жадно разевают огромные трубчатые венчики, будто готовятся проглотить младенца. Моя левая кроссовка по-дурацки чавкает. Девять соискателей сидят в одинаковых кожаных креслах, ждут своей очереди на собеседование. Все они моего возраста, одинаковые, как клоны. Трутни-клоны. «Что за дурацкое чавканье?» – дружно думают они. Подхожу к лифтам и начинаю разглядывать указатели в поисках таблички «Осуги и Босуги. Юридическая фирма». Сосредоточься на награде. Возможно, уже вечером я позвоню в отцовскую дверь.
– Куда это ты, малец?
Оборачиваюсь.
Из-за стойки на меня уставился охранник. Трутни-клоны устремляют в мою сторону восемнадцать глаз.
– Тебя не научили читать? – Он стучит костяшками пальцев по табличке с надписью: «ПОСЕТИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ УВЕДОМИТЬ АДМИНИСТРАТОРА О ПРИХОДЕ».
Я отхожу от лифтов, сконфуженно кланяюсь. Охранник скрещивает руки на груди:
– Ну?
– У меня дело в «Осуги и Босуги», юридической фирме.
На фуражке охранника вышито: «ПАНОПТИКУМ. СЛУЖБА ОХРАНЫ».
– Высоко летаешь. Тебе назначено?
– Назначено?
– Назначено. Есть такое слово.
Трутни-клоны в восемнадцать ноздрей чуют, что попахивает унижением.
– Я надеялся, э-э, переговорить с госпожой Акико Като.
– А госпожа Като в курсе, какая честь ее ожидает?
– Не совсем, потому что…
– Значит, тебе не назначено.
– Послушайте…
– Нет, это ты послушай. Здесь тебе не супермаркет. Это частное здание, где ведутся дела щекотливого свойства. Тут запросто не просквозишь. В эти лифты заходят только сотрудники компаний, расположенных в здании, а также те, кому назначена встреча, или те, у кого есть другая веская причина здесь находиться. Понятно?
Трутни-клоны в восемнадцать ушей вслушиваются в мой захолустный акцент.
– А с вашей помощью можно назначить встречу?
Вопрос неправильный. Охранник распаляется еще больше, потому что один из клонов своим хихиканьем подливает масла в огонь.
– Ты не расслышал. Я – охранник. Я не администратор. Мне платят за то, чтобы я отгонял пустозвонов, торговцев и прочий сброд, а не приглашал войти сюда кого попало.
Требуется срочно разруливать ситуацию.
– Я не хотел обидеть вас, я просто…
Слишком поздно разруливать ситуацию.
– Слушай, малец… – Охранник, сняв очки, протирает стекла. – По акценту видно, что ты не местный. Дай-ка я объясню тебе, как работают здесь, в Токио. В общем, ты сейчас линяй, пока я добренький. Назначь встречу со своей госпожой Като. Явись в назначенный день, за пять минут до назначенного времени. Подойди ко мне и представься. Я свяжусь с администратором «Осуги и Босуги» и получу подтверждение того, что тебя ожидают. Тогда, и только тогда я разрешу тебе войти в один из этих лифтов. Понял?
Я делаю глубокий вдох.
Охранник резким хлопком раскрывает газету.
Токийская копоть отпотевает после дождя. Зной набирает силу, выпаривает лужи. Уличный музыкант поет так фальшиво, что прохожие просто обязаны отнять у него мелочь и разбить гитару о его же голову. Я иду к подлодке станции Синдзюку. Толпы людей сбиваются с шага, оглушенные зноем. Отцовская дверь затерялась в неизвестном квадрате моего токийского путеводителя. Меня сводит с ума крошечный комочек ушной серы, застрявший так глубоко, что не выковыряешь. Ненавижу этот город. Прохожу мимо зала для кэндо[28] – за решеткой окна слышны крики и костоломный треск бамбуковых мечей. На тротуаре стоит пара ботинок – как будто их владелец облачком пара развеялся по ветру. Во мне бурлит разочарование и как-то устало мучает совесть. Я нарушил своего рода неписаный договор. С кем? Автобусы и грузовики закупоривают транспортные артерии, пешеходы просачиваются сквозь щели. Когда-то я увлекался динозаврами, – согласно одной теории, они вымерли оттого, что захлебнулись собственным дерьмом. Когда в Токио пытаешься добраться из пункта «А» в пункт «Б», эта теория уже не кажется нелепой. Ненавижу рекламные плакаты на стенах, жилые капсулы, тоннели, водопроводную воду, подлодки, воздух, надписи «ПРОХОДА НЕТ» на каждом углу и «ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЛЕНОВ КЛУБА» над каждой дверью. Хочу превратиться в ядерную боеголовку и стереть эту навозную кучу города с лица земли.
2. Бюро находок
Непростое это дело – отпилить голову богу грома ржавой ножовкой, если тебе одиннадцать лет. Ножовка постоянно застревает. Меняю положение и чуть не скатываюсь с плеч бога. Если упасть с такой высоты, сломаешь позвоночник. За стенами святилища, в пурпурных сумерках, распевает черный дрозд. Обхватываю мускулистый торс бога ногами, так же как когда дядя Асфальт катает меня на закорках, и медленно провожу лезвием по деревянному горлу. И еще раз, и еще раз, и еще. Древесина тверда, как камень, но постепенно зазубрина превращается в щель, а щель – в глубокую прорезь. От пота щиплет глаза. Чем быстрее, тем лучше. Лишь бы меня не поймали за этим неотложным делом. За такое сажают в тюрьму, это точно. Лезвие соскальзывает – прямо по большому пальцу. Вытираю глаза футболкой и жду. Вот и боль, нарастает толчок за толчком. Лоскуток кожи розовеет, краснеет; выступает кровь. Слизываю ее – во рту остается привкус десятииеновой монеты. Справедливая цена. Я расплачиваюсь с богом грома за то, что он сделал с Андзю. Продолжаю пилить. Мне не видно его лица, но, когда я перерезаю ему горло, нас обоих сотрясает дрожь.
Субботе, второму сентября, уже исполнился час от роду. Прошла неделя с моей засады в кафе «Юпитер». На железнодорожной станции Кита-Сэндзю затишье. В щели между жилыми домами напротив висит токийская луна. Цинковая, индустриальная, заезженная. В моей капсуле душно, как внутри боксерской перчатки. Вентилятор перемешивает зной. Я не собираюсь к ней обращаться. Ни за что. Что она о себе возомнила, после стольких лет? Через дорогу – пункт фотопроявки с двумя циферблатами «Фудзифильм»: левый показывает реальное время, а правый – время, когда будут готовы фотографии – на сорок пять минут вперед. В натриевом сиянии моя куцая занавесочка в пол-окна кажется навозно-бурой. Покряхтывают балки, гудят провода. Уж не сам ли дом – причина моей бессонницы? Синдром вредного помещения, как говорит дядя Толстосум. «Падающая звезда» подо мной прячется за ставнями и ждет, когда кончится ночь. За прошлую неделю я выучил ее распорядок: за десять минут до полуночи Бунтаро затаскивает внутрь рекламный щит и выносит мусор; без пяти двенадцать Бунтаро выключает телевизор и моет свою чашку с тарелкой; тут же может примчаться клиент – вернуть кассету; ровно в полночь Бунтаро открывает кассу и подсчитывает выручку. Через три минуты ставни опускаются, он заводит свой мотороллер и уезжает. Таракан пытается выбраться из клеевой ловушки. От новой работы ноют все мышцы. Кошачью миску, наверное, надо выбросить. Я уже все знаю, и нечего ее держать. И лишнее молоко, и две банки высококачественного кошачьего корма. А может, съесть его? Добавить в суп или еще куда-нибудь? Интересно, Кошка умерла сразу или долго лежала на обочине, думая о смерти? Может, какой-нибудь прохожий огрел ее лопатой по голове, чтобы не мучилась? Кошки – такие внепространственные сущности, что вроде бы не должны попадать под машины, но это случается сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Зря я решил, что смогу держать ее у себя. Бредовая затея. Бабушка терпеть не может кошек. Жители Якусимы держат сторожевых собак на цепи. А кошки гуляют сами по себе. Я ничего не знаю о кошачьих туалетах, не знаю, когда нужно пускать кошек в дом, когда выпускать на улицу, какие им нужны прививки. А эта обосновалась у меня, и вот что с ней случилось: проклятие Миякэ снова дало о себе знать. Андзю лазила по деревьям, как кошка. Как летняя пума.
– Ты лезешь очень-очень медленно!
Я кричу в ответ сквозь ранний туман и шелестящую листву:
– Я зацепился!
– Ты просто боишься!
– Нет!
Когда Андзю знает, что права, ее смех – как безумные переливы цитры. Земля далеко внизу. Я боюсь, как бы не обломились гнилые ветки. Андзю ничего не боится, потому что я беру ее долю страха на себя. Она бегло читает дорогу на вершину дерева. Пальцами рук цепляется за шершавую кору, пальцами ног – за гладкую. На прошлой неделе нам исполнилось одиннадцать, но Андзю уже лазает по канату в спортзале быстрее любого мальчишки из нашего класса, а еще – если захочет – перемножает дроби, читает тексты из программы средней школы и слово в слово пересказывает почти все приключения Зэкса Омеги. Пшеничка говорит, это потому, что в материнской утробе Андзю заграбастала себе бóльшую часть мозговых клеток. Наконец мне удается отцепить футболку, и я лезу за сестрой – со скоростью трехпалого ленивца, страдающего головокружением. Лишь несколько минут спустя я настигаю ее на самой верхней ветке. Меднокожую, гибкую, как ивовый прут, перемазанную мхом, исцарапанную, в парусиновых штанах, с небрежным узлом волос на затылке. Волны весеннего морского ветра разбиваются о кроны.
– Добро пожаловать на мое дерево, – говорит она.
– Неплохо, – признаю я.
Это больше, чем «неплохо». Я никогда еще не залезал так высоко. Чтобы забраться сюда, мы вскарабкались на самую вершину крутого склона. Вид поражает воображение. Серые крепостные стены гор; зеленая змейка реки в ущелье; висячий мост; мешанина крыш и проводов; порт; склады лесоматериалов; школьное футбольное поле; карьер, где добывают гравий; чайные плантации дядюшки Апельсина; наш тайный пляж со скалой, выступающей в море; волны, бьющиеся на отмелях вокруг камня-кита; длинный остров Танэгасима[29], откуда запускают спутники; ксилофон облаков; конверт, в который море запечатывает небо. Потерпев неудачу в качестве главного древолаза, я назначаю себя главным картографом.
– Кагосима вон там… – Я боюсь отпустить ветку и взмахнуть рукой, поэтому просто киваю в нужную сторону.
Андзю щурится, смотрит вглубь острова.
– А я вижу, как Пшеничка проветривает футоны.
Я бабушку не вижу. Андзю хочется, чтобы я спросил: «Где?» – поэтому я не издаю ни звука. Посреди острова вздымаются горы. Вершина Мияноуры подпирает небо. Там, в дождливом сумраке, живут горные племена – они отрубают головы заплутавшим туристам и делают из черепов чаши для питья. А еще там есть пруд, где живет настоящий каппа[30], перепончатый, весь покрытый чешуей, – он ловит пловцов, засовывает кулак им в задницы и вытаскивает сердца, которые потом поедает. Жители Якусимы нанимаются проводниками к туристам, но сами никогда не гуляют по горам. Нащупываю что-то в кармане:
– Хочешь шипучий леденец?
– Спрашиваешь!
Андзю издает пронзительный обезьяний крик, переворачивается и повисает вниз головой прямо передо мной, хихикая над моим испугом. Потревоженные птицы улетают, хлопая крыльями. Она крепко держится ногами за ветку.
– Не надо! – кричу я.
Андзю скалит зубы и машет руками, как крыльями:
– Андзю – летучая мышь!
– Андзю! Не надо!
Она раскачивается:
– Я буду сосссссссать твою кровь!
Заколка выпадает, узел хвоста распускается, волосы свешиваются вниз.
– Эх, последняя заколка! Вот досада.
– Не виси так! Перестань!
– Эйдзи – медуза, Эйдзи – медуза!
Я представляю, как она падает, отскакивая от веток.
– Прекрати!
– А вверх ногами ты еще уродливей. Я вижу твои козюли. Держи пакетик крепче.
– Сначала перевернись обратно!
– Нет. Я первая родилась, и ты должен меня слушаться. Держи пакетик крепче.
Она вытаскивает леденец, снимает фантик и смотрит, как тот улетает прочь в морскую зелень. Глядит на меня, кладет леденец в рот и с ленцой возвращается в нормальное положение.
– Ну ты и зануда!
– Если свалишься, Пшеничка меня убьет.
– Зануда.
Сердце бьется ровнее.
– Что с нами происходит, когда мы умираем? – В этом вся Андзю.
Пока она сохраняет вертикальное положение, мне на это наплевать.
– Откуда мне знать?
– Каждый говорит свое. Пшеничка говорит, что попадаешь в безгрешный мир и гуляешь по садам предков. Скучииииииииища. Учитель Эндо говорит, что превращаешься в почву. Отец Какимото говорит, что все зависит от того, каким ты был в этой жизни, – вот я превращусь в ангела или единорога, а ты – в червяка или в мухомор.
– А ты сама как думаешь?
– Когда умираешь, тебя сжигают, верно?
– Верно.
– Значит, превращаешься в дым, так?
– Наверное.
– Значит, поднимаешься вверх. – Андзю выпускает ветку и резко протягивает руки к солнцу. – Выше, еще выше, и улетаешь. Я хочу летать.
Усталый канюк[31] лениво парит в восходящем потоке теплого воздуха.
– На самолете?
– Кто же хочет летать на вонючем самолете?
Я сосу шипучий леденец.
– Откуда ты знаешь, что самолеты вонючие?
Андзю разгрызает свой леденец.
– Конечно вонючие. В них столько людей дышат одним и тем же воздухом. Это как в раздевалке у мальчишек в сезон дождей, но в сто раз хуже. Нет, я хочу летать по-настоящему.
– С реактивным ранцем?
– Без всяких реактивных ранцев.
– У Зэкса Омеги реактивный ранец.
Андзю вздыхает по-особенному, недавно выученным вздохом.
– Без всяких штучек Зэкса Омеги.
– Зэкс Омега открыл в порту новое здание!
– А он туда прилетел на реактивном ранце?
– Нет, – признаю я. – Приехал на такси. А ты не взлетишь, ты слишком тяжелая.
– Небесный замок Лапута[32] летает, хотя он каменный.
– Раз мне нельзя ссылаться на Зэкса Омегу, то и ты молчи про небесный замок Лапута.
– Тогда кондоры. Кондоры весят больше меня. А они летают.
– У кондоров есть крылья. Что-то я не вижу у тебя крыльев.
– Призраки летают без крыльев.
– Призраки мертвые.
Андзю выковыривает из зубов осколки леденца. Когда она в таком настроении, я не могу даже представить, о чем она думает. Тень листвы скрывает сестру, мою близняшку. Местами Андзю очень яркая, а местами – чересчур темная, будто ее и вовсе нет.
Как только я подрочу, то сразу засыпаю. Это нормально? Что-то не слышал, чтобы кто-нибудь в девятнадцать лет мучился от бессонницы. Я не военный преступник, не поэт и не ученый, я даже не страдаю от неразделенной любви. Вот от похоти – да. Вот он я, в городе с пятью миллионами женщин, стремительно приближаюсь к расцвету своих сексуальных сил: обнаженные особы женского пола должны бы пачками приходить ко мне по почте в конвертах, а я одинок, как прокаженный. Подумаем. Кто у нас сегодня в караване любви? Зиззи Хикару в гидрокостюме, как на рекламе пива; мать Юки Тиё в глэм-роковом прикиде; официантка из кафе «Юпитер»; женщина-инсектоид из «Зэкса Омеги и луны красной чумы». Обращусь-ка я к верной Зиззи… Шарю кругом в поисках бумажных салфеток.
Шарю кругом в поисках спичек, чтобы закурить посткоитальную «Майлд севен», но в конце концов прикуриваю от горелки газовой плиты. Годзилла придушен, но спать совсем не хочется. Сегодня Зиззи меня разочаровала. Мы с ней не совпали. Может, теперь она слишком юна для меня? «Фудзифильм» показывает 01:49. Что дальше? Ополоснуться? Поиграть на гитаре? Написать ответ хотя бы на одно из судьбоносных писем, полученных на этой неделе? На какое? Выберем то, что попроще, – ответ Акико Като на письмо, которое я написал, так и не добившись встречи. Этот листок до сих пор лежит в целлофановом пакете у меня в морозилке, вместе с Другим Письмом. Сперва я положил его на полку, рядом с Андзю, но оно все время насмехалось надо мной. Оно пришло… Когда же это было? Во вторник. Отдавая его мне, Бунтаро прочитал надпись на конверте:
– «Осуги и Босуги, юридическая фирма». Ухлестываешь за адвокатшами? Будь осторожен, парень, не то пришлепнут тебе парочку судебных запретов к больному месту. Хочешь анекдот про адвоката? Чем отличается адвокат от сома? Знаешь? Один – придонный илосос в чешуе, а другой – просто сом.
Говорю ему, что уже слышал этот анекдот, и бегу наверх, в свою капсулу, по лестнице, заставленной штабелями видеокассет. Говорю себе, что готов к отрицательному ответу, однако вовсе не ожидал, что «нет» Акико Като станет таким чувствительным ударом. Я выучил письмо наизусть. Вот самые памятные места: «Разглашение личных сведений клиента равносильно злоупотреблению его доверием, и ни один уважающий себя юрист не пойдет на подобные действия». Безапелляционное заявление. «Более того, я вынуждена отклонить вашу просьбу о передаче ваших посланий моему клиенту, поскольку он весьма категорично заявил, что получать их не желает». Никаких поводов для сомнений. Для ответа – тоже не много. «Наконец, если начнется судебное разбирательство с целью раскрыть сведения, касающиеся личности вашего отца, содействие вашим поискам на данном этапе представляет собой очевидный конфликт интересов, и я убедительно прошу вас оставить дальнейшие попытки затронуть этот вопрос. Полагаю, настоящее письмо проясняет нашу позицию». Прекрасно. План «А» оказался мертворожденным.
Господин Аояма, заместитель начальника вокзала Уэно, лыс, как заклепка. У него совершенно гитлеровские усики. Сегодня вторник, мой первый рабочий день в бюро находок вокзала Уэно.
– Ты даже не представляешь, как я занят, – говорит он, не отрывая глаз от бумаг. – Но я взял за правило проводить индивидуальное собеседование с каждым новым сотрудником.
Между фразами паузы длиной с милю.
– Кто я, ты знаешь. – Его ручка царапает по бумаге. – А ты… – Он сверяется с листком. – Эйдзи Миякэ.
Он смотрит на меня, ожидая, что я кивну. Киваю.
– Миякэ. – Он произносит мое имя так, словно это название пищевой добавки. – Раньше работал на апельсиновой плантации, – он перебирает страницы, и я узнаю свой почерк, – на неприметном острове к югу от Кюсю. В деревенском раю.
На стене над Аоямой висят портреты его выдающихся предшественников. Представляю, как каждое утро они спорят, кто из них должен восстать из мертвых, чтобы в очередной раз взять на себя утомительные обязанности руководителя. В кабинете пахнет выгоревшими на солнце картонными папками. Гудит компьютер. Сияют клюшки для гольфа.
– Кто тебя нанял? Госпожа Сасаки?
Киваю. Раздается стук в дверь, и секретарша вносит поднос с чаем.
– Я беседую со стажером, госпожа Маруи! – раздраженно шипит Аояма. – И это значит, что чай с десяти тридцати пяти переносится на десять сорок пять, так?
Госпожа Маруи нервно кланяется, бормочет извинения и ретируется.
– Подойди вон к тому окну, Миякэ, выгляни и расскажи, что видишь.
Выполняю.
– Мойщика окон, господин Аояма.
К иронии у него иммунитет.
– Под мойщиком окон.
Отель «Терминус» затеняет прибывающие и отходящие поезда. Утренние пассажиры. Носильщики. Праздношатающиеся, потерявшиеся, опоздавшие, встречающие, встречаемые. Подметально-уборочные машины.
– Вокзал Уэно, господин Аояма.
– А скажи мне, Миякэ, что такое вокзал Уэно?
Вопрос сбивает меня с толку.
– Вокзал Уэно, – сурово изрекает Аояма, – исключительный механизм. Один из самых точных хронометров в стране. На всем белом свете. А этот недоступный ни для пожара, ни для воров кабинет – один из его нервных центров. С этого пульта управления я могу получить доступ практически ко всему. Вокзал Уэно – это наша жизнь, Миякэ. Ты служишь ему, он служит тебе. Он обеспечивает твой регулярный карьерный рост. Тебе оказана честь стать крохотным винтиком этого механизма. Я и сам начинал с должности низкой, как у тебя, но пунктуальность, трудолюбие, честность…
Звонит телефон, и я перестаю существовать. Аояма сияет, как многоваттная лампочка. В голосе – радостное возбуждение:
– Да, господин! Какая честь… да… действительно… разумеется… вполне. Превосходное предложение. Осмелюсь добавить… да, конечно. Безусловно… о рекомендательных отзывах? Бесподобно… превосходно… могу ли я предложить… естественно. Перенесено на пятницу? Как это верно… мы все с огромным нетерпением ожидаем результатов аттестации и оценки эффективности нашей работы. Спасибо… да, конечно… Могу ли я… – Аояма вешает трубку и тупо на нее смотрит.
Вежливо хмыкаю. Аояма поднимает взгляд:
– На чем я остановился?
– Винтики и честность.
– Честность… – Но его мысли уже далеко. Он закрывает глаза и потирает переносицу. – Твой испытательный срок – шесть месяцев. В марте тебе представится возможность сдать экзамены для служащих Японской железной дороги. Тебя наняла госпожа Сасаки… Вот уж кто не образец для подражания. Она из тех, кто хочет быть и женщиной и мужчиной в одном лице. Не ушла с работы даже после замужества. Муж у нее умер – печально, конечно, но люди умирают каждый день, это еще не повод для того, чтобы метить на мужскую должность в качестве компенсации. Итак, Миякэ. Избавься от своего акцента. Слушай дикторов Эн-эйч-кей[33]. Вытряхни мусор из мозгов. В мое время средние школы готовили тигров. Сейчас они выпускают павлинов. Ты свободен.
Я кланяюсь и закрываю за собой дверь, но он уже не смотрит в мою сторону. Рядом с кабинетом никого нет. На столике у стены стоит поднос. Сам себе удивляясь, я поднимаю крышку чайника и плюю в него. Должно быть, стресс.
Бюро находок – неплохое место для работы. Приходится носить унылую форму сотрудника Японской железной дороги, но рабочий день заканчивается в шесть, а по линии Кита-Сэндзю вокзал Уэно находится всего в нескольких станциях от Умэдзимы, откуда до «Падающей звезды» рукой подать. В течение шестимесячного испытательного срока жалованье выплачивают раз в неделю, что меня вполне устраивает. Мне повезло. Работу для меня нашел Бунтаро. В прошлую пятницу я вернулся из «Паноптикума», а он сказал, что слышал, будто здесь открывается вакансия: не заинтересует ли меня это? «Еще бы!» – ответил я и не успел оглянуться, как уже проходил собеседование с госпожой Сасаки. Эта суровая дама – токийская версия моей бабушки – побеседовала со мной полчаса и предложила мне это место. По утрам я составляю описи, наклеиваю ярлыки со сведениями о дате/времени/номере поезда на вещи, собранные кондукторами и уборщиками на конечных станциях, и укладываю находки на соответствующую металлическую полку. Госпожа Сасаки, наша заведующая, у себя в кабинете разбирается с ценными вещами: бумажниками, платежными картами, драгоценностями – все это нужно регистрировать в полиции. Суга учит меня обращаться с тем, что не имеет особой ценности, – такие находки хранят в подсобке.
– Дневной свет сюда не заглядывает, – говорит Суга, – зато по тому, что к нам попадает, легко определить месяц и время года. С ноября по февраль – лыжи и сноуборды. В марте – дипломы. В июне – завал свадебных подарков. В июле – горы купальников. Дожди приносят сотни зонтов. Работа не самая вдохновляющая, но все лучше, чем носиться по авторемонтной площадке или развозить пиццу, имхо.
После обеда я сижу за стойкой, ожидая тех, кто придет за пропажей, или отвечаю на звонки. В часы пик, разумеется, дел больше всего, но часов с трех пополудни работается ненапряжно. Самый частый посетитель – мои воспоминания.
Листья зеленые до синевы. Мы с Андзю играем в гляделки: пристально смотрим друг другу в глаза, и тот, кто заставит другого улыбнуться и отвести взгляд, выигрывает. Я корчу Андзю рожицы, но ей нипочем. В ее глазах Клеопатры пляшут бронзовые искорки. Она выигрывает. Она выигрывает – как всегда, – приблизив свои широко раскрытые глаза к моим. Потом возвращается на свою ветку и сквозь лист смотрит на солнце. Закрывает солнце растопыренной ладошкой. Крошечная перепонка между большим и указательным пальцем наливается рубиновым цветом. Андзю смотрит на море:
– Начинается прилив.
– Отлив.
– Прилив. Твой камень-кит уже ныряет.
Мои мысли заняты чудесными футбольными подвигами.
– Я раньше действительно верила в то, что ты рассказывал про камень-кит.
Виртуозные финты и точные удары головой.
– Ты нес такую чушь.
– А?
– Про то, что он волшебный.
– Кто волшебный?
– Камень-кит, глухота!
– Я не говорил, что он волшебный.
– Говорил. Ты говорил, что это настоящий кит, которого бог грома[34] превратил в камень, и что однажды, когда мы подрастем, мы поплывем к нему, и, как только мы на него ступим, заклятье исчезнет, и он будет так благодарен, что отвезет нас, куда мы пожелаем, даже к маме и папе. Я так старалась представить себе все это, что иногда видела ясно-ясно, будто в телескоп. Мама надевала жемчужное ожерелье, а папа мыл машину.
– Я никогда ничего такого не говорил.
– Говорил-говорил. В один прекрасный день я к нему поплыву.
– Так далеко тебе ни за что не доплыть. Девчонки плавают хуже мальчишек.
Андзю лениво пинает меня в голову:
– А я доплыву! Запросто.
– Ага, размечталась. Туда очень далеко.
– Это ты размечтался.
Волны разбиваются о серый китовый бок.
– Может быть, это действительно кит, – говорю я. – Окаменелый.
Андзю фыркает:
– Это просто утес. Он даже не похож на кита. Вот как мы с тобой пойдем на тайный пляж, я доплыву до камня-кита, заберусь на него и буду над тобой смеяться.
Паром на Кагосиму уползает за горизонт.
– Завтра в это время… – начинаю я.
– Да-да, завтра в это время ты будешь в Кагосиме. Встанешь очень рано, чтобы успеть на паром и приехать в тамошнюю школу к десяти утра. Первые две игры проведут команды старшеклассников, а потом ваш матч. Потом вы пойдете ужинать в ресторан при девятиэтажном отеле и будете слушать, как господин Икэда объясняет, почему вы проиграли. А в воскресенье утром вернетесь обратно. Ты мне уже миллион раз говорил, Эйдзи.
– Что ж поделать, если ты завидуешь.
– Завидую? Тому, как одиннадцать вонючих мальчишек гоняют по грязи пустой мешок?
– Раньше футбол тебе нравился.
– Раньше ты прудил на наш футон.
Ох.
– Ты завидуешь, что я еду в Кагосиму, а ты – нет.
Андзю высокомерно молчит.
Дерево поскрипывает. Я не ожидал, что Андзю так быстро потеряет интерес к нашему спору.
– Смотри, – говорит она.
Андзю поднимается во весь рост, расставляет ноги, встает поустойчивей, отпускает руки…
– Прекрати, – говорю я.
Сестра прыгает в пустоту
Из моей груди вырывается крик
Андзю проносится мимо
и со смехом приземляется на ветку внизу, а потом снова ныряет еще ниже – к следующей ветке. Андзю исчезает в листве, но смех ее слышится еще долго.
«Фудзифильм» утверждает, что уже больше двух часов ночи. Каждая ночь набита минутами, но они сочатся из нее одна за другой. Моя капсула набита Хламом. Если отыскать слово «хлам» в словаре, то обнаружится точное описание моей капсулы над «Падающей звездой». Убогая колония в империи Хлама. Старый телевизор, старенький свалявшийся футон, складной столик, поднос с разрозненной кухонной утварью – спасибо жене Бунтаро, – чашки с грибковыми культурами, ревущий холодильник с хромированными нашлепками. Вентилятор. Стопка журналов «Экран», которую всучил мне Бунтаро. С Якусимы я привез только рюкзак с одеждой, «Дискмен»[35], диски с альбомами Джона Леннона и гитару. В день моего приезда Бунтаро опасливо посмотрел на нее:
– Ты ведь не собираешься эту штуку подключать?
– Нет, – ответил я.
– Так и быть, акустический звук разрешаю, – сказал он. – А если подключишь электричество, вылетишь на улицу. В договоре все прописано.
Я не собираюсь ей отвечать. Ни за что. Она попытается отговорить меня от поисков отца. Интересно, сколько времени нужно таракану, чтобы умереть? Клеевая ловушка называется «тараканий мотель», на стенках коробочки нарисованы окна, двери и цветы. Предатели-тараканы радостно машут всеми шестью лапками: «Заходите, заходите!» Приманка – пахнущий луком пакетик; в любом токийском супермаркете продаются ловушки с запахом карри, креветок и вяленой говядины. Когда я поселился в капсуле, Таракан поприветствовал меня первым. Даже не потрудился изобразить испуг. Усмехался. И кто же смеется последним? Я! Нет. Он. Я не могу уснуть. По ночам на Якусиме спят. Все равно больше заняться нечем. В Токио по ночам не спят. Панки гоняют по торговым пассажам на скейтах. Хостессы[36] подавляют зевоту и поглядывают на «ролексы» клиентов. Бандиты якудза чинят разборки на опустевших строительных площадках. Школьники помладше меня устраивают турниры по секс-гимнастике в отелях любви. Где-то наверху мой собрат по бессоннице спускает в туалете воду. В стене за моей головой урчит труба.
Прошлая среда, мой второй день в качестве трутня на вокзале Уэно. В обеденный перерыв сижу в туалетной кабинке, сру, покуривая «Салем». Вдруг слышу, как открывается дверь, скрипит молния, струя мочи ударяет по фаянсу писсуара. Потом раздается голос – это Суга, нерд-компьютерщик, чье место я займу в конце недели, когда он вернется в колледж. Очевидно, думает, что он здесь один.
– Извините, вы – Суга? Это из-за вас произошло?
Он говорит не своим обычным голосом, а голосом мультяшного персонажа – такие упражнения наверняка здорово дерут связки.
– Не хочу вспоминать, не хочу вспоминать, не хочу вспоминать. Не заставляйте. Не надо меня заставлять. Не заставите. Забудь! Забудь! Забудь!
Его голос становится обычным – спокойным, гнусавым:
– Я не виноват. Такое со всяким могло случиться. С кем угодно. Не слушай их.
Я влип. Если сейчас выйти из кабинки, то нам обоим будет стыдно до дрожи. Такое ощущение, будто я подслушал, как он во сне выболтал какой-то секрет. А если не выйти, то мало ли, что он еще скажет. Вдруг он расчленил труп у себя в ванной и по кускам выбросил в мусорку? Если он меня увидит, то решит, что я подслушивал. Громко хмыкаю, спускаю воду и долго-долго натягиваю брюки. Потом выхожу из кабинки, но Суги уже нет. Мою руки и возвращаюсь в офис кружным путем, мимо журнальных киосков. Госпожа Сасаки разбирается с посетителем. Суга сидит в подсобке, обедает; я предлагаю ему «Салем». Он говорит, что не курит. Он еще вчера мне это сказал, а я забыл. Подхожу к зеркалу, притворяясь, будто что-то попало в глаз. Если обращаться с Сугой дружелюбнее, он сообразит, что это я слышал, как его терзают воспоминания.
Суга возвращается за стойку, усаживается на табурет и раскрывает журнал «МастерХакер». У Суги странное телосложение: излишек веса сосредоточен вокруг живота, а задница совсем плоская. Длинные руки болтаются, как у инопланетянина. Он страдает экземой. На коже лица лекарственные препараты справляются с болезнью, но тыльная сторона ладоней шелушится, и даже в жару он носит рубашки с длинным рукавом. В подсобке меня дожидается тележка с вещами, забытыми в послеполуденных поездах.
Суга ухмыляется:
– Ну что, пообщался с господином Аоямой, заместителем начальника вокзала?
Я киваю. Суга откладывает журнал.
– Ты его не бойся. Он не такой великий человек, каким себя мнит. Имхо, у него крыша едет. А на прошлой неделе госпожа Сасаки говорила, что грядут большие перемены. Ну, меня это не волнует. С понедельника я начинаю интернатуру в Ай-би-эм. А еще через неделю – опять в универ, в аспирантуру. Мне дали отдельный кабинет для работы над диссертацией. Заходи как-нибудь. Императорский универ, девятый этаж. Это рядом с Отяномидзу. Я нарисую, как добраться, а там позвонишь с проходной. Я пишу магистерскую по системному программированию, но, строго между нами и забытыми вещами, все это академическое дерьмо – лишь прикрытие вот для чего. – Он помахивает «МастерХакером». – Я один из пяти лучших хакеров Японии. Мы все знаем друг друга. Обмениваемся информацией. Взламываем системы и оставляем свои метки. Как те, кто рисует граффити. В Японии нет такого компьютера, который я не мог бы взломать, вот. В Пентагоне – ты ведь знаешь, что такое Пентагон, да? мозговой центр американской обороны – есть секретный сайт под названием «Священный Грааль». Защиту для него разрабатывают лучшие компьютерщики, вот. Если сумеешь взломать «Священный Грааль», значит ты лучше, чем они, и тогда появляются люди в черном и предлагают тебе работу. Вот чем я хочу заняться. В Императорском универе стоят самые скоростные модемы по эту сторону двадцать пятого века. Вот получу доступ к этим малюткам – и сразу в дамки. И тогда, у-у-ух, как рвану я из этой помойки под названием Токио, так пыль столбом полетит. Только вы меня и видели.
Принимаюсь за работу, смотрю, как Суга читает «МастерХакер». Каждый раз, дочитав очередную колонку текста, он вздергивает брови. Интересно, а что для него не помойка? Что осчастливит Сугу? Странно, но, когда я вспоминаю, что буду жить здесь лишь до тех пор, пока не найду отца, Токио мне почти нравится. Такое чувство, будто я прохлаждаюсь на другой планете, выдаю себя за местного жителя. Может, я даже задержусь здесь подольше. Мне нравится показывать проездной сотрудника ЯЖД контролеру у турникета. Нравится, что никто не сует нос в чужие дела. Нравится, что рекламные плакаты меняют раз в неделю – на Якусиме их меняют раз в десять лет. Нравится каждый день ездить на метро от Кита-Сэндзю до Уэно, нравится тот отрезок пути, когда поезд идет под уклон, ныряет под землю и превращается в подлодку. Нравится смотреть, как мимо на разной скорости проносятся другие подлодки, и можно представить, что едешь в обратную сторону. Нравится ловить взгляды пассажиров в параллельных окнах – будто одновременно вспоминаются две истории. По утрам поезда из Кита-Сэндзю до Уэно набиты битком. Когда поезд меняет скорость, мы, трутни, осоловело раскачиваемся и пошатываемся в унисон. Обычно только влюбленные и близнецы стоят так близко друг к другу. Мне нравится, что в подлодке не нужно ничего решать. Нравится приглушенный лязг и перестук. Токио – это огромный механизм, состоящий из деталей помельче. Трутням известно предназначение лишь их собственных крохотных винтиков. Интересно, каково предназначение Токио? Для чего он? Я уже выучил названия станций между своим жилищем и Уэно. Я знаю, где встать, чтобы сойти как можно ближе к выходу в город. «Никогда не садись в первый вагон, – говорит дядя Асфальт. – Если поезд с чем-нибудь столкнется, его раздавит всмятку. А когда поезд подходит к платформе, будь предельно внимателен, чтобы тебя не столкнули под колеса». Мне нравится смесь запахов пота, духов, раздавленной еды, копоти, косметики. Нравится вглядываться в отраженные лица так пристально, что можно листать их воспоминания. В подлодках – трутни, а в черепах – воспоминания, и то, что для одного – помойка, для другого – рай.
– Эйдзи!
Андзю, кто же еще. Луна сияет, как летающая тарелка, жилые комнаты полнятся запахом бабушкиной ароматической смеси против комаров.
– Эйдзи! – шепчет Андзю, чтобы не разбудить бабушку, потом забирается на высокий подоконник и обхватывает колени руками.
На татами и выцветших фусума пляшут бамбуковые тени.
– Эйдзи! Ты не спишь?
– Сплю.
– А я на тебя смотрю. Ты – это я, только мальчик. Но ты храпишь.
Она нарочно дразнится, чтобы меня разбудить.
– Не храплю.
– Храпишь, как обожравшийся хряк. Угадай, где я была.
Дайте мне поспать.
– В выгребной яме.
– На крыше! Туда можно залезть по балконному шесту. Я нашла дорогу. Там так тепло. Если смотреть на Луну долго-долго, то увидишь, как она движется. Я не могла уснуть. Какой-то настырный комар все время меня будил.
– А меня будит настырная сестра. Завтра у меня футбольный матч. Мне нужно выспаться.
– Значит, тебе нужно чего-нибудь съесть, чтобы подкрепиться. Смотри.
Сбоку стоит поднос. Омоти[37], соевый соус, маринованный дайкон[38], арахисовое печенье, чай. Похоже, нам влетит.
– Когда Пшеничка узнает, она…
Андзю корчит рожицу, произносит голосом Пшенички:
– Может, мать и облекла тебя в плоть, барышня, но мозги тебе вправлю я!
Я смеюсь, как всегда.
– Ты ходила на кухню?
– Я сказала призракам, что я – тоже призрак, и они мне поверили.
Андзю спрыгивает с подоконника и бесшумно приземляется мне в ноги. Я понимаю, что сопротивление бесполезно, поэтому сажусь и вгрызаюсь в хрустящую маринованную редьку. Андзю проскальзывает ко мне под футон и обмакивает омоти в соевый соус.
– Мне снова снилось, что я летаю. Только приходилось махать крыльями изо всех сил, чтобы удержаться в воздухе. Подо мной люди ходили туда-сюда, а еще там был полосатый цирковой шатер, в нем жила мама. Я хотела спикировать на нее, но тут меня разбудил комар.
– Ты только не падай во сне.
Андзю жует.
– Что?
– Если не проснешься, когда снится, что падаешь на землю с высоты, то на самом деле умрешь, прямо в постели.
Андзю продолжает жевать.
– Это кто так говорит?
– Ученые так говорят.
– Чепуха.
– Ученые это доказали!
– Если ты во сне сверзился на землю и от этого умер на самом деле, то как другие узнают, что тебе снилось?
Пока я это осмысливаю, Андзю молча наслаждается победой. Лягушки то начинают свой концерт, то умолкают, будто миллионы маримб[39]. Где-то далеко спит море. Мы жуем одну омоти за другой. Вдруг Андзю начинает говорить странным голосом – я такого еще не слышал:
– Я больше не вижу ее лица, Эйдзи.
– Чьего лица?
– Маминого. А ты?
– Она болеет. Ее лечат в специальной больнице.
Голос Андзю дрожит.
– А если это неправда? А?
Что это с ней?
– Это правда! – Я будто нож проглотил. – Она такая же, как на фотографиях.
– Фотографии старые.
Вот зачем оно мне сейчас?
Андзю вытирает глаза ночной рубашкой и отводит взгляд. Стискивает зубы. Я прямо слышу, как у нее перехватывает в горле.
– Сегодня после обеда, когда ты был на тренировке, Пшеничка послала меня в магазин госпожи Танака за пачкой стирального порошка. Там была госпожа Оки со своей сестрой из Кагосимы. Они стояли в глубине магазина и не сразу меня заметили, поэтому я все слышала.
Нож вонзается мне в кишки.
– Что ты слышала?
– Госпожа Оки сказала: «Эта девчонка Миякэ носа сюда не кажет». Госпожа Танака сказала: «Да разве она посмеет!» А госпожа Оки сказала: «Конечно не посмеет. Бросила двоих детишек на бабушку и дядьев, а сама живет в Токио со своими роскошными ухажерами, роскошными квартирами и роскошными машинами». Потом она увидела меня.
Нож поворачивается.
Андзю сдавленно всхлипывает, ловит ртом воздух.
– И что?
– Ну, она выронила яйца из рук и поскорее вышла.
В лунном свете тонет мотылек. Я вытираю Андзю слезы. Они такие теплые. Она отталкивает меня и упрямо съеживается.
– Послушай… – Я гадаю, что бы такое сказать. – Знаешь, эта госпожа Оки и ее сестра из Кагосимы, да и госпожа Танака вместе с ними, – настоящие ведьмы. И они пьют свою мочу.
Предлагаю ей ломтик маринованного дайкона, но Андзю качает головой. Лишь бормочет:
– Разбитые яйца. Повсюду.
«Фудзифильм» показывает 02:34. Спать. Спать. Хочется спать. Веки тяжелеееееееееют. Ничего подобного. Ну дайте мне поспать. Пожалуйста. Мне завтра на работу. Уже сегодня. Закрываю глаза – и вижу тело, падающее в никуда. Кубарем. Таракан все еще сражается с клеем. У тараканов есть особые органы чувств, благодаря которым они пускаются наутек прежде чем информация об опасности поступает в мозг. И как только ученые это выяснили? Тараканы жрут даже книги, если не попадется ничего посочнее. Кошка бы вышибла из Таракана дух. Кошка. Кошка знает тайну жизни и смерти. В среду вечером прихожу с работы.
– Ну, как дела в конторе, любезный? – спрашивает Бунтаро, потягивая из банки кофе со льдом.
– Неплохо, – отвечаю я.
Бунтаро допивает последние капли.
– А как твои коллеги?
– Я почти ни с кем еще не знаком. Суга, парень, место которого я займу, воображает себя наикрутейшим киберзлодеем. Госпожа Сасаки, моя начальница, особой любви ко мне не питает, но, вообще-то, она хорошая. Господин Аояма, ее начальник, такой надутый тип, что удивительно, как он не попискивает при ходьбе.
Бунтаро закидывает банку в мусорное ведро, и тут появляется посетитель со стопкой видеокассет. Я забираюсь в свою капсулу, падаю на футон и в сотый раз читаю письмо Акико Като. В комнате сгущаются сумерки, и я решаю поиграть на гитаре. На нормальные светильники денег у меня нет, поэтому приходится довольствоваться обшарпанной настольной лампой – мой предшественник оставил ее в шкафу. Внезапно признаюсь себе, что напрасно всю жизнь тешил себя смехотворной надеждой, будто, приехав в Токио, рано или поздно встречу отца. Это достойно жалости. Однако правда не приносит мне никакого освобождения, а наоборот, погружает меня в такое уныние, что играть на гитаре больше не хочется. Складываю футон в подобие кресла, усаживаюсь и включаю телевизор, на прошлой неделе обнаруженный у мусорных баков. Телевизор – полное дерьмо. Зеленый цвет в нем становится сиреневым, а синий – розовым. Я настроил пять каналов и еще один с помехами. Все передачи – тоже дерьмо. Губернатор Токио заявляет, что в случае землетрясения все негры, латиноамериканцы и корейцы взбесятся и начнут грабить, насиловать и мародерствовать. Переключаю канал. Фермер рассказывает, как свиньи жиреют на своем дерьме. Переключаю канал. Токийские «Гиганты» разгромили хиросимского «Карпа»[40]. Достаю из холодильника упаковку уцененного суси. Переключаю канал. Участникам игрового шоу задают вопросы о мелких подробностях отрывка из фильма, который они только что видели. Краем глаза замечаю крадущуюся тень. Она бросается на меня, и я едва не роняю свой ужин на пол.
– Ой!
Мне под ноги прыгает черная кошка. Зевает во всю свою клыкастую пасть. Кончик хвоста у нее белый. На шее – ошейник в шотландскую клетку.
– Кошка, – бессмысленно бормочу я, пока пульс пытается вернуться к нормальному ритму.
Должно быть, она спрыгнула с карниза на балкон и пролезла сквозь дыру в москитной сетке.
– Вали отсюда!
Кошка не из тех, кого легко смутить. Я резко топаю ногой – обычно это отпугивает животных, но кошку этим не проймешь. Она смотрит на суси и облизывается.
– Послушай, – говорю я, – пойди и поищи домохозяйку, у которой в холодильнике полно остатков ужина.
Кошка не удостаивает меня ответом.
– Ладно, дам тебе блюдечко молока, – говорю я ей. – А потом уходи.
Не успел я наполнить блюдечко, как кошка его опустошает. Наливаю еще.
– Больше не получишь.
Кошка лакает молоко, на этот раз помедленнее, а мне становится интересно, с каких это пор я разговариваю с животными. Она смотрит, как я сдуваю пушинку с остатков суси. В итоге мне достается пачка крекеров, а Кошка уминает свежего тунца, осьминога и тресковую икру.
Когда выходишь из здания вокзала Уэно в парк, к концертному залу и музеям, то, если обогнуть фонтан, попадаешь в густые высокие заросли. Здесь, в палатках, сооруженных из отрезов небесно-голубой строительной пленки и деревянных шестов, живут бездомные. В палатках получше есть даже двери. Наверное, именно там живет Дама с фотографиями. Во вторник, прямо перед обеденным перерывом она появилась у стойки для приема заявлений. Это был самый жаркий день за всю неделю. Асфальт размяк, как подтаявший шоколад. На ней был плотно повязанный головной платок, длинная юбка непонятной расцветки и разношенные теннисные тапочки. Сорок, пятьдесят, шестьдесят лет – по обветренному лицу с глубоко въевшейся грязью возраст не угадать. Суга с ухмылкой заявил, что у него перерыв, и улизнул в туалет предаваться самобичеванию. Бездомная женщина чем-то напоминала крестьянок с Якусимы, только позаторможенней. Взгляд рассеянный, голос надтреснутый и шипящий.
– Я их потеряла.
– Что вы потеряли?
Она переминается с ноги на ногу:
– Вам их еще не приносили?
Тянусь к стопке бланков для заявлений о пропаже:
– Так что вы потеряли?
Она кидает на меня быстрый взгляд:
– Фотографии.
– Вы потеряли фотографии?
Она достает из кармана луковицу и начинает счищать хрустящую коричневую шелуху. Пальцы темные, в струпьях.
Пробую по-другому:
– Вы потеряли фотографии в поезде или на вокзале?
Она уклончиво говорит:
– Старые-то нашлись…
– Мне бы очень помогло, если бы вы рассказали немного подробнее о…
Она лижет луковицу.
– А вот новых так и нет.
– Это были ценные фотографии?
Она надкусывает луковицу. Луковица хрустит.
Госпожа Сасаки выходит из кабинета и кивает Даме с фотографиями.
– Ну и жара сегодня.
Дама с фотографиями мямлит сквозь луковую жвачку:
– Они мне нужны, чтобы прикрыть часы.
– Боюсь, сегодня у нас нет ваших фотографий. Может быть, завтра найдутся. Попробуйте поискать у пруда Синобадзу[41].
Дама с фотографиями морщит лоб:
– С чего бы им там быть?
Госпожа Сасаки пожимает плечами:
– Как знать? В жару там прохладно.
Она кивает:
– Как знать…
И бредет прочь.
– Она постоянный клиент?
Госпожа Сасаки наводит порядок на письменном столе.
– Мы – пункт в ее расписании. Будь с ней повежливее, это ведь нетрудно. Ты понял, что за фотографии она имела в виду?
– Наверное, какой-нибудь семейный альбом?
– Сначала я тоже восприняла ее слова буквально. – Госпожа Сасаки, как всегда, рассудительна. – Но похоже, она говорит о своих воспоминаниях.
Женщина исчезает в дрожащем мареве зноя. Цикады стрекочут то тише, то громче.
– Мы – это всего лишь наши воспоминания.
Луна сдвигается. Андзю успокаивается, маленькими глоточками пьет чай. Я где-то на границе между сном и бодрствованием. Изо всех сил пытаюсь вспомнить мамино лицо. Вроде бы помню запах ее духов, но точно сказать не могу. Андзю пристраивается мне под бочок. Она все еще думает о маме.
– Последний раз мы с ней виделись в Кагосиме, у дяди Толстосума. Когда в последний раз уезжали с Якусимы.
– В день рождения на тайном пляже. Два года назад?
– Три. Два года назад день рождения был на надувной лодке.
– Она очень неожиданно уехала. Пробыла целую неделю, а потом просто исчезла.
– Хочешь, расскажу секрет?
Я тотчас просыпаюсь:
– Настоящий?
– Я уже не маленькая. Конечно настоящий.
– Тогда давай.
– Пшеничка велела никому не рассказывать, даже тебе.
– О чем?
– О том, почему мама тогда уехала.
– И ты три года молчала? Я думал, она уехала, потому что заболела.
Андзю зевает, равнодушная к тому, что я думаю или думал.
– Ну, рассказывай.
– В тот день я приболела. Ты ушел на тренировку. Я делала уроки за столом на первом этаже. Мама стала готовить тэмпуру[42].
У Андзю какой-то вялый голос. Уж лучше б она разревелась.
– Она обмакивала в кляр все подряд.
– В каком смысле все подряд?
– Ну, несъедобные вещи. Свои часики, свечку, чайный пакетик, лампочку. Лампочка лопнула в кипящем масле, а мама расхохоталась. Кольцо. Потом она выложила все это на блюдо с зеленью и поставила передо мной.
– И что ты сказала?
– Ничего.
– А она?
– Она сказала, что это игра. Я сказала: «Ты пьяная». Она ответила, что это все из-за Якусимы. Я спросила, почему она не может играть без выпивки. Она спросила, почему мне не нравится, как она готовит. Стала заставлять меня есть, сказала, что я должна быть послушной девочкой. Я сказала: «Такое не едят». А она рассердилась. Помнишь, как иногда мы ее ужасно боялись? Я забыла, как она выглядит, но это хорошо помню.
– А потом что было?
– Пришла тетя Толстосум и увела ее в спальню. Я слышала… – Андзю сглатывает слюну. – Она плакала.
– Мама плакала?
– Тетя Толстосум вернулась и сказала, что если я хоть кому-то проболтаюсь, то придет злой доктор и заберет маму. – Андзю морщит лоб. – Поэтому я вроде как заставила себя об этом забыть. Но не по-настоящему.
Ухает сова.
Мне надо поспать.
Андзю раскачивается, медленно-медленно.
Вдалеке лает собака, потревоженная реальностью или воспоминанием.
– Не уезжай завтра в Кагосиму, Эйдзи.
– Я должен ехать. Я играю в защите.
– Не уезжай.
Я не понимаю:
– Почему?
– Ну, раз ты так, то езжай. Мне плевать.
– Я же всего на два дня…
– Не тебе одному можно поступать по-взрослому! – огрызается Андзю.
– И что это значит?
– Я-то знаю, а ты догадайся.
– Что ты задумала?
– Узнаешь, когда вернешься со своего футбола!
– Скажи!
– Я тебя не слышу. Ты в Кагосиме.
– Скажи!
Мне тревожно.
В голосе Андзю злорадство:
– Вот увидишь. Увидишь.
– А, никому не интересно, что ты там задумала!
– Утром я видела жемчужную змею.
Теперь я уверен, что она врет. Жемчужная змея – это глупая сказка, которую бабушка рассказывает, чтобы нас напугать. Якобы давным-давно, еще до рождения бабушки, в нашем амбаре завелась змея, которая своим появлением возвещает близкую смерть. Мы с Андзю в это больше не верим, только бабушке невдомек. Мне обидно, что Андзю думает, будто меня можно запугать россказнями о жемчужной змее. Мартовская птица-полуночница пытается вспомнить свою песню. Она то и дело сбивается и начинает заново. Каждую весну я вспоминаю об этой птице, а к сезону дождей снова забываю. Потом мне все же хочется помириться с сестренкой, но она уже спит или притворяется спящей.
Я не замечаю, как стрелки «Фудзифильма» контрабандой протаскивают три часа через границу времени. До рассвета еще часа два. Липкая паутина ночи сплетена на три четверти. На работе я весь день буду как выжатый лимон. Госпожа Сасаки предупредила, что в субботу дел больше, чем в будни, потому что те, кто едет на работу, следят за своими вещами лучше, чем те, кто в выходные отправляется за покупками или с пятницы гуляет всю ночь напролет; кроме того, многие ждут субботы, чтобы прийти за потерянным. Наверное, повсюду будут крутиться репортеры, вынюхивая что-нибудь новенькое про господина Аояму. Бедняга. Внезапно и бесцеремонно, словно пуля в барабанную перепонку, трезззззззззвонит телефон. Буравящий звук вселяет чувство вины и страха. Телефон трезззззззззвонит. Странно. Телефон появился у меня только на прошлой неделе. Никто не знает моего номера. Телефон трезззззззззвонит. А вдруг это какой-нибудь извращенец забавляется, выбирая номера наугад? Стоит ответить, как этот псих мигом окажется в моем душе[43]. Ни за что. Телефон трезззззззззвонит. Бунтаро? Что-то случилось? Но что? Телефон трезззззззззвонит. Стоп. В «Осуги и Босуги» узнали мой номер – допустим, коллега Акико Като прочитала мое письмо прежде, чем та пустила его в машинку для резки бумаг, и невольно прониклась сочувствием к моему положению. Она связывается с моим отцом, который дожидается, когда уснет его жена, а потом собирается с духом и звонит мне. За закрытыми дверями звучит его напряженный хриплый шепот: «Возьми трубку!» Телефон трезззззззззвонит. Пора решать. Нет. Пусть заткнется. «Возьми трубку!» Я срываюсь с футона, застреваю в складной раме, спотыкаюсь о футляр от гитары и хватаю трубку:
– Алло!
– Гони голод вон – съешь пиццу «Нерон»! – выпевает мужской голос.
– Алло!
– Гони голод вон – съешь пиццу «Нерон»! – слегка раздраженно повторяет он.
– Да, это я уже слышал.
– Ну, это же не я сочинил такой дурацкий джингл. – Голос масляный, не очень трезвый.
– И не я.
– Послушайте, молодой человек, вы принесли нам в офис флаеры, где написано, что первые двести человек, которые позвонят вам до или после часа пик и пропоют «Гони голод вон – съешь пиццу „Нерон“», бесплатно получат пиццу среднего размера на свой выбор. Что я и сделал. Я хочу, как обычно, «Камикадзе»: корж с моцареллой, банан, перепелиные яйца, гребешки, тройная порция перца чили, чернила осьминога. Перец не режьте. Я его посасываю. Это помогает мне сосредоточиться. Итак, я попал в число первых двух сотен или нет?
– Это шутка?
– Ни в коем случае. Я всю ночь на работе и умираю от голода.
– По-моему, вы ошиблись номером.
– Не может быть. Это пиццерия «Нерон», так ведь?
– Нет.
– Вы уверены?
– Ага.
– Значит, я позвонил кому-то домой в четвертом часу утра?
– Угу.
– Ох, прошу прощения. Извините, пожалуйста. У меня нет слов.
– Не волнуйтесь. У меня все равно бессонница.
– Прошу прощения, я говорил с вами таким пренебрежительным тоном! Я думал, что вы – бестолковый разносчик пиццы.
– Ничего-ничего. Кстати, у вашей пиццы, должно быть, очень странный вкус.
Он горделиво посмеивается. Он старше, чем я думал.
– Мое собственное изобретение. В «Нероне» эту пиццу назвали «Камикадзе» – я однажды слышал, как девушка, что принимает заказы, говорит так повару. Тут весь секрет – в банане. Он склеивает все вкусы воедино. Ну, не стану вас больше задерживать. Еще раз примите мои самые искренние извинения за мой непростительный поступок. У меня нет оправдания. – Он кладет трубку.
Я просыпаюсь в одиночестве. В окне тают летние звезды. На полу лежит небрежно отброшенный футон Андзю. Как обычно. Интересно, она снова забралась на крышу? Приподнимаю москитную сетку:
– Андзю? Андзю!
Ветер раскачивает бамбук, наяривает лягушачий хор. Да ну ее, Андзю. Хочет дуться, пусть дуется. Через пятнадцать минут я уже одет, сыт и шагаю по дороге к бухте Анбо. На плече – спортивная сумка, на голове – новая бейсболка, подарок Андзю, купленный на карманные деньги от дяди Асфальта. Ловлю взглядом паром на Кагосиму, освещенный, как звездолет на стартовой площадке, и от волнения меня пробирает дрожь. Наконец-то этот день настал. Я еду в Кагосиму и отказываюсь чувствовать себя виноватым из-за того, что на одну-единственную ночь покидаю свою глупую завистливую сестренку. Отказываюсь. И не верю в то, что она ночью наговорила о маме. В последнее время Андзю какая-то странная. Метеор царапает темный пурпур неба. Темный пурпур неба затирает царапину метеора. И тут мне в голову приходит грандиозная мысль. Самая замечательная мысль в моей жизни. Я начну тренироваться, тренироваться и тренироваться и стану таким выдающимся футболистом, что в свой двадцатый день рождения буду играть за Японию против Бразилии в финале Кубка мира. На шестидесятой минуте Япония будет проигрывать восемь – ноль, тогда меня вызовут на замену, и я сделаю три хет-трика[44] подряд к концу дополнительного времени. Обо мне заговорят международные пресса и телевидение. Мама будет так гордиться мной, что бросит пить, но самое главное – отец видит меня, узнаёт и едет в аэропорт встречать самолет нашей команды. Конечно, Андзю тоже там, вместе с мамой, и мы воссоединяемся на глазах у всего мира. Как здорово. Как просто. Я весь горю от собственной гениальности и обретенной надежды. Светает. Иду по висячему мосту и вижу высверк на воде. Прыгает лосось.
Ближе к устью речное русло расширяется, а долина становится крутой и узкой. Пшеничка и старики из Анбо называют ее Горловиной. Здесь полно призраков, но мне не страшно. Я и боюсь, и надеюсь, что Андзю меня где-то подстерегает. Между сосен мерещатся лица, которых на самом деле нет. Там, где в сезон дождей дорогу подтапливает, ворота-тори отмечают начало тропинки, змейкой бегущей вверх по холму, к храму бога грома. Пшеничка запрещает там играть, говорит, что, если не считать кедров Дзёмон[45], бог грома – самый древний обитатель Якусимы. Если выказать ему неуважение, то, едва выйдешь в море, он нашлет цунами, чтобы утопить обидчика. Андзю хотела спросить, не случилось ли так с дедушкой, отцом мамы, но я взял с нее слово, что она этого не сделает. Госпожа Оки говорила кому-то из моих одноклассников, что дедушка напился до бесчувствия и утонул в канаве. Так или иначе, жители деревни никогда не беспокоят бога грома по таким мелочам, как экзамены, деньги или свадьбы – с этим они идут в новый храм отца Какимото, что рядом с банком. Но с просьбой о рождении ребенка, за благословлением рыбацкой лодки или с заупокойной молитвой об умерших родственниках они взбираются по ступеням храма бога грома. Всегда в одиночку.
Я смотрю на свои часы с эмблемой Зэкса Омеги. Времени полно. Сегодня в Кагосиме начинается мой путь на Кубок мира, а для этого нужна помощь. Поиски отца – большое дело. Для нас с Андзю нет ничего важнее. Тут и думать нечего. Я забрасываю спортивную сумку за покрытый мхом камень и, подстегиваемый своими гениальными мыслями, бегу наверх по скользким от грязи ступеням.
Кладу трубку. Странный тип, чего он так долго извинялся? Может, хоть этот звонок снимет с меня заклятье бессонницы. Может, тело осознает, как оно устало, и наконец-то отключится. Ложусь на спину и пялюсь вверх, делая ходы шахматным конем по плиткам потолка, пока не забываю, на каких уже был. Начинаю снова. После третьей попытки до меня доходит бессмысленность этого занятия. Если мне не удается уснуть, то с таким же успехом можно думать о письме. О Другом Письме. О Большом Письме. Оно пришло – когда же? – в четверг. Вчера. Ну хорошо, позавчера. Я вернулся в «Падающую звезду» совершенно без сил. На девятой платформе, самой дальней от бюро находок, кто-то забыл тридцать шесть шаров для боулинга, а Суга снова проделал свой фокус с исчезновением, так что мне пришлось перетаскивать их оттуда самому, один за другим. Позже оказалось, что они принадлежат команде, которая ожидала их прибытия на Центральном токийском вокзале. Выясняется, что, когда дело касается потерянного имущества, законы вероятности работают иначе. Госпожа Сасаки однажды обнаружила в тележке человеческий скелет, засунутый в рюкзак. Его забыл в поезде студент-медик, возвращаясь с прощальной вечеринки у профессора. В общем, я, обливаясь потом, прихожу в «Падающую звезду», а Бунтаро сидит на табуретке за конторкой, ложка за ложкой отправляет себе в рот мороженое из зеленого чая и изучает в лупу какой-то листок бумаги.
– Эй, парень, – говорит он, – хочешь посмотреть на моего сына?
Это странно, потому что Бунтаро как-то говорил, что у него нет детей. Он показывает листок с расплывчатым темным пятном. Я недоуменно гляжу на своего домовладельца.
– Чудеса ультразвукового исследования! – с гордостью восклицает он. – В утробе!
Смотрю на живот Бунтаро.
– Очень смешно. – Бунтаро укоризненно глядит на меня. – Мы уже решили, как его назовем. Вернее, жена решила. Но я согласен. Сказать тебе, какое имя мы выбрали?
– Конечно, – отвечаю я.
– Кодаи. «Ко» – путешествие, «даи» – великий. Великое Путешествие.
– Классное имя, – говорю я (и действительно так думаю).
Бунтаро любуется на Кодаи под разными углами:
– Видишь его носик? А вот ножка. Прелесть, а?
– Прелестней не бывает. А это что за креветка?
– А откуда мы, по-твоему, знаем, что он – это он, а, гений?
– О! Извините.
– Тебе пришло еще одно письмо. Я бы соорудил для тебя персональный почтовый ящик, но не хочу лишать себя удовольствия вскрывать письма жильцов над паром. Вот.
Он вручает мне простой белый конверт. На почтовом штемпеле значится пункт отправления – Миядзаки; из Кагосимы письмо переслал дядя Толстосум. Вскрываю конверт и обнаруживаю три измятых листка. На телеэкране сталкиваются вертолеты и взрываются здания. Брюс Уиллис снимает темные очки и, прищурившись, смотрит на этот ад. Читаю первую строчку и понимаю, от кого письмо. Запихиваю его в карман куртки и взбираюсь по лестнице – не хочу, чтобы Бунтаро заметил, как я потрясен.
К храму бога грома ведут ступени, затянутые паутиной. Она цепляется за меня, рвется и липнет к лицу. Леденцово-прозрачные пауки. Я спотыкаюсь, пачкаю колени в грязи. Не хочется вспоминать истории о призраках умерших детей, которые обитают на этих ступенях, но то, что не хочется вспоминать, тут же и вспоминаешь. Над головой нависают гигантские папоротники. В расселинах среди корней прячутся речные крабы. Скачет олень, исчезает в зарослях. Думаю о потрясающем воссоединении с отцом после того, как мой потрясающий план воплотится в жизнь, бегу, бегу и вдруг оказываюсь на поляне перед храмом, на самой вершине холма. Отсюда видно все на многие мили кругом. К рассветному небу рывками вздымаются горы. Заря разглаживает море. Мне видны даже иллюминаторы якусимского парома. Взволнованный, приближаюсь к колоколу, оглядываюсь по сторонам, надеясь увидеть взрослого и спросить разрешения. Я никогда еще не будил бога. Каждый Новый год Пшеничка водит нас с Андзю в храм на берегу бухты, покупает новые амулеты с нашим знаком зодиака, но это всего лишь увеселительная прогулка, чтобы увидеться с родственниками и соседями и дать им потрепать нас по голове. Здесь же все по-настоящему. Волшебство всерьез. Только я и бог грома в своей замшелой дреме. Хватаю веревку, на которой раскачивается язык колокола…
Первый удар плещет по лесу, распугивая фазанов.
Второй удар сотрясает реактивные истребители в вихревых потоках.
Третий удар навеки захлопывает железные врата.
Интересно, слышен ли звон колокола там, где обиженно прячется Андзю? Вот вернусь завтра и расскажу, что это был я. Она никогда не признается, но моя смелость произведет на нее впечатление. Это похоже на то, о чем она обычно мечтает. Я приближаюсь к храму. Бог грома злобно глядит на меня. Его лицо – ненависть, тайфун и ночной кошмар, сплетенные воедино. Отступать поздно. Он проснулся. Моя монетка со звоном падает в ящик для пожертвований, я трижды хлопаю в ладоши и закрываю глаза.
– Доброе утро, э-э, бог грома. Меня зовут Эйдзи Миякэ. Мы с Андзю и Пшеничкой живем в доме у начала дороги через долину, за большой фермой Каваками. Но ты, наверное, это знаешь. Я разбудил тебя, чтобы просить помощи. Я хочу стать лучшим футболистом Японии. Это очень-очень важно, поэтому, пожалуйста, не наказывай меня геморроем, как того таксиста.
– А что взамен? – спрашивает тишина.
– Когда я стану знаменитым футболистом, то, э-э, вернусь сюда и построю заново твой храм, и все такое. А пока можешь взять все что угодно из того, что у меня есть. Бери. Даже спрашивать не нужно, просто бери.
Тишина вздыхает:
– Все что угодно?
– Все что угодно.
– Все? Ты уверен?
– Я сказал «все что угодно», значит так оно и есть.
Тишина длится девять дней и девять ночей.
– Будь по-твоему.
Открываю глаза. За плавником самолета тянется золотисто-розовая струя. Голуби кружат молитвенными мельницами. Внизу, в бухте Анбо, паром на Кагосиму дает гудок; видны подъезжающие машины. Миллионы лесных часов трепещут, мечутся, визжат и завывают, пробуждаясь к жизни. Я срываюсь с места и лечу вниз по скользким от грязи ступеням, где призраки умерших детей растворяются в первых лучах солнца.
Горная клиника Миядзаки
25 августа
Здравствуй, Эйдзи!
С чего же мне начать? Одно письмо у меня получилось раздраженное, другое – жалостливое, третье – остроумное, оно начиналось словами «Привет, я – твоя мать, приятно познакомиться». Потом еще одно начиналось с «Прости меня». Они все скомканы, валяются вокруг мусорной корзины в углу. С меткостью у меня слабовато.
Лето жаркое, правда? Я поняла, что так и будет, когда сезон дождей не настал в положенный срок. (А на Якусиме, наверное, сплошные дожди. Ну, это не новость.) Тебе уже почти двадцать лет. Двадцать. Куда ушли годы? Знаешь, сколько мне исполнится через месяц? Столько, что и сказать стыдно. Я здесь, чтобы подлечить нервы и справиться с алкоголизмом. Мне очень не хотелось возвращаться на Кюсю, но здесь, в горах, все-таки попрохладнее. Мой лечащий врач посоветовала написать тебе. Сначала я отказывалась, но она меня переупрямила. Нет, это я неправильно выразилась. Я хочу написать тебе, но после стольких лет гораздо легче не писать. Вот только есть одна история, точнее, череда воспоминаний. Врач утверждает, что от боли, которую они мне причиняют, можно избавиться, лишь рассказав о них тебе. Считай, что я пишу все это из эгоизма. В общем, как-то так.
Когда-то я, молодая мать, жила в Токио с двумя малышами – с тобой и с Андзю. За квартиру платил ваш отец, но эта история не о нем и даже не об Андзю. А о нас с тобой. В те дни можно было сказать, что я неплохо устроилась: апартаменты в двух уровнях на девятом этаже в модном квартале, жардиньерки на балконе и очень богатый любовник, которому не нужно стирать рубашки, потому что для этого у него есть жена. Когда я покинула Якусиму, признаюсь, вы с Андзю не входили в мои планы, но жить так, как я жила двадцать лет назад, было лучше, чем гнуть спину на апельсиновых плантациях и перемывать косточки соседям, к чему готовили меня мать (твоя бабушка) и родичи Синтаро Бабы, которому меня (за моей спиной, как водится) прочили в жены. Он, между прочим, как был грубияном и невежей четверть века назад, так им и остался, и в этом я совершенно уверена.
Писать об этом тяжело.
Я была несчастна. Меня, двадцатитрехлетнюю, называли красавицей. Но единственная компания, на которую может рассчитывать молодая мать, – это такие же молодые мамаши. А они – самый жестокий клан на свете, если ты в него не вписываешься. Когда они выяснили, что я «вторая жена», то решили, что я оказываю дурное влияние, и обратились к администрации дома с требованием меня выселить. Ваш отец был достаточно влиятелен, чтобы воспрепятствовать этому, но никто из них больше не сказал со мною и двух слов. Как ты понимаешь, на Якусиме про вас не знали (пока еще), и я даже думать не могла о том, чтобы вернуться и постоянно сносить любопытные взгляды.
Примерно тогда же твой отец завел себе новую любовницу. Ребенок не добавляет женщине привлекательности. Двойня сокращает сексапильность вдвое. Наш разрыв был отвратителен – поверь мне, подробностей тебе лучше не знать. (Да я сама не хочу их вспоминать.) Когда я была беременна, он клялся, что обо всем позаботится. Наивный цветок, я не понимала, что он говорил только о деньгах. Как все слабаки, он напускал на себя смущенный вид и полагал, что все его простят. Делом занялись его адвокаты, и я больше никогда его не видела. (И никогда этого не хотела.) Мне было позволено жить в той самой квартире, но не продавать ее – мыльный пузырь экономики раздувался, и цены на недвижимость удваивались каждые полгода. Все произошло вскоре после того, как вам исполнился год.
Я была дурной женщиной. (Я никогда не была хорошей, но, по крайней мере, сейчас я это понимаю.) Некоторые женщины созданы для материнства, словно были матерями еще до того, как ими стали, я же ни в коей мере не была для этого приспособлена. Я и сейчас терпеть не могу маленьких детей. Все деньги, что адвокат вашего отца присылал на ваше содержание, я тратила на нелегальную няню-филиппинку, чтобы иметь возможность уходить из дома. Я часто сидела в кафе и разглядывала прохожих. Моих сверстниц, которые работают в банках, составляют букеты, ходят за покупками. Занимаются повседневными делами, которые я так презирала, пока не забеременела.
Прошло два года. Я работала в ночном баре, но совершенно разочаровалась в жизни. Я подцепила очередного богатого покровителя, и каждый раз, когда я возвращалась домой, вы с Андзю напоминали мне о том, с чем богатые покровители нас оставляют. (Пеленки, бесконечный плач и бессонные ночи.) Однажды утром мы с тобой остались дома вдвоем: накануне у тебя был жар, поэтому в детский сад няня повела только Андзю. Не в тот, что поблизости, – мафия молодых мамаш грозилась устроить бойкот, если вас туда примут. Вас возили в другой округ. Ты орал как резаный. Может, из-за температуры, может, потому, что Андзю увели. Я всю ночь была на работе, поэтому приняла таблетки, запила их водкой и предоставила тебя самому себе. Потом ты затарабанил ко мне в дверь, – конечно, к тому времени ты уже ходил. Мигрень не давала мне уснуть. Я не выдержала, сорвалась. Наорала на тебя, погнала прочь. Естественно, ты заревел еще громче. Я снова заорала. Тишина. А потом я услышала, как ты сказал это слово. Должно быть, выучил его в детском саду.
– Папочка.
Во мне что-то сломалось.
С абсолютным спокойствием я решила сбросить тебя с балкона.
Новые чернила, новая ручка. Старая отказала на самом драматическом месте. Так вот. С абсолютным спокойствием. Я решила сбросить тебя с балкона. Эти шесть слов объясняют всю нашу дальнейшую жизнь. Нет, они ни в коем случае меня не оправдывают. Я не просто «хотела» сбросить тебя с балкона. Я решила сделать это. На самом деле. Мне очень тяжело это писать.
Вот как все произошло. Я резко распахнула дверь спальни – она открывалась наружу, – и ты заскользил по натертому паркету к лестнице, сорвался с верхней ступеньки и исчез. Я оцепенела… и не смогла бы остановить твое падение, даже если бы была сверхчеловеком. Ты падал без крика. Я слышала. Представь, как сбрасывают с лестницы мешок с книгами. Ты упал с таким же звуком. Я ждала, когда ты закричишь. Все ждала и ждала. Время вдруг помчалось с утроенной скоростью, догоняя само себя. Ты лежал внизу, из уха у тебя текла кровь. Эта картина до сих пор у меня перед глазами. (И появляется всякий раз, когда я спускаюсь по лестнице.) У меня началась истерика. Я что-то бубнила, а врачи из «скорой помощи» на меня кричали. А знаешь, что я увидела, когда положила трубку? Ты сидел на полу и облизывал окровавленные пальцы.
Врач из «скорой» объяснил, что иногда дети обмякают, как тряпичные куклы. Это и спасло тебя от серьезных травм. Врач сказал, что тебе повезло, но он имел в виду, что повезло мне. От меня несло водкой, что сильно подпортило впечатление от моего рассказа о том, как ты перелез через ограждение у лестницы. На самом деле повезло всем нам. Я знаю, что собиралась тебя убить и что чудом избежала пожизненного заключения. Даже не верится, что наконец-то я это пишу. Три дня спустя я выплатила няне месячное жалованье и сказала, что увожу вас к бабушке погостить. Я была не в состоянии воспитывать вас с Андзю. Психически невменяема. Остальное ты знаешь.
Я пишу это не для того, чтобы ты меня пожалел или простил. Этот рассказ не о том. Но даже теперь воспоминания лишают меня сна, и облегчить их тяжесть я смогу, лишь поделившись ими с тобой. Я хочу выздороветь. То есть…
…как ты, наверное, понял, бумага смята, потому что я скомкала письмо и бросила в корзину. Не целясь. И что же? Оно попало прямо внутрь, даже не задев за край. Кто знает? Возможно, это тот самый случай, когда суеверное чувство себя оправдывает. Пойду-ка я суну письмо под дверь доктору Судзуки, пока снова не передумала. Если захочешь позвонить мне, звони по номеру на бланке письма. Как тебе будет угодно. Жаль, что…
Время на «Фудзифильме» приближается к четырем. Как реагировать на новость о том, что тебя хотела убить родная мать? После трех лет молчания. Я привык к тому, что матери нет рядом, что она где-то там, но не слишком близко. Так не чувствуешь боли. Если что-то сдвинется, то, боюсь, все начнется сначала. Все, что приходит мне в голову, – это «Ничего не делать». Если это отговорка, то я готов поставить штамп «Отговорка» на своем официальном заявлении. Я не могу смириться с тем, что отца «нигде нет», а вот то, что мать «где-то там», меня вполне устраивает. Я-то знаю, что имею в виду, даже если не могу выразить это словами. Таракан все еще трепыхается. Надо бы на него взглянуть. Подползаю к холодильнику. Сегодня очень высокая влажность. Беру в руки тараканий мотель. Он весь трясется. Таракан в панике. Мне не терпится выпустить его на свободу и в то же время хочется, чтобы он немедленно издох. Заставляю себя заглянуть внутрь. Бешено крутятся усики, яростно трепещут крылышки! Все это так отвратительно, что я роняю коробочку. Она падает, мотель переворачивается на крышу. Теперь Таракан подыхает вверх ногами – бедный блестящий ублюдок, – но прикасаться к мотелю противно. Ищу, чем его перевернуть. Копаюсь в мусорном ведре – с опаской, вдруг там сидит Тараканий Братец, – и нахожу смятую упаковку из-под Кошкиных галет. В четверг я прочел письмо, отложил его в сторону и долго-долго ничего не делал. Потом все-таки решаю перечитать его еще раз, но тут ко мне на колени прыгает Кошка, демонстрирует свое плечо. Запекшаяся кровь, голая кожа – выдран клок шерсти.
– Ты подралась?
Я тут же забываю о письме. Не знаю, как оказывают первую помощь, тем более кошкам, но, наверное, рану нужно продезинфицировать. Конечно же, у меня нет ничего похожего на антисептик, поэтому я спускаюсь вниз и спрашиваю у Бунтаро.
Бунтаро останавливает кассету – корма «Титаника» под водой, нос корабля задран в воздух, люди кубарем катятся по длиннющей палубе, – вынимает сигарету из пачки «Кастера» и закуривает, не предлагая мне.
– Молчи. Получив еще одно письмо от загадочной адвокатши, в котором говорится, что все кончено, наш герой так огорчен, что решает вспороть себе живот, но у него есть только маникюрные ножницы, поэтому…
– У меня там искалеченная кошка.
Бунтаро хмурится:
– Что-что, парень?
– Искалеченная кошка.
– Ты держишь в моей квартире животных?
– Нет. Она приходит, только когда проголодается.
– Или когда ей нужна медицинская помощь?
– У нее просто царапина. Нужно смазать чем-нибудь дезинфицирующим.
– Эйдзи Миякэ – ветеринар.
– Бунтаро, ну пожалуйста.
Он ворчит, роется под кассой, вываливает под ноги кучу всякого хлама, достает пыльную красную аптечку и протягивает мне:
– Смотри мне, не изгваздай татами кровью.
«Вот же ж паразит! Скряга! Небось с каждого жильца требует деньги на новые татами, а на самом деле не менял их с шестьдесят девятого года…» Нет, не этими словами я отвечаю своему домовладельцу и благодетелю, нашедшему мне работу. Я смиренно качаю головой:
– Кровь уже не течет. Там только ранка, которую нужно обработать.
– Как эта кошка выглядит? Может, моя жена знает ее хозяина.
– Черная, лапы и хвост белые, клетчатый ошейник с серебряной пряжкой.
– Ни адреса хозяина, ни имени?
Я мотаю головой:
– Спасибо.
Беру аптечку и направляюсь к лестнице.
– Не очень-то к ней привязывайся, – кричит Бунтаро мне вслед. – Помни заповедь договора: «Не заводи в доме своем никакого зверья, кроме кактусов».
Оборачиваюсь, смотрю на него сверху вниз:
– Какого еще договора?
Бунтаро зловеще усмехается и пальцем постукивает по лбу.
Закрываю дверь капсулы и принимаюсь за Кошку. Настойка гамамелиса наверняка жжется – помню, как жгло нам с Андзю, когда Пшеничка смазывала наши царапины, – но Кошка даже не вздрагивает.
– Девочкам не пристало ввязываться в драки, – говорю я ей.
Выбрасываю ватку и возвращаю аптечку Бунтаро. Кошка устраивается поудобнее на моем юката[46]. Странно. Кошка доверяется моим заботам. Моим, а не чьим-то еще.
Над стойкой для заявлений появляется голова. Она принадлежит долговязой девчонке лет одиннадцати, с красными бантами в волосах и в спортивном костюме с изображениями Микки и Дональда. У нее огромные глаза.
– Добрый день, – говорит она. – Я шла по указателям. Это бюро находок?
– Да, – отвечаю я. – Ты что-нибудь потеряла?
– Мамочку, – говорит она. – Она все время куда-то уходит без моего разрешения.
Я цокаю языком:
– Как я тебя понимаю.
Что делать? Суга ничего не говорил о потерявшихся детях; а сейчас он ушел за тележкой в дальнее крыло вокзала. Госпожа Сасаки на обеде. Где-то бьется в истерике мамаша, представляя себе колеса поезда и похитителей, промышляющих донорскими органами. Я в растерянности.
– Садись на стойку, – говорю я девочке.
Она взбирается наверх. Так. Что дальше?
– А вы спросите, как меня зовут? – спрашивает девочка.
– Конечно спрошу. Как тебя зовут?
– Юки Тиё. А вы вызовете мамочку по большому громкоговорителю?
– Конечно-конечно.
Иду в кабинет. Госпожа Сасаки упоминала о системе экстренного оповещения, но Суга никогда не показывал, как ею пользоваться. Повернуть этот ключ, щелкнуть этим выключателем. Надеюсь, все правильно. Под надписью «Говорите» зажигается зеленый огонек. Я откашливаюсь и наклоняюсь к микрофону. Над Уэно разносится звук моего кашля. Когда Юки Тиё слышит свое имя, она чуть не лопается от гордости.
Я горю от смущения. Юки Тиё изучает меня взглядом.
– Ну что, Юки. Сколько тебе лет?
– Десять. Но мамочка запрещает мне разговаривать с незнакомцами.
– Но ты со мной уже говорила.
– Потому что мне нужно было, чтобы вы позвали мамочку.
– Неблагодарный ребенок.
Слышу шаги Аоямы, затем вижу его самого. Его ботинки, его ключи.
– Ты! Миякэ!
Очевидно, я влип по уши.
– Добрый день…
– Не надо мне никаких «добрых дней»! С каких это пор ты уполномочен делать сообщения по громкой связи?
В горле сухо.
– Я не думал, что…
– А если бы к Уэно мчался поезд с оборванным тормозным тросом? – Глаза в пене. – А если бы пришлось делать объявление об эвакуации? – Вены на лбу набухают. – А если бы обнаружили бомбу? – Он меня уволит? – А ты, ты занимаешь громкую связь лишь для того, чтобы попросить мать какой-то потерявшейся девчонки пройти в бюро находок на втором этаже! – Он замолкает, чтобы набрать в грудь воздуха. – Ты, ты превращаешь порядок в подростковый бардак!
– Тра-ля-ля! – К стойке мягко подходит женщина в леопардовой шкуре.
– Мамочка! – Юки Тиё машет рукой.
– Солнышко, ты же знаешь, что мама расстраивается, когда ты теряешься. У этого милого юноши из-за тебя неприятности?
Она локтем отодвигает Аояму в сторону и водружает на стойку фирменные пакеты с покупками. Улыбка у нее лукавая и дерзкая.
– Прошу прощения, молодой человек. Ну что тут скажешь? Юки забавляется этой игрой всякий раз, как мы идем по магазинам, правда, солнышко? Мой супруг утверждает, что с возрастом это пройдет. Мне где-нибудь расписаться?
– Нет, госпожа.
Аояма молча пышет гневом.
– Позвольте мне чем-нибудь отблагодарить вас.
– Правда, госпожа, ничего не нужно.
– Вы просто душка. – Она поворачивается к Аояме. – О! А вот как раз и носильщик!
Я подавляю смешок на секунду позже, чем надо. Аояма излучает прямо-таки ядерное бешенство.
– Нет, госпожа, я заместитель начальника вокзала.
– О! В этом наряде вы похожи на носильщика. Пойдем, Юки.
Мать уводит Юки, но девочка оборачивается ко мне:
– Извините, что вас из-за меня отчитали.
Аояма слишком разъярен, чтобы отчитывать меня дальше.
– Ты, Миякэ, ты… я тебе это припомню. Рапорт о твоем произволе сегодня же будет направлен в дисциплинарную комиссию!
Он стремительно удаляется. Не пора ли мне считать себя безработным? Из подсобки выходит Суга:
– У тебя просто талант раздражать людей, Миякэ.
– Ты все это время там отсиживался?
– Ну ты же контролировал ситуацию.
Мне хочется его убить, поэтому я умолкаю.
Я плыву на пароме! Мы с Андзю так часто смотрели, как он плывет, а сейчас я сам плыву на нем! Палуба раскачивается; ветер такой сильный, что на него можно опереться. Якусима, огромная страна, где я живу, медленно, но верно уменьшается. Господин Икэда разглядывает берег в армейский бинокль. Над кораблем парят морские птицы. Старшеклассники спорят, что будет, если паром начнет тонуть и придется драться за места в спасательных шлюпках. Кто-то смотрит телевизор, кого-то гонят оттуда, куда вход воспрещен. Кого-то тошнит в туалете. Рокочет двигатель. Вдыхаю его выхлопы. Смотрю, как корпус корабля взрезает волны и они разлетаются брызгами. Если бы я уже не решил стать звездой футбола, я стал бы моряком. Ищу взглядом храм бога грома, но он скрыт утренней дымкой. Жаль, что Андзю не со мной. Интересно, что она будет сегодня делать? Пытаюсь вспомнить, когда в последний раз мы провели день врозь. Забираюсь в прошлое все дальше и дальше, но такого дня никогда не было. Якусима стала размером с амбар. Появляются и исчезают за кормой другие острова. Якусима помещается в кольце из большого и указательного пальца. У меня шатается зуб. Господин Икэда стоит на палубе рядом со мной.
– Сакурадзима! – кричит он мне сквозь ветер и шум двигателя, указывая вперед.
Вулкан вырастает из моря и заполняет собой треть неба. Еще одну треть застилают аккуратные, плотные клубы дыма, извергающиеся из надорванного кратера.
– Чувствуешь пепел на языке? – кричит господин Икэда. – А вон там – Кагосима!
Как, уже? Наше путешествие должно длиться три часа. Сверяюсь со своими часами «Зэкс Омега» и обнаруживаю, что действительно прошло почти три часа. Вот и Кагосима. Какая огромная! Вся Анбо, наша деревня, могла бы уместиться между двумя причалами этого порта. Огромные здания, гигантские краны, громадные сухогрузы, на их бортах написаны названия таких мест, о которых я никогда не слыхал. Наверное, когда я был здесь в прошлый раз, мне отключили память. Или, может, это было ночью? Вот откуда начинается мир. Будет что рассказать Андзю. То-то она удивится. Еще как удивится.
Если верить «Фудзифильму», четыре часа проскользнули мимо пятнадцать минут назад. Теперь можно надеяться в лучшем случае на пару часов сна, так что на работе я буду трупом. Незахороненным. Вчера Суга работал последний день, и сегодня после обеда я останусь в бюро находок один-одинешенек. Перед глазами – падающее тело. Таракан затих. Убежал? Вынашивает планы мести? Или уснул и видит сны: соблазнительные ляжки тараканих, преющие груды мусора? Говорят, что на каждого видимого таракана приходится девяносто его сородичей, недоступных взгляду. Под половицами, в щелях, за шкафами. Под футонами. «Бедная мамочка, – (она надеется, что я так думаю), – бросила нас на дядюшек, когда нам было по три года, но что было, то быльем поросло. Сегодня же ей позвоню». Ни за что! Даже не думай! По-моему, Токио начинает шевелиться. Чешется шея. Чешу ее. Чешется спина. Чешу ее. Чешется в паху. Чешу в паху. Как только Токио проснется, все надежды на сон пойдут прахом. Вентилятор перемешивает зной. Как она посмела написать мне такое письмо? Я лег в постель таким усталым. В чем же дело?
– Последняя пятница, – говорит Суга. – Полный улет. Завтра – свобода. Имхо, тебе надо поступить в колледж, Миякэ. Это круче, чем просто жить, зарабатывая на жизнь.
На самом деле я его не слушаю – накануне вечером я узнал, что, когда мне было три года, мать решила сбросить меня с девятого этажа, – но, в очередной раз услышав это слово, не выдерживаю:
– Что за слово ты все время повторяешь?
Суга изображает недоумение:
– Какое слово?
– «Имхо».
– О, прости, – извиняется Суга, но по его тону этого не скажешь. – Совсем забыл.
– Забыл?
– Большинство моих друзей – компьютерщики. Хакеры. И у нас – свой язык, вот. «Имхо» – это сокращение английской фразы «in my humble opinion», то есть «по моему скромному мнению». Что-то вроде «я думаю, что…». Классное словечко, правда?
Звонит телефон. Суга смотрит – я снимаю трубку.
– Довольны собой, Миякэ? – В знакомом голосе кипит злоба.
– Господин Аояма?
– Ты работаешь на них?!
– Вы имеете в виду – на вокзал Уэно?
– Не притворяйся! Я знаю, что ты работаешь на консультантов!
– На каких консультантов?
– Говорю же, брось придуриваться! Я тебя насквозь вижу. Ты приходил в мой кабинет. Шпионил. Вынюхивал. Высматривал. Я понял, какую игру ты ведешь. А потом, позавчера, эта твоя провокация. Ее задумали, чтобы выманить меня из кабинета и скопировать мои файлы. Все сходится. Да-да. И не смей ничего отрицать! Даже не пытайся!
– Господин Аояма, уверяю вас, здесь какая-то ошибка…
– Ошибка? – выкрикивает Аояма. – Да, ты прав! Это самая большая ошибка в твоей лицемерной жизни! Я служил на вокзале Уэно еще до твоего рождения! У меня есть друзья в Министерстве транспорта! Я окончил престижный университет!
Трудно поверить, что можно кричать еще громче, но ему это удается.
– Если твои хозяева полагают, что меня можно «реструктурировать» и засадить в какую-нибудь Акиту[47], на конечную станцию с двумя платформами и картонным общежитием, то они глубоко заблуждаются! У меня за спиной годы службы! – Он запинается, пыхтит и выпускает последнюю угрозу: – В Уэно свои стандарты! В Уэно свои системы! Если эти невежественные подонки, ленивые паразиты, твои хозяева, хотят войны, я устрою им войну, а ты, ты… ты погибнешь в перестрелке!
Он бросает трубку. Суга смотрит на меня:
– О чем это он?
Почему я? Почему всегда я?
– Понятия не имею.
– Как бы это помягче сказать? – Господин Икэда расхаживает взад-вперед, произнося напутственную речь в перерыве между таймами. – Ребятки, вы полное дерьмо. Разгильдяи. Недочеловеки. Даже не млекопитающие. Стыд и позор. Вы не стоите топлива, затраченного на вашу перевозку. Сборище близоруких хромых ленивцев. Лишь благодаря чуду противник не вкатил нам девять голов, и имя этому чуду – Мицуи.
Мицуи жует жвачку, наслаждаясь вкусом диктаторского расположения. Он талантливый и напористый вратарь. По счастью, ему не хватает воображения, чтобы с тем же напором издеваться над сверстниками послабее. Отец Мицуи – печально известный всей Якусиме горький пьяница, так что наш вратарь с раннего возраста привык следить за траекторией полета самых разных метательных снарядов.
Икэда продолжает:
– Живи мы в более цивилизованный век, я бы потребовал, чтобы все остальные совершили сэппуку. Тем не менее, если мы проиграем, все вы обреете головы наголо в знак позора. Защитники. Несмотря на героические усилия господина Мицуи, сколько раз противник попал в перекладину? Накамори?
– Три раза.
– А в стойку?
Я посасываю теплый апельсин, поправляю наголенные щитки, наблюдаю за напутственной речью в команде противника – их тренер смеется. Спертый запах мальчишеского пота и футбольной экипировки. После полудня небо затянуло тучами. Вулкан выпускает клубы дыма.
– Миякэ? В стойку?
– Э-э, дважды, – говорю я наугад.
– Э-э, дважды. Э-э, верно. Э-э, Накаяма, середина поля – значит «середина поля», а не «середина штрафной зоны». Атака – значит, что мы «атакуем ворота противника». Сколько раз их вратарю приходилось касаться мяча? Накамура?
– Не очень часто.
Икэда потирает виски:
– На самом деле ни разу! Ни разу! Он устроил себе три – три, по отдельности! – свидания с тремя – с тремя, по отдельности! – девчонками из группы поддержки! Значит, так. Я снимаю матч на видео! Парни, завтра у меня день рождения. Если вы не подарите мне сухую ничью, то до самой смерти будете дрожать, вспоминая мой гнев. Во втором тайме ветер на нашей стороне. Ваша задача – занять оборону и продержаться до конца. И вот еще что: не допускайте пенальти. Вчера я напоил их тренера, и он похвастался, что игрок, который у них бьет штрафные, никогда не промахивается. Никогда. Кстати, если вдруг у вас ручки-ножки ослабнут, то помните: моя камера все фиксирует. С каждым я буду разбираться по-мужски.
Судья дает свисток, возвещая о начале второго тайма. Тремя секундами позже мы теряем мяч. На мгновение я вспоминаю свой договор с богом. А толку-то? Изо всех сил пытаюсь выглядеть получше перед камерой Икэды – кружу по полю, кричу «пас!», издаю вопли и всячески стараюсь избегать мяча.
– Перехватывай и бей! – вопит Икэда.
Расстановка 4–3—3 сбивается в 10—0–0, и наша штрафная зона превращается в пинбол: пинки, крики, ругань. Я играю на публику, изображая травму, но никто на меня не смотрит. Раз за разом Мицуи, несмотря на трудности, блестяще спасает ворота, отчаянно бросается на мяч, отбивает его в воздухе.
– По местам! – вопит Икэда.
Если бы только я мог стать таким, как Мицуи! Назавтра обо мне бы написали во всех спортивных газетах. Раз за разом противник атакует, но защитники, сгрудившись, отстаивают наши ворота. Бриз усиливается и превращается в ветер. Я совершаю отчаянную попытку принять верхнюю подачу – и мне это удается, – но мяч бьет меня по макушке, едва ее не расплющив, и летит дальше, вглубь нашей половины поля. В какой-то момент мне приходится делать вбрасывание. Судья свистит: неправильное вбрасывание – не знаю почему. Так или иначе, Икэда со мной за это рассчитается. Накатани и Накамура, наши звезды-бомбардиры, получают по желтой карточке за то, что сбили друг друга с ног. Я поворачиваюсь. Мяч ударяет мне в лицо и отскакивает. Угловой.
– Кретины! – вопит Икэда.
Толкаюсь локтями с мальчишкой-мутантом. Он вдвое выше меня, с глазами головореза. Зуб, который просто шатался, вдруг начинает шататься очень сильно. Мицуи нырком отбивает мяч. Один из болельщиков противника швыряет рисовый шарик в Накату, нашего крайнего нападающего, и тот с лета наносит ответный удар. Накама принимает мяч, посылает его вверх, где его подхватывает порывом ветра, и все мы с криками «банзай!» мчимся за ним.
– По местам! – вопит Икэда.
Зуб болтается на ниточке. Противник отступает. Мы бросаемся вперед. Я слышу звуки военного оркестра. Но тут нападающие противника стеной несутся к нашим воротам – мяч у них. Ловушка? Ловушка!
– Жопы! – вопит Икэда.
Я задыхаюсь, но бегу назад, надеясь урвать хоть крупицу удачи после того, как нам забьют гол. Взревев, как истребитель «Зеро»[48], Мицуи выбегает из ворот, чтобы сократить угол. Нападающий противника ударяет по мячу с носка за секунду до столкновения – слышен хруст костей – не в силах затормозить, я перескакиваю через поверженные тела – бутса задевает чей-то череп – по инерции лечу дальше, вытянувшись в прыжке, скольжу по гравию вратарской площадки и рукой останавливаю мяч прямо перед линией ворот.
Воцаряется тишина.
Свисток судьи врывается в уши. Мицуи – красная карточка, мне – желтая, нападающему – носилки и поездка в больницу, нам всем – потоки гнусной брани от Икэды, противнику – штрафной удар. А у нашей команды нет вратаря. Икэда обрушивает на нас шквал угроз и рычит со своей огненной колесницы:
– Неплохо поработал руками, Миякэ. Становись в ворота.
Мои товарищи по команде подхватывают это предложение на лету. Жертвенный агнец не в силах возразить. Плетусь к вратарской площадке. Колени и бедра ободраны, как наждаком. Противник выстраивается в штрафной зоне. Справа и слева от меня зияет бесконечное пространство. Подающий противника злорадно глядит на меня, наматывая на мизинец крысиный хвостик своих волос. Барабанная дробь мгновений замедляется. Свисток. Мир застывает. А вот и он. Бог грома. Помнишь меня? У нас уговор.
Суга выгружает содержимое своего шкафчика в сумку. Завывают полицейские сирены. Когда это было? Всего лишь вчера. Длинный коридор, в который выходит бюро находок, соединяет оба крыла вокзала Уэно, поэтому в нем всегда многолюдно, но на этот раз там поднимается суматоха, и мы перегибаемся через стойку посмотреть, в чем дело. Мимо пробегают телевизионщики: ведущий, оператор Эн-эйч-кей, увешанный объективами, ассистент с насаженным на шест микрофоном и парень, толкающий нечто вроде тележки. Это не бригада с местного телевидения, которая обычно снимает «уточек в пруду». Они целеустремленно расчищают себе путь сквозь встречный поток пассажиров.
– Это явно надо разведать, – заявляет Суга. – Держи оборону, Миякэ. Пахнет скандалом.
Он пулей вылетает из кабинета, и тут же звонит телефон.
– Бюро находок? Я звоню узнать насчет парика одного моего друга…
Я тяжело вздыхаю. Париков у нас сотни.
К счастью, это глэм-роковый парик, усыпанный блестками, так что мне удается его отыскать за пять минут, как раз к возвращению Суги.
Суга возбужденно выкладывает новости:
– Аояма свихнулся! Все микросхемы в башке перегорели! Надо же, в мой последний день!
– Аояма? – Я вспоминаю телефонный звонок.
– Сегодня стало известно, что руководители токийского отделения ЯЖД решили перевести его на менее значимую должность, потому что новое высшее начальство объявило о реорганизации всех крупных токийских вокзалов. Вот только Аояма из когорты неприкосновенных[49]. Эту новость он узнал в присутствии группы младших менеджеров, от консультанта, который лет десять преподавал в Гарвардской бизнес-школе. Получилось что-то вроде семинара «Как объявить о понижении сотрудника в должности».
– Кошмар.
– Кошмар начался потом. Аояма вытаскивает арбалет, вот…
– Арбалет?
– Арбалет. И целится советнику в грудь, вот. Должно быть, предчувствовал, что это случится. Он выгоняет из кабинета всех сотрудников, кроме одного, и грозится, что в противном случае все они станут свидетелями того, как арбалетный болт пронзает сердце. Полная шиза. Потом заставляет оставшегося сотрудника взять моток альпинистской веревки и привязать консультанта к стулу, а после этого тоже выгоняет. И тут же запирает дверь изнутри, пока не появились охранники.
– И чего он требует?
– Еще никто не знает. Вызвали полицию, поэтому телевизионщики тоже приехали. Подошел директор и попытался разогнать журналистов, но нас все равно покажут в вечерних новостях! Полный улет. Наверное, скоро подъедут отряды спецназа и переговорщики в пуленепробиваемых жилетах. Ничего подобного в Уэно еще не было. Событие государственного масштаба!
Я ныряю влево и понимаю, что мяч уходит вправо. От удара о землю перехватывает дыхание и хрустят кости. Противник ревет. Выплевываю зуб. Он лежит на земле, он больше не часть меня. Белый, с капелькой крови. Зачем вставать? Из-за меня матч проигран, я потерял друзей, футбол, славу, надежду найти отца – все, кроме Андзю. Не нужно было уезжать с Якусимы. Жители острова навсегда запомнят мой позор. Как я теперь вернусь домой? Лежу в грязи посреди вратарской площадки – если я разрыдаюсь прямо здесь, как…
– Вставай, Миякэ! – Накамори, капитан команды.
Поднимаю глаза. Мальчишка с крысиным хвостиком схватился за голову. Противник трусит прочь. Судья указывает на одиннадцатиметровую отметку. Смотрю в наши ворота. Пусто. Где же мяч? И тут я понимаю, что произошло. Мяч пролетел мимо. Бог грома ерошит мне волосы. Спасибо. Спасибище! А не соизволишь ли ты, о мой сверхъестественный покровитель, продлить мою удачу на оставшиеся двадцать пять минут? Пожалуйста! Кладу мяч на землю для удара от ворот.
– Хорошо отбил, – презрительно усмехается болельщик противника.
– По местам! – вопит Икэда. – Давай, давай, давай!
Я пытаюсь поймать взгляд кого-нибудь из наших, но каждый отводит глаза, боясь, что я передам ему пас. Что делать? Ветер усиливается.
«Послушай, – молю я бога грома, – сделай меня таким же великим вратарем, как Мацуи, хотя бы на эту игру, и мое будущее принадлежит тебе. Я знаю, ты только что меня спас. Не оставь меня и теперь. Пожалуйста. Очень тебя прошу».
Отбегаю на несколько шагов назад, делаю три глубоких вдоха, бросаюсь к мячу и… прекрасный, ловкий, сильный, быстрый, как ракета, божественный удар. Бог грома перехватывает мяч, когда тот взлетает на высоту дома, и с лета посылает через все поле. Мяч парит над нападающими противника. Защитники медленно бегут на свою половину поля, не зная, что бьют по их воротам. Зрители не верят своим глазам. Игроки оглядываются, не понимая, куда делся мяч. Вратарь противника фотографируется с какой-то девчонкой. Мяч падает на землю раньше, чем вратарь соображает, что пора браться за дело. В панике он бросается за линию ворот. Мяч перескакивает через вратаря, и порыв южного ветра швыряет его вниз, прямо в сетку.
Прогулка пешком от станции Кита-Сэндзю до «Падающей звезды» обычно проветривает мне мозги, но сейчас я не могу не думать об Аояме, который заперся в своем кабинете, целясь арбалетной стрелой в чиновника в красных подтяжках и костюме в тонкую полоску. Когда рабочий день закончился, Суга остался на вокзале, а мне хотелось побыстрее убраться. Я даже с ним не попрощался. В «Падающей звезде» Бунтаро, уплетая мороженое с австралийским орехом, не отрывает взгляда от телевизора.
– Ну ты даешь, Миякэ. Ты у нас просто предвестник катастроф.
– В каком смысле?
– Да ты глянь! В Уэно не случалось ничего подобного, пока ты не начал там работать.
Обмахиваясь бейсболкой, смотрю на экран. Камера крупным планом показывает окна кабинета Аоямы снаружи. Судя по всему, снимают из отеля «Терминус». Жалюзи закрыты. «Вокзал Уэно в осаде».
Полицейский убеждает толпу журналистов:
– О насильственном вторжении и захвате не может быть и речи.
– Внушают ему ложное чувство безопасности, – говорит Бунтаро. – Что за тип этот Аояма? Он что, совсем с катушек слетел? Или любитель работать на публику?
– Не знаю… Он просто несчастен.
А я плюнул ему в чайник.
Устало поднимаюсь по лестнице.
– Ты не будешь смотреть?
– Нет.
– Кстати. Насчет этой твоей кошки.
Я выглядываю вниз:
– Хозяин нашелся?
Бунтаро косится в телевизор.
– Нет, дружище, но, похоже, она отправилась к прародителям. Если только у нее не было близнеца. Утром еду я на своем скутере и вдруг совершенно случайно замечаю у сточной канавы напротив «Лоусонз»[50] знаешь что? Дохлую кошку! Над ней уже мухи жужжат. Черная, белые лапы и хвост, клетчатый ошейник с серебряным колокольчиком, в точности как ты описал. Приехал сюда и, как положено, исполнил свой гражданский долг – позвонил в муниципалитет, но о ней уже кто-то сообщил. В жару на улицах такому не место.
Сегодня самый ужасный день в моей жизни.
– Извини, что принес дурные вести, и вообще…
То есть второй самый ужасный.
– Подумаешь, кошка, – бормочу я.
Захожу в капсулу, сажусь и понимаю, что не хочу ничего, кроме как докурить пачку «Данхилла». Ни малейшего желания смотреть телевизор. По пути я купил лапшу в стаканчике и упаковку мятой клубники, но аппетита нет. Слушаю, как улицу заполняет вечер.
На следующее утро паром везет нас обратно, но Якусима никак не может обрести свою настоящую величину. День блещет солнцем, и это почему-то усиливает впечатление, что безграничный остров – всего лишь макет. Я высматриваю Андзю на волноломе – и, когда не нахожу, признаюсь себе, что приподнятое настроение подпорчено. Андзю – мастерица дуться, но тридцать шесть часов – это слишком, даже для моей сестры. Расстегиваю молнию спортивной сумки. Внутри поблескивает приз лучшему игроку матча. Ищу взглядом храм бога грома – и на этот раз нахожу. Пассажиры устремляются вниз по деревянным сходням, мои товарищи по команде рассаживаются по машинам. Я машу им рукой. Господин Икэда хлопает меня по плечу и, как это ни удивительно, улыбается:
– Хочешь, подвезу?
– Нет, спасибо, меня встречает сестра.
– Ну ладно. Завтра с утра тренировка. Ты молодец, Миякэ. Повернул всю игру. Три – ноль! Три – ноль! – Икэда сияет при мысли об одержанной победе. – Как мы утерли нос их тренеру, а?! Чтоб не ухмылялся почем зря, кретин! А я успел заснять его огорчение.
Иду из порта вверх по центральной улице, через старый мост, пинаю камешек до самой долины. Камешек мне повинуется, я делаю с ним, что хочу. В рисовых полях отражается солнце. Появляются первые стрекозы. Это начало долгого пути, в конце которого – Кубок мира. Заброшенный дом таращит пустые глазницы. Прохожу мимо ворот-тори, и у меня возникает желание сбегать наверх и поблагодарить бога грома – но сначала я хочу увидеться с Андзю. Висячий мост вздрагивает под ногами. В воде виден косяк крошечных рыбок. Андзю наверняка дома, помогает бабушке готовить обед. Беспокоиться не о чем. Открываю входную дверь:
– Я вернулся!
Топот Андзю…
Нет, это покряхтывает старый дом. По обуви у стены вижу, что бабушки тоже нет. Должно быть, они отправились навестить дядю Асфальта, и мы случайно разминулись у нового здания порта, пока господин Икэда со мной разговаривал. Я залпом выпиваю стакан молока и бросаюсь на диван. На внутренней стороне своих век вижу, как мяч выписывает над вулканом четкую параболическую дугу и влетает под верхнюю перекладину далеких футбольных ворот.
– Миякэ!
Бунтаро, кто же еще.
Я слишком резко поднимаю голову, и шею сводит.
Он молотит по двери капсулы:
– Иди сюда! Скорее!
Кубарем скатываюсь вниз. Вокруг телевизора Бунтаро сгрудились посетители. Вид на окна кабинета Аоямы, высоко над железнодорожным полотном. «Захват заложников на вокзале Уэно. Прямой репортаж с места событий». Снимают камерой ночного видения: освещенные детали – оранжевые, а темные – бурые. Можно не спрашивать, что происходит, потому что обо всем рассказывает комментатор:
– Жалюзи подняты! Окно открывается, и… кто-то… господин Аояма… да, это он. Подтверждаю, что человек, вылезающий из окна, – это господин Аояма… он на карнизе… у него за спиной вспыхивает свет… минуточку… мне сообщают… – Треск радиопомех. – Консультант… не пострадал! Полиция захватила кабинет! Или выбили дверь, или… итак, Аояма, по всей видимости, сдержал свое обещание не… но теперь вопрос в том… Неужели он намерен спрыгнуть?!. Чье-то лицо в окне… мне сообщают, что это полицейский… пытается отговорить Аояму от… он имеет дело с крайне возбужденным человеком… скажет, что…
Аояма прыгает с карниза.
Аояма уже не жив, но еще не умер.
Тело кувыркается в воздухе, падает. Долго-долго.
Меня будят шаги в коридоре. Открываю глаза. На столе сверкает приз, доказывая, что замечательный вчерашний день мне не приснился. В комнату с обшарпанными деревянными панелями, где мои дядюшки и мама провели детство, льется вечерний свет. Передо мной – бабушка и господин Кирин, один из четырех полицейских Якусимы.
– Я вернулся, – взволнованно говорю я. – Мы выиграли.
Бабушка не обращает внимания на мои слова:
– Андзю куда-нибудь собиралась?
– Нет. Где она?
– Если ты врешь, я, я, я…
Господин Кирин осторожно усаживает бабушку на диван и обращается ко мне:
– Эйдзи…
Меня мутит.
– Что с Андзю?
– Похоже, Андзю сбежала…
Он чего-то недоговаривает.
– Не может быть! Она бы мне сказала. Не может быть.
Бабушкин голос надломлен:
– Так что же она тебе сказала? Вчера вечером она заявила, что пойдет к дяде Асфальту. А сегодня в обед он позвонил узнать, почему она передумала. Если вы вдвоем замыслили какую-то проказу, мало вам не покажется!
Господин Кирин садится на другой конец дивана:
– Подумай, Эйдзи. У вас есть какое-нибудь тайное место, где она могла бы спрятаться?
Первым делом я думаю о деревьях. Потом с тошнотворной уверенностью вспоминаю про камень-кит. Чтобы сравняться со мной. Купальник… Бегу наверх. Выдвигаю ящик. Моя догадка верна – купальника нет. Вспоминаю свое обещание богу грома. «Можешь взять все что угодно из того, что у меня есть. Бери».
Господин Кирин возникает в дверях спальни.
– В чем дело, Эйдзи-кун?
– Ищите в море, – вырывается у меня.
И мир рушится.
«Фудзифильм» извещает, что почти пять. Встаю, иду отлить. Из зеркала в туалетной кабинке на меня с легким удивлением смотрит трутень. Хочется курить. Пачка «Данхилла» пуста, но одна сигарета все же осталась – закатилась под гладильную доску. Прикуриваю от газовой плитки и выхожу на балкон. Рассвет чертит контуры и заполняет их красками. Токио шумит, далеко и близко. Итак, конец господину Аояме. Его время истекло, вот он и прыгнул. Выплескиваю плесень из кружки, готовлю себе растворимый кофе. Выношу фотографию Андзю на балкон и пью кофе в ее компании. Думаю о письме, что прислала мама, и расклад становится ясным. Сегодня обязательно нужно вымыть посуду. Кидаю взгляд на тараканий мотель – и снова смотрю на него. Таракан сбежал. Остались оторванная лапка и микроскопическая кучка тараканьего дерьма. Складываю в аккуратную стопку выстиранные вещи. Настраиваю гитару и прохожусь по аккордам босановы, но эти знойные переборы не подходят к моему настроению. Что ж, мама. Ты – мой план «Б». Я дам тебе то, чего ты хочешь, скажи только, как найти нашего отца. Почти шесть. Рано, конечно, но в лечебницах встают рано. Так положено. Набираю номер, пока не передумал.
– Доброе утро. Горная клиника Миядзаки слушает.
– Здравствуйте. Пожалуйста, соедините меня с комнатой Марико Миякэ.
– Боюсь, это невозможно.
– Еще рано?
– Уже поздно. Госпожа Миякэ выписалась вчера вечером.
Не может быть.
– Вы уверены?
– Вполне. Она даже прихватила наши полотенца, как сувенир.
– Это ее сын. Мне нужно с ней связаться. Срочно.
– Я понимаю, но если гости решают нас покинуть, то в окрестностях не задерживаются.
– Она оставила адрес, по которому с ней можно связаться?
Она даже не делает вид, что проверяет.
– Нет.
– А вообще, она как?
– Поговорите с ее лечащим врачом.
– Во сколько он начинает работу?
– Она. Но доктор Судзуки не станет обсуждать свою пациентку с кем бы то ни было. Даже с ее сыном.
Ну почему я не позвонил вчера? Почему?
– Вы с ней знакомы?
– С госпожой Миякэ? Конечно. Я штатная медсестра.
– Скажите, а с ней все в порядке?
– Это зависит от того, что вы имеете в виду под «все в порядке».
– Что ж, вы мне очень помогли. Огромное спасибо.
Она резким апперкотом сбивает мою иронию:
– Пожалуйста.
Щелк, б-з-з-з, щелк, ууууууууу…
План «Б» накрылся. Подлодки отправляются в плавание, сна ни в одном глазу, но ехать на работу еще слишком рано. Вот так ночка. Я весь измочален. В час вечернего затишья, после одиннадцати, Бунтаро позвал меня вниз выкурить по сигарете. Мы немного поговорили. Я почти забыл, что он – мой домовладелец-кровопийца. Вставляю в «Дискмен» «Plastic Ono Band»[51] и укладываюсь на футон, всего на минутку. Гулкие колокола и вокальная перкуссия.
«Plastic Ono Band» заканчивается. В мои сны проникает мягкий шлепающий звук. Сначала я думаю, что подтекает кран, и тут же чувствую, как она устраивается мне под бочок. Открываю глаза.
– Эй, ты же вроде умерла.
Она зевает, равнодушная к тому, что я думаю или думал. Просто рассматривает меня глазами Клеопатры, в которых пляшут бронзовые искорки.
Древесные волокна в шее бога грома разрываются, лопаются, визжат. Я крепко обхватил ее ногами – не думал, что так быстро перепилю. Шея переламывается, ножовка с лязгом падает, я теряю равновесие и соскальзываю между спиной бога и стеной храма. Падаю бесконечно долго. Удар об пол вышибает воздух из груди. Позвоночник цел, но через час я превращусь в ходячий синяк. Голова моего врага катится прочь, деревянная по деревянному полу, потом останавливается на боку и смотрит в мою сторону. Ненависть, жажда мести, злоба, гнев – все туго скручено в одну гримасу. На ноздре алеет пятнышко моей крови. В лесу чересчур тихо. Ни взрослых, ни полицейской машины, ни бабушки. Черный дрозд исчез. Далеко внизу океан бьет пушечными залпами по скалам. Все боги связаны узами родства, и с этого дня они ополчатся против меня. В моей жизни не будет ни капли счастья. Ну и пусть. Я встаю. Поднимаю отпиленную голову, прижимаю к себе, как младенца, и выношу из храма на край утеса. Волны перекатываются через горб камня-кита, брызги разлетаются во все стороны. Раз, два, три – смотрю, как падает отпиленная голова бога грома. Исчезает в белой пене. Теперь я тоже должен исчезнуть.
3. Видеоигры
Краем глаза замечаю, как отца запихивают в фургон без номерных знаков, припаркованный на другой стороне бейсбольной площадки. Я узнал бы отца где угодно. Он колотит по заднему стеклу, но фургон выезжает за ворота и исчезает в клубах токийской гари. Вспрыгиваю на патрульный стратоцикл, снимаю бейсболку и пристраиваю ее на панель управления. Сверкает мятная улыбка Зиззи, и мы срываемся с места. Мимо скользят лавандовые облака. Навожу пистолет на какого-то вертлявого перца-школьника, но на этот раз все именно так, как выглядит. Верх черного, как ночь, «кадиллака» поднимается, и оттуда высовывается лобстер-гангстерБах! Панцирь и клешни разлетаются во все стороны. Даю очередь по заднему стеклу, автомобиль взрывается, вспыхивает разноцветным пламенем. Фургон сворачивает на дорогу в аэропорт. В тоннеле нас подрезает машина «скорой помощи» – врач, размахивая скальпелем, прыгает к нам на капот, злобно таращит глаза в чумной пенеБах! По яйцам! Бах! Блевотина на капотеБах! Мутант шатается, но не умираетБах! Подброшенный силой выстрела, он пробивает рекламный щит. Перезарядка.
– Ты ас, – проникновенно шепчет Зиззи.
Мы добираемся до аэропорта как раз вовремя, чтобы увидеть, как отца втаскивают в ванильный самолетик «Сессна»[52]. Я не решаюсь стрелять в похитителей с такого расстояния, боюсь промахнуться. Громадный хохмакоптер заслоняет солнце, и оттуда по тросам на землю гроздьями десантируют зомби. Еще в воздухе я десятками превращаю их в месиво, но вязкая каша армии смерти расползается слишком быстро.
– Зэкс, милый, – говорит Зиззи. – Мегаоружие в «Макдональдсе»!
Я активирую золотые арки и выбираю скорострельную базуку двадцать третьего века. В моих руках она с урчанием косит врагов; вскоре взлетно-посадочная полоса усеяна подергивающимися конечностями. Я палю по хохмакоптеру, пока тот не пикирует на цистерны с топливом. Мир озаряется ярко-розовыми октановыми взрывами.
– Молодец, Зэкс! А теперь следуй за похитителями твоего отца до их секретной лаборатории!
Взмываем вверх и гонимся за «Сессной»; нажимаю на кнопку джойстика, чтобы пропустить вступление. Мы попадаем в преисподнюю. В клоаке – тишина. Мертвая тишина. И тут откуда ни возьмись – гигагидра; девять голов источают лаймово-зеленую слизь, покачиваясь на девяти извивающихся, как лассо, шеяхБах! В капусту. Перезарядка. Но из каждого обрубка вырастают две новые головы.
– Зажарь урода! – визжит Зиззи.
Я целюсь в тушу многоголовой твари и привожу в действие огнемет. Вжууууууууух! Тварь скукоживается в хлещущих струях и петлях клубничного пламени. Лилейная Лилит[53] – Бах! – только ее и видели. Рой кибершершней – бахбахбах – перезарядка. Рука немеет от боли. Тоннель сужается. Тупик. Невидимая глазу железная дверь со скрипом распахивается – на пороге силуэт ученого.
– Сынок! Ты нашел меня! Наконец-то!
Расслабившись, разминаю затекшую руку.
– Ты успел… – Он срывает накладную бороду, портфель превращается в гранатомет. – К своей смерти!
Из шершавого сумрака ко мне устремляются тучи самонаводящихся ракет с тепловыми головками. Бахбахбах! Бóльшая часть ракет не задета, и мне не удается даже прицелиться в самозванца. На экран брызжут алые пиксели крови.
– Зэкс, – умоляет моя сестра, – не покидай меня здесь – вставь монетку, давай еще. Милый, не уходи.
– Милый, – передразнивает голос за спиной, – не уходи!
Откладываю пистолет и оборачиваюсь посмотреть на незваного зрителя, который издевательски аплодирует. Первая мысль: он слишком крут, чтобы торчать в игровом центре. Старше меня, гладко зализанный конский хвост, серьга в ухе. Внешность как у поп-звезды.
– Впервые в преисподней, да? – Его голос выдает уроженца Токио.
Я киваю. Реальный мир постепенно обретает свои очертания.
– Со мной было то же самое, когда я спустился туда в первый раз.
Звуки лазерных выстрелов, вой вампиров, дребезжание монет, непрерывная музыка видеоигр.
– Вот как.
– Ты увидел отца и потерял бдительность. Грязный трюк! В следующий раз пристрели яйцеголового на месте. Придется сделать девять выстрелов.
– Что ж. Извини, что умер и испортил тебе удовольствие.
Он небрежно пожимает плечами:
– Ты приговорен с первой монеты. Платишь, чтобы отсрочить свой конец, но в конечном счете выигрыш остается за видеоигрой.
Окурок моей «Мальборо» подыхает в пепельнице.
– Глубокая мысль.
– На самом деле я ждал свою подружку в бильярдной наверху. Похоже, она играет в игру типа «заставь его ждать, держи на крючке». Вот я и пошел вниз – убедиться, что она не перепутала и не ждет меня снаружи. А тут ты – с головой ушел в «Зэкса Омегу и луну красной чумы»: я не удержался, остановился посмотреть. Ты знаешь, что высовываешь язык, когда напряженно думаешь?
– Нет.
– На самом деле это игра для двоих. Я с ней две недели бодался, пока не сборол.
– Наверное, потратил целое состояние.
– Нет. Дистрибьютор работает на человека, который работает на моего отца.
На это нечего ответить.
– Что ж, надеюсь, твоя подружка скоро появится.
– Лучше бы пришла, стерва. Иначе я с нее шкуру спущу.
Субботний вечер в Сибуя[54] бурлит и истекает потом. Через неделю после бессонной ночи я решил развеяться. Квартал удовольствий пышет таким жаром, что, кажется, вспыхнет, стоит разок чиркнуть спичкой. В прошлом году дядя Толстосум водил меня в свой бар в Кагосиме, но это отстой по сравнению с тем, где я сейчас. Цены тоже не сравнить. В барах – полчища трутней: галстуки оттянуты, воротнички расстегнуты. Трутни женского пола прячут офисную форму в наплечных сумках. Не слишком ли строго я сужу трутней, учитывая, что теперь я – один из них? Но я только притворяюсь, что я один из них. А может, все так начинают? И господин Аояма тоже. Парочки на свиданиях. Американцы с красотками в лунных очках. У официантки с прекрасной шеей в записной книжке полно телефонов приятелей, таких как мой незваный зритель в игровом центре. Огромная реклама «ПЕЙТЕ КОКА-КОЛУ» каскадами изливает лавовый багрянец и непорочную белизну. Иду, посасывая шипучий леденец. Хостессы заботливо усаживают в такси престарелых президентов компаний, приветливо машут на прощание. В ресторане, залитом янтарным светом, все знакомы друг с другом. На скутере проезжает монгольский богатырь-исполин, по обе стороны от него девицы, наряженные крольчихами, раздают листовки с рекламой нового торгового комплекса. Девушки в целлофановых жилетках, трусиках и колготках сидят в стеклянных кабинках перед клубами, предлагая легкую беседу и купоны на десятипроцентную скидку. Представляю, как кошу эти толпы мегаоружием двадцать третьего века. Иллюминация и лучи лазерных прожекторов окрашивают облака в карамельные цвета. У входа в «Пенный мир Афродиты» зазывала расписывает достоинства девушек на фото, пришпиленных к стенду:
– Номер один – русская, холеная, покладистая. Два – филиппинка, обходительная, превосходно вышколена. Француженка – этим все сказано. Бразильянка – темный шоколад, есть за что укусить. Номер пять – англичанка, белый шоколад. Шесть – немка, любительница сосисок. На этих милашках из Кореи – ни унции лишнего жира. Номер восемь – экзотические черные близняшки, а номер девять – ну, номер девять слишком хороша, чтобы ее лапал простой смертный…
Заметив, как я таращусь на все это, он гогочет:
– Приходи лет через десять, сынок, как поднакопишь деньжат!
Иду мимо магазина электроники и на экране телевизора вижу, как кто-то очень знакомый тоже идет мимо магазина электроники. Он останавливается и с изумлением изучает экран, волнуясь о том, как выглядит в глазах окружающих. Покупаю новую пачку «Мальборо». Проходя мимо красных фонариков какой-то лавки, где продают лапшу, вдыхаю кухонные пары, вспоминаю, что голоден. Пытаюсь рассмотреть, что там, за витриной. Возможно, эта замызганная лавка мне по карману. Раздвигаю дверь и вхожу сквозь нити бусин в проеме. Душная дыра, наполненная кухонным гамом. Заказываю лапшу с поджаренным тофу и зеленым луком и усаживаюсь у окна, наблюдая, как мимо текут толпы прохожих. Приносят лапшу. Угощаю себя стаканом воды со льдом. С двадцатилетием, Эйдзи Миякэ. Сегодня Бунтаро вручил мне богатый урожай поздравительных открыток – по одной от каждой из моих четырех теток. Пятый конверт оказался еще одним посланием из министерства нежеланных писем, продолжающего кампанию под лозунгом «Достать Миякэ». Закуриваю «Мальборо», вынимаю письмо, чтобы снова перечитать его, пытаясь вычислить, шаг ли это вперед, назад или в сторону.
Токио, 8 сентября
Эйдзи Миякэ!
Я жена твоего отца. Его первая, настоящая, единственная жена. Так-то вот. Мой информатор в «Осуги и Босуги» сообщил, что ты пытаешься связаться с моим мужем. Да как ты смеешь? Неужели ты воспитан столь убого, что тебе неведомо слово «стыд»? Так или иначе, я подозревала, что такой день придет. Значит, ты узнал о том, что твой отец занимает влиятельный пост, и рассчитываешь на легкую поживу. «Шантаж» – это скверное слово, придуманное скверными людьми. Но для шантажа необходимы смелость и податливые жертвы. У тебя нет ни того ни другого. По-видимому, ты считаешь себя умником, но в Токио ты – всего лишь алчный деревенский мальчишка, и мозги твои погрязли в навозе. Я твердо намерена защитить своих дочерей и мужа. Мы уже заплатили достаточно, более чем достаточно, за то, что сделала твоя мать. Возможно, это ее совет? Она – пиявка. Ты – чирей. Я хочу, чтобы ты понял элементарную вещь: если ты посмеешь причинить беспокойство моему мужу, показаться на глаза кому-нибудь из нашей семьи или попросить хоть иену, тогда, как и любой гнойный чирей, ты будешь удален.
Допиваю оставшийся от лапши бульон. Дракон, изогнувшись вокруг земли, ловит свой хвост. Ну что ж… В день своего совершеннолетия я получил в подарок страдающую паранойей мачеху, которая любит подчеркивать, и по меньшей мере двух сводных сестер. К несчастью, само по себе письмо ничем не поможет: в нем нет ни подписи, ни адреса. Оно отправлено из северного округа Токио, и если написано там, то круг поиска сужается примерно до трех миллионов человек. Моя мачеха не дура. Ее ненависть ко мне – еще одно препятствие. С другой стороны, чтобы оттолкнуть меня, до меня нужно дотронуться. К тому же письмо написал не отец, так что в худшем случае он все еще не уверен, стоит ли со мной встречаться. В лучшем же случае это означает, что ему до сих пор неизвестно о моих попытках его отыскать. И в эту самую секунду я понимаю, что на мне нет бейсболки. Это – наихудший из всех возможных подарков. Бейсболку мне подарила Андзю. Начинаю вспоминать – в игровом центре она была еще у меня. Выхожу на улицу и прокладываю дорогу обратно сквозь потоки искателей развлечений.
«Зэкс Омега и луна красной чумы» зазывает новых клиентов, а бейсболка исчезла. Обыскиваю взглядом ряды студентов, мутузящих отпрысков «Уличного бойца», толпу детворы вокруг «2084»; кабинки с девчонками, цифрующими свои фото под лица знаменитостей; аллеи служащих, играющих в маджонг с видеостриптизершами. Странно. Эти люди, подобно моей матери, платят психоаналитикам и лежат в клиниках, чтобы вернуться к реальности, – и эти же люди, подобно мне, платят «Сони» и «Сега», чтобы вернуться в виртуальный мир. Мордастый тип позванивает связкой ключей, и я догадываюсь, что это смотритель. Приходится кричать ему в ухо. От него воняет ушной серой.
– Вам не отдавали кепку?
– Чё?
– Я оставил здесь бейсболку, полчаса назад.
– Зачем?
– Забыл!
«Пожалуйста, подождите – совершается трансакция».
– Забыл, зачем оставил?
– Ладно, не важно.
Вспоминаю о незваном зрителе. Он вроде бы сказал: «Наверху, в бильярдном зале». Отыскиваю заднюю лестницу и поднимаюсь. Подводное безмолвие и подводный же полумрак. Три ряда столов под сукном цвета морской волны, по шесть в каждом ряду. Он в дальнем углу, играет в одиночку. На голове у него моя бейсболка. Хвост продет в отверстие над ремешком застежки. Он загоняет шар в лузу, поднимает взгляд и жестом приглашает меня подойти.
– Я знал, что ты вернешься. Поэтому и не стал тебя догонять. Хочешь отыграть?
– Лучше просто сними ее и отдай.
– И в чем же здесь интерес?
– Никакого интереса. Но это моя бейсболка.
Оценивающий взгляд.
– Верно. – Он с поклоном преподносит ее мне. – Без обид. Сегодня я сам не свой.
– Ничего. Спасибо, что спас мою кепку.
Он улыбается честной улыбкой:
– Пожалуйста.
Моя очередь.
– Ну, э-э, и насколько она теперь опаздывает?
– А когда «опоздать» переходит в «кинуть»?
– Не знаю. Часа через полтора?
– Значит, эта стерва меня форменным образом кинула. Вдобавок мне пришлось заплатить за этот стол до десяти. – Он тычет кием. – Хочешь, разыграем пару рамок, если ты не занят.
– Я не занят. Но у меня нет ни гроша, чтобы поставить на кон.
– А сигарету за партию ты можешь себе позволить?
Мне даже немного лестно: он принимает меня настолько всерьез, что предлагает сыграть с ним в пул. Все, чем я располагал по части компании, с тех пор как приехал в Токио, были Кошка, Таракан и Суга.
– Конечно.
Юдзу Даймон – студент выпускного курса юридического факультета, уроженец Токио и замечательный игрок в пул. Лучшего я не встречал. Он великолепен. На прошлой неделе я посмотрел «Бильярдиста». Даймон разделал бы героя Пола Ньюмена под орех[55]. Из вежливости он позволяет мне выиграть пару партий, но к десяти часам выигрывает семь следующих подчистую, отточенным стилем, с разворотами на 180о и ударами с наскока. Мы сдаем кии и садимся выкурить свои трофеи. Моя пластмассовая зажигалка сдохла – огонек пламени со щелчком вылетает из-под большого пальца Даймона. Красивая вещь.
– Платина, – говорит Даймон.
– Должно быть, стоит целое состояние.
– Мне ее подарили на двадцатилетие. Тебе надо больше тренироваться. – Даймон кивает в сторону стола. – У тебя меткий глаз.
– Ты говоришь, как мой школьный учитель физкультуры.
– Брось. Послушай, Миякэ, я решил, что суббота обязана компенсировать мне этот облом. Давай-ка пойдем в бар и снимем девчонок?
– Э-э, спасибо. В другой раз.
– Твоя подружка об этом не узнает. Токио слишком велик.
– Да нет, дело совсем не в…
– Значит, никакая женщина тебя сейчас не ждет?
– Только в моем воображении, но…
– Погоди, ты что – гей?
– Насколько я знаю, нет, но…
– Значит, ты дал обет воздержания? Ты член какой-нибудь религиозной секты?
Я показываю ему содержимое своего бумажника.
– Ну и что? Расходы я беру на себя.
– Я не могу развлекаться за твой счет. Ты и так уже заплатил за стол.
– Это – не развлечение за мой счет. Я же говорил тебе, что собираюсь стать адвокатом. Адвокаты никогда не тратят собственных денег. У отца есть счет на представительские расходы, четверть миллиона иен, которые нужно истратить, иначе бюджет его департамента пересмотрят и урежут. Так что, отказываясь, ты ставишь нашу семью в трудное положение.
Крупная сумма.
– И так каждый год?
Даймон видит, что я говорю серьезно, и разражается смехом:
– Каждый месяц, дурень!
– Развлекаться за счет твоего отца еще хуже, чем за твой счет.
– Слушай, Миякэ, я всего лишь предлагаю выпить пару кружек пива. Самое большее, пять. Я не пытаюсь купить твою душу. Брось. Когда у тебя день рождения?
– Через месяц, – вру я.
– Тогда считай, что я заранее делаю тебе подарок.
Санта-Клаус – бармен, красноносый Олененок Рудольф появляется из туалета с метлой в руках, а эльфы в колпачках обслуживают столики. Наблюдаю, как под потолком танцуют снежинки, и прикуриваю «Мальборо» от спички, поднесенной Девой Марией. Юдзу Даймон отбивает на столешнице ритмы психоделических рождественских песнопений.
– Этот бар называется «Веселое Рождество».
– Но сегодня девятое сентября.
– А здесь каждый вечер двадцать пятое декабря. Для девчонок здесь как медом намазано.
– Возможно, я наивен, но ведь твою девушку могло просто что-нибудь задержать.
– Ты более чем наивен. В каком веке застряла эта твоя Якусима? Стерва кинула меня. Я знаю. Мы с ней договорились. Если бы она хотела прийти, то пришла бы. А теперь я одинок, как новорожденный младенец, и на нее мне наплевать. Наплевать. Однако же – только не оборачивайся сразу, – по-моему, прибыл наш утешительный приз. Вон там, в уголке, между камином и елкой. Одна – в кофейной коже, другая – в вишневом бархате.
– Они выглядят как модели.
– Модели чего?
– Такие на меня дважды не посмотрят. И даже единожды не глянут.
– Я обещал оплатить тебе выпивку, а не ублажать твое самолюбие.
– Да я серьезно!
– Чушь.
– Ты же видишь, как я одет.
– Мы скажем, что ты роуди[56] какой-нибудь группы.
– Ну, за роуди я тоже не сойду.
– Мы скажем, что ты роуди у «Металлики».
– Но ведь мы же с ними не знакомы.
Даймон закрывает лицо ладонями и хихикает:
– Ах, Миякэ, Миякэ. Для чего, по-твоему, созданы бары? Думаешь, людям нравится платить астрономические цены за дрянные коктейли? Допивай свое пиво. Чтобы внедриться в расположение противника, понадобится виски. Никаких возражений! Взгляни на ту, что в бархате. Представь, как ты зубами распускаешь шнуровку корсажа или что там на ней надето. Ты ее хочешь? Да или нет?
– Кто бы не захотел, но…
– Санта! Санта! Два двойных «Килмагуна». Со льдом.
– Итак, после изнасилования, – говорит Даймон в полный голос, как только мы пересаживаемся за соседний столик, – их мир разбит вдребезги. Разрушен до основания. Она перестает есть. Обрезает телефон. Единственное, что ее хоть как-то занимает, – это видеоигры покойного сына. Когда мой приятель утром уходит на работу, она уже сидит, согнувшись над пистолетом, и расстреливает мужчин на шестнадцатидюймовом «Сони». Когда он возвращается, она и бровью не ведет. Кастрюли так и стоят на столе – ей плевать. Бах-бахбах! Перезарядка. Тем временем полиция прекращает расследование – изнасилование ночью, на пустынной горе? Глухой номер. По большей части мужчины просто не понимают, как подобное может… Знаешь, Миякэ, я совершенно разочаровался в нас, мужчинах. Короче, так проходит девять месяцев. Она сидит дома. Даже за порог не ступает. Он сходит с ума от беспокойства – помнишь, что с ним было после вашей битловской тусовки? Комок нервов. В конце концов он обращается за советом к психиатру. Психиатр каким-то образом приходит к выводу, что ее необходимо вернуть к людям, иначе у нее разовьется самовнушенный аутизм. А они познакомились в университетском оркестре: она была ксилофонисткой, он – тромбонистом. В общем, он покупает два билета на «Картинки с выставки»[57] и долго уговаривает ее пойти, пока она не соглашается. Сигарету?
Я точно помню, что, когда мы сели за этот столик, на нем была пепельница.
– Извините. – Даймон наклоняется к Кофе. – Можно?
– Конечно.
– Огромное спасибо. Вечером перед концертом она принимает успокоительное, они одеваются, идут ужинать при свечах в шикарный ресторан, потом занимают свои места в первом ряду. Звучит тромбон. Ну, знаешь… – Даймон выпевает вступительные такты. – И она холодеет. Глаза как лед. Ногтями впивается ему в бедро. Ее бьет дрожь. Презрев приличия, он выводит ее из зала, пока у нее не началась истерика. В фойе она объясняет, в чем дело. Клянется могилой своих предков, что музыкант, играющий на оркестровых тарелках, – тот самый, кто ее изнасиловал.
Бархотка и Кофе вслушиваются в его рассказ.
– Да-да, я знаю, ты думаешь, почему они не обратились в полицию? В девяти случаях из десяти судья говорит, что женщина сама виновата, не надо было надевать короткую юбку и все такое, а насильник подписывает бланк с извинениями и выходит сухим из воды. В общем, она требует, чтобы он отомстил за ее поруганную честь, иначе она спрыгнет с крыши «Токио Хилтон». Ну, ты его знаешь. Он не дурак. Он тщательно готовится, добывает незарегистрированный пистолет с глушителем, покупает хирургические перчатки. Однажды вечером, пока оркестр исполняет Пятую симфонию Бетховена, он проникает в квартиру музыканта – тот живет один, со своей коллекцией кристаллов. То, что он там находит, подтверждает рассказ его жены. Порнораспечатки из интернета, садомазохистские прибамбасы, наручники, свисающие с потолка, изрядно потасканная надувная Мэрилин Монро. Он прячется под кроватью. Где-то после полуночи ударник возвращается, прослушивает автоответчик, принимает душ и ложится в постель. Мой приятель обожает драматические эффекты. «Даже монстру следует заглядывать под матрас!» Бахбахбах!
– Ничего себе.
– Это еще не все. Ох, зажигалка не работает. Секундочку…
Даймон наклоняется к Кофе, которая уже открывает свою фирменную сумочку.
– Ох, простите за беспокойство… огромное спасибо.
Она сама щелкает зажигалкой. Даймон прикуривает сигарету, а потом еще одну для меня. Я смущенно киваю.
– Месть – лучшее лекарство. Ты, наверное, помнишь заголовки в местных газетках: «Чей удар сразил ударника?» Но успех убийства целиком и полностью зависит от подготовки. У полиции нет никаких улик. Жена моего приятеля в считаные дни идет на поправку. Она снова преподает в школе для слепых. Выбрасывает видеоигры. Весной в Йокогаму приезжает оркестр «Сайто Кинэн»[58], и на этот раз она сама просит купить билеты в первый ряд. Все как в прошлый раз, только сейчас она счастлива. Совесть его не мучает – он всего лишь совершил акт правосудия, который должно было совершить государство, если бы полицейские были посообразительнее. Итак, они наряжаются, ужинают при свечах в шикарном ресторане и занимают свои места в первом ряду. Вступают струнные – и она холодеет. Глаза как лед. Дыхание прерывистое. Он думает, что у нее приступ, и выводит ее в фойе. «В чем дело?» – спрашивает он. «Второй виолончелист! Это он! Тот, кто меня изнасиловал!» – «Что?! А кого же я убил в прошлом году?» Она качает головой, будто он сошел с ума. «О чем ты? Второй виолончелист и есть тот самый насильник, клянусь могилой своих предков! Отомсти за мою поруганную честь, иначе я убью себя электрическим током».
– Невероятно! – ахает Кофе. – А он, типа, что?
Даймон оборачивается, Кофе закидывает ногу на ногу, и нас становится четверо.
– Пошел в полицию. Признался в убийстве музыканта. К тому времени, когда начался суд, она обвинила в изнасиловании девять разных мужчин, в том числе министра рыбной промышленности.
Бархотка в ужасе:
– Все это случилось на самом деле?
– Поверьте, – Даймон выпускает колечко дыма, – каждое слово – чистейшая правда.
Я иду к Санте сделать заказ, возвращаюсь к столику, а рука Даймона уже лежит на спинке стула Кофе.
– Типа… ага. – Кофе высовывает кончик языка между белых губ. – А вот и помощничек Санты.
Ее лицо в зефирном макияже.
Бархотка, шурша колготками, поворачивается ко мне, и Годзилла просыпается.
– Юдзу-кун говорит, что ты в музыкальном бизнесе?
Я вдыхаю аромат ее духов, увлаженный и подсоленный потом.
– А я сейчас подрабатываю моделью, снимаюсь для рекламы крупнейшей в Токио сети клиник пластической хирургии.
Она наклоняется ко мне со своей «Ларк слим» в ожидании огня, и Годзилла вздымает свою жуткую голову. Даймон подталкивает ко мне зажигалку. Лицо Бархотки сияет. И до этой минуты я весь вечер не вспоминал об Андзю.