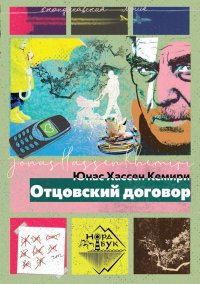
Читать онлайн Отцовский договор бесплатно
- Все книги автора: Юнас Хассен Кемири
© Jonas Hassen Khemiri, 2018
© Н. Братова, перевод на русский язык, 2022
© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2022
* * *
Я пакт заключил с этой ночью, и вот уже двадцать лет
Слышу зов ее милосердный.
Эме Сезер[1]. И умолкли собаки
Спросите у матери, только что потерявшей ребенка:
– Сколько у тебя детей?
– Четверо, – ответит она. – …Трое.
А потом, спустя годы…
– Трое, – скажет она. – …Четверо.
Эми Хемпель[2]. Рассказы
I. Среда
Дедушка, который папа, возвращается в страну, которую никогда и не покидал. Он стоит в очереди на паспортный контроль. Если полицейский за стеклянной перегородкой начнет задавать каверзные вопросы, папа, который дедушка, проявит выдержку. Не станет обзывать полицейского мусором. Не поинтересуется, а не заказал ли полицейский свою униформу по почте. Вместо этого он улыбнется, предъявит паспорт и напомнит полицейскому, что, между прочим, является гражданином этой страны и ни разу не покидал ее дольше, чем на шесть месяцев. Почему? Да потому что здесь живет его семья. Его любимые дети. Его замечательные внуки. Его бывшая жена-предательница. Он бы ни за что не уехал дольше, чем на шесть месяцев. Шесть месяцев – это предел. Обычно он уезжает на пять месяцев и 30 дней. Иногда на пять месяцев и 27 дней.
Очередь слегка продвигается вперед. У дедушки, который папа, двое детей. Не трое. Один сын. И одна дочь. И обоих он любит. Особенно дочку. Люди говорят, что они похожи на отца, но сам он никакого сходства не видит. Ростом они в мать, и упрямством в мать, и носы у них материнские. Да и вообще оба они – маленькие, хотя теперь уже сильно подросшие копии своей матери. Особенно сын. Сын до того похож на мать, что папу, который дедушка, иногда, а по правде довольно часто, тянет хорошенько ему врезать. Но он себе такого никогда не позволит. Нет, конечно. Он держит себя в руках. Он уже достаточно пожил в этой стране, чтобы знать, что чувства до добра не доводят. Чувства нужно рассовать по крошечным – и желательно надписанным – ячейкам, затем каждую из них запереть и не отпирать, пока тебе не выпишут рецепт и пока поблизости не окажутся профессионалы, а наделенный соответствующими полномочиями госслужащий не согласится принять на себя всю полноту ответственности за то, что эти чувства могут натворить.
А очередь все не продвигается. Но никто не злится. И голоса никто не повышает. И вперед не протискивается. Все только закатывают глаза к потолку и вздыхают. И дедушка тоже. Он вспоминает, как был папой. Детские праздники и отпуск на море, тренировки по дзюдо и простуды, уроки игры на фортепиано и школьный выпускной. Он вспоминает прихватку, которую дочка, а может, сын, изготовили на уроке труда, на ней еще было вышито «Лучшему на свете папе». Он был замечательным папой. И дед он тоже замечательный. А кто посмеет утверждать иное – тот просто врун.
Когда папа, который дедушка, наконец оказывается перед стойкой паспортного контроля, женщина в униформе по ту сторону стекла всего лишь на пару секунд встречается с ним взглядом, сканирует его паспорт, а затем взмахом руки велит ему следовать дальше.
* * *
Сын, который папа, едет к себе в контору, как только дети уснули. Одной рукой он подбирает почту, другой закрывает входную дверь. Складывает продукты в холодильник и закидывает тренировочный костюм в один из шкафов. Прежде чем взяться за пылесос, он несколько раз обходит все с совком и обрывком бумажного полотенца и подбирает дохлых тараканов, накопившихся за эти дни на кухне, в ванной и в коридоре. Меняет постельное белье на кровати, полотенца в ванной и наливает воды в заставленную чашками раковину, чтобы размочить засохший кофе. Открывает балконную дверь и проветривает комнату. Набивает мусорное ведро на кухне рекламными листовками, сморщенными киви, задубевшими мандаринами, порванными конвертами и потемневшими яблочными огрызками. Смотрит на часы и понимает, что время еще есть. Да и спешить-то особо незачем.
Он моет пол в коридоре и на кухне. Чистит ванну, раковину и унитаз. Потом выкладывает в ванной мыло и губку. Он надеется, что если только папа увидит их, то съезжая, он, может, не оставит контору в том же виде, что в прошлый раз. И в позапрошлый.
Сын пересыпает капсулы для кофемашины в пакетик, пакетик кладет в коробочку, коробочку засовывает поглубже в кухонный шкаф. В другой пакетик он убирает ароматические свечи, подарок сестры на день рождения, и прячет в ящик с инструментами. Дорогие консервы с тунцом, стеклянные банки с кедровыми и грецкими орехами и тыквенными семечками складывает в пустую коробку из-под картриджа и ставит на холодильник. В прихожей сгребает мелочь из миски на комоде и пересыпает в правый карман джинсов. Солнцезащитные очки убирает в рюкзак. Еще раз обходит контору. Вроде бы все. Контора готова к папиному прибытию. Он смотрит на часы. Папа должен бы уже быть здесь. Наверняка появится в любой момент.
* * *
Папа, который дедушка, стоит перед багажной лентой.
Чемоданы все одинаковые. Блестящие, как космический корабль, и с колесиками, как у скейтборда. Издалека видно, что все как один склепаны в китайских шарашках. А у него чемодан солидный. Европейского пошиба. Ему уже тридцать лет, а он прослужит еще двадцать.
И колесиков, которые норовят сломаться, у него нет. На нем наклейки давно разорившихся авиакомпаний. Пока дедушка стаскивает чемодан с багажной ленты, какая-то девица с перекачанными бицепсами интересуется, не надо ли ему помочь.
– Нет, спасибо, – отвечает дедушка и улыбается.
Помощь ему не нужна. Особенно от всяких незнакомцев, которые рассчитывают, что им за их помощь еще и заплатят.
Он ставит чемодан на тележку и катит ее к выходу. У самолета обнаружилась какая-то техническая неисправность. Пассажиров сначала запустили, потом заставили выйти, потом снова пригласили на посадку. Дети, наверное, уже знают про задержку рейса из интернета. Сын заехал за сестрой. Они направляются по шоссе на север. Сын паркуется на дорогущей парковке для встречающих, а дочь берет из багажника папин стильный плащ. Вот сейчас они стоят на той стороне дороги. Дочка улыбается своей ослепительной улыбкой. А у сына в ушах наушники. Им не нужны никакие подарки. Они рады уже тому, что они здесь.
* * *
Сын, который папа, не прочь заняться делом в ожидании папиного приезда. Проверив, что в чайнике нет дохлых тараканов, он включает его. Запускает компьютер и пробегает глазами годовой отчет по жилому кварталу
Утсиктен 9. Залогинивается на сайте налоговой службы и запрашивает отсрочку для журналиста-фрилансера и реставратора, которые подзадержались со своими счетами. Составляет список задач – что нужно успеть ко дню рождения дочки к следующему воскресенью.
Напомнить родителям, которые еще не ответили на приглашение. Подготовить игры. Купить шарики, бумажные тарелки, серпантин, трубочки, сок, все нужное для торта. А еще веревку и прищепки для розыгрыша подарков. Он смотрит в окно. Ничего страшного. Ничего не случилось. Папа просто задерживается.
Когда-то в дни папиного приезда сын встречал сестру на Центральном автовокзале в Сититерминалене. Они садились на скамейку в здании вокзала так, чтобы через стекло видеть автобусную остановку напротив, иногда спиной друг к другу, иногда один клал голову другому на плечо или на колени. Сын посматривал на станционные часы и думал, когда же появится папа, а сестра бегала в Pressbyrå за малиновым смузи, бутербродом или латте в одноразовом стаканчике. Он снимал наушники и давал сестренке послушать новые песни Royce da 5’9’’, Chino XL и Jadakiss. Сестра, позевывая, стаскивала наушники и продолжала прерванную беседу об интимной гигиене с какими-нибудь старушками, поджидавшими ночной автобус до Варберга. Сын, который тогда еще не был папой, вставал и подходил к окну. Сестра, которая тогда еще не была мамой, вытягивалась на скамейке, подложив сумочку себе под голову вместо подушки, и засыпала. Каждые пятнадцать минут подъезжал новый автобус из аэропорта. А папы все не было. Сын садился, вставал, опять садился на место. Охранник расталкивал уснувшего бомжа. Парочка таксистов играла в крестики-нолики или обсуждала ставки на бегах. Какие-то заплутавшие туристы выходили из автобусов, шли в одну сторону, потом возвращались и устремлялись в другую. Он наблюдал за спящей сестрой. Как она может спокойно спать? Она что, не понимает, что происходит? Их папу схватили. Военные остановили его прямо в ту минуту, когда он садился в самолет. Они попросили его предъявить паспорт, обвинили в том, что он тайный агент, контрабандист, член оппозиции. А сейчас он сидит взаперти в сырой камере и пытается доказать военным, что он не родня тому парню, который поджег себя в тюрьме в знак протеста против действующего режима.
– Семья у нас большая, – говорит он. – И фамилия у нас распространенная. Я же не политик, я торговец.
А потом улыбается своей обезоруживающей улыбкой. Если кто и может кого уболтать, чтобы не угодить в тюрьму, так это его папа.
– Сядь и успокойся, – говорила сестра, очнувшись ото сна. – Подыши. Все хорошо.
– Девяносто минут, – отвечает сын, качая головой. – Странно ведь: самолет приземлился девяносто минут назад, а его до сих пор нет.
– Успокойся, – говорила сестра и усаживала его на место. – Ничего тут странного. Сначала ему надо дождаться, пока все выгрузятся из самолета. Потом он соберет оставленные газеты и непочатые бутылочки с вином. Потом зайдет в свою любимую уборную, потом заберет чемодан и все проверит. И если на чемодане обнаружится хоть одна царапинка, а без этого не обходится, то он займет очередь в службу розыска багажа, так ведь?
Сын кивал.
– Он заявит о том, что ему повредили багаж при транспортировке, а сотрудники этой службы будут стоять в растерянности, не понимая, серьезно он говорит или шутит, ведь чемодан у него времен второй мировой, если не старше. Они скажут, что не возмещают ущерб за естественный износ, а он рассердится и будет кричать, что клиент всегда прав.
– Если только тетка на стойке не будет молодая и красивая, – возражал на это сын.
– Точно, – говорила сестра. – Тогда он улыбнется и скажет, что все понимает.
– А потом? – спрашивал сын, тоже улыбаясь.
– Потом он пройдет таможенный контроль, – продолжала сестренка. – И какой-нибудь неопытный таможенник решит, что он что-то прячет. Его остановят. Начнут задавать вопросы. Попросят пройти в маленькую заднюю комнатку и показать содержимое чемодана.
– И что же они там найдут?
– Да ничего. Сумка почти пустая. Типа пара рубашек и поесть чего-нибудь. Он всегда так долго, – говорит сестра. – А ты вечно изводишь себя попусту.
Они продолжают сидеть молча. Подъезжает автобус. Потом еще один. Когда он трогается от остановки, на тротуаре стоит папа. Всегда в одной и той же одежде. Все в том же лоснящемся пиджаке. В тех же стоптанных ботинках. С тем же чемоданом и с той же улыбкой, и первый вопрос у него всегда один:
– Плащ мой прихватили?
Дочь с сыном выходят на улицу через двойные двери. Они помогают ему надеть плащ и берут чемодан. Говорят «Добро пожаловать домой» и всякий раз сомневаются, а уместно ли для такого случая слово «дом».
* * *
Папа, который дедушка, выходит в зал прилетов. Он бросает взгляд в сторону встречающих. Все лица расплывчатые, как у преступников на камерах видеонаблюдения.
Молодые женщины пьют чай из одноразовых стаканчиков. Бородатые мужики в слишком узких штанах уткнулись в телефоны. Парочка нарядно одетых родителей несет плакат, который они еще не успели развернуть, а родственник снимает их на камеру. Его вертикально выставленная рука похожа на застывшую в стойке кобру.
Несколько мужчин с букетами держат в руках запасные куртки. Папа таких знает. Встречал раньше. Это шведы, которые ждут своих тайских женушек. Знакомятся в интернете и делают предложение, даже не увидевшись, а теперь вот стоят тут с куртками, чтобы показать, какие они хорошие, и чтобы девицы эти не ошалели сразу от холода. Но приличный мужик не будет выписывать себе в жены потаскушку не пойми откуда, думает он и идет дальше к выходу. Он не ищет взглядом своих детей, он знает: их здесь нет. И все же отмечает про себя, что блуждает взглядом по залу. Глаза надеются.
Он видит большую африканскую семью, у всех мужчин вид наркодилеров. Видит пакистанского паренька, под глазом у него родимое пятно, он моргает, как будто нервничает или только что проснулся. Гомик, наверное. Сразу видно по тесной рубашечке и пушистому шарфику. Дедушка идет дальше, мимо ночных забегаловок, мимо таксистов с табличками в руках, на них шведские фамилии или английские названия компаний. Мимо закрытого на ночь обменника валюты и колонны, оклеенной по кругу широкой зеленой лентой, которая сообщает, что именно здесь находится дефибриллятор. Что еще за хренов дефибриллятор? И если уж этот дефибриллятор так важен, почему его не выставят в каждом аэропорту мира? Но нет. Ведь это только здесь, в этой уму непостижимой стране, политики решают, что для полной безопасности залу прилета непременно нужен дефибриллятор.
Дедушка, который больше не чувствует себя папой, катит тележку по направлению к автобусной остановке. Он выходит на улицу под порывы ветра. Всю свою жизнь он то прилетал, то улетал из этого аэропорта. В солнце, в дождь, зимой, летом. И всегда одно и то же. Ветер на выходе из пятого терминала никогда не стихает. Шквальный ветер, какая бы ни стояла погода. Шарфы он превращает во флаги. Плащи в юбки. Он такой неистовый, что люди в ожидании автобуса прячутся меж цементных колонн, чтобы не начать невольный танцевальный номер: два шага направо, шаг вперед под хохот и подвывание ветра в такт.
Он щурясь смотрит на электронное табло. Четырнадцать минут до следующего автобуса. Наверное, только что ушел. Четырнадцать чертовых минут, чтоб их! Жена поглядывает на него из-за угла. Четырнадцать минут! – радостно восклицает она. Повезло, что не сто четырнадцать! Холод собачий, бормочет он. Очень свежо, отвечает она ему. Никто не приехал меня встретить, говорит он. Я же здесь, возражает она. Я болен, говорит он. Нет худа без добра, у тебя диабет, а не какая-то другая хроническая болячка, парирует она, а его легко держать под контролем. Я слышала, что некоторые диабетики завязывают с инсулином благодаря диете. Признайся, тебе даже немного нравится вся эта возня с уколами и замерами сахара. Я слепнуть начал, говорит он. Но меня-то ты видишь? – спрашивает она. Да, отвечает он. Уже не худо! – улыбается она. Ее коротко стриженные волосы ерошит ветер. Нет худа без добра. Это была ее мантра. Что бы ни случилось. Когда дочкин одноклассник сломал руку, жена спросила первым делом:
– Правую или левую?
– Левую, – ответила дочь.
– Нет худа без добра, – сказала жена.
– Он левша, – возразила дочь.
– Значит, теперь он может натренировать правую руку, – сказала жена. – Нет худа без добра.
Папа улыбается воспоминанию. Ветер сникает. Становится тихо. Жена подходит к нему, гладит по макушке и целует в щеку губами холодными, как кнопки в лифте. А кстати… шепчет она. Жена? Почему ты продолжаешь думать обо мне как о жене? Мы же развелись лет двадцать назад. Ветер возвращается. Она исчезла. Тело совсем ослабло. Что-то не так с глазами. Ему просто надо домой. А дома-то у него нет… Здесь ходят такси. Есть аэроэкспресс. Но он дождется автобуса. Он всегда ждет автобуса.
* * *
Сестра, которая дочь, но больше не мама, выходит из ресторана, машет таксисту и называет ему адрес.
– Приятный был вечер? – спрашивает таксист.
– Нормальный, – отвечает сестра. – Справляли день рождения подруги. Ей тридцать восемь стукнуло. Тридцать, блин, восемь лет.
Сестра вздыхает.
– Годы идут, – говорит таксист.
– Да уж, – отвечает она.
– У вас дети есть? – интересуется таксист.
– Тридцать восемь, – говорит она. – Помню, когда маме исполнилось тридцать пять. У нее все документы были разложены по папочкам. Она тогда свое дело открыла. Она мне казалась такой невероятно взрослой и собранной. А мои друзья перебиваются проектной работой и не прочь перепихнуться с первым встречным.
Но, может, и она так думала про своих приятелей, когда сравнивала их с родителями, как по-вашему?
– Очень может быть, – отвечает таксист.
Они молчат.
– Но еда была вкусная, – говорит она. – Вы там бывали?
– Нет, – говорит он.
– Порции здоровенные, – продолжает она. – Терпеть не могу, когда идешь куда-нибудь, выкладываешь три сотни за блюдо и остаешься голодным. Раздражает же до жути?
– Действительно, – с оглашается он. – В едь хочется же наесться.
– Вот-вот, – говорит она и добавляет:
– А вот с вытяжкой у них там проблемы. Зал насквозь пропах кухней. Так воняло, что мне пришлось выйти на улицу подышать, чтоб не стошнило.
Таксист встречается с ней взглядом в зеркале заднего вида. Они молчат. Она достает телефон. Первая эсэмэска пришла в полдевятого. Брат пишет, что он у себя в конторе и ждет папу. Вот же черт. Папа что, сегодня приезжает? Следующая пришла без четверти девять. Брат пишет, что папа все еще не прибыл. Полдесятого. Пишет, что начинает волноваться. Четверть одиннадцатого. Пишет, что самолет задержался и он скоро отправится домой. Просит ее позвонить. Она смотрит на часы. Полдвенадцатого. Он уже наверняка спит. Завтра поговорят. Единственное, что досаждает ей, пока они едут: водитель, похоже, вылил на себя ведро одеколона. А тот, кто ехал на заднем сиденье до нее, определенно был заядлым курильщиком. Небрежно закрытая упаковка влажных салфеток в кармане двери издает химический запах абрикосовой отдушки, а от коробочки снюса[3]рядом с таксистом пахнет мхом. Когда машина выезжает из туннеля, ей приходится опустить окно и прильнуть носом к струе воздуха.
– Что, жарко? – спрашивает водитель.
– Немного, – отвечает она.
Он закрывает ее окно со своего места и сбавляет температуру кондиционера. Она слышит собственное дыхание. Рот наполняется слюной.
– Вот здесь, пожалуйста, – говорит она таксисту, как только машина выруливает с круга.
Она протягивает водителю кредитку и вылезает с заднего сиденья. Пять минут сидит на корточках около какой-то клумбы. А потом начинает двигаться к дому. Ее не вырвало. И не вырвет. Но что-то не так. Она чувствует себя этаким супергероем, наделенным суперсилой сомнительного свойства, которая заключается в способности улавливать все запахи на расстоянии нескольких кварталов и испытывать от этого приступы тошноты. У входа в 7-Eleven разит сосисками. Рядом с автобусной остановкой воняет собачьим дерьмом. Прохожий пахнет кремом для лица. А ее улица источает запах гнилой листвы. Она поворачивает направо и уже подходит к своему подъезду. Сзади раздаются шаги. Шаги ускоряются. Наверняка это ничего такого не значит. Ночной бегун. Или ее сосед-рокер увидел, как она сидела на корточках, и хочет узнать, не надо ли ей помочь. Но она все же вытаскивает связку ключей, чтобы быть наготове. Ключи превратились в кастет. Взгляд сфокусирован. Тошнота прошла. В глаза – по яйцам. В глаза – по яйцам. Действуй на опережение. Кричи. Не дай нападающему увидеть твой страх. Она собирается с духом, разворачивается и устремляется прямо к своему преследователю с криком «Чего вам надо?».
Мужчина вытаскивает из уха наушник.
– Что, простите?
– Прекратите идти за мной, – говорит она.
– Я здесь живу, – отвечает он и тычет пальцем.
– В каком подъезде? – спрашивает она.
– 21, – произносит он.
– Нет здесь номера 21, – говорит она.
– Нет, есть, – отвечает он. – Ведь я там живу.
– А улица какая?
Он называет улицу.
– Ладно, – говорит она, – идите.
Он прибавляет шагу и проходит мимо, испуганно поглядывая на нее и качая головой. От него пахнет жареным попкорном. Она провожает его взглядом. Как только он скрывается за углом, она вновь обессиленно скрючивается. Чертов ресторан. Чертово вонючее такси. Чертовы гадкие кучи листьев. Она поднимается на лифте и едва успевает в ванную, где ее выворачивает в унитаз.
– Милая? – доносится по ту сторону двери шепот не ее парня. – Я могу тебе чем-то помочь?
Она не отвечает. Она лежит бочком на полу ванной и ждет, пока на мир не снизойдет покой.
Вот крючки, на которых не висит его полотенце. Стаканчик, в котором не стоит его зубная щетка. Занавеска для душа с сиреневым попугаем. Эту занавеску она повесила, потому что всякий раз, когда он принимал душ, ванная превращалась в тропический лес, а рулон туалетной бумаги приходилось менять на новый. И чего она злилась из-за нескольких луж на полу? Вот шкафчик, в котором ему была отведена нижняя полка, потому что выше, не встав на белую скамеечку, он бы не дотянулся. У себя на полке он хранил дезодорант и ненужные ему одноразовые бритвы, а еще коллекцию увлажняющих кремов, которые она прихватывала из гостиниц, когда ездила в командировки. Теперь нижняя полка пустует, а когда тот, который считает себя ее парнем, самовольно положил туда свой триммер, она без объяснений вышвырнула его в мусорное ведро.
Когда она выходит из ванной, не ее парень сидит на диване, уставившись в телефон.
– Перебрала немного? – с прашивает он с улыбкой.
– Нет, конечно, – отвечает она. – Я пила только минеральную воду. Вина не хотелось.
Он откладывает телефон в сторону.
– В чем дело? – с прашивает она. – Чего у тебя вид такой встревоженный?
* * *
Сын, который папа, смотрит на часы. Скоро полночь. Сестра все не звонит. Жена написала ему час назад. Он ответил, что самолет задержался и он уже едет домой. Он собрался уходить. Но не ушел. Сам не знает почему. Пробовал дозвониться на папин заграничный номер. Потом на шведский. Телефоны отключены, а может, разряжены или конфискованы. Он прислушивается в надежде услышать, как в двери повернется ключ. Задумывается, когда же они перестали встречать папу на автовокзале. Три года назад? Или пять? Точно он не помнит, но догадывается, что примерно в то время, когда сын стал папой, а папа дедушкой. Что-то случилось тогда. Хотя сын до сих пор отвечает за решение всех бытовых вопросов. Он занимается папиным банковским счетом и корреспонденцией. Оплачивает счета, заполняет налоговые декларации, отменяет поездки и вскрывает письма из службы социального страхования. И именно он отвечает за папино жилье. Неважно, приехал папа на десять дней или на четыре недели. Так было всегда. И всегда так будет.
Сын заходит на кухню с чашкой чая в руке. Когда он включает свет, слышно, как шуршат тараканы, шныряя вниз под духовку. Краем глаза он замечает, как два из них юркают под морозильник. На раковине замер еще один, надеется, что его не заметят, спинка отливает красным, выставленные вверх усики подрагивают. Сын отставляет чашку на плиту и медленно протягивает руку за рулоном бумажных полотенец. Он смачивает бумагу, давит таракана, вытирает след от него и выкидывает бумагу прямо в унитаз, чтобы не оставить вызревать тараканьи яйца.
Синие бумажные ловушки для тараканов из «Антисимекса»[4]простояли тут несколько недель. В последний раз парень с тараканьей отравой был здесь в четверг, выдавил из шприца новые полоски похожего на зубную пасту смертоносного геля в зазоры между плитой и шкафчиком с мойкой и между холодильником и морозилкой. А они опять тут. Их здесь два вида: одни почернее, другие порыжее. Но жрут отраву и дохнут от нее одинаково. Откидываются на спинку и поджимают лапки. Длинные усики колышутся из стороны в сторону, как травинки. И такой гармонией веет от этих дохлых, готовых быть раздавленными влажным бумажным полотенцем таракашек. Он всегда отрывает строго по одной полоске бумаги на таракана. Так рулона надолго хватит. Если возьмет случайно две полоски, то подбирает двух тараканов, тогда всем достается поровну, а ему не надо лишний раз тратиться на покупку бумажных полотенец. Это не его голос. Папин.
– Отрывай по одному кусочку за раз, – кричал он из-за двери, пока сын сидел на горшке. – Д ва кусочка, если собираешься их смочить.
– Я буду, – отвечал сын.
– Тогда возьми два, – разрешал папа.
Сын отрывал два куска бумаги, смачивал их и подтирался.
– А теперь еще один, чтобы убедиться, что все чисто, – инструктировал папа.
– Да бери ты весь рулон, – к ричала с кухни мама.
– Не слушай ее, – говорил папа.
Сын поступал, как ему было велено. Всю, блин, жизнь он поступал, как было велено. А теперь не будет, думает он и берет ручку. Он не пишет папе, чтобы тот больше не рассчитывал здесь останавливаться. Не пишет, что хочет расторгнуть отцовский договор. Вместо этого он выводит на листочке: «Добро пожаловать, папа. Надеюсь, поездка была удачной. Вот твои письма. Свяжись, как сможешь, а то я буду волноваться, что с тобой что-то случилось».
Сын гасит свет и выходит на лестницу. Запирает замки на внутренней и внешней дверях, потом второй замок на внешней двери. Потом проверяет, что точно запер ее на оба замка. Потом уходит из конторы домой. Но снова возвращается, чтобы проверить, что не забыл закрыть на второй замок, когда проверял, что запер его. Он пересекает площадь и проходит мимо местной пивнушки, которая сейчас закрыта на ремонт. Минует продуктовый на углу, раньше его держал добродушный, но немного рассеянный мужичок, казалось, он все время спит за прилавком, а теперь вот, похоже, окончательно его прикрыл. Проходит мимо висящих на цепочках вывесок «Оздоровительный тайский массаж», «Парикмахерская K & N», мимо башнеобразного зеленого уличного писсуара и доски объявлений, на ней развешаны ксерокопии формата A4 с рекламой выгула собак («преданный друг собак с 1957!»), феминистского стендапа, починки велосипедов и занятий зумбой. Дальше у него на пути станция метро, обанкротившаяся кофейня, разорившаяся прачечная. Он уже готов кивнуть в сторону того места, где днем сидит попрошайка, но сейчас там пусто, лежат только несколько пледов, пустая миска да обрывок картонки с фотографией попрошайкиных детей. Сын поворачивает направо, на пешеходную улицу, по заасфальтированной, а до недавнего времени гравиевой дорожке минует большое футбольное поле с искусственной травой, красный домик с раздевалками и рощицу. В рощице дорожку уже несколько дней перегораживает поваленное ветром дерево, которое все не могут убрать. Он проходит квартал с виллами, перекрестки с круговым движением, потом стройку.
– Ну что, встретил его? – в полудреме спрашивает жена, когда он забирается в постель и ложится рядом с ней.
– Не сегодня, – шепчет он.
II. Четверг
Дедушка, всеми забытый папа, ждет автобус из аэропорта, а того все нет. Он болен. Он умирает. Он выкашливает легкие. Он почти ослеп и вряд ли переживет эту ночь. А во всем дети виноваты. Пропади она пропадом, эта окаянная страна с ее промозглой осенью, бессовестными ценами на такси и нагоняющими тоску телеканалами. Он до сих пор помнит, что показывали по телеку, когда он только сюда переехал. Сначала – прогноз погоды, потом передача для детей: два разноцветных носка с бусинками вместо глаз и ручками как у скелетов уверяют, что классовая борьба очень важна для достижения общественной гармонии. Потом – снова погода. Потом – передача под названием «Доска объявлений», в ней власти раздавали советы о том, что делать при ожогах у ребенка (отведите ребенка в душ, подставьте место ожога на двадцать минут под прохладную, но не холодную воду, не снимая с ребенка одежду), после этого ‒ сюжет о том, как важно иметь при себе спасательные шипы, когда катаешься на лыжах или коньках, потом – выпуск новостей, потом – прогноз погоды, потом – вечерний фильм, и всегда, в ста из ста случаев, документальный фильм о каких-нибудь латиноамериканских поэтах или украинских пчеловодах. И все же он просиживал ночи напролет в компании включенного телевизора, когда не мог уснуть. И хотя чувствовал он себя одиноко, он не был один, ведь у него была она. Это ради нее он сюда приехал. Она заставила его все бросить. Никакой свободы выбора у него не было.
Любовь – это противоположность свободе выбора. Любовь на 100 процентов недемократична, 99 процентов голосуют за того усатого в военной форме и с военным прошлым, чей портрет висит в каждой табачной лавке, на всех проспектах, в каждой парикмахерской, в каждой забегаловке до тех пор, пока не вспыхнет революция, тогда все эти портреты выкидывают вон, топчут и жгут, вместо них вешают портрет другого усатого – в военной форме и с военным прошлым, который твердит, что тот, предыдущий, с усами и военным прошлым был ненастоящим вождем, он был продажный и заботился о стране не так, как она того заслуживала. Любовь – это диктатура, думает папа, а диктатура – это хорошо, потому что абсолютно счастлив он был как раз, когда у него было меньше всего свободы, когда он знал, что погибнет, если ее не будет рядом. Ее. Его жены. Его бывшей жены. А из той неудавшейся революции он извлек по крайней мере один урок – ситуация, когда власть в руках у сильной личности, имеет свои преимущества. Голоса отдельных людей не имеют никакой ценности.
Люди – идиоты. Люди, они как муравьи. Они не знают, что для них лучше. Их нужно контролировать, чтобы они не понастроили повсюду свои муравейники и не заползли в чужие дачные домики. Он не помнит, кто это сказал. Может, он и сам это придумал. Очень может быть, ведь он на сто процентов умнее ста процентов населения Земли. Он знает такое, о чем обычные люди даже и подумать не смеют. Он знает, что китайцы скоро захватят весь мир. Он знает, что девять из десяти заправил мировых СМИ – евреи. Он знает, что за атакой на Всемирный торговый центр стояло ЦРУ. Он знает, что НАСА провернуло бутафорскую высадку на Луну, что ФБР убило Малкольма Икса, Мартина Лютера Кинга, Джона Кеннеди, Джона Леннона и Джей Ар Юинга[5]. Он знает, что банки хотят, чтобы мы платили картами, чтобы следить за нами, так они будут знать, где мы находимся, получат полный контроль над каждым маленьким человечком и смогут управлять нами точь-в-точь как муравьями. Но люди не муравьи. Люди умнее муравьев, мы больше муравьев, у нас развитый интеллект, язык, две ноги вместо шести, руки вместо усиков, мы существа прямоходящие, а не ползающие на брюхе, и это лишь некоторые из множества доводов в пользу того, почему люди никогда не согласятся, чтобы ими управлял какой-то там диктатор.
Дедушка попытался втолковать все это женщине, которой посчастливилось сидеть рядом с ним в самолете. Его познания произвели на нее неизгладимое впечатление.
Но ее ограниченный интеллект не в силах был освоить весь этот поток информации. После ужина она принялась зевать и заявила, что ей необходимо вздремнуть.
– Ну поспи, – сказал дедушка, который уже выпил две бутылочки вина, а третью припрятал в ручную кладь. – Сладких снов. Правду лучше вкушать малыми дозами.
Женщина надела наушники и мгновенно уснула.
И вот он стоит на тротуаре, обдуваемый косым ветром. Приближается машина. Неужели? Быть того не может! Но нет, это не дети. Сын сейчас дома и слушает музыку, которая и не музыка вовсе. А дочь шляется где-то и пьет с кем попало. Они думают только о себе. Дедушка узнает женщину в машине. Она сидела рядом с ним в самолете. Их взгляды встречаются. Она говорит что-то мужчине за рулем. Она говорит:
– Останови машину, дорогой! Это же тот интереснейший человек, с которым мне довелось побеседовать в самолете, тот оригинальный философ. Ты только посмотри, какой у него усталый вид. Давай подвезем его до дома, чтоб он не стоял на ветру и не ждал автобуса.
Дедушка улыбается и приподнимает руку, чтоб загородиться от света фар. Женщина отводит взгляд в сторону. Парень за рулем наклоняется вперед и встречается с ним глазами, а потом дает по газам перед выездом на шоссе.
Каким-то чудом папе, который дедушка, удается сесть на автобус до Сититерминалена. Из последних сил он доволакивает чемодан до красной линии метро. Стрелка часов приближается к половине второго, когда он наконец сходит с поезда на нужной станции и поднимает багаж вверх по лестнице, воспользовавшись помощью симпатичного бородача в оранжевых наушниках и с подозрительно расширенными зрачками.
Дедушка идет через рощицу, мимо продуктового магазина, мимо местной пивной. Он останавливается перед подъездом, где расположена контора сына. Поднять сумки вверх по лестнице ему уже невмоготу. Он сдается. Бессильно опускается на корточки. Потом распрямляет плечи и собирает силы в кулак. И их хватает. Их хватает впритык. Он открывает дверь парадной и неимоверным усилием затаскивает сумки на первый этаж. А потом засыпает на диване прямо в одежде. Он не успевает поставить мобильник на зарядку. Не успевает почистить зубы. Он успевает только включить телеканал TV4 и настроить громкость так, чтобы звук не мешал ему заснуть.
* * *
Сын, у которого отпуск по уходу за детьми[6], просыпается без десяти четыре, если день не задался, и в полпятого, если повезет. Младший, которому годик, обычно просыпается первым, иногда его удается занять на время, подсунув в кроватку книжку-малышку или мягкую игрушку, но терпения у него чаще всего хватает минут на пятнадцать, а потом он все равно просится на руки. Он поднимается на ноги в кроватке и указывает на дверь. Громко мычит. Выжимает из себя в подгузник утреннюю порцию какашек, и теперь в любой момент может случиться протечка. Когда папа наконец включает свет, младший начинает хохотать и пытается перевалиться через перегородку кроватки. Старшая, которой четыре, просыпается часов в пять, она выходит из своей комнаты всклокоченная и щурится спросонок. В руках у нее рожок, она до сих пор с ним не расстается, иногда папа уговаривает ее попить из стакана, пластиковой чашки или классной спортивной бутылки. Но дочка от всего отказывается. Ей нужен рожок.
– Да не приставай ты к ней, – говорит мама. – Это же ее последняя грудничковая вещица.
И папа не пристает. Но все же ему хочется, чтобы она перестала сосать рожок. И он говорит, что если везде таскать его с собой, то вполне вероятно, что когда ребята в садике увидят рожок, то начнут дразнить ее. Станут обзывать пеленашкой или лялечкой с соской или еще как-нибудь обидно, поэтому-то я и думаю, что тебе пора завязывать с рожком. Дочка глядит на него и передергивает плечиками.
– А мне-то что, – говорит она и затыкает рожок себе за пояс пижамных штанов как пистолет.
– Ясно тебе? – произносит мама, которая вышла из душа с мокрыми волосами и наливает себе кофе из кофеварки.
– Яблочко от яблоньки, – отвечает папа.
– Ну в этом-то отношении яблочко еще как далеко откатилось от папиной яблоньки, – отвечает жена.
Она смеется и быстро целует его в щеку.
– Буду дома часов в пять, – говорит она и допивает кофе, стоя на кухне, у мойки.
«Ты ни разу не возвращалась в пять», – думает он, но вслух ничего не говорит.
– Напиши, если надо что-то купить, – говорит она.
– Все нормально, – отвечает он. – Сам справлюсь.
Она направляется к метро, сумка у нее новая, прическа тоже, на ней пальто, перчатки, да и вообще вид у нее весьма профессиональный, когда она ускользает из дома в большой мир. А он остается в своем хаотичном кухонном мирке. На нем домашний халат, на плечо халата срыгнул младший, а старшая оставила отпечаток вымазанной кашей ладошки на кармане. Младший, которому годик, носится вокруг с ходунками и ревет от досады всякий раз, как застревает на ковре или в каком-нибудь углу. Старшая, которой четыре, хочет, чтобы папа пошел с ней в туалет, ей надо покакать, но смотреть на нее, пока она какает, нельзя, так что надо стоять рядом, но спиной к ней, потому что одной ей в туалете страшно. Младший, которому годик, вскарабкивается на диван и пытается стянуть со стены картину в раме. Старшая, которой четыре, хочет читать сказку, страшную, но не очень, чтобы младший, которому годик, побоялся ее слушать. Младший, которому годик, снова какает, старшая хочет посмотреть на какашки. Младший не может спокойно лежать на пеленальном столике, и папа просит старшую, которой четыре, принести младшему игрушку, она приносит игрушечного тролля с ярко-сиреневыми волосами. Папа говорит дочке «спасибо», младший глядит на тролля и скидывает его с пеленальника на пол, как глубинную бомбу, но пол оказывается совсем не полом, а унитазом с открытой крышкой, тролль пикирует прямо в унитаз, его шевелюра вытягивается в воде длинной полосой, тролль трупом лежит на воде лицом вниз, старшая сначала хохочет как ненормальная, потом заливается слезами, папа берет влажные салфетки и оттирает зеленовато-желтую жижу с рук, с белой непромокаемой простынки на столике, с попки младшего, потом надевает ему новый подгузник и пытается отвлечь, одновременно он утешает старшую и насаживает на правую руку полиэтиленовый пакет, чтобы выудить тролля из унитаза. Младший, которому годик, поднимается на ножки, держась за комод в прихожей, и ревет от восторга, потому что не упал. Старшая пытается помочь ему ходить, но вместо этого роняет. Младший, которому годик, рыдает. Старшая, которой четыре, хохочет. Младший кусает старшую за ногу. Старшая рыдает. Младший ретируется. Они находят его под столом в гостиной с двумя пластмассовыми бусинами во рту.
Папа относит младшего в комнату старшей. Всем пора одеваться. Старшая, которой четыре, хочет надеть шорты и футбольную майку. Папа объясняет, что уже зима, во всяком случае поздняя осень. Она хочет надеть шорты под штаны. Папа сдается. Младший, которому годик, снова уползает. Они находят его в спальне у прикроватного столика с острыми металлическими углами, ему уже удалось сковырнуть с одного пластиковую накладку, которая была там именно потому, что угол слишком острый. Старшая, которой четыре, хочет поиграть в Лего-дупло, только с папой, без младшего.
Все играют в Лего-дупло. Все, кроме младшего, который сидит в сторонке с чересчур довольным выражением лица, которое выдает, что он явно запихнул себе что-то в рот. Папа вытаскивает у него изо рта мамину ушную затычку. Младший, которому годик, начинает орать. Старшая, которой четыре, строит гараж. Младший сносит гараж. Старшая запускает в младшего мячиком. Младший решает, что это такая игра, берет мячик и приносит его старшей. Старшая прячет мячик.
Младший находит шину от Лего-машинки и запихивает себе в рот. Папа вытаскивает шину у него изо рта той же рукой, которую десять минут назад опускал в унитаз. Старшая, которой четыре, говорит, что ей надоело играть в Лего. Младший трет глаза. Папа смотрит на часы и понимает, что сможет сдать старшую в садик еще только через полтора часа. Он мечтает о том, чтобы время двигалось быстрее и чтобы в садике освободилось место для младшего. Иногда во время предзавтрака, который они едят как закуску перед завтраком, который старшая ест в садике, папа пытается поговорить со старшей на взрослые темы. Он достает газету и показывает ей фото филиппинского президента. Он объясняет, что значит беспорядки. Что гуманитарная помощь необходима людям, которые испытывают недостаток в еде. Старшая, которой четыре, кивает, судя по ее виду, она все поняла. Потом она говорит, что все, у кого на горле повязана веревка, – президенты. Папа согласен.
– Очень часто, если видишь в газете кого-то в галстуке, это президент или хотя бы политик, – говорит папа.
После предзавтрака они переодеваются, потому что испачкались. Потом играют в исследователей космоса, или в семейство тигров, или в полицейского и вора, или в поджигателя и пожарного, или в бегемотов, которые топочут ногами, чтобы показать всем, что разозлились и сейчас забодают. Потом он в последний раз меняет младшему подгузник, и им пора выходить в садик. Старшая, которой четыре, одевается сама, и все, что они делают, превращается в соревнование: кто первый наденет флиску, тот выиграл.
– Я победила! – кричит старшая.
Кто первый наденет комбинезон.
– Я опять победила! – кричит старшая.
Кто первый нажмет на кнопку лифта.
– Я точно самая быстрая на свете, – говорит старшая, и папа кивает, папа согласен, старшая действительно невероятно быстрая, ужасно сообразительная и молодец во всем, в чем только можно быть молодцом. И все же. Где-то глубоко внутри себя папа слышит шепоток: «Ну и черт с тобой. Ничего ты не лучшая во всем. Я бы мог одеться быстро-быстро, если бы только захотел. Я тебя в два счета уделаю, если только постараюсь. Я гораздо лучше тебя считаю в уме, потому что мне не надо складывать на пальцах три и два. Ах, ты знаешь все буквы и поэтому все от тебя в таком восторге? Да я их тоже знаю. Вообще все. Гораздо лучше, чем ты».
Они выходят из лифта, останавливаются погладить кота по имени Ельцин и катят коляску в горку вверх по улице мимо маленькой площади с фонтанчиком для птиц, вокруг нее разместились поликлиника, кафе, три парикмахерские, салон педикюра и дом престарелых. Младший, которому годик, трет глаза. Старшая, которой четыре, скачет впереди. «Просим вас надевать по две пары бахил», гласит табличка в раздевалке. Но папа никогда не надевает две пары, ему это кажется чрезмерным расточительством, во всяком случае, если на улице сухо. Он держит младшего на руках, здоровается с родителями, с которыми всегда здоровается, но никогда не заводит беседу. Старшая бежит в группу и оказывается там, как раз когда Леффе выкатывает тележку с завтраком. Вовремя он ее привел. Старшая, которой четыре, плюхается на стул между двумя одногруппниками и машет ему рукой в знак прощания. Папа спрашивает воспитателей, как у них дела. Здоровается с уборщиком. Потом становится за стеклянной дверью и комично высовывается из-за угла, чтобы старшая рассмеялась. Он делает так один раз. Второй. Третий. На четвертый дочь устает. Хотя папа, выглядывая, каждый раз корчит новую гримасу. Папа возвращается в раздевалку. Он хочет только одного: чтобы дочка посмотрела на него и подумала, что он прикольный. И чтобы ее друзья подумали, что он хороший папа. И родители друзей. И воспитатели. И уборщик. Он с трудом стаскивает с себя бахилы и по пути к коляске с полусонным младшим на руках размышляет о том, что это уже совсем клиника, раз он не может даже ребенка в садик сдать, не пытаясь кому-то что-то доказать, а это, в свою очередь, лишний раз говорит о том, что он не в себе, вышел из строя, в его жизни стряслось что-то такое, что могло бы объяснить, почему ему так нелегко даются дела, с которыми обычные люди справляются вообще не напрягаясь.
Младший, которому годик, засыпает лежа в коляске. Папа идет к воде посмотреть на уток. Парочки пенсионеров прогуливаются под руку. Мамы в родительском отпуске заняли скамеечки на солнечной стороне и грызут яблоки, выставив ногу на заднее колесо детских колясок. Две собаки резвятся внизу на набережной. Трава побелела от легкого налета инея. Гравий на дорожке замерз, как обычно бывает при нулевой температуре. На сына, который папа, внезапно снисходит умиротворение. Дочка в садике. Сын уснул. Он справился. Еще одно самое обычное утро буднего дня. Из тех, с которыми остальные родители справляются без всяких проблем, а он со стиснутыми зубами. Но сегодня все получилось. И завтра тоже получится.
Он чувствует, что готов позвонить папе. Он достает телефон. Набирает папин шведский номер. Нет ответа. Посылает эсэмэску и прячет телефон. Звонит опять. Он ходит взад и вперед у воды, изучает список дел к дочкиному дню рождения, пытается отвлечься, наблюдая за утками, пенсионерами, мамочками, но думать может только о папе, папе, который не отвечает на звонки и которого, может, уже и в живых-то нет. Он пытается успокоиться. Успокаивается. Заходит в кафе, оставив у входа коляску со спящим сыном. Он не переживает, ничего не может случиться. Он доверяет вселенной, но на всякий случай накрепко пристегивает коляску замком к стоящему снаружи столику. Так все родители поступают. Что же в этом странного, если человек хочет быть чуть осмотрительнее, ведь он в ответе за годовалого малыша. Он возвращается с бумажным стаканчиком в руке. Светит солнце. Он идет обратно к воде. По ту сторону залива видна расщелина в скале. Можно зайти прямо внутрь нее, посмотреть в небо и увидеть облака в совершенно ином ракурсе: в обрамлении кромки скал. Слева от него расположились бункеры, в которых Альфред Нобель проводил свои испытания. Здесь он взрывал динамит на безопасном расстоянии от сограждан. На стоящем тут же информационном щите папа вычитывает, что на этом месте производили 16 000 кг нитроглицерина, но после смертоносных взрывов 1868 и 1874 годов производство перенесли на южную сторону залива и отгородили защитной насыпью. Он не сомневается, что забудет: проход в насыпи напоминает кривозубую физиономию, а табличка с английским текстом едва читается от ржавчины. Зато он запомнит цифры, даты, точное количество нитроглицерина. Он идет дальше по гравиевой дорожке. Коляска бесшумно выруливает на дощатую набережную. Он останавливается в самом ее конце. Делает глубокий вдох. Он пытается вобрать в себя все, что видит: воду, небо, ветер, острова, горизонт, лодки, волны, птиц. Кто-то другой наверняка сумел бы это описать. А он не может. Зато он может стоять здесь и ощущать себя частью всего этого. Потом он берет телефон и звонит папе. Ему снова никто не отвечает.
* * *
Сестра, которая не знает лично никого из сотрудников аптеки, все равно предпочитает подождать снаружи.
– Ну почему нельзя пойти туда вместе? – удивляется тот, который, похоже, считает себя ее парнем.
– Потому что я хочу остаться здесь, – отвечает она и не трогается с места.
– Но почему? – спрашивает он.
– Потому, – говорит она.
– Тебе сколько лет вообще? – бросает он и заходит внутрь.
Но при этом как всегда улыбается и произносит это с такой игривой интонацией, что фраза, которую можно было бы принять за оскорбление, звучит как комплимент. Так сколько же ей? В любом случае многовато, чтобы проводить время с кем-то вроде него и чтобы делать то, чего ей делать не хочется. Больше никогда. Как-то по молодости ее в такое втянули, и теперь она все знает о последствиях.
Она доходит до автобусной остановки и начинает звонить папе. Никто не отвечает. Сквозь витрину видно, как ее парень заходит в аптеку. С этой его неподражаемой манерой держаться. Так непринужденно может двигаться разве что человек, только что завоевавший «золото» на Олимпиаде. Продавщица здоровается с ним, но он поглощен изучением надписей над стеллажами. Он изучает их прищурившись. Сначала подходит к стеллажу, где выставлены товары для гигиены полости рта, потом уточняет что-то у продавщицы и переходит к стеллажу с презервативами, средствами экстренной контрацепции и тестами на беременность. Читает инструкции от одинаковых с виду упаковок. Потом берет обе на кассу и расплачивается.
– Ты однозначно социопат, – заявляет она, когда он возвращается, неся упаковки в маленьком зеленом пакетике.
– А теперь-то что? – спрашивает он.
– Ты видел, как она с тобой поздоровалась?
– Кто? – удивляется он.
– Тетка на кассе. Когда ты вошел, я видела, как она сказала тебе «здрасьте», а ты просто прошел мимо.
– И ты это отсюда увидела? – спрашивает он. – Ну и кто из нас после этого социопат?
Он улыбается и протягивает ей пакетик. Они идут к ней домой. Она поднимается на лифте. Он по лестнице. Все как всегда.
На первой же совместной прогулке она постаралась втолковать ему, что как бы хорошо им ни было в постели, как бы им ни нравилось проводить время вместе, вдвоем смотреть сериалы, просыпаться бок о бок, серьезные отношения ее мало привлекают.
– Давай сразу условимся, – сказала она. – У нас с тобой взрослые отношения, не более того. Просто способ удовлетворять потребности друг друга.
Хотя вести серьезную беседу с человеком, который всю дорогу подыскивал какую-нибудь палку, чтобы ее сломать, было не слишком-то комфортно. Он то и дело подбирал с земли камни и метал их в другие лежащие вдоль дорожки камни.
– Эй, ты меня вообще слушаешь? – с просила она.
– Разумеется, – ответил он и указал пальцем на громадный муравейник.
– Ты понимаешь, что я пытаюсь тебе сказать? – спросила она.
– Безусловно, – ответил он. – Я чувствую то же самое. А это еще что?
Он ткнул в сторону оранжевого дорожного конуса с основанием из асфальта, который стоял посреди леса.
– Как же меня это достало, – с казал он, подхватил конус и потащил его назад на парковку.
Несколькими неделями позже она предприняла повторную попытку. Заявила, что не испытывает к нему любви. И едва ли это можно назвать влюбленностью. Сказала, что да, конечно, они спят вместе чуть не каждую ночь со дня встречи, но у нее нет времени на бойфренда, она не хочет себя связывать, она дорожит своей карьерой и свободу свою ценит превыше всего. У нее дедлайны, которые нужно соблюдать, клиенты, которых надо умасливать и начальство, на которое надо производить впечатление, а еще друзья, с которыми надо встречаться. Друзья, которые ей гораздо ближе, которые не младше ее на семь лет и которые отнюдь не разделяют его любовь чилить и тюленить, качать мышцы и тыриться в эти нескончаемые русские немые фильмы.
– Да ладно тебе, это же последний фильм Евгения Бауэра, – ответил он и ткнул пальцем в экран, где действие разворачивалось так медленно, что и не разберешь, а не поставил ли он фильм вообще на паузу. Она объяснила ему, что они вовсе никакая не пара. Он посмотрел на нее большими карими глазами.
– Ты меня любишь, – констатировал он.
– Вот уж нет, – ответила она.
– Вот уж да, просто ты пока не поняла этого, – с казал он и впервые не улыбнулся.
Они встречалось уже месяц, когда она позвала его с собой на вечеринку, которую организовала ее фирма. У «Слюссена»[7]они загрузились в автобус, лучи солнца наискосок скользили по окнам, его татуировки поблескивали. Автобус проезжал мимо паромного терминала «Викинг Лайн», когда она сказала, что у нее есть сын. Он открыл рот и не закрывал его еще несколько секунд.
– У тебя есть дети? – переспросил он. – Почему ты ничего не говорила?
– Ты не спрашивал, – ответила она.
– Обычно такое само по себе выясняется, – сказал он.
– Со мной необычно, – о тветила она. – Д авно уже должен был понять.
– Как его зовут?
Она посмотрела в окно. Потом выдавила из себя имя сына. Пока она произносила эти два слога, он лежал новорожденный у нее на руках, спал, уткнувшись носиком ей в шею, тянул к ней ручки, когда она приходила забирать его из садика, спотыкался на тренировке по гандболу и прихрамывая покидал поле с наигранно драматичным выражением лица, приходил домой из школы с расстегнутым рюкзаком и спрашивал, не против ли она, что он перекусил у друга.
– Красивое имя, – сказал не ее парень.
– Пора выходить, – о тветила она, поднимаясь с места.
На горке, пока они шли вниз к площадке для игры в буль[8], она выпустила его руку. Обнялась со своими надушенными коллегами, чмокнула в щеку босса, у которого на шее красовался шарфик, а его представила не как своего парня, а просто как приятеля. Фирма угощала напитками, закусками и бесплатной игрой в буль. Это был эксперимент. Заведомо неудачный. Но как ни странно, все сработало. Он не знал ничьих имен, при этом сумел организовать всех и провести турнир по булю. Он очаровал босса, сказав, что тот так мастерски играет в буль, что вполне мог бы завязать себе глаза шарфиком. Когда он отошел в туалет, двое коллег, и женщина, и мужчина, по очереди подошли к ней и поинтересовались, встречается ли он с кем-то.
– К сожалению, да, – ответила она, сама толком не понимая, с чего бы.
Солнце зашло, осела поднятая игральными шарами пыль, а он минут десять болтал с их практикантом о Рене[9]и о том, насколько он переоценен. Практикант, судя по всему, тоже когда-то изучал киноведение. Мост в сторону города разводили с равными промежутками времени, чтобы открыть проход парусникам с высокими мачтами. По ту сторону канала раздавалось вибрирующее уханье басов.
– Мы не на той стороне, – шепнул он ей на ухо и указал на молодых ребят с пластиковыми пакетами, которые тянулись в направлении звучавшей вдалеке музыки, уткнувшись в мобильники как в компасы.
Они были вместе, хотя нет, не вместе, скорее рядом друг с другом, уже полгода, когда она наконец рассказала ему, почему сын больше не живет с ней. Все началось, когда ему исполнилось двенадцать. Хотя нет, вообще-то все началось, еще когда он был у нее в животе. Своего бывшего мужа она встретила, когда ей было девятнадцать, а ему тридцать пять. Спустя год они поженились. Вначале он был просто предел мечтаний. Ну разве что немного ревнивый. Хотел проверять ее телефон, когда она возвращалась с вечеринок. Иногда вдруг объявлялся в дверях университетских аудиторий, где она занималась, чтобы поцеловать ее, а заодно чтобы она представила его парням, с которыми пишет курсовую. Если она ходила в кафе с друзьями, то на выходе обнаруживала семнадцать пропущенных вызовов. Но она объясняла все это его страхом потерять ее. Он слишком ее любит и поэтому цепляется за нее. Потом она забеременела. Он вбил себе в голову, что она нарочно ест то, что может повредить ребенку. Стал инспектировать мусорное ведро, чтобы проконтролировать, не ела ли она суши. Обнюхивать стаканы на кухне, чтобы убедиться, что она не пила тайком спиртное. А однажды отобрал у нее ключи и запер в их общей квартире. В другой раз разбил стекло в прачечной и угрожал порезать себя, если она не пообещает отменить запланированный девичник для подруги с поездкой в Копенгаген. Бывало, она высчитывала недели и размышляла, не лучше ли избавиться от ребенка. Но это оказалось невозможно. Она не могла. Внутри нее зрела жизнь, и она не сомневалась, что ребенок поможет мужу ощутить уверенность, которой ему так не хватало. Потом ребенок перестал расти в животе. Как будто чувствовал, что мир недостаточно безопасен. Бывший муж во всем винил ее, она – его. Когда младенец наконец появился на свет, сильный и здоровый, они продержались вместе еще полгода, а потом развелись. Дальше были суды, споры об опеке, разбирательства с социальной службой, встречи с адвокатами. Оба хотели получить исключительное право опеки, она переживала, что с сыном случится беда, если он останется с отцом, он был убежден, что она избивает ребенка у себя дома.
– Но это же все враки, да? – спросил парень, который, похоже, считал, что они вместе.
Она взглянула на него.
– Надеюсь, ты шутишь… Неужели ты думаешь, что я способна причинить вред собственному ребенку? – поинтересовалась она. – Я вспыльчивая. И разозлиться могу. Могу быть резкой. Но я никогда, никогда в жизни не била своего сына. Никогда-никогда-никогда-никогда. А муж внушил ему, что я его ударила, когда он был маленьким. Он внушил ему фальшивые воспоминания, и, как только сыну исполнилось двенадцать, он переехал к отцу[10]. Но у нас с ним все наладится. Я знаю. Нисколько в этом не сомневаюсь.
Ее парень прижал ее к себе, и в его объятиях мир опять стал казаться надежным, он зарылся носом в ее волосы, и она почувствовала себя исцеленной.
– Если хочешь, я охотно потолкую с твоим бывшим, – сказал он.
– Ни к чему хорошему это не приведет, – ответила она.
– Отец бил меня не меньше раза в неделю, – начал он. – Иногда мне попадало за дело. А иногда казалось, что он просто использует меня, чтобы выплеснуть какую-то темную энергию, что ли. Словно это была еженедельная тренировка. Он мог зайти ко мне в комнату со шлепанцем в руке в надежде найти повод меня проучить. Если ему на глаза попадалась контрольная с оценкой ниже удовлетворительного балла[11], он меня лупил. Если он находил пыль на люстре, давал оплеуху. Если обнаруживал, что на тренировке я поцарапал новые бутсы, – несколько затрещин.
– А сейчас вы поддерживаете с ним отношения? – спросила она.
– В последний раз мы виделись в две тысячи девятом перед Рождеством в «Герон Сити»[12]. Я был с друзьями, мы ходили в кино, а потом их дети захотели поиграть на каком-то оранжевом игровом автомате на входе, и вот стоим мы перед лифтами в очереди к нему, и я замечаю, как отец выходит из спортивного магазина по ту сторону фонтана. А ну-ка подержи куртку, прошу я одного из приятелей, который даже не представляет, что будет дальше. Я подхожу к отцу и выкладываю ему все, что думаю про то дерьмо, которое он вытворял с нами все эти годы, про все унижения, побои, пинки, ругань. И знаешь, что он мне на это ответил?
Она помотала головой.
– Что мы не заслуживали его внимания. Что мы с братьями и мамой должны были спасибо ему сказать, что он тратил на нас свое время, пытаясь из нас людей воспитать. Клянусь. А что дальше было, я почти не помню. Друзья сказали, что он даже прикрыться не успел, как я врезал ему раза три-четыре, он упал навзничь, спиной на витрину, выронил свой пакетик, я его, наверное, подобрал и дал ему в руки, а потом поднял этого гада и понес к фонтану. Друзья рассказывали, что я нес его вот так, прямо над собой, как в реслинге, как будто собирался сбросить с высоты своего роста или сломать ему позвоночник о колено, но потом, наверное, заметил, что фонтан недостаточно глубокий. Я усадил его, пнул хорошенько в зад и велел сматываться. Потом вернулся обратно в очередь и забрал куртку. Мои приятели говорили, что отец оторопел, потому что я оказался сильнее. С тех пор я его больше не видел.
– Ты что, ненормальный? – с казала она. – Ты побил собственного отца…
– Это он нас бил, – ответил он. – А я просто дал сдачи.
Она еще только выходит из лифта, а он уже в квартире, уже стянул ботинки, не развязывая шнурков, поставил чайник и достал две чашки. Шестой этаж, а он даже не запыхался.
– Тебе еще подлить? – с прашивает он, кивая в сторону чашек.
– Спасибо, мне хватит, – отвечает она.
– И что мы дальше делаем? – интересуется он.
– Угадай, – говорит она.
– Хочешь, я с тобой? – предлагает он.
– Спасибо, не надо, – отвечает она и направляется в туалет.
В одной упаковке два теста, в другой один. Инструкции простые. Пописать сюда. Подождать минуту. Плюсик – значит будущему конец. Та жизнь, к которой ты привыкла, закончилась. С этого момента ты никогда не будешь одна, не будет тебе покоя, и даже когда тебе хорошо, всегда может случиться так, что тому, кто наполовину ты, плохо. Минус – значит все останется, как прежде. Она вынимает все три теста, писает на каждую полоску и кладет сушиться на раковину.
– Ну, ты готова? – кричит он из-за двери. – Что там видно? Открой! Эй, открой же!
Она смотрит на свое отражение в зеркале. Ей не нужно смотреть на тесты. В глубине души она уже знает.
– Эй! – кричит он. – Там плюс или минус? Милая, открой, пусти меня. Нельзя так, это же нас обоих касается.
Тесты лежат на раковине.
– Слушай, я сейчас дверь выломаю, если не откроешь, я серьезно, открой немедленно.
Она смотрит на тесты. Дверной замок поворачивают с наружной стороны. Он кладет на раковину столовый нож и берет тесты. Держит их перед собой веером.
– Вот же черт, – произносит он с улыбкой.
* * *
Дедушка, который папа, спит по тринадцать часов, если фоном гудит канал TV4. Но если вдруг вырубят электричество и телевизор отключится, он сразу проснется. Мобильник дребезжит через равные промежутки времени, но он не в состоянии ответить. Все равно он не видит, кто звонит. Цифры на телефоне такие крошечные. Сколько ни щурься, видны только размытые черточки.
Он просыпается к обеду. Измеряет сахар, вкалывает инсулин. Надев очки для чтения, пытается просмотреть пропущенные звонки. Но телефон у него еще доледникового периода и экран размером с клеща, а записная книжка такая мудреная, что нужно пройти курс компьютерных технологий в Королевском технологическом университете[13], чтобы научиться вводить туда имена и телефоны, так что он понятия не имеет, кто звонил. Только надев еще одну пару очков для чтения поверх своих обычных, он различает в начале всех пропущенных номеров +46. Значит, это точно дети. Раскаиваются теперь, небось, что не встретили его в аэропорту. Он откладывает телефон в сторону. Тот продолжает надрываться. С каждым звонком он чувствует новый прилив сил. Их тревога дает ему почувствовать, что он еще жив.
Он смотрит «Гламур», потом «Охотников на дома в Дании». Часы показывают два. Часы показывают пять. Он смотрит розыгрыш лотереи и «В полвосьмого у меня», там обычные люди приглашают друг друга к себе в гости на ужин. Телефон молчит слишком долго. Он проверяет, не разрядился ли. В ту же секунду телефон начинает трезвонить.
– Алло? Привет, папа, – говорит один из детей.
Он не уверен, кто именно, потому что голоса у них похожие.
– Как ты? – спрашивает голос.
– Устал, – отвечает папа. – Очень устал.
– Мы немножко волновались, – отзывается голос.
– С глазами у меня плохо, – говорит папа. – Ноги болят. Кашляю всю ночь, спать совсем не могу.
– Сочувствую тебе, – отвечает голос. – Но ты уже в конторе? Долетел хорошо? Ключи нашел?
– Я здесь, – говорит папа. – Сам добрался. Умучился, но как-то дополз.
– Хорошо, – отвечает голос. – Я сейчас дома с детьми. Можем увидеться, если хочешь.
Папа мычит в ответ, понимая теперь, что разговаривает с сыном, а не с дочерью. С тем самым парнем, которому так подфартило заполучить папину квартиру, когда папа решил переехать за границу.
– Где почта? – спрашивает папа.
– Я ее на кухонном столе оставил. Там сверху записка.
– Какая записка?
– Ты что, не видел мою записку с приветствием?
Папа слезает с дивана и идет на кухню.
Он находит приветственную записку, выкидывает ее в помойное ведро под раковиной и начинает изучать почту, накопившуюся за шесть месяцев. В основном это бумаги из налоговой и банка. Служба телерадиовещания интересуется, правда ли, что у него нет телевизора[14]. «Викинг Лайн» предлагает дешевые круизы. Почтовая лотерея Швеции напоминает, что никогда не поздно стать миллионером или владельцем новенькой темно-зеленой «Вольво V60».
– Ты еще там? – спрашивает сын.
Отец мычит в ответ. Некоторое время оба молчат.
– Ну… может, тогда увидимся завтра? – говорит сын.
– Хорошая мысль, – отвечает папа.
– У воспитателей в садике планерка на весь день, так что мы с детьми будем дома. Я тебе напишу место и время.
– Лучше позвони, – говорит папа.
Оба вешают трубку.
Провиант в конторе мало чем отличается от тюремного. Если предположить, что тюрьмой заведует душегуб, который хочет уморить всех арестантов голодом. В шкафу нашлись несколько банок фасоли, коробка с остатками раскрошившихся кукурузных хлопьев, консервированные ананасы и упаковка с тремя баночками макрели. И все. Это еще счастье, что папа напомнил сыну купить кое-каких продуктов. Растворимого кофе. Кефира. Молока. Хлеба. Фруктов. А то пришлось бы ему начать с похода в магазин, а туда минут десять тащиться, да по ледку (если он приезжает осенью) или по слякоти (если он приезжает весной). Вместо большого пакета молока сын купил маленький. Хлеб купил из муки грубого помола, надпись на мешке гласит, что он вообще не содержит сахара. Упаковка растворимого кофе такая крошечная, что он не сразу находит ее в шкафу. Папа вздыхает. Ну почему сын у него такой скряга? Почему не гордится тем, что помогает отцу? Почему так афиширует свою нелюбовь к отцу? Папа и сам не знает. Но как же ему досадно, что все обстоит именно так.
Папа наливает себе кипятку в чашку, кладет две ложки кофе, добавляет немного молока и отправляется обратно к телевизору. Если верить табличке на двери, то сын у него консультант по налогообложению. Лет сто уже как получил престижную специальность экономиста. А контора похожа на наркоманский притон. У приличных экономистов офисы на верхних этажах небоскребов, окна с шикарными видами, сексапильные секретарши, капсульные кофемашины и минеральная вода в холодильнике хоть со вкусом малины, хоть со вкусом манго. Но его сын никогда не видел смысла в том, чтобы делать все как принято. Вместо этого он обставил свой офис шаткими книжными полками всех оттенков белого. Разложил по полкам дешевенькие папки для хранения документов. Журнальный столик заляпан кофейными отпечатками от чашек, а в центре чернеет отметина то ли от благовоний, то ли от сигарет. Куда ни брось взгляд, везде натыкаешься на следы его непутевости. В углу притулились микшерный пульт, завернутый в полиэтилен проигрыватель и синий магазинный ящик из-под молочных пакетов, нагруженный грампластинками с тех времен, когда сын мечтал стать музыкантом. Шкафы забиты скальными туфлями и страховочным снаряжением, которые сын накупил, когда возомнил себя альпинистом. На кухне трубки, насадки и стеклянные бутылки, а еще неиспользованные бутылочные крышки и какой-то специальный термометр с тех пор, когда сын собирался заняться пивоварением.
И все же худшее в его конторе – это книги. Они как паразиты. Они повсюду. Не только на до отказа забитых полках. Они кипами громоздятся на полу в прихожей, в мешках на полке для головных уборов, на кухонном подоконнике, поверх корзины для грязного белья в ванной. И вряд ли среди них найдется хоть одна об отчетности и налогообложении. Сын их накупил, когда думал, что может стать писателем. Португальские романы, чилийские повести, американские биографии знаменитостей, польская поэзия. Папа со вздохом перекладывает книги на пол. Он достаточно разбирается в литературе, чтобы отличать хорошие книги от хлама, а в этой конторе полно книг, которыми только печку растапливать. Эти книги никогда не оказывались в топе хоть каких-то рейтингов. По ним никто никогда не ставил кассовых блокбастеров со «Скалой» в главной роли. Папа к книгам равнодушен. Даже когда ему на глаза попадается книга того немецкого писателя, которым он зачитывался в юности, она не вызывает никаких приятных эмоций. Он откладывает книгу в сторону и шарит в поисках пульта от телевизора.
Весь вечер папа просиживает на диване. Переключает с канала на канал. Первый. Второй. Четвертый.
Иногда включает ненадолго местный кабельный. Или финские каналы. Звонит его шведский мобильник. Иногда он берет трубку, но чаще не отвечает. Он устал. Он умирает. Все равно он не видит, кто звонит. А сейчас вообще не может разговаривать, потому что Эллен Дедженерес в своем шоу как раз делится советами о том, как остаться друзьями с бывшей.
Его сын запутался. Совсем сбился с пути. Думает, что в этом мире можно добиться успеха, не выкладываясь по полной. Никогда он не понимал: чтобы заработать деньги, сперва надо их инвестировать. И что это за идиотские фирмы обращаются к его сыну? Кто по доброй воле станет отправлять свои счета в эту захламленную пещеру в расчете на квалифицированную помощь? Почему его сын по жизни такой никчемный?
Вечер плавно перетекает в ночь. Папа смотрит выпуск новостей по TV4. Потом по SVT. Смотрит программу о животных, там рассказывают о лягушках дождевого леса. Слышно, как сосед этажом выше откашливается через равные промежутки времени. Телевизор у него включен так громко, что звук проникает сквозь перекрытия, и это страшно бесит, если не смотреть тот же канал. А когда кто-то звонит в дверь к соседям по лестничной клетке, кажется, что это к нему. На третьем этаже живут наркоманы. Папа своими глазами видел. Ходят и трясутся от ломки, когда пытаются соскочить. Соседка по этажу промышляет проституцией. Папе об этом несложно было догадаться: внешность у нее азиатская и распорядок дня подозрительный, к тому же в дверь ей постоянно кто-то трезвонит.
Папа ненавидит это место. Он скучает по старой квартире. Однушке в центре, которая перешла сыну и которую тот затем продал задорого и даже не поделился с ним вырученными от сделки деньгами. Папа не собирается просиживать в этой съемной хибаре без лифта, с соседями – шлюхами и наркоманами, да еще с тем, сверху, который кашляет так, что потолок трясется. Он достоин лучшего. Не для того он надрывался всю жизнь, чтобы окончить ее на этом диване, который изо всех сил притворяется белым, спрятавшись под белым покрывалом, но вряд ли кого этим сможет обдурить. Ведь мало того, что сама накидка давно утратила свою белизну, так она еще постоянно норовит сползти с дивана, когда на нем кто-то спит.
* * *
Сын, который папа, наконец-то дозванивается до отца. На одиннадцатый раз папа берет трубку. Он в конторе. Все хорошо. Сын может выдохнуть и улыбнуться – зря он так переживал. Он радостно строчит эсэмэску, чтобы успокоить остальных членов семейства: «Орел в гнезде». «Славно», – откликается сестра. «Хорошо, что все хорошо», – пишет в ответ мама.
В три часа он забирает из садика старшую, которой четыре. Одевание и дорога до дома занимают у них от пятнадцати до сорока пяти минут.
– Чур, на трещины не наступать! – кричит старшая, и папа с дочкой на цыпочках скачут через площадь.
– Чур, только по гравию! – кричит старшая, и папа с дочкой перепрыгивают через бетонные плиты на площади.
– Чур, по листьям не ходить! – кричит старшая.
– Ну все, пошли, – говорит папа.
Иногда у старшей случается истерика, и тогда они могут добираться до дома часа полтора. Она будет останавливаться на мосту над рельсами метро. Схватится накрепко за прутья ограды моста. Будет кричать: «Вы все гадкие! Я вас не люблю! Не приходите на мой праздник!» Но папа не теряет хладнокровия. Он улыбается прохожим. Вспоминает видео, которое жена ему показывала. Там советовали не выходить из себя и оставаться спокойным и собранным, когда у ребенка случается истерика. Он представляет себе, что злость – это волны, они омывают его, но не могут сдвинуть с места. Он представляет себе, что находится в центре силового поля, на которое старшая не сможет повлиять. Папа кормит сидящего в коляске сына кусочками фруктов. Потом достает телефон и пытается изобразить, что так и планировал стоять тут, на мосту, ближайшие двадцать минут, пока старшая надрывается, а соседи, родители одногруппников, пенсионеры и собачники проходят мимо, поглощенные своими жизненными заботами. У дочки по щекам текут слезы. Младший смотрит на них с изумлением, словно пытается разгадать, что же тут происходит. Папа ждет немного. Потом еще немного. После этого в пятый раз пытается подойти к ней и уговорить, завлечь ее телевизором, фруктами, но ему сложно оставаться естественным, ведь у каждого окна есть глаза, в каждом проезжающем автомобиле сидят знакомые, коллеги по старой работе, бывшие подружки, школьные карьерные консультанты, социальные работники, и все они следят за каждым его движением, хотят знать, справится ли он, делают пометки у себя в блокнотиках и переглядываются понимающе, когда папа, потеряв терпение, хватает старшую за комбинезон и тащит домой под мышкой как дергающееся полено. Старшая то смеется, то плачет, а потом уже только плачет. Она издает душераздирающий протяжный вой, который эхом отзывается между многоэтажек и заставляет едущие мимо машины сбавить скорость. Когда на пути им встречается пара соседей, старшая кричит:
– Ай, папа, ты делаешь мне больно! Больно!
Папа притворяется невозмутимым, он улыбается соседям, строит из себя такого папу, каких ему доводилось видеть в метро, эти папы обмениваются взглядами с другими папами, когда их дети начинают визжать. Они тогда просто пожмут чуть растерянно плечами, уладят проблему и едут себе спокойно дальше. В отличие от него у этих пап не возникает импульсивного желания выйти из вагона, чтобы скрыться от взглядов окружающих, или всыпать ребенку, потому что надо, потому что он маленький, потому что так явно показывает, что без папы ему не обойтись.
Около пяти они обедают, в полшестого приходит мама, она извиняется за опоздание ‒ на красной линии метро случился сбой в расписании поездов.
– Надо же, какая неожиданность, – говорит он. – Если в следующий раз выйдешь с работы чуть раньше, может, будешь дома как раз к обеду.
– Хорошо, – отвечает она. – Давай ты будешь срываться на ком-то другом, ладно?
– Ни на ком я не срываюсь, – говорит он. – Просто мне все мои усилия кажутся совершенно неоправданными – я ведь с утра до вечера верчусь, отвожу, забираю, покупаю, готовлю, а потом приходишь ты такая вся вальсирующая на полчаса позже, чем надо, и такая…
– Милый, – перебивает она его. – Присядь. Поешь. Отдышись. А когда дети уснут, поговорим. Ты приготовил что-нибудь вкусненькое?
– Из того, что со вчера осталось, – отвечает папа.
Младший, которому годик, сидит в своем стульчике и ест сам, никому не позволяет себя кормить и требует, чтобы у него всегда было две ложки: одна, чтобы пихать еду в рот, другая, чтобы барабанить ею по столу, бросать на пол и тыкать в потолок. Для начала он съедает две вареные экологические морковки, потом миску кукурузы, потом спагетти с мясным соусом, потом пару фруктов, лучше всего идут мандарины, но их нужно нарезать на кусочки, потому что целая долька может застрять в горле, так говорит мама. С сосисками то же самое. Наевшись, он швыряет на пол остатки фруктов, макаронины, мясной соус – все летит на паркет и поливается водой из подтекающей кружки-непроливайки. Старшая, которой четыре, ест сама. Она взрослая. Кроме тех случаев, когда она сильно устала после садика. В последнее время она сильно устает после садика. И хочет, чтобы ее кормили. Ей хочется рассказать про Сикстена, который считает ее трусихой, просто потому что она не полезла на крышу. И про Анни, которой исполнилось пять, и про Бу, у которого всего две буквы в имени.
– Две буквы! – кричит старшая и удивленно трясет головой.
– Да уж, – отвечает папа. – Ну ты все же про еду не забывай.
– Да ем я, – говорит старшая и кладет голову на стол.
Папа и мама пытаются заново научиться ладить друг с другом. Они пробуют поддержать разговор. Она рассказывает что-то о коллеге, которому досталась по наследству собака, которая… младший дотягивается до стоящего на столе графина с водой и переворачивает его, папа встает, чтобы взять тряпку, старшая кубарем летит со стула, мама поднимает старшую, папа наклоняется, чтобы протереть пол и убрать остатки мясного соуса, младший вытирает руки об папины волосы, мама пытается закончить предложение про унаследованную собаку, старшая громко кричит «ку-ку ку-ку кукареку», мама говорит, чтобы она ела, а не баловалась, старшая отвечает, что не позовет маму на день рождения.
– Так вот. Как я говорила, – мама предпринимает последнюю попытку рассказать про своего коллегу Себастиана, которому досталась в наследство собака, но старшая запевает песенку «Буги Санта Клауса», а младший начинает голосить, потому что вся футболка у него заляпана остывшим мясным соусом. Ужин длится сорок пять минут, после чего кухня напоминает зону военных действий, а мама с папой едва успели перекинуться половиной фразы за все это время. Этот бардак мог бы рассмешить их, окажись они в другом, более подходящем месте. Они могли бы тогда покачать головами и воскликнуть: нам по шестьдесят пять, мы в Нью-Йорке, мы возвращаемся с вечернего концерта в Бруклинском музее и медленно бредем по Проспект-парку. Да! Я там! Нам по семьдесят и мы отправились в «пенсионерский» тур по Андалусии, с нами гид-швед, женатый на испанке, нас возят повсюду на туристском автобусе, как стадо овец, но за пару дней до отъезда мы сбегаем от остальной группы, покупаем травки и зависаем у себя в номере. Точно! Нам по восемьдесят, мы взбираемся на гору в Северной Норвегии, гора вообще-то больше похожа на холм и на вершину вполне можно заехать с нашими ходунками на колесиках, зато мы там вместе, пьем пиво в съемном домике в горах, мы старые, но до смерти нам еще далеко, жизнь продолжается, пройдет какое-то время, и мы станем скучать по этому ее этапу. Верно? Младший, которому годик, тянется к кухонной столешнице и достает до бутылки с соевым соусом.
– Не вздумай бросить на пол, – говорит мама.
– Апапапапап, – говорит папа.
Младший взвешивает в руке бутылку. Смотрит на старшую сестру. На родителей. Улыбается ‒ и бутылка летит на пол.
Они расходятся, чтобы посвятить время своим вечерним обязанностям. Один надевает памперс и пижаму на младшего, разводит ему кашку на ночь, чистит зубы. Другой занимается примерно тем же со старшей.
– Удачи, – говорят они друг другу. – До встречи после битвы.
Потом один отправляется к детской кроватке, которая стоит рядом с их кроватью, а другой – в детскую к двухъярусной кровати, где внизу спит старшая, а наверху устроен склад сломанных треков для гоночных машинок, еще там расшатанное пластмассовое пианино, деревянная лошадка-качалка, добротно сделанная, но пальцы ног ей прищемить очень просто, и целая куча всего того, что некуда больше положить: сломанный бинокль, три детских рюкзачка, износившийся костюм рождественского гнома, обычная одежда, из которой кто-то вырос, рисунки из садика, которые надо бы вставить в рамочку, чтобы не помялись, бумажные короны с нарисованными цифрами 3 и 4, которые старшая, которой четыре, надевала в садике в свои дни рождения. Процесс укладывания занимает от получаса до полутора. Они читают сказки. Подтыкают одеяло. Обнимают. Целуют на ночь. Пытаются тихонько выскользнуть из комнаты. Их зовут обратно.
Они приносят воды. Приносят горшок. Наконец один засыпает. Потом засыпает вторая. Младший нетерпеливо усаживается в кроватке, пока мама спит, прикорнув на коврике перед ней. Старшая выскальзывает в коридор, как только лежащий рядом с ней папа отключается. Но в конце концов где-то часов в семь-восемь засыпают оба ребенка. Тогда начинается родительское время.
– Давай попьем чайку и посидим в тишине, – говорят они, перейдя на кухню, и заводят ссору. Потому что один смог поспать на час больше другого. Потому что маму постоянно критикуют за ее стремление питаться экологически чистыми продуктами и попытки поменьше кормить детей мясом и молоком, а еще сахаром и глютеном. Потому что на папе лежит обязанность оплачивать все семейные счета.
– Так ведь это я отвечаю за весь семейный доход, – восклицает мама.
– Не за весь, – отвечает папа. – К тому же я сижу с детьми.
– А я работаю полный день, – отвечает мама. – Ну или пытаюсь работать полный день. Но это непросто, если мне в придачу приходится драить ванную, стирать, сушить белье, разбирать и складывать постиранное. Я готовлю по выходным, стригу детям ногти, я…
– А я пылесошу, – говорит папа. – И детский праздник я готовлю. И обновляю беспроводную сеть.
– Это что, так сложно, обновлять беспроводную сеть? – возмущается она.
– А еще я слив в ванне прочищаю, – продолжает он. – И больше ночей дежурю с детьми, чем ты.
– Что ты хочешь, чтобы я тебе на это ответила? – интересуется она и заглядывает в телефон, чтобы проверить, сколько у них осталось времени на спокойные посиделки вдвоем. – Спасибо? Ну спасибо тебе. Спасибо тебе огромное, что обновляешь сеть. И что слив прочищаешь. Но знаешь, я не понимаю, почему тебе так нужны все эти овации. Мы оба в ответе за семью. Мы помогаем друг другу. Но ты даже посуду из машины не можешь достать, не рассказав мне об этом.
– И что? – спрашивает он.
– Я не понимаю, что ты хочешь, чтобы я сделала, – отвечает она.
– Сказала спасибо, – отвечает он.
– Да я только этим и занимаюсь, – отвечает она. – Спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо спасибо СПАСИБО!
Просыпается младший. Они смотрят друг на друга. Это как дуэль, только выигрывает не тот, кто выстоит, а кто первый сдастся.
– Я пойду, – говорит он.
– Нет, я, – отвечает она.
– Нет, если ты пойдешь, он ни за что не уснет, – говорит он и удаляется в спальню.
Он говорит младшему «шшш». Гладит ему лобик пальцем. Укрывает поплотнее и шепчет, что сейчас все еще ночь. Младший упрямо старается встать на ноги. Он орет до посинения. Всякий раз, когда папа пытается уложить его обратно, он так выкручивается, будто в матрас залили лаву. Наконец папа одерживает верх. После пятнадцати минут ора. Папа все время думает о соседях. Слышат ли они крики? Считают ли, что мы делаем что-то не так? Что мы плохие родители? Стоят ли, вжав ухо в стакан, приставленный к стене, и слушают, как дети просыпаются и орут ночи напролет? А может, подумывают, не пора ли вызвать службу опеки? Он выходит из спальни и крадется тише ниндзя. Наступает на кубики Лего, не издав ни звука. Бесшумно чихает и точно знает, какие из паркетин могут скрипнуть.
К половине десятого младший успевает проснуться четыре раза. В десятом часу мама с папой ложатся спать. В районе одиннадцати младший просыпается и получает кашку. К часу просыпается старшая и бормочет, что ей хочется попить и бананчик, только ложку не надо. В два просыпается младший и бьет себя по губам так, будто у него болят зубки. К половине третьего альведон начинает действовать, и младший снова засыпает. В три просыпается старшая, испугавшись змей за занавесками. В четыре пятнадцать просыпается младший, потому что ему надо позавтракать, послушать сказку, покакать и пробежаться по квартире в ходунках. В полпятого из-за младшего просыпается старшая. Начинается новый день. А потом еще один.
В промежутке между двумя побудками папа лежит на кровати и прислушивается к завываниям ветра в балконной решетке. Он хочет уснуть, но не может. Жена спит на диване. Папа уже и не помнит, когда в последний раз они спали в одной кровати. Его охватывает злость, и он не знает, на чем ее выместить. Если дети не спят, терпения у него хватает на полчаса. Может, на час. А потом возникает желание накрыть старшей лицо подушкой. А младшего швырнуть об стену. Но он этого не делает. Нет, конечно. Это ведь значит быть плохим родителем. Вместо этого он крепко хватает младшего за ляжки и вжимает в матрасик. Чтобы прервать плач, он прыгает на месте, зажав младшего в объятиях. Поет эту треклятую колыбельную про маму-троллиху[15]в первый, в десятый, в пятидесятый раз. Он поет ее тихим голосом, шепчет, пытается читать ее как рэп, выкрикивает ее как можно громче, чтобы перекричать плач. Младший выгибает спину и испуганно орет, отталкивая папу, затылок у него взмок, он осип от крика, он кричит так, словно его жизни что-то угрожает, и папе очень хочется выйти с ним на кухню, включить там свет, заварить себе чаю, достать печенье из шкафа и поговорить с младшим начистоту:
– Эй! Слушай! Слышишь меня? Завязывай уже на фиг. Так нечестно. Серьезно. Ты же должен понимать, что мы делаем все, что в наших силах. Все, что в поликлинике советуют. Репетируем с тобой вечерние ритуалы. Бобовых на ужин не даем. Каждый вечер кормим тебя одной и той же безмолочной экологичной кашкой. Желаем спокойной ночи лампам и машинкам. Чистим зубки. Читаем сказку на ночь и закутываем тебя. Включаем ночник и тихую усыпляющую музыку. Берем тебя на руки, когда ты просыпаешься, кладем обратно, когда успокаиваешься. Но вся эта семейная история, она же строится на том, что ты тоже как-то вкладываешься. Ты не можешь и дальше просыпаться по десять раз за ночь, если мы как родители делаем все от нас зависящее. Обещаешь, что будешь стараться чуть больше? Что сделаешь все возможное, чтобы такое больше не повторялось?
Но папа не выходит из спальни, вместо этого он пробует успокоить младшего, издавая звук, похожий на шум волны, потом на рычание двигателя, потом опять на шум волны, но сын не успокаивается, и волны становятся похожи на цунами, такого кто угодно бы испугался, хотя иногда папе удается развеселить младшего этим звуком так, чтобы тот прокричался до сипоты, выгнулся и загулил. Очень часто это вообще не срабатывает и младший пугается папиного рыка как у моторной лодки, так что еще двадцать минут потом уходит на то, чтобы его успокоить. Когда он наконец засыпает, взмокнуть успевает папа. Он стоит несколько минут, глядя в пустоту. Потом забирается в постель и пытается уснуть.
В последнее время все папины сны о детских площадках. Он качает младшего на качелях. Младшего тошнит. У папы не оказывается при себе влажных салфеток и вместо этого он вытирает его слюнявчиком. Вот и весь сон. В другом сне они сидят в песочнице. Просто сидят. Идет время. Младший берет песок и насыпает в ведерко. Потом высыпает. Потом берет еще песку и насыпает в ведерко. Рядом садится птичка и смотрит на них. Птичка поворачивает голову набок движением, которое папа воспринимает как сострадание, хотя, возможно, это знак равнодушия. Младший не замечает птичку. Он поглощен пересыпанием песка в ведро и из ведра. Вдруг он краснеет и начинает кряхтеть от натуги. Остаток сна папа ходит по большому универмагу и длинным коридорам вроде университетских в поисках пеленального столика. В последнее время доходило до того, что он сам во сне думал, до чего же убогие у него сны.
«Да встряхнись ты уже наконец, – говорил он сам себе во сне. – Пустись ты во все тяжкие. Вылезай из песочницы, выйди на шоссе, вломись в какую-нибудь машину, которая ждет на светофоре, и дуй в ближайший дневной стриптиз-бар. В Швеции вообще есть стриптиз-бары?» «Это же сон, придурок, здесь все возможно!» – о твечал он сам себе. «Точно», – с оглашался он с собой и оставался сидеть в песочнице.
Младший ест песок. Папа вынимает песок у него изо рта и говорит:
– Нельзя есть песок.
Сын засовывает в рот еще немного песка.
Папа вынимает его и повторяет:
– Нельзя есть песок.
Папа ужасно устал, но почему-то не может уснуть. Наконец он засыпает. Через десять минут просыпается младший.
* * *
Дедушка, который папа, по-прежнему лежит на диване. Мышцы его ослабли. Позвоночник не держит. Боль в ногах все сильнее, хотя ходит он все меньше, и эта боль уже никуда не денется, потому что она непременный спутник его неизлечимого диабета. Недостаточный приток кислорода в кровь покалечил нервы в ногах.
Тело гниет изнутри, и совсем скоро ему придет конец.
Но хуже всего со зрением. Временами глаза работают как надо. Он смотрит TV4 и различает волоски в бороде у диктора, который объявляет, что сейчас начнется сериал «Без следа», а после него покажут «Крепкий орешек 1» и «Крепкий орешек 2» подряд. Папа улыбается, потому что сложно представить фильмы лучше этих двух. Особенно хороша вторая часть. Начинается «Без следа», и в одном глазу у него все мутнеет, ему приходится прищуриться, чтобы сфокусировать зрение, он не может различить, кто там ходит по заснеженному кладбищу: то ли это мужчина, то ли женщина, то ли лось. Он слышит голоса, полицейские переговариваются на английском, трогается машина, проезжают еще две машины, потом детский смех, скрип от качелей или от несмазанного велосипеда, выстрел, еще два, торопливые шаги, тревожная музыка. Его бывшая жена говорит, что не так все плохо, раз это лишь временные приступы, дети говорят, что он себя накручивает, парень в порту говорит, где в последний раз видел его дочь, но отказывается брать деньги, дочь сначала не узнает его, потом узнает и убегает, ее мать говорит: «Ты не имеешь права преследовать мою дочь».
Надо проверить зрение. Дети должны ему помочь. Пусть залезут в интернет и забронируют ему МРТ всех органов, чтобы он наконец узнал, что с ним не так. Что-то точно не так. Он это чувствует. Только не знает, что именно. Примерно на середине первой рекламной паузы зрение восстанавливается. Серая муть обретает контуры и цвета. Потом начинается «Крепкий орешек 1». Папа засыпает с улыбкой на губах.
III. Пятница
Раннее утро пятницы. В семь двадцать жена, которая мама, заявляется в адвокатское бюро, занимающееся профсоюзными делами, где работает юристом. До девяти, пока нет секретаря, она успевает отправить двадцать мейлов, подготовить одно дело для подачи в Административный апелляционный суд и просмотреть материалы к первой на сегодня встрече. Когда клиентка не появляется к назначенному времени, она просит секретаря дозвониться до нее. На звонок откликается папа клиентки.
– Мы тут. На улице. Она передумала.
– Я спускаюсь, – говорит юристка, которая мама.
Девушка сидит на скамейке в парке, подавшись вперед, так что волосы закрыли лицо.
– Вы кто? – спрашивает папа.
– Ваш законный представитель, – отвечает юристка.
– А по голосу я вас иначе представлял, – говорит папа.
Юристка садится на скамейку. Она откашливается. Потом говорит, что понимает, как это все мерзко. И что бояться в такой ситуации совершенно нормально. Она чуть наклоняется вперед и шепчет:
– Но если мы не заявим на этих гадов, они так и будут продолжать. А этого не должно произойти. Мы остановим этих поганых уродов. Мы их уничтожим, понимаешь? Устроим бойню в зале суда. Кровавую баню. Клянусь тебе. Поверь мне.
Девушка смотрит на нее в замешательстве.
– Вы говорите совсем не как адвокат, – произносит она.
Юристка улыбается.
– Я профсоюзный юрист, – говорит она в ответ. – Хотя и не совсем обычный профсоюзный юрист.
Пока они поднимаются в лифте, юристка, которая мама, рассказывает о своем прошлом, в каком районе жила и какой индекс чеканила рэпом в юности[16], как родители бились за то, чтобы она получила образование и начала работать в такой навороченной конторе.
– Когда я только-только получила диплом, я все боялась, а вдруг люди догадаются, кто я такая, – говорит она. – Теперь уже не боюсь.
– Повторите, что мы с ними сделаем, – просит девушка.
– Устроим массовую резню, – отвечает юристка. – Никакой пощады. Всех казним.
Девушка улыбается. А вот у папы вид озабоченный.
В комнате за закрытыми дверями девушка начинает свою историю. Это папа посоветовал ей ту работу, он заказывал из их ресторана кейтеринг к себе на работу и прочитал на сайте, что им требуется персонал. Она начала работать, когда ей было пятнадцать, первое лето посудомойкой, а к осени стала помогать в цехе холодных закусок. Владельцы там два брата. Один относился к ней хорошо по-нормальному, а вот у другого это «хорошо» напрягало с самого начала. Он начал отпускать ей комплименты, говорил, что она светлая как солнышко, хорошенькая как летний лужок, что он всегда радуется, когда видит ее, ну и всякое такое.
– Но ведь так и есть, – говорит папа. – Если кто-то к тебе хорошо относится, разве это повод возмущаться?
Как-то вечером хозяин преградил ей дорогу и спросил, не хочет ли она заглянуть к нему в контору, а когда она отказалась, он посмеялся и спросил, неужели она не поняла, что он просто шутит.
– Может, это и правда шутка была, – говорит папа. – Ему же за пятьдесят, да?
В другой раз хозяин протянул к ней большой палец, смоченный слюной, чтобы, как он выразился, вытереть у нее с уголка губ пятнышко шоколада.
– И что такого? – с прашивает папа. – Это что, плохо? Не хотел, наверное, чтобы над тобой посмеялись.
– Я же только на смену заступила, – отвечает дочь. – И никакого шоколада до этого не ела.
Начав работать официанткой, она узнала про шкалу, по которой хозяин оценивал всех подчиненных, и мужчин, и женщин, и официанток, и охранников – шкалу вдувабельности.
– Не надо на все подряд так болезненно реагировать, – говорит папа, но уже не так уверенно.
Как-то субботним вечером хозяин спросил, не хочет ли она пойти к нему домой. А через несколько дней заманил ее к себе в контору и с ходу выпалил, что нанял, потому что хотел заняться с ней сексом, что без ума от нее, обещал повысить зарплату и дать ей дополнительные бонусы, сказал, что никогда ни к кому ничего подобного не испытывал, запер дверь и опустил шторы. Папа встает со стула и подходит к окну, но не открывает его. Потом хозяин начал распускать про нее сплетни, рассказывать интимные подробности, утверждать, что она сама на него набросилась и умоляла переспать с ней. Папа садится на место. Он не поднимает глаз от пола и вцепляется в ручки кресла. Когда она стала во всеуслышание возражать, ее вышвырнули и лишь десять месяцев спустя до нее дошли слухи, что были и другие девушки, с которыми в том ресторане вытворяли вещи еще похуже, вот почему она решила, что должна связаться с профсоюзом.
Когда девушка заканчивает свой рассказ, профсоюзная юристка протягивает ей носовой платок. Дочь отказывается, качая головой. Вместо нее платок берет папа.
– Думаете, у нас есть шанс выиграть? – интересуется дочь.
– Мы их одолеем, – отвечает профсоюзная юрист-ка и улыбается.
– А что ж вы не спросите, не приезжие ли они? – интересуется папа.
– Это неважно, – отвечает юристка.
– А для меня важно, – отвечает папа. – Для нас важно. Ведь так, милая?
Девушка молчит.
– Они не местные, – говорит папа. – Правда ведь?
Девушка не реагирует. Папа вздыхает.
– Черт побери… Когда мы уже очнемся и поймем, что разрушили собственную страну?
Профсоюзная юристка сглатывает слюну и воздерживается от высказываний. Она обнимает девушку и говорит, что все уладится.
– Ты замечательная, ты королева, ты все одолеешь, теперь мы с тобой объединились против всего мира, понимаешь? Мы солнце, а они тучи, а тучи приходят и уходят, да? А мы продолжаем сиять. Обещай, что будешь сиять.
Девушка кивает. Папа с дочерью уходят из конторы.
Профсоюзная юристка, которая мама, сегодня рано идет на обед вместе с Себастианом. Они всегда первыми приходят на работу, она – из-за маленьких детей, он – и з-за того, что встает в пять и весь путь до конторы из Дандерюда проделывает на велосипеде. Официант наугад спрашивает, не хочет ли Себастиан рыбное блюдо, а ей предлагает вегетарианское. Оба кивают в ответ. Они обсуждают гладиолусы за окном, терьера, которого Себастиан завел на пробу для дочери-подростка и которого собираются назвать Уголино, преимущества разных бальзамов для волос и сходятся во мнении, что все, ну просто все соусы становятся только лучше, если добавить в них капельку чили. Себастиан расплачивается. Поначалу она делала попытки платить через раз или хотя бы через два, но Себастиан всегда принимал такой обиженный вид, что в конце концов она сдалась. Его волосы ерошатся от ветра, когда официант распахивает перед ними дверь. Себастиан пропускает ее вперед. Как обычно. Как хорошо, что он старый и счастливо женат и что волосы у него поредели и загар сошел, потому что однажды после его возвращения из отпуска она с тревогой поймала себя на мысли, что слишком уж рада видеть его улыбку и руки.
Вернувшись в офис, она включает телефон и получает подряд пять сообщений от мужа. Пять фотографий. И ни одной подписи. Младший, которому годик, и старшая, которой четыре, стоят на лестнице, держась за руки, на их лицах читается крайнее нетерпение. Потом оба балансируют на батуте в каком-то уродливом крытом парке развлечений. Дальше корчат рожицы перед кривым зеркалом. Дети и папа вместе, каждый держит в руках по сплющенному пластмассовому шарику, все заливаются хохотом. Они обожают бывать вместе. Им так хорошо без нее. Она старается вытеснить это неприятное чувство. На последнем фото все четверо стоят в раздевалке, выкрашенной в красный цвет. Дедушка слева. Старшая посередине. Муж с младшим на руках справа.
Все улыбаются. Вроде бы… Старшая корчит рожу. Младший отвернулся. Дед хмурит брови. Но муж-то улыбается. Или пытается улыбаться. Тот, кого они попросили снять их, встал слишком далеко, так что справа видны длинные ряды металлических шкафчиков, а слева спины двух людей, которые не должны были попасть в кадр.
* * *
Позднее утро пятницы. Сын, который папа, читает надпись на табличке: «Позвоните ОДИН РАЗ и мы подойдем». «Один раз» подчеркнуто и выделено жирным шрифтом. Папа звонит в звонок один раз. Они ждут. Старшая, которой четыре, хочет бежать дальше, но останавливается перед загородкой из плексигласа, младший, которому годик, болтает ногами, сидя в переноске. Вокруг ни души. Папа достает телефон и демонстративно смотрит на экран, хотя и без того знает, что они уже четверть часа как открыты.
– Здесь никого нет, – говорит старшая.
– Гыыы, – выдает младший.
– Должны были уже открыться, – произносит папа, он говорит это чуть громче, чем надо, чтобы ленивый персонал, который сидит в комнате для отдыха, уткнувшись в телефон, услышал, что вот-вот лишится нескольких потенциальных клиентов.
Никто не появляется. На стойке выставлена еще одна табличка, она гласит, что сюда нельзя заходить с колясками, в обуви или со своей едой. Все это он и так знает. Еще он знает, что они есть по шести другим адресам в городе, знает, что первое заведение открылось пять с половиной лет назад, а самое новое – этим летом. Он знает, что заведение названо в честь правнука канадского владельца парков, что входной билет на ребенка старше двух лет стоит 179 крон, а детей младше двух пускают бесплатно при условии, что ты состоишь в их детском клубе, в котором нет членских взносов.
Чтобы стать членом клуба, нужно просто предъявить удостоверение личности и предоставить свои личные данные и адрес электронной почты. А еще он знает, что они уже четверть часа как открыты. И все это он вычитал на их сайте перед выездом, пока разрабатывал маршрут и набивал детскую сумку баночками с едой и бутылочками, сменной одеждой для детей и для себя, пополнял походный запас памперсов, влажных салфеток и клал в тот же пакет специальную складную подстилку, при наличии которой можно менять памперсы практически везде. Только за прошедший месяц он успел поменять памперсы на полу в библиотеке, на пассажирском месте на переднем сиденье автомобиля, на крыше деревянного домика на детской площадке, на лестнице одного дома в Шеррторпе[17], где снимал квартиру его приятель, когда приятель задержался, хотя должен был уже быть дома.
– Ну чего они не приходят? – спрашивает старшая, которой четыре.
– Не знаю, – отвечает папа.
– Они все умерли? – уточняет старшая.
– Надеюсь, нет, – отвечает папа.
– А вот у Лео бабушка умерла, – говорит старшая и замолкает.
Папа раздумывает, не позвонить ли еще раз. Но там ведь специально выделено, что нужно звонить один раз. Теперь он ждет, что они придут.
– А улитки не умирают, – продолжает старшая.
Подходят две мамочки или же мамочка с подружкой и маленьким ребенком. Они становятся позади папы. Смотрят на него. Папа пожимает плечами и кивает в сторону таблички. Одна из женщин протягивает руку и нажимает на звонок один раз, потом еще дважды.
Паренек, вышедший на звонок неторопливым шагом, не проявляет ни тени беспокойства, он приветствует их с улыбкой, вносит в компьютер папины личные данные, чтобы записать младшего в детский клуб, и рассказывает, что у них здесь двенадцать горок, девять лабиринтов с препятствиями, специальный бассейн с шариками для самых маленьких и совмещенная площадка для игры в футбол и баскетбол в самом дальнем конце справа. Папа порывается сказать, что это не он трезвонил столько раз, но все же не делает этого. Паренек за стойкой вручает ему чек и напоминает, чтобы папа не забыл банковскую карточку.
– Спасибо, что напомнили, – отвечает папа. – Вечно ее забываю.
Они заходят внутрь. Он убирает чек в бумажник. По дороге от кассы он удивляется, зачем сказал, что вечно забывает свою карточку, ведь у него собственная банковская карта с восемнадцати лет, и он не припомнит, чтобы хоть раз ее где-нибудь забыл.
В парке развлечений все выкрашено в сиреневый, желтый и красный, твердые поверхности обиты поролоном, пол мягкий, а вместо перегородок натянуты сетки, так что, когда старшая карабкается на верхний ярус игровой площадки, они не теряют друг друга из виду. Старшая взбирается по веревочной лестнице, прыгает с одного поролонового конуса на другой, раскачивается на лианах, съезжает вниз по желтой горке-трубе. Довольный младший сидит в бассейне с шариками. Он издает громкое мычание, к которому обычно прибегает, лишь когда видит, как кто-то ест мандарины, включает фонарик или набирает воды в ванну. Такое «Му» значит «Дай мне», «Хочу играть», «Об этой штуке я мечтал всю мою коротенькую жизнь».
Папа сидит на полу рядом с младшим. Папа поглощен происходящим на все сто процентов. Он наслаждается моментом. Он действительно целиком и полностью со своими детьми, здесь и сейчас. Потом он включает камеру, чтобы сделать несколько снимков и послать их жене. После этого смотрит, не пришел ли ответ от папы. Потом убирает телефон и снова погружается в происходящее. Потом опять достает телефон и просматривает заголовки утренних газет. Опять откладывает телефон. Потом просматривает выпуски с вечера.
Раздел культуры. Светскую хронику. Потом снова откладывает телефон. Потом проверяет Фейсбук, Инсту и Твиттер. Потом снова откладывает телефон. Он поглощен моментом. Он здесь и сейчас. И нигде больше. Старшая, которой четыре, берет два больших поролоновых кубика и пытается закинуть их вверх на горку.
Младший стучит одним шариком о другой. Папа тихонько вставляет в одно ухо наушник. На сцене Ричард
Прайор[18], он подшучивает над одним из зрителей, который пытается его заснять (you probably ain’t got no film in the muthafucka either[19]), шутит, что белые, вернувшись на свои места из туалета, застанут на них черных (oh dear[20]), звуками имитирует, как трахаются его карликовые обезьянки, потом озвучивает свою овчарку, которая утешает его, когда обезьянки помирают, а после утверждает, что в одиночку прошмальнулся по всему Перу. И хотя папа помнит все шутки наизусть, он сидит в бассейне с шариками и тихонько посмеивается про себя. Он чувствует себя хорошим папой. Во всяком случае в тысячу раз лучше, чем тот папа, который должен был быть здесь в десять и до сих пор не появился.
Да. Он молодец. Он со всем справляется. Хотя никто его этому не учил. И именно в этом месте и в эту минуту, с младшим, который пускает слюну и кидается шариками, со старшей, которая заталкивает кубики в желоб пустой горки, и с Прайором, который имитирует звук пробитой шины, рассказывая, как прострелил собственную машину в попытке помешать бывшей жене бросить его, папа чувствует себя по-настоящему счастливым. Вот ради таких мгновений я и держусь.
Когда они проснулись сегодня в пять утра, он взял детей на себя. Приготовил завтрак, поменял обкаканный памперс, напоил их серебряным чаем, любимым напитком его бабушки по материнской линии, который готовится из теплой воды, молока и меда. Правда, жена до смерти боится, что дети переедят сахара, поэтому рецепт сократился до теплой воды и молока, а из-за того, что жена вычитала о каких-то последних исследованиях, утверждающих, что обычное молоко может вызывать рак, утренний напиток детей теперь состоит из теплой водички с овсяным молоком. Подается напиток в рожках. Вообще-то дочь уже слишком взрослая для рожка, а сын слишком маленький для серебряного чая, но дочь хочет быть маленькой, а сын взрослым, так что оба начинают утро именно так. Когда встает жена, оба ребенка уже одеты, на столе приготовлен для нее стакан воды с лимоном, каша из плющеного пшена, он успел достать посуду из посудомойки и ему хочется думать, что сделал он все это, потому что он хороший человек и что его действия естественны и органичны. Но он никогда не делал ничего без напряжения и усилий. Всякий раз, когда он что-нибудь делает, он думает о том, как это воспримут другие, хвалит себя за то, что разгрузил посудомоечную машину и заглушает голоса, которые нашептывают ему, что он ненавидит такую жизнь, что существование его никогда не было настолько унылым и что ему хочется лишь одного: встать и уйти. Просто бросить все и исчезнуть.
Но сейчас он сидит в бассейне с шариками и чувствует, как его переполняет признательность. Он счастлив. Вот оно, золотое время. Он будет чертовски скучать по этим денькам, когда дети разъедутся кто куда. Хотя сейчас время застыло. Они пришли сюда в четверть одиннадцатого. Теперь на часах двадцать минут двенадцатого. Кидаем шарик. Берем шарик. Кидаем шарик. Берем шарик. Меняем подгузник. Вытираем слюни. Кидаем шарик. Берем шарик. Кидаем шарик. Берем шарик. Спасает только голос Прайора, который рассказывает, как он один раз случайно поджег себя, после чего наступило самое блаженное время в его жизни: он лежал в больнице и ничегошеньки не делал.
Старшая, которой четыре, трет себе между ног.
– Пора пописать, солнышко? – кричит папа.
– Нет, – кричит старшая ему в ответ.
Младший подползает к трем кривым зеркалам. Он видит свое отражение и улыбается, сверкая всеми своими четырьмя зубами, его светло-синяя рубашечка у горловины стала темно-синей от текущей слюны.
– Ты точно не хочешь пописать? – с прашивает папа у старшей.
– Точно, – отвечает она.
Папа продолжает сидеть в бассейне с шариками. Две мамочки или мамочка с подружкой проходят мимо вместе с дочкой. Папа склоняет голову чуть набок, так что наушник выпадает из уха. В уме он проводит мгновенную калькуляцию. Оценивает другого ребенка по отношению к своему, сравнивает их по степени умильности, развитости, по наличию зубок и виду шмоток. Он приходит к выводу, что девочка выигрывает в плане умильности, зато у его сына голова больше, а это свидетельствует о будущем интеллекте. Одета она помоднее и поизысканнее, но у его сына одежда не такая затасканная и более практичная. Улыбка у нее, может, и миленькая, зато у его сына шевелюра погуще. Она может протопать несколько шагов сама, но при этом ее шатает из стороны в сторону, его же сын мастерский ползун, а с ходунками его и вовсе не догонишь. В итоге, пожалуй, ничья. Почти ничья. Папа улыбается женщинам. Они отвечают ему улыбкой. Ему знаком этот взгляд. Они думают, что он хороший отец, потому что именно так ведут себя хорошие отцы: они встают пораньше, едут в парк развлечений, меняют обкаканные подгузники, подбирают с пола детальки Лего, Дупло и Плеймо, собирают раскиданные полицейские машинки и мотоциклы, силиконовые ладошки и мягкие игрушки, пустые картонки и детские кошельки, карточки из игры «Мемори» и кусочки пазлов, варежки и шапки, носки и дощечки от термомозаики. Они наклоняются к ребенку, сгибаясь в три погибели, встают на колени, не ругаются вслух, учат своих детей, что самое важное в жизни, важнее всего – это не сдаваться. Никогда, что бы ни случилось, не говорить: не получается. Невозможно. Возможно все, все в твоих силах, только никогда-никогда нельзя сдаваться. Поняла? Так повторяет папа раз за разом, обращаясь к старшей.
– Ну даааа, – тянет старшая с интонацией подростка.
– Я серьезно, – говорит папа и предлагает дочке помериться силами.
Они носятся по гостиной, и дочь вдруг оказывается в непростой ситуации: папа ловит ее в смертельно опасный щекотально-целовальный захват, целует и щекочет, еще целует и щекочет, младший смотрит сначала в изумлении, потом расплывается в улыбке, а схватка все не кончается.
– Сдавайся, – кричит папа.
– Хорошо, – кричит дочь в ответ.
– Нет! – кричит папа. – Никогда не сдавайся.
– Но ты же сам сказал, чтобы я сдавалась, – отвечает дочь.
– Когда я велю тебе сдаться, ты должна ответить… – отвечает папа. – Помнишь? Помнишь, что никогда нельзя делать?
Целовально-щекотальная схватка прерывается. Дочь задумывается.
– Помнишь, что я обычно говорю? – спрашивает папа.
– Я не сдамся… НИКОГДА, – кричит дочь.
– ВОТ ИМЕННО, – кричит папа, и схватка продолжается.
Младший глядит во все глаза, когда старшая вдруг становится сильной, как Халк, и валит папу на спину, она атакует его щекотальным маневром и требует, чтобы папа сдавался, а тот отвечает:
– Я никогда не сдаюсь!
Но это уже неважно, ведь дочка одержала победу, и папа говорит:
– Молодец, боролась до конца!
Дочь отвечает:
– Ты тоже.
А младший подползает к ним и обслюнявливает лица обоим.
Зал заполняется детьми. На горки выстраивается очередь. Прибывают группы детсадовцев. Няни с несколькими детьми. Семейства, в которых по семь детей. Старшая несется галопом, папа по голосу понимает, что уже слишком поздно.
– Папа-папа-папа!
– Счастье, что у нас с собой сменная одежка, – говорит папа, когда они выходят из туалета, поменяв штаны.
К тому времени персонал, привычный к таким вещам, без лишних вздохов уже вытер лужу.
– Как считаешь? – с прашивает папа и похлопывает дочь по плечу. – Это же такая удача, что у нас были с собой сменные штаны.
Он замолкает. Он понимает, что ждет оваций. Ему хочется, чтобы четырехлетняя дочь посмотрела на него и сказала:
– Ух ты! Папа, это же чудо, что ты не забыл взять с собой и трусы, и запасные штаны.
Но дочь гораздо больше занята тем, чтобы разобраться, как работает кран с сенсором. Она стоит у раковины, засовывает руку под кран, и струя начинает литься. Она делает это еще несколько раз подряд.
– Автоматический, – в восторге восклицает дочь. – Совсем автоматический!
Папа не упускает возможности поменять младшему подгузник. Тот совсем недавно понял, что можно сопротивляться родителям. Только положи его на спину, и он сразу же превращается в дзюдоиста с черным поясом, извивается ужом, как его ни схвати. Не успеешь снять с него подгузник и отвернуться на пару секунд, придерживая за животик, чтобы дотянуться до влажных салфеток, а его и след простыл, он уже сидит в бассейне с шариками, один отправился домой на метро или хотя бы просто вывернулся пропеллером и перевернулся на живот, уперся ножками в стену и попытался пикировать с пеленального столика. Но папа к такому привык. Он это уже проходил. Когда старшая была маленькой, папа был очень терпелив. Он старался объяснить ей, что надо лежать смирно, пока он не закончит.
На младшего папа сердится. Он прижимает его рукой, пропускает мимо ушей все вопли, натягивает ему на попу новый подгузник и требует, чтобы старшая прекратила плескаться в раковине.
* * *
Сегодня пятница, и дедушка, который папа, наконец-то увидится с внуками. Он предложил встретиться в их обычном месте, у верхнего входа в универмаг «Оленс Сити»[21], откуда сразу попадаешь в отдел парфюмерии. Они всегда тут встречались. Ведь именно здесь они когда-то, когда сыну было двенадцать, стояли и приводили себя в боевую готовность: в одной руке пустая коробка из-под бананов, в другой – дипломат. У сына такой же, как у отца, только чуть поменьше. Когда на улице начинали маячить полицейские в форме, папа с сыном перемещались подальше к центру Дроттнинггатан[22].
– Пора начинать шоу, – шептал папа сыну, а тот улыбался, потому что был так благодарен, что любимый папочка взял его с собой.
Нужно было действовать стремительно, чтобы не уступить свое место торговцу заводными собачками, которые с громким тявканьем делают сальто назад, или продавцу игрушечных человечков, которые переворачиваясь сползают вниз по стеклу, или парню, переодетому индусом, который торгует свистульками, их нужно класть под язык и дуть особым (очень мудреным) способом, тогда получается звук, похожий на птичий щебет. Единственным обладателем лицензии, которому не приходилось сбегать со своего места при виде полиции, был торговец сосисками, но он с ними не конкурировал, он даже свистел, чтобы предупредить торговцев, когда подъезжал автобус с полицейским нарядом, и тогда каждый из них кидался к разложенному на простынке барахлу, сгребал ее, превращая в мешок, и устремлялся ко входу в «Оленс». У кого товар был разложен на коробке из-под бананов, те быстренько отпинывали коробку куда подальше, застегивали сумку и уходили, насвистывая, в сторону Хёторгет. Продавец сосисок оставался стоять на месте, он подзывал к себе полицейских и спрашивал, не хотят ли они взглянуть на его лицензию, при том что все прекрасно знали, что он имеет полное право тут находиться. Вот тут и стояли папа с сыном по выходным, торговали всякой всячиной: часами, которые сами импортировали из-за границы, духами, которые назывались почти так же, что и те, что были выставлены по соседству в «Оленсе», кислотного цвета наклейками с вращающимися глазками, которые папа прикупил у Туннеля Вздохов. Когда приближалась школьная пора, они выставляли пеналы и ароматизированные стирательные резинки, к Пасхе в ход шли крошечные заводные цыплята нежных пастельных оттенков, и, хотя сам сын ни разу и словом не обмолвился, папа знал, что в свои двенадцать лет он получил от отца бесценный урок. Он усвоил, что ничто в жизни не дается даром, он овладел благородным ремеслом впаривать людям то, что им не нужно, научился уступать любителям поторговаться, натренировался меньше чем за две секунды отталкивать от себя коробку и защелкивать дипломат и выучил, что правила есть правила, но на некоторые правила можно закрыть глаза, и, не будь у него этого понимания, сын боялся бы мира не меньше, чем папина жена.
Но в этом году сын по какой-то причине не захотел встречаться в центре. Сын живет в южной части города и желает, чтобы папа сел на метро и проделал весь путь до какого-то там парка развлечений. Парка развлечений? Папа слишком устал и слишком болен, чтобы ходить во всякие парки развлечений. Он почти ослеп. Едва на ногах держится. А вход там наверняка платный. Но чего не сделаешь ради собственных детей? Дедушка собирается с последними силами, чтобы добраться до метро. Он делает пересадку на Лильехольмене и едет на юг в сторону Норсборга.
Шведское метро совсем не такое, как раньше. Раньше там повсюду встречались одни голубоглазые шведы.
Разве что какой-нибудь случайно затесавшийся грек ходил по вагонам и торговал революционными открытками или африканец предлагал кассеты с музыкой в стиле регги. Теперь метро выглядит как зоопарк, в который набрали людей со всего света. Пока поезд едет через Эрнсберг, он слышит, как рядом две тетки болтают на испанском, четверо подростков переговариваются на русском, двое парней беседуют на дари, а семейка туристов общается на датском. На станции Сетра в вагон входит нищий. Он в трениках, а на ногах ботинки, залепленные скотчем. На всех незанятых местах он раскладывает ламинированные карточки. Дедушка косится на фотографию на карточке. Ватага детей в разноцветной одежке сгрудилась перед домиком. Дверь домика выпилена из куска ДСП. Дети все босые. Они улыбаются в камеру. Слишком он молод, чтобы иметь столько детей. А женщина с младенцем на руках слишком красива, чтобы быть его женой. Нищий собирает карточки и обходит вагон с бумажным стаканчиком в руке. Дедушка смотрит в окно. Его на эту уловку не поймаешь. Он знает, что такие попрошайки входят в организованную преступную лигу. У себя там, в своих странах, они разъезжают на роскошных машинах. Дедушка слишком долго и упорно трудился, чтобы раздавать деньги направо и налево. Да и денег-то у него почти нет. А те, что есть, нужно приберечь на черный день.
Дедушка поднимается по эскалатору и выходит на площадь. Все, как раньше, да не так. Торговый центр отремонтировали. На площади торгуют какой-то пахлавой класса люкс. В две фруктовые палатки выстроилось по очереди одинаковой длины. Дедушка спрашивает, как пройти в парк развлечений. Никто не знает. В конце концов он звонит сыну, но так как денег на телефоне нет, ему приходится сначала зайти в киоск Pressbyrå и купить телефонную карточку с минутами, а потом еще и попросить продавца помочь ему активировать ее. Буковки и шифр слишком мелкие для его зрения.
– Ну и раритет, – в осклицает парень, когда дедушка вручает ему телефон.
– Я его от сына унаследовал, – отвечает дедушка.
Парень на кассе пытается разобраться, как отправить СМС с «Нокиа» десятилетней давности.
– У меня двое детей, – говорит дедушка. – Сын и дочь. Дочь многого добилась. Она у меня пиарщица. Живет в Васастане[23]. Все хочет мне новый телефон всучить, такой, с интернетом и программкой с погодой. Но я ей говорю, что мне и этого вполне хватает.
Парень на кассе кивает в ответ. Он теперь знает, как отправить сообщение. Он вбивает код, чтобы пополнить счет телефона.
– А сын у меня консультант по налогообложению, – продолжает дедушка.
Продавец снова кивает.
– Мы с ним отлично ладим.
– Повезло вам, – о ткликается продавец. – Д алеко не всем так везет. Ну вот, теперь должен работать. Удачи!
Дедушка выходит на площадь. Он набирает номер сына. Но кнопки такие крошечные, да еще солнце зашло за тучу, а экран глючит, так что ему приходится жать на них вслепую. В первый раз он набирает несуществующий номер. Потом делает вторую попытку. Сын откликается после третьего гудка. Он объясняет дедушке, как найти дорогу. Дедушка следует его инструкциям.
Уже с эскалатора он слышит взрывы хохота и криков. И зачем он на это согласился? Войдя в зал, он первым делом видит, как мальчик постарше сломя голову бежит от горки и тащит по-солдатски, на вытянутых руках, младшую сестренку, та рыдает во весь голос, через несколько шагов ее душераздирающие вопли тонут в спасительной какофонии прочих звуков. Не найти ему здесь сына. Но потом он вдруг видит его. Их взгляды встречаются. Они улыбаются друг другу.
Сын удивительно похож на мать. Такой же худющий, щеки такие же гладкие. Так же одет во все черное, и нос у него такой же тонкий, как у матери. Папа с сыном обнимаются. За полгода сын постарел на десять лет. Бледный как цемент, а мешки под глазами, которые у него имелись и раньше, теперь превратились в два здоровенных черных тюка. Но папа ничего не говорит. Он не хочет обидеть сына. Если он что и скажет, то ограничится шутливо-ласковым замечанием насчет его цветущего и отдохнувшего вида.
– Отдыхал в отеле «все включено»? – спрашивает папа.
Сын не отвечает на вопрос. Вместо этого он задает свой:
– Что случилось? Ты не мог найти дорогу? Ты проспал?
– О чем ты? – удивляется папа.
– Ты должен был быть здесь два часа назад, – говорит сын.
– Два часа туда, два часа сюда, – отвечает папа.
– Может быть, он заблудился, – раздается робкий голосок у правой ноги сына.
Дедушка смотрит вниз. Там стоит она. Его обожаемая внучка. Какая же она большая. Какая же она маленькая. Ей сейчас то ли три, то ли шесть. Она пугающе похожа на его дочку, которой больше нет. Такие же круглые щечки. Такой же пронзительный взгляд. Только одета иначе.
– Ах вот ты где! Ну здравствуй! – говорит дедушка.
– Здравствуй, – отвечает внучка, уткнувшись лицом папе в ногу.
– Какая ты стала большая…
– Мне четыре. А скоро будет пять.
– Знаешь, кто я? – спрашивает дедушка.
– Папи[24], – отвечает внучка.
– Правильно. Папи. Я папи.
– А ты привез мне подарок на день рождения?
Дедушка роется в карманах.
– Ох, нет. Наверное, потерял по дороге сюда. Но мы можем потом сходить и купить тебе подарок. Хочешь подарок? Будет тебе подарок. Будет тебе кукла. Лошадка. Самолетик. Все, что захочешь. Чего тебе хочется?
– Больше всего, наверное, футбольные гетры, – говорит внучка. – С защитными щитками.
– Получишь, – о твечает дедушка. – Б удут тебе гетры с десятью щитками.
Старшая глядит вверх на папу.
– Такие правда бывают или это выдумки?
– Выдумки, – говорит папа.
– Правда, – возражает дедушка.
Они садятся за столик. Дети обедают. Дедушка хочет просто кофе. С венской булочкой. Он голоден, но замечает, что сын раздражен, а он не хочет быть обузой.
– Какая к черту венская булочка, – возмущается сын. – У тебя диабет, пойми уже наконец. Тебе нужно следить за уровнем сахара. Венская булочка. Уму непостижимо. Ты что, не понимаешь, что будет, если уровень сахара у тебя в крови так и будет повышаться?
Сын выговаривает все это прямо перед детьми. Он говорит так громко, что мамы или старшие сестры, которые сидят за соседним столиком, тоже это слышат. Он разговаривает с собственным отцом как с малым ребенком. Но дедушка не сердится. И не грубит ему в ответ. Сын идет к кассе, чтобы сделать заказ.
– Ну он и бука, – говорит дедушка.
– Что у тебя с глазами? – спрашивает внучка.
Сын возвращается с двумя пластиковыми подносами, себе он купил лазанью, детям пиццу, папе бутерброд. С сыром. Даже не с яйцом или тресковой икрой. Дети принимаются за еду.
– Ешьте, – говорит сын. – Сиди ровно. Не раскачивайся на стуле. Не чавкай. Ешь вилкой. Салфетку используй. Еду на пол не бросай. Господи, вы можете просто спокойно поесть? Что вы вытворяете? Ешьте уже!
– Они же дети, – вступается дедушка.
– Вот поэтому и важно, чтобы они поели, – отвечает папа.
Дедушка улыбается. Он меняет тему. Он отпускает несколько шуток, чтобы разрядить обстановку за столом. Дедушкино обаяние никуда не делось. И ямочки на щеках тоже. Он точно знает, когда и какая интонация уместна, чтобы продать кому угодно и что угодно. Он может продать песок пляжу. Он может продать мороженое мороженщику. Он может продать ветер урагану. И когда обстановка за столом накаляется, у него найдутся остроты, которые любого рассмешат. А уж старшую и подавно. Она так хохочет, что кусочки пиццы разлетаются по столу. Только вот ее папа, похоже, совсем забыл, как люди смеются. У него даже уголок рта не дрогнул, когда дедушка взялся рассказывать старую добрую шутку про помидор, который переходил улицу и угодил под машину. Даже когда дедушка заменил помидор на морковку и морковный сок. И вообще не помогло, когда дедушка пошутил по поводу проходящего мимо папы с двумя детьми, что, мол, только евреи не покупают детям мороженое, когда те его так выпрашивают.
– Прошу тебя, – говорит сын. – Пожалуйста, не говори так.
– Как так? – удивляется дедушка. – Про евреев?
– Ты что, расист? Считаешь, что евреем быть хуже, чем кем-то другим?
Папа ест дальше свою лазанью. Дедушка пьет свой кофе.
– Можно я пойду поиграю? – с прашивает внучка.
Папа кивает.
– Сначала скажи спасибо за обед.
– Спасибо за обед, – говорит внучка.
– Пожалуйста.
Папа выжидательно смотрит на дедушку.
– Начнем с того, – говорит дедушка, – ч то бутерброд – это совсем не обед. И чего ты вообще хочешь? Чтобы я говорил спасибо собственному сыну за чашку кислого кофе и черствый бутерброд с сыром? А дальше что? Мне придется платить за то, что ты следишь за моей почтой, пока я в отъезде? Будешь мне счет выставлять за то, что заполняешь мои налоговые декларации? Деньги будешь брать за то, что бронируешь мне билеты на самолет?
Дедушка замолкает.
Он не может смириться со скупердяйством сына. Он хотел бы показать ему пример того, как ведет себя настоящий мужчина, а настоящий мужчина не угощает своего отца мерзким на вкус кофе и заплесневелым бутербродом с сыром и не ждет, что ему скажут за это спасибо. Тем более если он старший сын. Старший сын гордиться должен тем, что на нем лежит забота об отце. Сын спасибо должен сказать, что заполняет ему декларацию. Но нет, его сыну далеко до того, чтобы испытывать благодарность. Вместо этого он закидывает его вопросами. Он хочет знать, на что дедушка живет, хорошо ли ему в той другой стране, не нашел ли он себе кого, повлияла ли политическая обстановка на туризм и насколько безопаснее или, наоборот, уязвимее дедушка чувствует себя теперь, когда в той стране произошли такие большие изменения за такое короткое время.
Дедушка отвечает на все вопросы. По крайней мере, на часть из них. Но он не понимает, почему папе все это так интересно. А может, и понимает. Очень хорошо понимает. Папа хочет держать его на крючке, чтобы сдать властям, если понадобится. Хочет оценить масштаб наследства. Уже сейчас хочет спланировать, как бы выжать деньжат по максимуму, когда дедушка наконец помрет. Дедушка перестает отвечать на вопросы. Они сидят молча.
– Ты тут надолго? – спрашивает папа.
– В пятницу уезжаю, – отвечает дедушка.
– Пропустишь, значит, ее день рождения, – говорит папа и качает головой.
– Не хочу мешать, – отвечает дедушка.
– Десять дней, – бормочет папа.
– Это, по-твоему, слишком много или мало? – уточняет дедушка. – Ты же сам мне билет заказывал.
Папа ничего не отвечает. Вместо этого он говорит:
– Тебе удобно в конторе?
– Раковина в ванной засорилась, – отвечает дедушка.
– Знаю, – говорит папа. – Там вантуз в шкафчике на кухне.
– Хорошо, – отвечает дедушка.
– А как там питомцы поживают? – спрашивает папа.
– Тараканы? – уточняет дедушка. – Тараканы забавные. С ними не так одиноко.
– Они разносят заразу, – говорит папа. – Могут заползти в ухо и отложить там яйца, пока человек спит.
– Глупости, – отвечает дедушка. – Тараканы водятся повсюду, во всем мире. Но только здесь с ними не могут смириться. А ведь они не опасны.
– Ты же не привез на этот раз никакой еды, правда? – спрашивает папа.
Дедушка не отвечает. Папа довольно долго молчит, уставившись в стол, а потом произносит:
– Нам надо поговорить.
* * *
Сын, который стал папой, как раз выходит из туалета в парке развлечений, когда начинает вибрировать телефон. Звонит дедушка его детей. Голос у него раздраженный. Папа стоит на продуваемой ветрами площади, он не знает, как их найти, указателей тут нет, идет дождь, повсюду мерзкие попрошайки, к тому же в метро шныряли контролеры, так что ему дважды пришлось сойти, в первый раз, потому что контролеры вошли в его вагон, а во второй, потому что он увидел людей, которые выглядели как контролеры, одетые в обычную одежду, а у него не было никакого желания рискнуть и остаться в вагоне. Сын вздыхает и объясняет, как пройти в парк. Он говорит своим самым спокойным, самым наставительным тоном.
– Если ты на площади и позади у тебя станция метро, войди в торговый центр с левого входа. Пройди сквозь крутящиеся двери. Мимо «Хемтекса», «Форекса», «Джей-Си» и фирмы, которая торгует косметикой со стенда посреди галереи. Затем поверни налево к парковке и спустись вниз на эскалаторе. Если увидишь вход в «Клас Олсон», развернись и пройди назад.
– Ладно, – говорит дедушка и кладет трубку.
Через двадцать минут папа входит в парк развлечений. Идет он, наклонившись вперед, словно движется против порывистого ветра. Щурится так, будто в зале идет дождь. Он прихрамывает. Он проходит прямо внутрь, не позвонив в звоночек на стойке, не заплатив за вход, не взглянув на таблички, гласящие, что здесь нужно снимать обувь. Он находит глазами сына и улыбается. Борода у него с проседью. Зубы желтые. Свитер белый, но с виду такой же замызганный, как внутренняя сторона воротничка рубашки.
– Ну и погодка, чтоб ее, – говорит папа и трясет головой.
Они обнимаются. Дедушка здоровается с внуками. Садится за стол и говорит, что хочет кофе и желательно что-нибудь сладкое к кофе, венскую булочку или шоколадное печенье. Сын приносит детский стул для младшего, которому годик, и идет к кассе. Когда он возвращается с едой, дедушка играет с младшим. Он свернул в комок салфетку и зажал ее в руке, крутит руками, перекрещивает их, а потом предлагает младшему выбрать правильную руку. Младший выбирает руку, методично, раз за разом, вид у него в меру увлеченный, как будто он уже успел понять, что иногда приходится заниматься не самыми захватывающими вещами, чтобы сделать приятное старшим родственникам.

