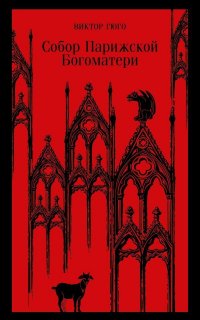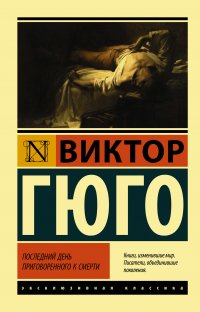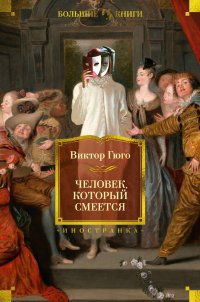
Читать онлайн Человек, который смеется бесплатно
- Все книги автора: Виктор Гюго
Victor Hugo
L’HOMME QUI RIT
Оформление обложки Андрея Саукова
Иллюстрации Жоржа Рошгросса и Даниэля Вьерхе
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Иностранка®
* * *
В Англии все величественно, даже дурное, даже олигархия. Английский патрициат – патрициат в полном смысле этого слова. Нигде не существовало феодального строя более блестящего, более жестокого и более живучего, чем в Англии. Правда, в свое время он был полезен. Именно в Англии надо изучать феодальное право, подобно тому как королевскую власть надо изучать во Франции.
Книгу эту, собственно, следовало бы озаглавить «Аристократия». Другую книгу, которая явится ее продолжением, можно будет назвать «Монархия». Обе они, если только автору суждено завершить этот труд, послужат введением в третью, которая замкнет собой весь цикл и будет озаглавлена «Девяносто третий год».
Отвиль-Хауз, апрель 1869 г.
Часть I
Море и ночь
Две предварительные главы
I
Урсус
1
Урсус и Гомо были связаны узами тесной дружбы. Урсус был человек, Гомо – волк[1]. Нравом они очень подходили друг к другу. Человек окрестил волка. Вероятно, он же придумал и свое прозвище; найдя для себя подходящим имя «Урсус», он счел имя «Гомо» вполне подходящим для зверя. Содружество человека и волка пользовалось успехом на ярмарках, на приходских праздниках, на уличных перекрестках, где толпятся прохожие; толпа всегда рада послушать балагура и накупить всяких шарлатанских снадобий. Ей нравился ручной волк, ловко, без принуждения исполнявший приказания своего хозяина. Это большое удовольствие – видеть укрощенного строптивца, и нет ничего приятней, чем наблюдать все разновидности дрессировки. Вот почему бывает так много зрителей на пути следования королевских кортежей.
Урсус и Гомо переходили с перекрестка на перекресток, с площадей Абериствита на площади Джедбурга, из одной местности в другую, из графства в графство, из города в город. Исчерпав все возможности на одной ярмарке, они отправлялись на другую. Урсус жил в балагане на колесах, который Гомо, достаточно вышколенный для этого, возил днем и стерег ночью. Когда дорога становилась трудной из-за рытвин, грязи или при подъемах в гору, человек впрягался в лямку и по-братски, бок о бок с волком, тащил возок. Так они вместе и состарились.
На ночлег они располагались где придется: среди невспаханного поля, на лесной прогалине, у скрещения нескольких дорог, у деревенской околицы, у городских ворот, на рыночной площади, в местах народных гуляний, на окраине парка, на церковной паперти. Когда возок останавливался на какой-нибудь ярмарочной площади, когда с разинутыми ртами сбегались кумушки и вокруг балагана собирался кружок зевак, Урсус принимался разглагольствовать, и Гомо с явным одобрением слушал его. Затем волк учтиво обходил присутствующих с деревянной чашкой в зубах. Так зарабатывали они себе на пропитание. Волк был образован, человек тоже. Волк был научен человеком, а может быть, научился сам всяким волчьим фокусам, которые повышали сбор.
– Главное, не выродись в человека, – дружески говаривал ему хозяин.
Волк никогда не кусался, с человеком же это порою случалось. Во всяком случае, Урсус имел поползновение кусаться. Урсус был мизантроп и, чтобы подчеркнуть свою ненависть к человечеству, сделался фигляром. Да и надо же было как-нибудь прокормиться, ибо желудок неизменно предъявляет свои права. Кроме того, желая проявить себя, а быть может, и погубить, этот мизантроп и скоморох стал лекарем. Да что там лекарем! Урсус был еще и чревовещателем. Он умел говорить, не шевеля губами. Он мог ввести в заблуждение окружающих, с изумительной точностью копируя голос и интонации любого из них. Он один подражал гулу целой толпы, что давало ему право на звание «энгастримита». Он так себя и величал. Урсус воспроизводил птичьи голоса: голос певчего дрозда, чирка, жаворонка, белогрудого дрозда – таких же скитальцев, как и он; благодаря этому своему таланту он мог по желанию в любую минуту вызвать у вас впечатление то площади, гудящей народом, то луга, оглашаемого мычанием стада; порою он бывал грозен, как рокочущая толпа, порою детски безмятежен, как утренняя заря. Такое дарование хотя и редко, но все же встречается. В прошедшем столетии некто Тузель, подражавший слитному гулу людских и звериных голосов и воспроизводивший крики всех животных, состоял при Бюффоне[2] в качестве человека-зверинца. Урсус был проницателен, крайне своеобразен и любознателен. Он питал склонность ко всяким россказням, которые мы называем баснями, и притворялся, будто сам верит им, – обычная хитрость лукавого шарлатана. Он гадал по руке, по раскрытой наудачу книге, предсказывал судьбу, объяснял приметы, уверял, что встретить черную кобылу – к несчастью, но что еще опаснее услышать, когда ты уже совсем готов в дорогу, вопрос: «Куда собрался?» – и называл себя «продавцом суеверий». «Я этого не скрываю, – говорил он, – вот в чем разница между архиепископом Кентерберийским и мной». Архиепископ, справедливо возмущенный этими словами, однажды вызвал его к себе. Однако Урсус искусно обезоружил его высокопреосвященство, прочитав собственного сочинения проповедь на день Рождества Христова, которая так понравилась архиепископу, что он выучил ее наизусть, произнес в храме и велел напечатать как свое произведение. За это он даровал Урсусу прощение.
Благодаря своему искусству врачевателя, а может быть, и вопреки ему, Урсус исцелял больных. Он лечил ароматическими веществами. Хорошо разбираясь в лекарственных травах, он умело пользовался огромными целебными силами, заключенными во множестве всеми пренебрегаемых растений: в гордовине, в белой и вечнозеленой крушине, в черной калине, бородавнике, в рамене; он лечил от чахотки росянкой; пользовался, по мере надобности, листьями молочая, которые, будучи сорваны у корня, действуют как слабительное, а сорванные у верхушки – как рвотное; исцелял горловые болезни при помощи наростов растения, именуемого «заячьим ушком»; знал, каким тростником можно вылечить быка и какой разновидностью мяты можно поставить на ноги больную лошадь; знал все ценные, благотворные свойства мандрагоры, которая, как всем известно, является растением двуполым. У него были лекарства на разные случаи. Ожоги он исцелял кожей саламандры, из которой у Нерона, по словам Плиния[3], была сделана салфетка. Урсус пользовался ретортой и колбой; он сам производил перегонку и сам же продавал универсальные снадобья. Ходили слухи, будто он даже сидел в сумасшедшем доме; ему оказали честь, приняв его за умалишенного, но вскоре выпустили на свободу, убедившись, что он всего-навсего поэт. Возможно, этого и не было: каждый из нас бывал жертвой подобных россказней.
В действительности Урсус был грамотеем, любителем прекрасного и сочинителем латинских виршей. Он обладал знаниями в двух областях, ибо шел по стопам и Гиппократа, и Пиндара[4]. В знании поэтического ремесла он мог бы состязаться с Рапеном и с Видой[5]. Он мог бы сочинять иезуитские трагедии не менее удачно, чем отец Бугур. Благодаря близкому знакомству с прославленными ритмами и размерами древних Урсус в своем обиходе пользовался ему одному свойственными образными выражениями и целым рядом классических метафор. О матери, впереди которой шествовали две дочки, он говорил: «Это дактиль»; об отце, за которым шли два его сына: «Это анапест»; о внуке, шагавшем между дедом и бабушкой: «Это амфимакр». При таком обилии знаний можно жить только впроголодь. Салернская школа[6] рекомендует: «Ешьте мало, но часто». Урсус ел мало и редко, выполняя таким образом лишь первую половину предписания и пренебрегая второй. Но это уж была вина публики, которая собиралась не каждый день и покупала не слишком часто. Урсус говорил: «Отхаркнешься поучительным изречением – станет легче. Волк находит утешение в вое, баран – в теплой шерсти, лес – в малиновке, женщина – в любви, философ же – в поучительном изречении». Урсус по мере надобности кропал комедии, которые сам же с грехом пополам и разыгрывал: это помогало продавать снадобья. В числе других творений он сочинил героическую пастораль в честь рыцаря Хью Миддлтона, который в 1608 году провел в Лондон речку. Эта речка спокойно протекала в шестидесяти милях от Лондона, в графстве Гартфорд; явился рыцарь Миддлтон и завладел ею; он привел с собою шестьсот человек, вооруженных заступами и мотыгами, стал рыть землю, понижая грунт в одном месте, повышая в другом, иногда подымая речку на двадцать футов, иногда углубляя ее русло на тридцать футов, соорудил из дерева наземные водопроводы, построил восемьсот мостов, каменных, кирпичных и бревенчатых, и вот в одно прекрасное утро речка вступила в пределы Лондона, который испытывал в то время недостаток в воде. Урсус преобразил эти прозаические подробности в прелестную буколическую сцену между Темзой и речкой Серпентайн. Мощный поток приглашает к себе речку, предлагая ей разделить с ним ложе. «Я слишком стар, – говорит он, – чтобы нравиться женщинам, но достаточно богат, чтобы оплачивать их». Это был остроумный и галантный намек на то, что сэр Хью Миддлтон произвел все работы за свой счет.
Урсус мастерски владел монологом. Будучи нелюдимым и вместе с тем словоохотливым, не желая никого видеть, но испытывая потребность поговорить с кем-нибудь, он выходил из затруднения, беседуя сам с собою. Кто жил в уединении, тот знает, до какой степени человеческой природе свойствен монолог. Слово, звучащее внутри нас, вызывает своего рода зуд. Обращаясь в пространство, мы как бы открываем предохранительный клапан. Разговор вслух наедине с собой производит впечатление диалога с Богом, которого мы носим в себе. Таково, как всем известно, было обыкновение Сократа. Он произносил речи перед самим собой. Точно так же поступал и Лютер. Урсус брал пример с этих великих мужей. Он обладал способностью раздваиваться, становясь своей собственной аудиторией. Он задавал себе вопросы и сам отвечал на них; он то превозносил себя, то осыпал оскорблениями. С улицы слышно было, как он один ораторствует в своем возке. Прохожие, у которых есть свое мерило для оценки незаурядных людей, говорили: «Вот идиот!» По временам, как мы только что сказали, Урсус бранил самого себя, но бывали минуты, когда он отдавал себе должное. Как-то в одной из таких кратких речей он с гордостью воскликнул: «Я изучил растение во всех его тайнах, я изучил стебель, почку, чашелистики, лепесток, тычинку, завязь, семяпочку, бурачок, спорангий и апотеций. Я постиг хромацию, осмосию и химосию – иными словами, образование цвета, запаха и вкуса». В этом аттестате, который Урсус выдавал Урсусу, была, несомненно, некая доля бахвальства, но пусть первый бросит в него камнем тот, кто не постиг хромации, осмосии и химосии.
К счастью, Урсус никогда не бывал в Нидерландах. Там его, без сомнения, взвесили бы, чтобы определить, обладает ли он должным весом, избыток или недостаток которого свидетельствует о том, что человек – колдун. В Голландии этот должный вес был мудро установлен законом. Это было удивительно просто и остроумно. Вас клали на чашу весов – и все сразу становилось ясным: если вы оказывались слишком тяжелым, вас вешали, если слишком легким – сжигали. Еще и теперь можно видеть в Аудеватере весы для взвешивания колдунов, но в наши дни на этих весах взвешивают сыр, – вот как выродилась религия! Тощему Урсусу, пожалуй, не поздоровилось бы от такого взвешивания. В своих странствиях он избегал Голландии – и хорошо делал. Впрочем, он, по-видимому, не покидал пределов Англии.
Как бы то ни было, Урсус, человек очень бедный и притом сурового нрава, завязав в лесу знакомство с Гомо, почувствовал влечение к бродяжничеству. Он взял волка себе в товарищи и стал скитаться с ним по дорогам, живя на вольном воздухе жизнью, полной неожиданностей. Урсус был человеком изобретательным, себе на уме, весьма искусным во врачебном деле и великим мастером на всякие фокусы. Он пользовался славой хорошего лекаря и хорошего фигляра; само собою разумеется, что его считали и чародеем, но лишь отчасти, ибо прослыть приятелем черта было в ту пору небезопасно. Говоря по правде, Урсус своим пристрастием к фармакопее и лекарственным растениям мог навлечь на себя подозрение, так как часто уходил собирать травы в угрюмые, непролазные чащи, где произрастает салат Люцифера и где, как это установил советник д’Анкр, рискуешь встретить в вечернем тумане вышедшего из-под земли человека, «кривого на правый глаз, без плаща, со шпагой на боку и совершенно босого». Но при всех странностях своего характера Урсус был слишком добропорядочным, чтобы насылать град, вызывать привидения, вихрем пляски замучить человека насмерть, внушать безмятежные или, напротив, печальные и полные ужасов сны и заклинаниями выводить из яиц четырехкрылых петухов, – подобных проделок за ним не водилось. Он был не способен на такие мерзости, как, например, говорить по-немецки, по-древнееврейски или по-гречески, не изучив этих языков, что является признаком либо гнусного коварства, либо природной болезни, вызываемой меланхолией. Если Урсус изъяснялся по-латыни, то только потому, что знал ее. Он не позволил бы себе говорить по-сирийски, так как не знал этого языка; кроме того, доказано, что сирийский язык – язык ведьм. В медицине Урсус не без основания отдавал предпочтение Галену перед Кардано[7], ибо Кардано, при всей своей учености, жалкий червь по сравнению с Галеном.
В общем, Урсус не принадлежал к числу лиц, которых часто тревожит полиция. Его возок был достаточно длинен и широк, чтобы он мог лежать в нем на сундуке, хранившем его не слишком роскошные пожитки. Он был обладателем фонаря, нескольких париков, кое-какой утвари, развешенной на гвоздях, а также музыкальных инструментов. Кроме того, у него была медвежья шкура, которую он напяливал на себя в дни больших представлений; он называл это «облачаться в парадный костюм». «У меня две шкуры; вот эта – настоящая», – говорил он и указывал на медвежью шкуру. Передвижной балаган принадлежал ему и волку. Кроме возка, реторты и волка, у него были флейта и виола да гамба, на которых он неплохо играл. Он сам изготовлял эликсиры. Все эти таланты иногда давали ему возможность поужинать. В потолке его лачуги было отверстие, через которое проходила труба чугунной печки, стоявшей почти вплотную к сундуку, так что деревянная стенка его даже слегка обуглилась. В печке было два отделения: в одном из них Урсус варил свои специи, в другом – картошку. По ночам волк, дружеской рукой посаженный на цепь, спал под возком. Гомо был черен, Урсус сед; Урсусу было лет пятьдесят, если не все шестьдесят. Его покорность человеческой судьбе была такова, что он, как выше упомянуто, питался картофелем, который в ту пору считался поганой пищей, годной лишь для свиней да каторжников. Он ел его, негодуя, но подчиняясь своей участи. Ростом он был невысок, но казался долговязым. Он горбился и был всегда задумчив. Согбенная спина старика – это груз прожитых лет. Урсусу на роду было написано быть печальным. Ему стоило труда улыбнуться и никогда не удавалось заплакать. Он не умел находить утешение в слезах и временное облегчение в веселье. Старик – это не что иное, как мыслящая развалина. Урсус и был такой развалиной. Краснобайство шарлатана, худоба пророка, воспламеняемость заряженной мины – таков был Урсус. В молодости он жил в качестве философа у одного лорда.
Все это происходило сто восемьдесят лет назад, в те времена, когда люди были немного более волками, чем в наши дни.
Впрочем, не намного.
2
Гомо не был обыкновенным волком. Судя по тому, как он набрасывался на кизил и на яблоки, его можно было принять за степного волка; темной окраской шерсти он походил на гиену, а воем, постепенно переходившим в лай, напоминал чилийскую дикую собаку, но глаза этого животного еще недостаточно изучены, и, может быть, оно есть лишь разновидность лисицы, между тем как Гомо был настоящим волком. Длина его равнялась пяти футам, а это немалый рост для волка даже в Литве; он был очень силен; смотрел он исподлобья, но это нельзя было ставить ему в вину; язык у него был мягкий, и он иногда лизал Урсуса; по спинному хребту у него щетинилась узкая полоска короткой шерсти; он был тощ, но это была здоровая худоба лесного зверя. До своего знакомства с Урсусом, когда ему не приходилось еще таскать возок, он без труда пробегал по сорок лье за ночь. Урсус, натолкнувшись на волка в чаще на берегу ручья, проникся к нему уважением, увидев, как он умно и осторожно ловит раков, и с удовлетворением признал в нем отличный экземпляр подлинного гвианского волка – купара, из породы так называемых собак-ракоедов.
Урсус предпочитал Гомо ослу в качестве вьючного животного. Ему было бы неприятно заставлять осла тащить возок; он слишком уважал это животное. К тому же он заметил, что осел, этот не понятый людьми четвероногий мечтатель, имеет неприятное обыкновение настораживать уши, когда философы изрекают какие-нибудь глупости. Между нами и нашей мыслью осел оказывается, таким образом, лишним свидетелем, а это стеснительно. В качестве друга Урсус предпочитал Гомо и собаке, так как полагал, что волку дружба с человеком дается труднее.
Вот почему Урсус довольствовался обществом Гомо. Гомо был для него больше чем другом – он был его подобием. Похлопывая волка по впалым бокам, Урсус говорил: «Я нашел свое второе издание».
Еще он говорил: «Когда я умру, всякому, кто пожелает получить представление обо мне, надо будет только изучить Гомо. Я оставлю его потомству в качестве моей вернейшей копии».
Английский закон, не слишком мягкий по отношению к хищным зверям, мог бы придраться к этому волку и притянуть его к ответу за смелость, с которой он свободно появлялся в городах; но Гомо пользовался неприкосновенностью, дарованной домашним животным одним из статутов Эдуарда IV. «Любое домашнее животное, – гласит этот статут, – может следовать куда угодно за своим хозяином». Кроме того, некоторое ослабление строгостей по отношению к волкам явилось результатом моды, распространившейся при последних Стюартах среди придворных дам, которые заводили вместо собак маленьких песцов, величиной с кошку, выписывая их за большие деньги из Азии.
Урсус передал Гомо часть своих талантов: научил его стоять по-человечьи, умерять свой гнев, заменяя его хмуростью, издавать глухое ворчанье вместо воя и так далее. А волк передал человеку часть волчьих познаний, научив его обходиться без крова, без хлеба, без огня и предпочитать голод в лесу рабству во дворце.
Возок Урсуса, своеобразная передвижная хижина, следовал в самых разных направлениях, не выходя, однако, за пределы Англии и Шотландии; он был установлен на четырех колесах и снабжен оглоблями для волка и лямкой для человека. Лямкой пользовались только при плохой дороге. Балаган был крепок, хотя и сколочен из тонких досок, обычно идущих на перегородки. Спереди у него была стеклянная дверь с маленьким балконом, своего рода кафедрой или трибуной, с которой Урсус произносил речи, сзади – глухая дверь с форточкой. Для входа в балаган, тщательно запиравшийся на ночь засовами и замками, служила откидная подножка в три ступеньки, прилаженная на шарнирах к внутренней стороне задней двери. Немало дождей и снега перевидал возок на своем веку. Когда-то он был окрашен, но теперь уже нельзя было установить, в какой именно цвет, ибо перемена погоды действует на дорожные возки точно так же, как смена царствований на придворных. Снаружи на стенке возка когда-то можно было разобрать надпись черными буквами по белому полю, постепенно расплывшуюся и стершуюся:
«Золото теряет ежегодно при переходе из рук в руки одна тысяча четырехсотую часть своего объема; это называется потерей в весе монеты; отсюда следует, что из миллиарда четырехсот миллионов золотом, находящихся в обращении на всем земном шаре, ежегодно пропадает один миллион. Это золото распыляется, улетучивается, носится в воздухе мельчайшим прахом, попадает в человеческие легкие, проникает в нашу совесть, приглушает, обременяет, отягчает ее, соединяется с душою богачей, которые становятся надменными, и с душою бедняков, которые ожесточаются».
Надпись эту, размытую дождями и стершуюся по милости провидения, к счастью, уже нельзя было прочитать, так как весьма вероятно, что это загадочное и вместе с тем довольно прозрачное рассуждение о золоте, проникающем в легкие, пришлось бы не по вкусу шерифам, провостам, маршалам и прочим носителям париков, стоящим на страже закона. Английское законодательство в ту пору шутить не любило. Быть жестоким считалось в порядке вещей. Беспощадность была исконным свойством судей, а жестокосердие – их второй натурой. Инквизиторы кишмя кишели. Джеффрис[8] породил целое племя себе подобных.
3
Внутри возка были еще две надписи. Над сундуком, на дощатой, выбеленной известкой стене, было выведено от руки чернилами:
Единственное, что следует знать
Барон и пэр Англии носит на голове золотой обруч с шестью жемчужинами.
Право на корону начинается с виконта.
Виконт носит корону с неограниченным количеством жемчужин; граф – жемчужную корону, зубцы которой перемежаются с небольшими земляничными листьями; у маркиза – зубцы и листья на одном уровне; у герцога – одни зубцы, без жемчужин; у герцога королевской крови – обруч, составленный из крестов и лилий; у принца Уэльского корона такая же, как у короля, но незамкнутая.
Герцог именуется светлейшим и могущественнейшим государем; маркиз и граф – высокородным и могущественным владетелем; виконт – благородным и могущественным господином; барон – истинным господином.
Обращение к герцогу – ваша светлость, к остальным пэрам – ваша милость.
Личность лорда неприкосновенна.
Пэры – это парламент и суд, concilium et curia, законодательство и правосудие.
Most honourable (высокочтимый) значит больше, чем right honourable (досточтимый).
Лорды-пэры признаются лордами по праву рождения, лорды не пэры – лордами из учтивости; только пэры – настоящие лорды.
Лорд не приносит присяги ни королю, ни на суде. Достаточно одного его слова. Он говорит: Заверяю своей честью.
Члены палаты общин, представляющие народ, будучи вызваны в палату лордов, смиренно обнажают головы перед лордами, сидящими в головных уборах.
Палата общин представляет билли в палату лордов через депутацию из сорока членов, которые при вручении билля отвешивают три глубоких поклона.
Лорды препровождают в палату общин свои билли через простого писца.
В случае разногласия между палатами они совместно совещаются в «расписном зале», причем пэры сидят в шляпах, а члены палаты общин стоят с непокрытой головой.
По закону, изданному Эдуардом VI, лорды пользуются привилегией непреднамеренного убийства. Лорд, убивший простолюдина, не подлежит судебному преследованию.
Бароны приравниваются по рангу к епископам.
Чтобы быть бароном-пэром, надо получить от короля пожалование per baroniam integram, то есть полным баронским поместьем.
Полное баронское поместье состоит из тринадцати с четвертью дворянских ленов, каждый стоимостью в двадцать фунтов стерлингов, что составляет четыреста марок.
Баронский замок – caput baroniae – переходит по наследству на тех же основаниях, что и корона Англии, то есть переходит к дочерям лишь при отсутствии детей мужского пола и в таком случае достается старшей дочери; caeteris filiabus aliunde satisfactis[9].
Бароны носят титул лорда, от саксонского laford (классическое латинское – dominus и вульгарное латинское – lordus).
Старшие и следующие за ними сыновья виконтов и баронов – первые эсквайры королевства.
Старшие сыновья пэров имеют преимущество перед кавалерами ордена Подвязки; младшие сыновья преимущества не имеют.
Старший сын виконта в процессии следует за баронами и впереди всех баронетов.
Дочь лорда – леди, прочие английские девицы – мисс.
Все судьи признаются ниже пэров. Сержант носит капюшон из шкуры ягненка; судьи – капюшон de minuto vario – из белых шкурок любых мелких зверей, кроме горностая. Горностай носят только пэры и король.
Против лорда не допускается supplicavit[10].
Лорда нельзя посадить в обычную тюрьму. Он может быть заключен только в лондонский Тауэр.
Лорд, приглашенный в гости к королю, имеет право убить в королевском парке одну или две лани.
Лорду в его владениях предоставляется право баронского суда.
Выйти на улицу в мантии, взяв с собою для сопровождения только двух слуг, недостойно лорда. Он может появляться лишь с целой свитой приближенных дворян.
Пэры отправляются в парламент в каретах цугом; члены палаты общин этого права не имеют. Некоторые пэры отправляются в Вестминстер в открытых двухместных колясках. Украшенные гербами и коронами коляски и кареты разрешается иметь только лордам: это одна из их привилегий.
Лорд может быть приговорен к штрафу только лордами, и притом в размере не свыше пяти шиллингов, исключение составляет герцог, которого можно оштрафовать на десять шиллингов.
Лорд может иметь у себя в доме шесть иностранцев. Всякий другой англичанин – только четырех.
Лорд может беспошлинно держать у себя в погребе восемь бочек вина.
Только лорд не подлежит явке к окружному шерифу.
Лорд не облагается податью на содержание войска.
Когда это угодно лорду, он на свои средства набирает полк и предоставляет его в распоряжение короля; так поступают их светлости герцог Атольский, герцог Гамильтон и герцог Нортумберлендский.
Лорд может быть судим только лордами.
В гражданских делах он может требовать пересмотра и отмены решения, если в составе суда не было по крайней мере одного дворянина.
Лорд сам назначает своих капелланов.
Барон назначает трех капелланов, виконт – четырех, граф и маркиз – пять, герцог – шесть.
Лорд не может быть подвергнут пытке даже при обвинении в государственной измене.
Лорд не может быть заклеймен палачом.
Лорд всегда считается ученым человеком, даже если он не умеет читать. Он грамотен по праву рождения.
Герцог появляется под балдахином всюду, за исключением тех мест, где присутствует король; виконт имеет балдахин у себя дома; у барона есть кубок с крышкой для пробы вина, крышку слуга держит под кубком, пока барон пьет; баронесса в присутствии виконтессы имеет право пользоваться услугами одного человека для ношения шлейфа.
Восемьдесят шесть лордов или старших сыновей лордов занимают председательские места за восемьюдесятью шестью столами на пятьсот приборов каждый, накрываемыми ежедневно в королевском дворце за счет округи, в которой расположена королевская резиденция.
Простолюдину, ударившему лорда, отсекают кисть руки.
Лорд почти то же, что король.
Король почти то же, что Бог.
Вся земля – собственность лордов.
Англичане, обращаясь к Богу, называют его «милорд».
Против этой надписи можно было прочесть другую, написанную таким же способом. Вот она:
Утешение, которым должны довольствоваться те, кто ничего не имеет
Генри Оверкерк, граф Грентэм, заседающий в палате лордов между графом Джерси и графом Гриничем, имеет сто тысяч фунтов стерлингов ежегодного дохода. Его милости принадлежит мраморный дворец Грентэм-Террас, знаменитый своим лабиринтом коридоров, представляющим собою настоящую достопримечательность. В этом дворце есть алый коридор из сарранколинского мрамора, коридор из астраханской лумачеллы, белый – из ланкийского мрамора, черный – из алабандского мрамора, серый – из старемского мрамора, желтый – из гессенского мрамора, зеленый – из тирольского, красный – наполовину из крапчатого богемского мрамора, наполовину из кордовской лумачеллы, темно-синий – из генуэзского мрамора, фиолетовый – из каталонского гранита, траурный – из сланцев Мурвиедро с белыми и черными прожилками, розовый – из альпийского циполина, жемчужный – из нонетской лумачеллы и разноцветный коридор, называемый «придворным», – из пестрой брекчии.
Ричард Лаутер, виконт Лонсдейл, имеет в Уэстморленде замок Лаутер; необыкновенно пышный подъезд этого замка как бы приглашает королей посетить его.
Ричард, граф Скарборо, виконт и барон Лэмл, виконт Уотерфорд в Ирландии, лорд-лейтенант и вице-адмирал графства Нортумберлендского, графства Дерхемского с одноименным городом, владеет двумя замками в Стэнстеде, старым и новым, где всеобщее внимание привлекает великолепная решетка, охватывающая полукругом бассейн с фонтаном необычайной красоты. Сверх того ему принадлежит замок в Лэмл.
Роберту Дарси, графу Холдернесу, принадлежит родовой замок Холдернес с баронскими башнями и огромным французским парком, где он совершает прогулки в карете, запряженной шестеркой лошадей, с двумя форейторами, как и подобает пэру Англии.
Чарльз Боклерк, герцог Сент-Олбенс, граф Барфорд, барон Хеддингтон, первый сокольничий Англии, рядом с королевским дворцом в Виндзоре владеет дворцом, нисколько не проигрывающим от этого соседства.
Чарльз Бодвилл, лорд Робертс, барон Труро, виконт Бодмин, владеет в Кембридже поместьем Уимпл, где выстроены три дворца с тремя фронтонами, из коих один – в виде арки, а два – треугольные. Въездная аллея обсажена четырьмя рядами деревьев.
Высокородный и могущественный лорд Филипп Герберт, виконт Кардиф, граф Монтгомери, граф Пемброк, пэр и владетель Кендола, Мармиона, Сент-Квентина и Чарленда, смотритель прудов в графствах Корнуэле и Девоне, наследственный наблюдатель коллегии Иисуса, является собственником чудесного Уилстонского сада, в котором есть два фонтана, превосходящие красотою версальские фонтаны христианнейшего короля Людовика XIV.
Чарльз Сеймур, герцог Сомерсетский, владеет на Темзе виллой Сомерсет-Хауз, ничем не уступающей вилле Памфили в Риме. На величественном камине обращают на себя внимание две китайские фарфоровые вазы эпохи Юаньской династии, оцениваемые в полмиллиона на французские деньги.
В Йоркшире Артур, лорд Ингрэм, виконт Ирвинг, владеет дворцом Темпл-Ньюхем, к которому подъезжают через триумфальную арку; широкие и плоские крыши этого дворца похожи на мавританские террасы.
Роберту, лорду Феррес-Чартли, Борчиру и Ловену, принадлежит в Лестершире замок Стаунтон-Гарольд с парком, имеющим форму храма с фронтоном; большая церковь с четырехугольной колокольней, высящаяся на берегу пруда, входит в состав поместья.
В графстве Нортгемптон Чарльз Спенсер, граф Сандерленд, член тайного совета его величества, владеет поместьем Олтроп, в которое въезжают через кованые железные ворота на четырех столбах, украшенных мраморными группами.
Лоуренсу Хайду, графу Рочестеру, принадлежит в Серрее поместье Нью-Парк, с замком, украшенным художественно изваянным акротерием[11], с обсаженными деревьями круглой лужайкой и дубравами, на опушке которых высится искусно закругленный холм, увенчанный большим, издалека видным дубом.
Филипп Стенхоп, граф Честерфилд, владеет в Дербишире поместьем Бредби, в котором есть великолепный павильон с часами, соколиный двор, кроличьи садки и прелестные пруды, четырехугольные и овальные, в том числе один пруд в виде зеркала, с двумя фонтанами, бьющими очень высоко.
Лорду Корнуэлу, барону Ай, принадлежит Бром-Холл – дворец XIV века.
Высокородный Олджернон Кейпл, виконт Молден, граф Эссекс, владеет в Гортфордшире замком Кешиобери, имеющим форму буквы Н, и лесными угодьями, изобилующими дичью.
Лорду Чарльзу Оссалстоуну принадлежит в Мидлсексе замок Доули, окруженный садами в итальянском вкусе.
Джеймс Сесил, граф Солсбери, в семи лье от Лондона владеет дворцом Гартфилд-Хауз, с четырьмя господскими павильонами, с дозорной башней в центре и парадным двором, выложенным белыми и черными плитами, как в Сен-Жермене. Дворец этот, занимающий по фасаду двести семьдесят два фута, был выстроен в царствование Иакова I государственным казначеем Англии, прадедом нынешнего владельца. Кровать одной из графинь Солсбери стоит огромных денег: она целиком сделана из бразильского дерева, признанного вернейшим средством от змеиного укуса, которое называется milhombres, что значит «тысячи мужчин». На этой кровати золотыми буквами выведена надпись: Honni soit qui mal y pense[12].
Эдуард Рич, граф Уорик и Холленд, – собственник замка Уорик-Касл, где камины топят целыми дубами.
В приходе Севн-Оукс Чарльзу Секвиллу, барону Бекхерсту, виконту Кренфилду, графу Дорсету и Мидлсексу, принадлежит поместье Ноул, по величине не уступающее городу; в нем выстроены параллельно друг другу три дворца, длинных как шеренги пехоты; на главном здании с лицевой стороны – десять ступенчатых щипцов, а над воротами – замковая башня, окруженная четырьмя малыми башнями.
Томас Тинн, виконт Уэймет, барон Уорминстер, – собственник дворца Лонг-Лит, в котором почти столько же каминов, фонарей, беседок, арок, павильонов, башенок круглых, башенок со шпилями, сколько и в замке Шамбор во Франции, принадлежащем королю.
Генри Ховард, граф Суффолк, владеет в двенадцати лье от Лондона, в Мидлсексе, дворцом Одлейн, едва ли уступающим в размере и величественности Эскуриалу испанского короля.
В Бедфордшире Рест-Хауз-энд-Парк, обнесенный рвами и стенами, – целая округа с лесами, реками, холмами, – составляет собственность маркиза Генри Кента.
В Гартфорде Гемптон-Корт с огромной зубчатой башней и садом, который отделен от леса прудом, принадлежит Томасу, лорду Конингсби.
Графу Роберту Линдсею, лорду и наследственному владельцу Уолхемского леса, принадлежит в Линкольншире замок Гримсторф с длинным фасадом, украшенным высокими башенками в виде частокола, с парками, прудами, фазаньими дворами, овчарнями, лужайками, рощами, площадками для игр, высокоствольными деревьями, узорными цветниками, разбитыми на квадраты и ромбы и похожими на большие ковры с полянами для состязаний в верховой езде и с величественной круговой аллеей, служащей въездом в замок.
В Суссексе высокочтимому Форду, лорду Грею, виконту Глендейлу и графу Танкарвиллу, принадлежит большой квадратный замок с двумя симметрически расположенными по обеим сторонам парадного двора флигелями, над которыми высятся дозорные башни.
Дворец Ньюхем Пэдокс, в Уорикшире, со стеклянным четырехскатным щипцом и с двумя четырехугольными рыбными садками в парке, составляет собственность графа Денби, который в Германии носит еще титул графа Рейнфельден.
Замок Уайтхем, в графстве Берк, с его французским парком, в котором сооружены четыре грота из тесаного камня, с его высокой зубчатой башней, подпираемой двумя крепостного типа контрфорсами, принадлежит лорду Монтегю, графу Эбингдону, который является также собственником баронского замка Райкот, над въездными воротами которого красуется девиз: Virtus ariete fortior[13].
Уильям Кавендиш, герцог Девонширский, владеет шестью замками, и в том числе двухэтажным Четсоуртом, строго выдержанным в греческом стиле; кроме того, его светлости принадлежит в Лондоне дворец с фигурой льва, обращенной спиною к королевскому дворцу.
Виконт Кинелмики, ирландский граф Корк, владеет в Пикадилли дворцом Барлингтон-Хауз с обширными садами, простирающимися за пределы Лондона. Ему принадлежит также дворец Чизуик, состоящий из девяти великолепных зданий, и Ландсборо, где рядом со старым дворцом выстроен новый.
Герцог Бофорт – собственник Челси, состоящего из двух дворцов в готическом стиле и одного – во флорентийском; ему же принадлежит в Глостере дворец Бедмингтон, от которого лучами расходятся во все стороны прекрасные широкие аллеи. Высокородный и могущественный принц Генри, герцог Бофорт, носит также титул маркиза и графа Уостера, барона Раглана, барона Пауэра и барона Герберт-Чипстоу.
Джон Холлс, герцог Ньюкасл и маркиз Клер, владеет замком Болсовер, четырехугольная дозорная башня которого производит величественное впечатление, а также замком Хоутон в Ноттингеме, где есть бассейн с круглой пирамидой в центре, наподобие Вавилонской башни.
Лорд Уильям Кревен, барон Кревен-Хемпстед, имеет в Уорикшире свою резиденцию – Комб-Эби с самым красивым фонтаном в Англии, а в Беркшире два баронских замка: Хемпстед-Маршал с фасадом, украшенным пятью стеклянными балконами в готическом стиле, и Эсдоун-Парк, выстроенный в лесу у скрещения двух дорог.
Лорд Линней Кленчарли, барон Кленчарли-Генкервилл, маркиз Корлеоне Сицилийский, владеет замком Кленчарли, выстроенным в 914 году Эдуардом Старым для защиты от датчан; ему же принадлежат дворцы: Генкервилл-Хауз в Лондоне и Корлеоне-Лодж в Виндзоре, а также восемь кастелянств: в Брукстоне на Тренте, с правом разработки алебастровых копей, затем Гемдрайт, Хомбл, Морикемб, Тренуордрайт, Хелл-Кертерс с замечательным источником, Пиллинмор с торфяными болотами, Рикелвер близ старинного города Уайкнаунтон на горе Мойл-Энли; затем девятнадцать небольших городков и деревень с правом феодального суда над населением, а также вся округа Пенснет-Чейз, что в совокупности приносит его милости сорок тысяч фунтов стерлингов годового дохода.
Сто семьдесят два пэра, облаченных властью в царствование Иакова II, получают в совокупности миллион двести семьдесят две тысячи фунтов стерлингов годового дохода, что составляет одиннадцатую часть доходов Англии.
Сбоку, против последнего имени, лорда Линнея Кленчарли, рукою Урсуса была сделана пометка:
«Мятежник; в изгнании; имущество, земли и поместья под секвестром. И поделом».
4
Урсус восхищался Гомо. Мы восхищаемся тем, что нам близко. Это – закон.
Внутренним состоянием Урсуса была постоянная глухая ярость; его внешним состоянием была ворчливость. Урсус принадлежал к числу тех, кто недоволен мирозданием. В системе природы он выполнял роль оппозиции. Он видел мир с дурной стороны. Никто и ничто на свете не удостаивалось его одобрения. Для него сладость меда не оправдывала укуса пчелы; распустившаяся на солнце роза не оправдывала желтой лихорадки, иначе говоря – romito negro, вызванной тем же солнцем. По всей вероятности, наедине с самим собой Урсус резко осуждал Господа. Он говорил: «Дьявол изворотлив; Бог виноват в том, что спустил его с цепи». Он одобрял только владетельных особ, но выказывал это одобрение довольно своеобразно. Однажды, когда Иаков II принес в дар Богоматери ирландской католической часовни тяжелую золотую лампаду, Урсус, как раз проходивший мимо этой часовни с Гомо, который, впрочем, относился к таким событиям более равнодушно, стал во всеуслышание выражать свой восторг. «Конечно, – воскликнул он, – Богородица гораздо больше нуждается в золотой лампаде, чем вот эта босоногая детвора – в башмаках!»
Такие доказательства «благонамеренности» Урсуса и его очевидное уважение к властям предержащим, вероятно, немало содействовали тому, что власти довольно терпимо относились к его кочевому образу жизни и необычайному союзу с волком. Иногда вечерком он по дружеской слабости разрешал Гомо поразмяться и побродить на свободе вокруг возка. Волк был не способен злоупотребить доверием, и в «обществе», то есть на людях, он вел себя смирнее пуделя. Однако, попадись он в дурную минуту на глаза полицейским, не миновать бы неприятностей; вот почему Урсус старался как можно чаще держать ни в чем не повинного волка на цепи.
С точки зрения политической его надпись насчет золота, ставшая неразборчивой, да к тому же малопонятная по существу, представлялась простой мазней на фасаде балагана и не навлекала на Урсуса никаких подозрений. Даже после Иакова II и в «досточтимое» царствование Вильгельма и Марии возок Урсуса спокойно разъезжал по глухим городкам английских графств. Урсус исколесил всю Великобританию, продавая изготовленные им зелья и снадобья и проделывая с помощью волка свои шарлатанские фокусы; он легко ускользал от сетей полиции, раскинутых в ту пору по всей Англии для очистки страны от бродячих шаек и главным образом для задержания «компрачикосов».
В сущности это было справедливо. Урсус не принадлежал ни к одной бродячей шайке. Урсус жил с Урсусом сам по себе, и только волк присутствовал при его беседах с самим собой. Пределом мечтаний Урсуса было родиться караибом[14]. Но так как это было не в его власти, то он стал отшельником. Отшельничество – это форма дикарства, которую соглашается терпеть цивилизованное общество. Чем дольше мы скитаемся по свету, тем более мы одиноки. Этим объяснялись постоянные странствования Урсуса. Долгое пребывание в одном месте казалось ему переходом от свободного состояния к неволе. Вся его жизнь прошла в скитаниях. При виде города в нем росла тяга к чаще, к лесным дебрям, к пещерам в скалах. В лесу он был у себя дома. Но и глухой гул толпы на площадях не смущал его, так как напоминал шум деревьев. В известной мере толпа удовлетворяет склонность к отшельничеству. Не нравились Урсусу в его повозке только дверь и окна, придававшие ей сходство с настоящим домом. Он достиг бы своего идеала, если бы мог поставить на колеса пещеру и путешествовать в ней.
Мы уже говорили, что Урсус не улыбался; он только смеялся – временами даже часто; но это был горький смех. В улыбке чувствуется согласие, тогда как смех часто означает отказ.
Главной особенностью Урсуса была ненависть к роду человеческому. В этой ненависти он был неумолим. Он пришел к твердому убеждению, что жизнь человека отвратительна; он заметил, что существует своего рода иерархия бедствий: над королями, угнетающими народ, есть война, над войною – чума, над чумою – голод, а над всеми бедствиями – глупость человеческая; удостоверившись, что уже самый факт существования является в какой-то мере наказанием, и видя в смерти избавление, он тем не менее лечил больных, которых к нему приводили. У него были укрепляющие лекарства и снадобья для продления жизни стариков. Он ставил на ноги калек и потом язвительно говорил им: «Ну вот, ты снова на ногах. Можешь теперь вволю мыкаться по этой юдоли слез». Увидев нищего, умирающего от голода, он отдавал ему все деньги, какие у него были, и ворчал: «Живи, несчастный! Ешь! Старайся протянуть подольше! Не я сокращу срок твоей каторги». Затем, потирая руки, приговаривал: «Я делаю людям столько зла, сколько могу».
Через окошечко в задней стене балагана прохожие имели возможность прочитать на потолке крупную надпись, начертанную углем: «Урсус-философ».
II
Компрачикосы
1
Кому в наши дни известно слово «компрачикосы»? Кому понятен его смысл?
Компрачикосы, или компрапекеньосы, представляли собой необычайное, гнусное сообщество бродяг, знаменитое в XVII веке, забытое в XVIII и совершенно неизвестное в наши дни. Компрачикосы, подобно «отраве для получения наследства», являются характерной подробностью старого общественного уклада. Это деталь древней картины нравственного уродства человечества. С точки зрения истории, сводящей воедино отдельные события, компрачикосы были одним из проявлений отвратительного факта, именуемого рабством. Легенда об Иосифе, проданном братьями, – одна из глав повести о компрачикосах. Они оставили память о себе в уголовных кодексах Испании и Англии. Разбираясь в темном хаосе английских законодательных актов, наталкиваешься на следы этого чудовищного явления, подобно тому как находишь в первобытных лесах отпечаток ноги дикаря.
«Компрачикос», так же как и «компрапекеньос», – составное испанское слово, означающее «скупщик детей».
Компрачикосы вели торговлю детьми.
Они покупали и продавали детей.
Но не похищали их. Кража детей – это уже другой промысел.
Что же они делали с этими детьми?
Они делали из них уродов.
Для чего?
Для забавы.
Народ нуждается в забаве. Короли тоже. Улице нужен паяц; дворцам нужен гаер. Одного зовут Тюрлюпен, другого – Трибуле[15].
Усилия, которые затрачивает человек в погоне за весельем, заслуживают порой внимания философа.
Что представляют собою эти вступительные страницы?
Главы одной из самых страшных книг, которую можно было бы назвать: Эксплуатация несчастных счастливыми.
2
Ребенок, предназначенный служить игрушкой для взрослых, – такое явление не раз имело место в истории. (Оно имеет место и в наши дни.) В простодушно-жестокие эпохи оно вызывало к жизни особый промысел. Одной из таких эпох был XVII век, называемый «великим». Это был век чисто византийских нравов; простодушие сочеталось в нем с развращенностью, жестокость с чувствительностью – любопытная разновидность цивилизации! Нечто вроде жеманного тигра. Мадам де Севинье[16] мило щебетала о костре и колесовании. А эксплуатация детей была явлением обычным: историки, льстившие XVII веку, скрыли эту язву, но им не удалось скрыть попытку Венсана де Поля[17] залечить ее.
Чтобы сделать из человека хорошую игрушку, надо приняться за дело заблаговременно. Превратить ребенка в карлика можно, пока он еще мал. Дети служили забавой. Нормальный ребенок не очень забавен. Горбун куда потешнее.
Отсюда возникло настоящее искусство. Существовали подлинные мастера этого дела. Из нормального человека делали уродца. Человеческое лицо превращали в харю. Останавливали рост. Перекраивали ребенка наново. Искусственная фабрикация уродов производилась по известным правилам. Это была целая наука. Представьте себе ортопедию наизнанку. Нормальный человеческий взор заменялся косоглазием. Гармония черт вытеснялась уродством. Там, где Бог достиг совершенства, восстанавливался черновой набросок творения. И в глазах знатоков именно этот ребенок и был совершенством. Такие опыты искажения естественного облика производились и над животными: изобрели, например, пегих лошадей. У Тюренна[18] был пегий конь. А разве в наши дни не красят собак в голубой или зеленый цвет? Природа – это канва. Человек искони стремился прибавить к творению Божьему кое-что от себя. Он переделывает его иногда к лучшему, иногда к худшему. Придворный шут был не чем иным, как попыткой вернуть человека к состоянию обезьяны. Прогресс вспять. Изумительный образец движения назад. Одновременно делались попытки превратить обезьяну в человека. Герцогиня Барбара Кливленд, графиня Саутгемптон, держала у себя в качестве пажа обезьяну сапажу. У Френсис Сеттон, баронессы Дадли, жены мэра, занимавшего восьмое место на баронской скамье, чай подавал одетый в золотую парчу павиан, которого леди Дадли называла «мой негр». Кэтрин Сидли, графиня Дорчестер, отправлялась на заседание парламента в карете с гербом, на запятках которой торчали, задрав морды кверху, три павиана в парадных ливреях. Одна из герцогинь Мединасели, при утреннем туалете которой довелось присутствовать кардиналу Полу, приучила орангутанга надевать ей чулки. Обезьян возвышали до положения человека, зато людей низводили до положения скотов. Своеобразное смешение человека с животным, столь приятное для знати, ярко проявлялось в традиционной паре: карлик и собака; карлик был неразлучен с огромной собакой. Собака была неизменным спутником карлика. Они ходили как бы на одной сворке. Это сочетание противоположностей запечатлено во множестве памятников домашнего быта, в частности на портрете Джеффри Гудсона, карлика Генриетты Французской, дочери Генриха IV, жены Карла I.
Унижение человека ведет к лишению его человеческого облика. Бесправное положение завершалось уродованием. Некоторым операторам того времени превосходно удавалось вытравить с человеческого лица образ Божий. Доктор Конквест, член Аменстритской коллегии, инспектировавший торговлю химическими товарами в Лондоне, написал по-латыни книгу, посвященную этой хирургии наизнанку, изложив ее основные приемы. Если верить Юстусу Каррик-Фергюсу, основоположником этой хирургии является монах по имени Эйвен-Мор, что по-ирландски значит «Большая река».
Карлик немецкого властительного князя – уродец Перкео (кукла, изображающая его, – настоящее страшилище – выскакивает из потайного ящика в одном из гейдельбергских погребков) – был замечательным образчиком этого искусства, чрезвычайно разностороннего в своем применении.
Оно создавало уродов, для которых закон существования был чудовищно прост: им разрешалось страдать и вменялось в обязанность служить предметом развлечения.
3
Фабрикация уродов производилась в большом масштабе и состояла из многих разновидностей.
Уроды нужны были султану; уроды нужны были папе. Первому – чтобы охранять его жен; второму – чтобы возносить молитвы. Это был особый вид калек, неспособных к воспроизведению рода. Эти человекоподобные существа служили и сладострастию, и религии. Гарем и Сикстинская капелла были потребителями одной и той же разновидности уродов: первый – свирепых, вторая – пленительных.
В те времена умели делать многое, чего не умеют делать теперь; люди обладали талантами, которых мы лишились, – недаром благомыслящие умы кричат об упадке. Мы уже не умеем перекраивать живое человеческое тело: это объясняется тем, что искусство пытки нами почти утрачено. Раньше существовали виртуозы этого дела, теперь их больше нет. Искусство пытки упростилось до такой степени, что вскоре оно, быть может, совсем исчезнет. Отрезая живому человеку руки и ноги, вспарывая ему живот, вырывая внутренности, люди проникали в его организм, и это приводило к открытиям. От подобных успехов, которыми хирургия обязана была палачу, нам теперь приходится отказаться.
Операции эти не ограничивались в те давние времена изготовлением диковинных уродов для народных зрелищ, шутов, пополнявших штат королевских придворных, и кастратов – для султанов и пап. Они были чрезвычайно разнообразны. Одним из высших достижений этого искусства было изготовление «петуха» для английского короля.
В Англии существовал обычай, согласно которому в королевском дворце держали человека, певшего по ночам петухом. Этот полуночник, не смыкавший глаз в то время, как все спали, бродил по дворцу и каждый час издавал петушиный крик, повторяя его столько раз, сколько требовалось, чтобы заменить собою колокол. Человека, предназначенного для роли петуха, подвергали в детстве операции гортани, описанной в числе других доктором Конквестом. С тех пор как в царствование Карла II герцогиню Портсмутскую чуть не стошнило при виде слюнотечения, бывшего неизбежным результатом такой операции, к этому делу приставили человека с неизуродованным горлом, но самую должность упразднить не решились, дабы не ослабить блеска короны. Обычно на столь почетную должность назначали отставного офицера. При Иакове II ее занимал Уильям Самсон Кок[19], получавший за свое пение девять фунтов два шиллинга шесть пенсов в год.
В Петербурге, менее ста лет назад, – об этом упоминает в своих мемуарах Екатерина II – в тех случаях, когда царь или царица бывали недовольны каким-нибудь вельможей, последний должен был в наказание садиться на корточки в парадном вестибюле дворца и просиживать в этой позе иногда по нескольку дней, то мяукая, как кошка, то кудахтая, как наседка, и подбирая на полу брошенный ему корм.
Эти обычаи отошли в прошлое. Однако не настолько, как это принято думать. И в наши дни придворные квохчут в угоду властелину, лишь немного изменив интонацию. Любой из них подбирает свой корм если не из грязи, то с полу.
К счастью, короли не могут ошибаться. Благодаря этому противоречия, в которые они впадают, никого не смущают. Одобряя их действия, можно быть уверенным в своей правоте, а такая уверенность приятна. Людовик XIV не пожелал бы видеть в Версале ни офицера, поющего петухом, ни вельможу, изображающего индюка. То, что в Англии и в России поднимало престиж королевской и императорской власти, показалось бы Людовику Великому несовместимым с короной Людовика Святого. Всем известно, как он был недоволен, когда Генриетта, герцогиня Орлеанская, забылась до того, что увидала во сне курицу, – поступок, в самом деле весьма непристойный для особы, приближенной ко двору. Тот, кто принадлежит к королевскому двору, не должен интересоваться птичьим двором. Боссюэ[20], как известно, разделял возмущение Людовика XIV.
4
Торговля детьми в XVII столетии, как уже было упомянуто, дополнялась особым промыслом. Этой торговлей и этим промыслом занимались компрачикосы. Они покупали детей, по-своему обрабатывали это сырье, а затем перепродавали его.
Продавцы бывали всякого рода, начиная с бедняка-отца, освобождавшегося таким способом от лишнего рта, и кончая рабовладельцем, выгодно сбывавшим приплод от принадлежащего ему человеческого стада. Торговля людьми считалась обычным делом. Даже в наши дни право на нее отстаивали с оружием в руках. Достаточно вспомнить, что меньше столетия назад курфюрст Гессенский продавал своих подданных английскому королю, которому нужны были люди, чтобы посылать их в Америку на убой. К курфюрсту Гессенскому шли как к мяснику. Он торговал пушечным мясом. В лавке этого государя подданные были выставлены, как туши у мясника. Покупайте – продается!
В Англии во времена Джеффриса, после трагической авантюры герцога Монмута[21], было обезглавлено и четвертовано немало вельмож и дворян: жены и дочери их, оставшиеся вдовами и сиротами, были подарены Иаковом II его супруге – королеве. Королева продала этих леди Уильяму Пенну[22]. Король получил, вероятно, комиссионное вознаграждение и известный процент со сделки. Но удивительно не то, что Иаков II продал этих женщин, а то, что Уильям Пенн их купил. Впрочем, эта покупка находит себе если не оправдание, то объяснение в том, что, будучи поставлен перед необходимостью заселить целую пустыню, Пенн нуждался в женщинах. Женщины были как бы частью живого инвентаря.
Эти леди оказались недурным источником дохода для ее королевского величества. Молодые были проданы по дорогой цене. Не без смущения думаешь о том, что старых герцогинь Пенн, по всей вероятности, приобрел за бесценок.
Компрачикосы назывались также «чейлас» – индийское слово, означающее «охотники за детьми».
Долгое время компрачикосы действовали почти открыто. Иногда темные стороны общественного строя благоприятствуют развитию преступных промыслов; в подобных случаях они особенно живучи. В наши дни в Испании такое сообщество, возглавлявшееся бандитом Рамоном Селлем, просуществовало с 1834 по 1866 год; в течение тридцати лет оно держало в страхе три провинции: Валенсию, Аликанте и Мурсию.
Во времена Стюартов к компрачикосам при дворе относились довольно снисходительно. Иной раз правительство прибегало к их услугам. Для Иакова II они были почти instrumentum regni[23].
В те времена пресекали существование целых родов, проявивших непокорность или служивших почему-либо помехой, одним ударом уничтожали семьи, насильственно устраняли наследников. Иногда обманным образом лишали законных прав одну ветвь в пользу другой. Компрачикосы обладали умением видоизменять наружность человека, и это бывало полезно для политических целей. Изменить наружность человека лучше, чем убить его. Существовала, правда, железная маска[24], но это было слишком грубое средство. Нельзя наводнить Европу железными масками, между тем как уроды-фигляры могут появляться на улицах, не возбуждая подозрения; кроме того, железную маску можно сорвать, чего с живой маской сделать нельзя. Превратить в маску лицо человека – что может быть остроумнее этого? Компрачикосы подвергали обработке детей так же, как китайцы обрабатывают дерево. У них, как мы уже говорили, были секретные способы, особые приемы. Это искусство исчезло бесследно. Из рук компрачикосов выходило странное существо, остановившееся в своем росте. Оно вызывало смех; оно заставляло призадуматься. Компрачикосы с такой изобретательностью изменяли наружность ребенка, что родной отец не узнал бы его. Иногда они оставляли спинной хребет нетронутым, но перекраивали лицо. Они вытравляли природные черты ребенка, как спарывают метку с украденного носового платка.
У тех, кого предназначали для роли фигляра, весьма искусно выворачивали суставы; казалось, у этих существ нет костей. Из них делали гимнастов.
Компрачикосы не только лишали ребенка его настоящего лица, они лишали его и памяти. По крайней мере, в той степени, в какой это было им доступно. Ребенок не знал о причиненном ему увечье. Чудовищная хирургия оставляла след на его лице, но не в сознании. В лучшем случае он мог припомнить, что однажды его схватили какие-то люди, затем – что он заснул и что потом его лечили. От какой болезни – он не знал. Он не помнил ни прижигания серой, ни надрезов железом. На время операции компрачикосы усыпляли свою жертву при помощи какого-то одурманивающего порошка, слывшего волшебным обезболивающим средством. Этот порошок издавна был известен в Китае; им пользуются и в наши дни. Китай задолго до нас знал книгопечатание, артиллерию, воздухоплавание, хлороформ. Но в то время, как в Европе открытие сразу оживает, развивается и творит настоящие чудеса, в Китае оно остается в зачаточном состоянии и сохраняется в мертвом виде. Китай – это банка с заспиртованными в ней зародышами.
Раз мы уже заговорили о Китае, остановимся еще на одной подробности. В Китае с незапамятных времен существовало искусство, которое следовало бы назвать отливкой живого человека. Двухлетнего или трехлетнего ребенка сажали в фарфоровую вазу более или менее причудливой формы, но без крышки и без дна, чтобы голова и ноги проходили свободно. Днем вазу держали в вертикальном положении, а ночью клали на бок, чтобы ребенок мог спать. Дитя росло таким образом только в ширину, заполняя своим стиснутым телом и искривленными костями все полые места внутри сосуда. Это выращивание в бутылке длилось несколько лет. По истечении известного времени жертва оказывалась изуродованной непоправимо. Убедившись, что эксперимент удался и что урод вполне готов, вазу разбивали, и из нее выходило человеческое существо, принявшее ее форму. Это очень удобно: можно заказать себе карлика какой угодно формы.
5
Иаков II относился к компрачикосам терпимо. У него были на то уважительные причины: он сам не раз пользовался их услугами. Не всегда пренебрегают тем, что презирают. Этот низкий промысел, бывший на руку тому высокому промыслу, который именуется политикой, обрекался на жалкое существование, но не преследовался. Никакого надзора за ним не было, однако из виду его не упускали. Он мог пригодиться. Закон закрывал один глаз, король открывал другой.
Иногда король доходил до того, что сознавался в соучастии. Таково бесстыдство монаршей власти! Иногда жертву клеймили королевскими лилиями; с нее снимали печать, наложенную Богом, и заменяли клеймом короля. В семье Джеймса Эстли, родовитого дворянина и баронета, владельца замка Мелтон и констебля графства Норфолк, был такой проданный ребенок; на его лбу правительственный чиновник выжег каленым железом королевскую лилию. В некоторых случаях, когда по каким-либо причинам хотели удостоверить, что изменение в судьбе ребенка произошло не без участия короля, прибегали именно к этому средству. Англия всегда оказывала нам честь, пользуясь для своих собственных надобностей цветком лилии.
Компрачикосы напоминали индийцев-«душителей», с той разницей, что одни промышляли преступным ремеслом, а другие были фанатиками-изуверами; они жили шайками и занимались скоморошеством, но для отвода глаз. Это облегчало им переход с места на место. Они кочевали, появлялись то здесь, то там; отличаясь строгими правилами и религиозностью, они были не способны на воровство и ничем не походили на другие бродячие шайки. Народ долгое время неосновательно смешивал их с «испанскими и китайскими маврами». «Испанскими маврами» называли фальшивомонетчиков, а «китайскими» – мошенников. Совсем иное дело – компрачикосы. Это были честные люди. Можно быть о них какого угодно мнения, но они бывали честны до щепетильности. Они стучались в дверь, входили, покупали ребенка, платили деньги и уносили его с собой. Сделка совершалась так, что покупателей ни в чем нельзя было упрекнуть.
Среди компрачикосов были люди разных национальностей. Это название объединяло англичан, французов, кастильцев, немцев, итальянцев. Такое содружество обычно возникает в результате общности образа мыслей, общности суеверий, занятия одним и тем же ремеслом. В этом братстве бандитов левантинцы представляли Восток, уроженцы западного побережья Европы – Запад. Баски свободно объяснялись с ирландцами: баск и ирландец понимают друг друга, так как оба говорят на древнем пуническом наречии; кроме того, здесь играла роль тесная связь между католической Ирландией и католической Испанией. Эти дружеские отношения завершились повешением в Лондоне гаэльского лорда Брани, который был почти королем Ирландии, что послужило поводом к созданию Литримского графства.
Компрачикосы были скорее сообществом, чем племенем, скорее сбродом, чем сообществом. Это была голь, собравшаяся со всего света и превратившая преступление в ремесло. Это было лоскутное племя, скроенное из пестрых отрепьев. Каждый новый человек был здесь как бы еще одним лоскутом, пришитым к нищенским лохмотьям.
Бродяжничество было законом существования компрачикосов – они появлялись, потом исчезали. Тот, кого едва терпят, не может надолго осесть на одном месте. Даже в тех королевствах, где их промысел имел спрос при дворе и служил при случае подспорьем королевской власти, с ними порой обходились весьма сурово. Короли прибегали к их мастерству, а затем ссылали самих мастеров на каторгу. Эта непоследовательность объясняется непостоянством королевских прихотей. Таково уж свойство «высочайшей воли».
Кочевой промысел – что катящийся камень: он не обрастает мхом. Компрачикосы были бедны. Они могли бы сказать о себе то же, что сказала однажды изможденная, оборванная колдунья, увидев зажженный для нее костер: «Игра не стоит свеч». Возможно и даже вполне вероятно, что их главари, оставшиеся неизвестными и производившие торговлю детьми в крупных размерах, были богаты. Теперь, по прошествии двух столетий, трудно выяснить это обстоятельство.
Мы уже говорили, что компрачикосы представляли собой своего рода сообщество. У них были свои законы, своя присяга, свои обычаи. У них была, можно сказать, своя каббалистика. Если кому-нибудь в наши дни захотелось бы основательно познакомиться с компрачикосами, ему следовало бы съездить в Бискайю или в Галисию. Среди компрачикосов было много басков, и поэтому там, в горах, еще и теперь рассказывают о них легенды.
В наше время о компрачикосах вспоминают в Оярсуне, в Урбистондо, в Лесо, в Астигаре. Aguardate, niño, que voy a llamar al comprachicos![25] – пугают в тех местах матери своих детей.
Компрачикосы, подобно цыганам, устраивали сходбища; время от времени их вожаки собирались, чтобы посовещаться. В XVII столетии у них было четыре главных пункта для таких встреч. Один – в Испании, в ущелье Панкорбо; второй – в Германии, на лесной прогалине, носившей название «Злая Женщина», близ Дикирха, где находятся два загадочных барельефа, изображающих женщину с головой и мужчину без головы; третий – во Франции, на холме, где высилось колоссальное изваяние Палицы Обещания, в старинном священном лесу Борво-Томона, близ Бурбон-ле-Бена; четвертый – в Англии, за оградой сада, принадлежавшего Уильяму Челонеру, джисброускому эсквайру, в Кливленде, в графстве Йорк, между четырехугольной башней и стеной со стрельчатыми воротами.
6
Английские законы, направленные против бродяг, всегда отличались чрезвычайной строгостью. Казалось, в своем средневековом законодательстве Англия руководствовалась принципом: Homo errans fera errante pejor[26]. Один из специальных статутов характеризует человека, не имеющего постоянного местожительства, как существо «более опасное, чем аспид, дракон, рысь и василиск» (atrocior aspide, dracone, lynce et basilico). Цыгане, от которых Англия хотела избавиться, долгое время причиняли ей столько же хлопот, сколько волки, которых ей удалось истребить.
В этом отношении англичанин отличается от ирландца, который молится святым о здравии волка и величает его своим «крестным».
Однако английское законодательство, смотревшее, как мы знаем, сквозь пальцы на прирученного волка, ставшего чем-то вроде собаки, относилось так же терпимо к бродягам, кормившимся каким-нибудь ремеслом. Никто не преследовал ни скомороха, ни странствующего цирюльника, ни лекаря, ни разносчика, ни скитающегося алхимика, если только у них было ремесло, доставлявшее средства к жизни. Но и с этой оговоркой, и за этими исключениями вольный человек, каким был каждый бродяга, все же внушал опасение закону. Всякий праздношатающийся представлял собою угрозу общественному спокойствию. Характерное для нашего времени бесцельное шатание по белу свету было тогда явлением неизвестным; знали только существовавшее испокон веков бродяжничество. Достаточно было иметь тот особый вид, который принято называть «подозрительным» – хотя никто не может объяснить, что значит это слово, – чтобы общество схватило такого человека за шиворот: «Где ты проживаешь? Чем занимаешься?» И если он не мог ответить на эти вопросы, его ожидало строгое наказание. Железо и огонь были средствами воздействия, предусмотренными уголовным кодексом. Закон боролся с бродяжничеством прижиганиями.
Отсюда, как прямое следствие, вытекал неписаный «закон о подозрительных лицах», применявшийся на всей английской территории к бродягам (которые, надо сознаться, легко становились преступниками) и, в частности, к цыганам, изгнание которых неосновательно сравнивали с изгнанием евреев и мавров из Испании и протестантов из Франции. Что же касается нас, то мы не смешиваем облавы с гонением.
Компрачикосы, повторяем, не имели ничего общего с цыганами. Цыгане составляли определенную народность; компрачикосы же были смесью всех наций, как мы уже говорили, отбросами их, отвратительной лоханью с помоями. Компрачикосы в противоположность цыганам не имели собственного наречия; их жаргон был смесью самых разнообразных наречий; они изъяснялись на каком-то тарабарском языке, заимствовавшем свои слова из всех языков. Они в конце концов сделались, подобно цыганам, племенем, кочующим среди других племен; но их связывало воедино сообщество, а не общность происхождения. Во все исторические эпохи в необъятном океане человечества можно наблюдать отдельные ядовитые течения, распространяющие вокруг себя отраву. Цыгане составляли племя, компрачикосы же были своего рода масонским обществом, но это масонское общество не преследовало высоких идей, а занималось отвратительным промыслом. Наконец, было между ними различие и в религии. Цыгане были язычниками, компрачикосы – христианами, и даже хорошими христианами, как подобает братству, хотя и состоявшему из представителей всех народностей, но возникшему в благочестивой Испании.
Они были больше чем христианами – они были католиками, и даже больше чем католиками – они были рьяными почитателями папы. Притом они столь ревностно охраняли чистоту своей веры, что отказались соединиться с венгерскими кочевниками из Пештского комитата, во главе которых стоял некий старец, имевший вместо жезла посох с серебряным набалдашником, украшенным двуглавым австрийским орлом. Правда, эти венгры были схизматиками и даже праздновали 27 августа Успение, – омерзительная ересь!
В Англии при Стюартах компрачикосы по указанным нами причинам пользовались некоторым покровительством властей. Иаков II, пламенный ревнитель веры, преследовавший евреев и травивший цыган, по отношению к компрачикосам был добрым государем. Мы уже знаем почему: компрачикосы были покупателями человеческого товара, которым торговал король. Они весьма искусно устраивали внезапные исчезновения. Такие исчезновения иной раз требовались «для блага государства». Стоявший кому-нибудь поперек дороги малолетний наследник, попав к ним в руки и будучи подвергнут ими определенной операции, становился неузнаваемым. Это облегчало конфискацию имущества, это упрощало передачу родовых поместий фаворитам. Кроме того, компрачикосы были крайне сдержанны и молчаливы: обязавшись хранить безмолвие, они твердо блюли данное слово, что совершенно необходимо в государственных делах. Почти не было примера, чтобы они выдали королевскую тайну. Правда, это соответствовало их же собственным интересам: если бы король утратил к ним доверие, им грозила бы немалая опасность. Итак, с политической точки зрения они были подспорьем власти. Сверх того, эти мастера на все руки поставляли певчих святейшему отцу. Благодаря им можно было исполнять Miserere Аллегри[27]. Особенно чтили они Деву Марию. Все это нравилось папистам Стюартам. Иаков II не мог неприязненно относиться к людям, благочестие которых простиралось до того, что они фабриковали кастратов для церковных капелл. В 1688 году в Англии произошла смена династий. Стюарта вытеснил принц Оранский. Место Иакова II занял Вильгельм III.
Иаков II скончался в изгнании, а на его могиле совершилось чудо: его останки исцелили от фистулы епископа Отенского – достойное воздаяние за христианские добродетели низложенного монарха.
Вильгельм Оранский, не разделявший образа мыслей Иакова II и придерживавшийся в своей деятельности других принципов, сурово отнесся к компрачикосам. Он положил немало труда, чтобы уничтожить этот тлетворный сброд.
Статут, изданный в начале царствования Вильгельма III и Марии, обрушился со всей силой на сообщества компрачикосов. Это было для них жестоким ударом, от которого они уже не оправились. В силу этого статута члены шайки, изобличенные в преступных действиях, подлежали клеймению: каленым железом у них выжигалась на плече буква R, что значит rogue, то есть мошенник, на левой руке – буква Т, означающая thief, то есть вор, а на правой – буква М, означающая manslay, то есть убийца. Главари, «предположительно богатые люди, хотя с виду и нищие», подвергались collistrigium’y, то есть стоянию у позорного столба (pilori), и на лбу у них выжигали букву Р; их имущество подлежало конфискации; деревья в их угодьях вырубались, пни выкорчевывались. Виновные в недоносительстве на компрачикосов карались как их сообщники конфискацией имущества и пожизненным тюремным заключением. Что же касается женщин, входивших в состав шаек, то они подлежали наказанию, носившему название cucking-stool, – это была своего рода западня, а самый термин образовался из соединения французского слова coquine (непотребная женщина) и немецкого слова Stuhl (стул). Английские законы отличаются необыкновенной долговечностью: в английском уголовном кодексе это наказание до сих пор сохранилось для «сварливых женщин». Cucking-stool подвешивают над рекой или прудом, сажают в него женщину и погружают в воду. Эта операция повторяется трижды, «чтобы охладить злобу провинившейся», как поясняет комментатор Чемберлен.
Книга первая
Ночь не так черна, как человек
I
Южная оконечность Портленда
В продолжение всего декабря 1689 года и января 1690 года на европейском материке непрерывно дул упорный северный ветер; особенно неистовствовал он в Англии. Это он вызвал те страшные по своим последствиям холода, из-за которых эта зима стала «памятной для бедняков», как об этом записано на полях старинной Библии в пресвитерианской лондонской часовне Non Jurors[28]. Благодаря исключительной прочности старинного королевского пергамента, употреблявшегося для официальных актов, длинные списки бедняков, найденных мертвыми от голода и холода, можно еще и теперь без труда разобрать во многих местных реестрах, особенно в приходских записях Клинк-Либерти-Корта в городке Саутворке, Пай-Паудер-Корта (что означает «Двор запыленных ног») и Уайт-Чепел-Корта в деревне Стэпни, где церковным ктитором был местный бейлиф. Темза стала, что случается не чаще раза в столетие, так как морские приливы препятствуют образованию на ней льда. По замерзшей реке ездили на повозках; на Темзе открылась ярмарка с палатками, с боями медведей и быков; тут же, на льду, зажарили целого быка. Такой толщины лед держался два месяца. Тяжелый 1690 год был холоднее даже знаменитой зимы начала XVII века, тщательно изученной доктором Гедеоном Делоном, которого, как аптекаря короля Иакова I, город Лондон почтил памятником – бюстом на цоколе.
Однажды вечером, к концу самого холодного январского дня 1690 года, в одной из многочисленных негостеприимных бухточек Портлендского залива происходило нечто необычайное. Всполошившиеся чайки и морские гуси с криком кружили у входа в бухточку, не отваживаясь вернуться туда.
В этой маленькой бухте, самой опасной из всех бухт залива, когда дуют некоторые ветры, а следовательно, самой пустынной и наиболее удобной для судов, укрывающихся от нежелательных взоров, почти вплотную к берегу – место было глубокое – стояло небольшое суденышко, причалившее к выступу скалы. Мы делаем ошибку, говоря: «Ночь опускается на землю»; следовало бы говорить: «Ночь поднимается от земли», ибо темнота надвигается на небо снизу. Внизу, у подножия скалы, уже наступила ночь; вверху был еще день. Если бы кто-нибудь подошел поближе к стоявшему на причале суденышку, он узнал бы в нем бискайскую урку.
Солнце, скрывавшееся весь день в тумане, только что село. В сердце уже начинало проникать то мрачное беспокойство, которое можно было бы назвать тоской по исчезнувшему светилу.
Ветер с моря улегся, и в бухте было тихо.
Это было счастливым исключением, в особенности зимой. Доступ в большинство портлендских бухт прегражден мелями. В бурную погоду волнение в них очень сильно, и нужны немалая ловкость и опыт, чтобы благополучно довести судно до берега. Эти крошечные гавани хороши только с виду, на самом же деле они сплошь и рядом оказывают дурную услугу. Войти в них опасно, выйти – страшно. Однако в этот вечер, вопреки обыкновению, бухта не таила в себе никакой угрозы.
Бискайская урка – старинное судно, вышедшее ныне из употребления. Этот тип судна, в свое время принесший известную пользу военному флоту, отличался крепким корпусом и по размерам соответствовал барке, а по прочности – кораблю. Урки входили в состав Армады[29]; военные урки отличались большим водоизмещением, так, вместимость «Большого грифона», капитанского судна, которым командовал Лопе де Медина, равнялась шестистам пятидесяти тоннам, а на борту у него было сорок пушек; торговая же и контрабандистская урки были значительно меньше. Моряки ценили это утлое суденышко. Тросы такелажа на нем были из пеньковых стренд, некоторые из них – со вплетенной внутрь железной проволокой, что свидетельствовало, быть может, о намерении, хотя научно и не совсем обоснованном, обеспечить правильное действие компаса при магнитных бурях; оснастка урки состояла не только из этих тонких тросов, но и из толстых перлиней, из кабрий испанских галер и камелов римских трирем. Румпель был очень длинный – это увеличивало силу рычага, но вместе с тем уменьшало угол поворота; два шкива в двух шкивгатах на конце румпеля исправляли этот последний недостаток и до известной степени сокращали непроизводительную затрату сил. Компас помещался в нактоузе правильной четырехугольной формы и сохранял устойчивое равновесие благодаря двум медным ободкам, вставленным один в другой и утвержденным горизонтально на маленьких стержнях, как в лампах Кардано[30]. Конструкция урки свидетельствовала о том, что строитель ее обладал известными знаниями и смекалкой, но это были знания невежды и смекалка дикаря. Урка была так же примитивна по своему устройству, как прам и пирога; она обладала устойчивостью первой и быстроходностью второй и, подобно всем судам, созданным инстинктом пирата и рыбака, отличалась высокими мореходными качествами. Такое судно было одинаково пригодно для плавания в закрытых и открытых морях; его чрезвычайно своеобразная парусная оснастка, включавшая в себя и стаксели, позволяла ему идти тихим ходом в закрытых бухтах Астурии, напоминающих собою бассейны, как, например, Пасахес, и полным ходом в открытом море; на нем можно было совершать путешествия и по озеру, и вокруг света, – оригинальное судно, предназначенное для плавания и по спокойным водам пруда, и по бурным океанским волнам. Среди кораблей урка была то же, что трясогузка среди пернатых – меньше всех и смелей всех: усевшись на камыш, трясогузка только слегка пригибает его, а вспорхнув – может перелететь через океан.
Бискайские урки, даже самые бедные, были позолочены и раскрашены. Такая татуировка в духе басков, этого очаровательного, но несколько дикого народа. Чудесные краски Пиренейских гор, покрытых белым снегом и зелеными пастбищами, пробуждают в их обитателях неодолимую страсть ко всякого рода украшениям. Баски великолепны в своей нищете: над входом в их хижины намалеваны гербы; у них есть крупные ослы, которых они увешивают бубенцами, и рослые быки, которым они сооружают головной убор из перьев; их телеги, за две мили дающие знать о себе скрипом колес, всегда ярко расписаны, покрыты резьбою и убраны лентами. Над дверью башмачника – барельеф, высеченный из камня: изображение святого Крепина[31] и башмака. Их куртки обшиты кожаным галуном, на изношенной одежде вместо заплат вышивка. Даже в минуты самого искреннего веселья баски величавы. Они, подобно грекам, – дети солнца. В то время как сумрачный сын Валенсии набрасывает на голое тело рыжую шерстяную хламиду с отверстием для головы, жители Галисии и Бискайи наряжаются в красивые рубашки из выбеленного росой холста. Из-за маисовых гирлянд в окнах и на порогах их хижин приветливо выглядывают белокурые головки и свежие личики. Жизнерадостная и гордая ясность духа находит свое отражение в их незамысловатом искусстве, в ремеслах, в обычаях, в нарядах их девушек, в их песнях. Каждая гора, эта исполинская громада, в Бискайе насквозь пронизана светом: солнечные лучи проникают во все ее расщелины. Суровый Хаискивель – сплошная идиллия. Бискайя – краса Пиренеев, как Савойя – краса Альп. В опасных бухтах, близ Сан-Себастьяна, Лесо и Фуэнтарабии, в бурную погоду, под небом, затянутым тучами, среди всплесков пены, перехлестывающей через скалы, среди яростных волн и воя ветра, среди ужаса и грохота можно увидеть лодочниц-перевозчиц в венках из роз. Кто хоть раз видел Страну Басков, тот захочет увидеть ее вновь. Благословенный край! Две жатвы в год, веселые, шумные деревни, горделивая бедность; по воскресеньям целый день звон гитар, пляска, кастаньеты, любовь, опрятные светлые хижины да аисты на колокольнях.
Но возвратимся в Портленд, к неприступной морской скале.
Полуостров Портленд на карте имеет вид птичьей головы, обращенной клювом к океану, а затылком к Уэймету; перешеек кажется горлом.
В наши дни Портленд, в ущерб своей первобытной прелести, стал промышленным центром. В середине XVIII века на берегах Портленда появились каменоломни и печи для обжигания гипса. С той поры из портлендского мергеля вырабатывают так называемый романский цемент – весьма полезное производство, которое обогащает страну, но уродует ландшафт. Двести лет назад скалистые берега залива подмывало только море, теперь же их разрушает рука каменолома; волна отхватывает целые пласты, кирка откалывает лишь небольшие куски; пейзаж от этого сильно проигрывает. На смену величественному разгулу океана пришел кропотливый труд человека. Этот труд уничтожил маленькую бухту, в которой стояла на причале бискайская урка. Следы этой разрушенной гавани надо искать на восточном берегу полуострова, у самой его оконечности, по ту сторону Фолли-Пира и Дердл-Пайера, и даже дальше Уэкхема, между Черч-Хопом и Саутвелем.
Бухта, сжатая со всех сторон высокими отвесными берегами, намного превосходящими ее по размерам, с каждой минутой погружалась в темноту; туман, обычно подымающийся к ночи, все сгущался; становилось темно, как в глубоком колодце; узкий выход из бухты в море выделялся беловатой полоской на фоне ночного сумрака там, где мерно плескался прибой. Только подойдя совсем близко, можно было заметить урку, причалившую к прибрежным скалам и как бы укрывшуюся огромным плащом отбрасываемой ими тени. С берегом ее соединяла доска, перекинутая на низкий и плоский выступ утеса – единственное место, куда можно было поставить ногу; по этому шаткому мостику сновали во мраке черные фигуры, очевидно готовясь к отплытию.
Благодаря скале, возвышавшейся в северной части бухты и игравшей роль заслона, здесь было теплее, чем в открытом море; тем не менее люди дрожали. Они торопились.
В сумерках очертания предметов кажутся как бы изваянными резцом. Можно было ясно различить лохмотья, служившие одеждой отъезжающим и свидетельствовавшие о том, что их обладатели принадлежат к разряду населения, именуемого в Англии the ragged, то есть оборванцами.
На фоне скалы смутно виднелись извивы узкой тропинки. Девушка, небрежно бросившая на спинку кресла корсет, длинные шнурки которого петлями спускаются до полу, сама того не подозревая, воспроизводит извивы горных троп. К площадке, на которую была перекинута доска, вела зигзагами такая тропинка, скорее пригодная для коз, чем для человека. Дороги в скалах своею крутизной способны испугать пешехода; с них легче скатиться, чем сойти; это не спуски, а обрывы. Тропинка, о которой идет речь, по всей вероятности, была ответвлением какой-нибудь дороги, пролегавшей по равнине, но шла так отвесно, что на нее страшно было смотреть. Снизу было видно, как она ползет змеей к вершине утеса, а оттуда, через осыпи и через расщелину в скале, выбирается на верхнее плато. Должно быть, по этой тропе спустились люди, которых урка ожидала в бухте.
Кроме людей, торопливо готовившихся к отплытию, несомненно под влиянием страха или тревоги, в бухте никого не было; вокруг царили тишина и спокойствие. Не слышно было ни шагов, ни голосов, ни дуновения ветра. По ту сторону рейда, у входа в Рингстедскую бухту, можно было с трудом разглядеть флотилию судов для ловли акул, сбившуюся, по всей видимости, с дороги. Прихотью моря эти полярные суда пригнало сюда из датских вод. Северные ветры иногда подшучивают таким образом над рыбаками. Суда эти укрылись в Портлендской гавани, что было признаком надвигавшейся непогоды и опасности, грозившей в открытом море. Они намеревались стать на якорь. На однообразно белесом море четко выступал черный силуэт головного судна, стоявшего, по древнему обычаю норвежских флотилий, впереди; виден был весь его такелаж, а на носу ясно можно было различить снаряды для лова акул: всякого рода багры и гарпуны, предназначенные для охоты на seymnus glacialis, squalus acanthias и на squalus spinax niger[32], а также неводы для лова исполинской акулы. За исключением этих судов, сбившихся в одном углу гавани, на всем обширном горизонте Портленда не было ни души. Ни жилого строения, ни корабля. Побережье в ту пору было еще необитаемо, рейд в это время года обычно пустовал.
Однако, что бы ни сулила им непогода, люди, собиравшиеся отчалить на бискайской урке, судя по всему, и не думали откладывать свой отъезд. Они копошились на берегу и озабоченно, растерянно сновали взад и вперед. Отличить их друг от друга было трудно. Нельзя было и рассмотреть, стары они или молоды. Вечерние сумерки затушевали, заволокли их фигуры. Тень маской легла на лица. Во мраке вырисовывались только силуэты. Их было восемь, в том числе, вероятно, одна или две женщины, но они почти не отличались от мужчин: жалкие лохмотья, в которые все они были закутаны, не походили ни на мужскую, ни на женскую одежду. Отрепья не имеют пола.
Среди этих движущихся силуэтов был один поменьше. Он мог принадлежать карлику или ребенку.
Это был ребенок.
II
Брошенный
Присмотревшись поближе, можно было заметить следующее.
Все эти люди в длинных плащах с капюшонами, рваных, заплатанных, но очень широких, закрывавших их в случае необходимости до самых глаз, одинаково защищавших и от непогоды, и от любопытных взоров. Плащи ничуть не стесняли их быстрых движений. У большинства вокруг головы был повязан платок – испанский головной убор, из которого потом образовалась чалма. В Англии этот убор не был редкостью. В ту пору Юг был в моде на Севере. Быть может, это происходило оттого, что Север побеждал Юг; восторжествовав над ним, он приносил ему дань восхищения. После разгрома Армады кастильское наречие стало считаться изысканнейшим языком при дворе Елизаветы. Говорить по-английски в покоях королевы Англии было почти неприличным. Перенимать хотя бы отчасти нравы тех, для кого победитель-варвар стал законодателем, вошло в обычай по отношению к побежденному народу более высокой культуры; монголы внимательно присматривались к китайцам и подражали им. Вот почему и кастильские моды проникли в Англию, зато английские товары проложили себе дорогу в Испанию.
Один мужчина из группы, готовившейся к отплытию, по-видимому, был главарем. Он был обут в альпаргаты; его рваная одежда была разукрашена золотым галуном, а жилет, расшитый крупными блестками, отсвечивал из-под плаща, как рыбье брюхо. У другого широкополая шляпа, вроде сомбреро, была надвинута на самые глаза. В шляпе не было обычного отверстия для трубки; это указывало, что владелец ее – человек ученый.
Куртка взрослого человека может служить ребенку плащом; по этой причине ребенок был закутан поверх отрепьев в матросскую парусиновую куртку, доходившую ему до колен. Судя по росту, это был мальчик лет десяти-одиннадцати. Он был бос.
Экипаж урки состоял из владельца судна и двух матросов.
Урка, по всей вероятности, пришла из Испании и возвращалась туда же. Совершая рейсы между двумя странами, она, несомненно, делала какое-то таинственное дело.
Люди, собиравшиеся отплыть, переговаривались между собой шепотом.
Изъяснялись они на какой-то сложной смеси наречий. То слышалось испанское слово, то немецкое, то французское, порою – валлийское, порою – баскское. Это был язык простонародья, если не воровской жаргон.
Казалось, они принадлежали к разным нациям, но были членами одной шайки.
Экипаж судна, по всей видимости, состоял из их сообщников, и он принимал живое участие в приготовлениях к отплытию.
Этот разношерстный сброд можно было принять и за тесную приятельскую компанию, и за шайку соумышленников.
Будь немного светлее, можно было бы, вглядевшись пристальней, заметить на этих людях четки и ладанки, наполовину скрытые лохмотьями. У одной из фигур, в которой угадывалась женщина, четки почти не уступали по величине зернам четок дервиша; в них нетрудно было узнать ирландские четки, какие носят в Ланимтефри, называемом также Ланандифри.
Если бы не темнота, можно было бы еще увидеть на носу урки позолоченную статую Богородицы с младенцем на руках. Это была, вероятно, баскская Мадонна, нечто вроде панагии древних кантабров[33]. Под скульптурой, заменявшей обычное украшение на носу корабля, висел еще не зажженный фонарь; эта предосторожность свидетельствовала о том, что люди хотели укрыться от посторонних взоров. Фонарь, вероятно, имел двойное назначение: когда его зажигали, он горел вместо свечи перед изображением Богоматери и в то же время освещал море – он был и судовым фонарем, и церковным светильником.
Длинный, изогнутый, острый водорез, начинавшийся сразу под бушпритом, полумесяцем выдавался вперед. Над водорезом, у ног Богородицы, прислонившись к форштевню, стоял коленопреклоненный ангел со сложенными крыльями и смотрел на горизонт в подзорную трубу. Ангел был позолочен, так же как и Богоматерь.
В водорезе были проделаны отверстия и просветы, через которые проходила ударявшая волна; это послужило еще одним поводом украсить его позолотой и арабесками.
Под изображением Богородицы прописными золотыми буквами было выведено название судна: «Матутина», но его нельзя было прочесть из-за темноты.
У подножия утеса, сваленный как попало, лежал груз, который увозили с собою эти люди; по доске, служившей сходней, они быстро переплавляли его с берега на судно. Мешки с сухарями, бочонок соленой трески, ящик с сухим бульоном, три бочки – одна с пресной водой, другая с солодом и третья со смолой, – четыре или пять больших бутылей эля, старый, затянутый ремнями дорожный мешок, сундуки, баулы, тюк пакли для факелов и световых сигналов – таков был этот груз. У оборванцев были чемоданы, и это указывало на то, что они вели кочевой образ жизни. Бродяги вынуждены иметь кое-какой скарб; они порою и рады бы упорхнуть, как птицы, но им страшно остаться без средств к пропитанию. Каков бы ни был их кочевой промысел, им приходится всюду таскать с собой орудия своего ремесла. И эти люди тоже не могли расстаться со своими пожитками, уже не раз служившими им помехой.
Им, вероятно, нелегко было перенести ночью свой груз от подножия скалы. Однако они это сделали, что доказывало решение немедленно покинуть эти края.
Они не теряли времени: шло беспрерывное движение с судна на берег и с берега на судно; все принимали участие в погрузке: один тащил мешок, другой – ящик. Женщины – если они здесь были (об этом можно было только догадываться) – работали, как и все остальные. Ребенка обременяли непосильной ношей.
Сомнительно, чтобы у ребенка были среди этих людей отец и мать. Никто к нему не обращался. Его заставляли работать – и только. Он производил впечатление не ребенка в своей семье, а раба среди чуждого ему племени. Он помогал всем, но никто с ним не заговаривал.
Впрочем, мальчик тоже торопился и, подобно всей темной шайке, к которой он принадлежал, казалось, был поглощен одною мыслью – поскорее уехать. Отдавал ли ребенок себе отчет в происходившем? Вероятно, нет. Он торопился бессознательно, видя, как торопятся другие.
Урка была палубным судном. Всю кладь быстро уложили в трюм, пора было выходить в открытое море. Последний ящик был поднят на палубу, оставалось погрузить людей. Двое из них, чем-то напоминавшие женщин, уже были на борту; шестеро, в том числе и ребенок, находились еще на нижнем уступе скалы. На судне началась суета, предшествующая отплытию; владелец урки взялся за руль, один из матросов схватил топор, чтобы обрубить причальный канат. Рубить канат – признак спешки: когда есть время, канат отвязывают. Andamos[34], – вполголоса произнес один из шести, одетый в лохмотья с блестками, как видно – главарь. Ребенок стремительно кинулся к доске, чтобы взбежать первым. Но не успел он поставить на нее ногу, как к доске ринулись двое мужчин, едва не сбросив его в воду; за ними, отстранив ребенка плечом, прыгнул третий, четвертый оттолкнул его кулаком и последовал за третьим, пятый – это был главарь – одним прыжком очутился на борту и каблуком спихнул доску в воду; взмахнув топором, обрубили причал, руль повернулся, судно отчалило от берега – и ребенок остался на суше.
III
Один
Ребенок замер на скале, пристально глядя им вслед. Он даже не крикнул. Никого не позвал на помощь. Все, что произошло, было для него неожиданностью, но он не проронил ни звука. На корабле тоже царило молчание. Ни единого вопля не вырвалось у ребенка вслед этим людям, ни одного слова не сказали эти люди ему на прощанье. Обе стороны молча мирились с тем, что расстояние между ними возрастало с каждой минутой. Это напоминало расставание теней на берегу Стикса. Ребенок, словно пригвожденный к скале, которую уже начал омывать прилив, смотрел на удалявшееся судно. Можно было подумать, что он понимает. Что именно? Что понимал он? Непостижимое.
Мгновение спустя урка достигла пролива, служившего выходом из бухты, и вошла в него. На светлом фоне неба, над раздавшимися скалистыми массивами, между которыми, как между двумя стенами, извивался пролив, еще виднелась верхушка мачты. Некоторое время она скользила над скалами, затем, точно врезавшись в них, пропала из виду. Все было кончено. Урка вышла в море.
Ребенок следил за ее исчезновением.
Он был удивлен, он что-то обдумывал.
К чувству недоумения, которое он испытывал, присоединилось мрачное сознание действительности. Казалось, это существо, лишь недавно вступившее в жизнь, уже обладает опытом. Быть может, в нем пробуждался судья? Иногда, под влиянием слишком ранних испытаний, в тайниках детской души возникает нечто вроде весов, грозных весов, на которых эта беспомощная душа взвешивает деяния Бога.
Не сознавая за собой никакой вины, он безропотно принял совершившееся. Ни малейшей жалобы. Безупречный не упрекает.
Неожиданное изгнание, которому его подвергли, не вызвало у него ни одного движения. Внутренне он словно окаменел. Но ребенок не склонился под неожиданным ударом судьбы, как будто желавшей положить конец его существованию на заре жизни. Он мужественно вынес удар.
Всякому, кто увидел бы изумление ребенка, в котором не было ничего общего с отчаянием, стало бы ясно, что среди этих бросивших его людей никто не любил его и никто не был им любим.
Погруженный в раздумье, он забыл про стужу. Вдруг волной ему залило ноги: нарастал прилив; холодное дыхание коснулось его волос; поднимался северный ветер. Он вздрогнул. Дрожь охватила его с ног до головы – он очнулся.
Он посмотрел вокруг.
Он был один.
До этого дня для него во всем мире не существовало других людей, кроме тех, которые в эту минуту находились на урке. Эти люди только что скрылись.
Добавим, что, как это ни странно, единственные люди, которых он знал, были ему неизвестны.
Он не мог бы сказать, кто они такие.
Его детство протекло среди них, но он не ощущал, что принадлежит к их среде. Он жил бок о бок с ними, только и всего.
Теперь они покинули его.
Лохмотья едва прикрывали его тело, у него не было ни денег, ни обуви, в кармане – ни куска хлеба.
Стояла зима. Был вечер. Чтобы добраться до человеческого жилья, надо было пройти несколько лье.
Ребенок не знал, где он.
Он ничего не знал, кроме того, что люди, пришедшие с ним на берег моря, уехали без него.
Он почувствовал себя выброшенным из жизни.
Он почувствовал, что теряет мужество.
Ему было десять лет.
Ребенок был в пустыне, между бездной, откуда поднималась ночь, и бездной, откуда доносился рокот волн.
Он поднял худые ручонки, потянулся и зевнул.
Затем резким движением, как человек, сделавший окончательный выбор, он стряхнул с себя оцепенение и с проворством белки или, быть может, клоуна повернулся спиной к бухте и смело стал карабкаться вверх по скале. Он взобрался по тропинке, сошел с нее и снова на нее вернулся, полный решимости. Он торопился теперь уйти отсюда. Можно было подумать, что у него есть определенное намерение. Между тем он сам не знал, куда идет.
Он спешил без цели; это было бегство от судьбы.
Человеку свойственно подниматься, животному – карабкаться; ребенок и поднимался и карабкался. Портлендские скалы своими отвесными склонами обращены к югу, и на тропинках почти совсем не было снега. Однако сильный мороз превратил этот снег в ледяную пыль, идти было скользко. Но ребенок продолжал идти. Надетая на нем куртка взрослого человека была ему слишком широка и стесняла движения. Он часто натыкался на обледенелые бугры или попадал в расщелины утеса и падал. Иногда он повисал над пропастью, уцепившись за сухую ветку или за выступ скалы. Один раз он ступил на выветрившийся камень; камень внезапно осыпался, увлекая его за собой. Такие обвалы довольно опасны. Несколько секунд ребенок скользил вниз, как черепица по крыше; он скатился до самого края пропасти и спасся только тем, что вовремя ухватился за кустик сухой травы. Он не вскрикнул при виде бездны, как не вскрикнул, увидев, что люди бросили его; он собрался с силами и снова молча стал карабкаться вверх. Склон был очень высок. Ребенку опять пришлось преодолевать такие же препятствия. В темноте пропасть казалась бездонной. Отвесной скале не было конца. Она как будто все отступала, исчезая где-то вверху. По мере того как он поднимался, утес, казалось, вырастал. Продолжая карабкаться, ребенок вглядывался в черную вершину, точно преграда стоявшую между ним и небом. Наконец он достиг ее.
Он прыгнул на площадку. Можно было бы сказать: он ступил на землю, ибо он выбрался из бездны.
Едва он очутился наверху, как его охватила дрожь. Точно острое жало ночи, почувствовал он на своем лице ледяное дыхание зимы. Дул резкий северо-западный ветер. Ребенок плотнее запахнул на груди парусиновую матросскую куртку.
Это была хорошая, плотная одежда. Моряки называют ее «непромокайкой», потому что такая куртка не боится дождя.
Добравшись до верхней площадки, ребенок остановился; он твердо стал босыми ногами на мерзлую почву и огляделся.
Позади него – море, впереди – земля, над головою – небо.
Но небо было беззвездно. Густой туман скрывал от глаз небесный свод.
С вершины утеса он увидел землю и стал всматриваться в даль. Перед ним расстилалось бескрайнее, плоское, обледенелое, покрытое снегом плоскогорье. Кое-где вздрагивали на ветру кустики вереска. Ни следа дороги. Ничего. Не было даже хижины пастуха. Кружились спирали снежной пыли, вихрем уносившейся ввысь. Волнообразная гряда холмов, пропадая в тумане, сливалась с горизонтом. Огромная голая равнина исчезала в белесой мгле. Глубокое безмолвие. Все вокруг казалось беспредельным и молчало, как могила.
Ребенок обернулся к морю.
Море, как и земля, было сплошь белое: земля – от снега, море – от пены. Трудно представить себе что-либо более печальное, чем отсветы, порожденные этой двойной белизной. Световые эффекты ночного пейзажа отличаются порой удивительной четкостью: море казалось стальным, утесы – изваянными из черного дерева.
С высоты, где находился ребенок, Портлендский залив, тускло мерцавший среди полукружия утесов, имел почти тот же вид, что и на географической карте; было нечто фантастическое в этой ночной картине; она напоминала серп луны, кажущийся иногда темнее, чем охватываемый им клочок неба. На всем берегу, от одного мыса до другого, не было ни одного огонька, указывающего на близость очага, ни одного освещенного окна, ни одного человеческого жилища. Густая тьма и на земле и на небе; ни одного светильника внизу, ни одной звезды наверху. Широкая гладь залива внезапно вздымалась волнами. Ветер возмущал и морщил эту водную пелену. В заливе была еще видна уходившая на всех парусах урка.
Теперь это был черный треугольник, скользивший по бледно-свинцовой поверхности.
Вдали, в зловещем полумраке беспредельности, волновалось водное пространство.
«Матутина» быстро убегала. Она уменьшалась с каждой минутой. Нет ничего быстрее исчезновения судна в морской дали. Вскоре на носу урки зажегся фонарь – вероятно, сгущавшаяся вокруг нее темнота побудила кормчего осветить волны. Эта блестящая точка, мерцание которой заметно было издалека, сообщала что-то зловещее высокому и длинному силуэту судна. Оно было похоже на блуждающее по морю привидение в саване, со звездою в руке.
В воздухе чувствовалось приближение бури. Ребенок не отдавал себе в этом отчета, но будь на его месте моряк, он содрогнулся бы. Наступила минута того тревожного предчувствия, когда кажется, будто стихии вот-вот станут живыми существами и на наших глазах произойдет таинственное превращение ветра в ураган. Море разольется в океан, слепые силы природы обретут волю, и то, что мы принимаем за вещь, окажется наделенным душою. Кажется, что все это предстоит увидеть воочию. Вот чем объясняется наш ужас. Душа человека страшится встречи с душою Вселенной.
Еще минута – и все будет объято хаосом. Ветер, разгоняя туман и нагромождая на заднем плане тучи, устанавливал декорации ужасной драмы; действующими лицами этой драмы являются морские волны и зима, а сама драма называется «Снежная буря».
Уже показались предвестники бури – суда, входившие в гавань. Рейд оживился. Из-за мысов то и дело появлялись охваченные тревогой баркасы, спешившие укрыться в бухте. Одни огибали Портленд-Билл, другие – Сент-Олбанс-Хэд. Возвращались парусные суда, бывшие за чертой горизонта. Все искали убежища. На юге сгущался мрак, и тучи, чернее ночи, подступали к морю. Тяжесть нависшей над ними бури сообщала волнам угрюмое спокойствие. В такую погоду судам лучше не покидать гавани. И все же урка снялась с якоря.
Она держала курс на юг. Она уже вышла из залива и находилась в открытом море. Вдруг резкий ветер перешел в шквал, «Матутина», которая была еще хорошо видна, распустила паруса, как будто решившись воспользоваться ураганом. Налетел «норуа», когда-то носивший название «ветра галерников», норд-вест, злобный и яростный ветер. Он сразу с бешеной силой обрушился на урку. Урка, на которую он бросился сбоку, накренилась, но не замедлила хода и продолжала нестись в открытое море. Это было уже не плавание, а настоящее бегство, – видимо, море пугало меньше, чем земля, и боязнь преследования со стороны людей пересиливала страх перед неистовством шторма.
Урка, постепенно уменьшаясь в размерах, стала наконец скрываться за горизонтом; звездочка, передвигавшаяся с нею во мраке, побледнела; судно, все больше и больше сливаясь с окружающей темнотой, исчезло из виду.
На этот раз навсегда.
Ребенок понял это. Он перестал смотреть на море. Его взгляд перекинулся на равнину, на пустоши, на холмы, на расстилавшиеся перед ним пространства, где возможно было увидеть живое существо. Он пошел навстречу неизвестности.
IV
Вопросы
Что же это была за шайка, которая, бросив ребенка, спасалась бегством?
Быть может, компрачикосы?
Выше мы обстоятельно изложили, какие меры принимались Вильгельмом III с одобрения парламента против преступников обоего пола, именуемых компрачикосами, компрапекеньосами и чейласами.
Некоторые законодательные акты вызывают настоящую панику. Закон, направленный против компрачикосов, обратил в повальное бегство не только их самих, но и всякого рода бродяг. Они наперебой спешили скрыться, покинув берега Англии. Большинство компрачикосов вернулись в Испанию. Среди них, как мы уже упоминали, было много басков.
Закон, взявший под свою защиту детей, имел на первых порах довольно странные последствия: сразу же возросло число брошенных детей.
Немедленно после обнародования этого уголовного статута появилось много найденышей, то есть покинутых детей. Дело объяснялось весьма просто. Всякая бродячая шайка, в которой был ребенок, навлекала на себя подозрения, уже самый факт наличия ребенка становился уликой против нее. «Это, по всей вероятности, компрачикосы» – такова была первая мысль, приходившая в голову шерифу, провосту, констеблю. Затем начинались аресты и допросы. Обыкновенные нищие, которых нужда заставляла скитаться и просить подаяния, дрожали от страха, что их могут принять за компрачикосов, хотя они не имели с ними ничего общего; но бедняк никогда не огражден от возможных ошибок правосудия. Кроме того, бродячие семьи живут в постоянной тревоге. Компрачикосов обвиняли в том, что они промышляют покупкой и продажей чужих детей. Но нищета и сопряженные с нею бедствия создают иногда условия, при которых отцу и матери бывает трудно доказать, что ребенок, находящийся при них, – их родное дитя. Откуда у вас этот ребенок? Как доказать, что он – твой? Иметь при себе ребенка становилось опасно – от него старались отделаться. Бежать без него было гораздо легче. Взвесив все, отец и мать оставляли ребенка в лесу или на берегу моря, а то и просто бросали его в колодец.
В водоемах находили утопленных детей.
Прибавим, что компрачикосов, по примеру Англии, стали преследовать по всей Европе. Первый толчок к гонению на них был дан. Во всяком деле главное – почин. Теперь полиция всех стран стала состязаться в погоне за компрачикосами; испанские альгвасилы выслеживали их с неменьшим рвением, чем английские констебли. Всего двадцать три года назад можно было прочитать на камне у ворот Отеро неудобопереводимую надпись – закон в выборе выражений не стесняется, – из которой явствовало, что в отношении кары между покупателями и похитителями детей проводилась резкая грань. Вот эта надпись на несколько варварском кастильском наречии: Aquí quedan las orejas de los comprachicos, у las bolsas de los robaniños, mientras que se van ellos al trabajo de mar.
Мы видим, что отрезание ушей и прочее отнюдь не избавляло от ссылки на галеры. Такие меры вызывали паническое бегство всякого рода бродяг. Они удирали в испуге и добирались до места назначения, дрожа от страха. На всем побережье Европы прибывающих беглецов выслеживала полиция. Ни одна шайка не желала везти с собой ребенка, потому что высадиться с ним было делом опасным.
Гораздо легче было сбыть ребенка с рук.
Кем же был покинут ребенок, которого мы только что видели на сумрачном пустынном берегу Портленда?
Судя по всему, компрачикосами.
V
Дерево, изобретенное людьми
Было, вероятно, около семи часов вечера. Ветер стихал – признак того, что он скоро должен был снова усилиться. Ребенок находился на краю плоскогорья южной оконечности Портленда.
Портленд – полуостров. Но ребенок не знал, что такое полуостров, и даже не слыхал слова «Портленд». Он знал одно: что можно идти до тех пор, пока не свалишься. Представление об окружающем служит нам вожатым; у ребенка не было этого представления. Они привели его сюда и бросили здесь. Они и здесь – в этих двух загадочных словах заключалась вся его судьба: они – это был весь человеческий род, здесь – вся Вселенная. Здесь, в этом мире, у него не было никакой точки опоры, кроме клочка земли, по которому ступали теперь его босые ноги, – земли каменистой и холодной. Что ожидало его в огромном сумрачном мире, открытом всем ветрам? Ничто.
Он шел навстречу этому Ничто.
Вокруг него была беспредельная пустыня.
Он пересек по диагонали первую площадку, затем вторую, третью… В конце каждой площадки ребенок наталкивался на обрыв; спуск бывал иногда очень крутым, но всегда коротким. Высокие голые плато оконечности Портленда похожи на огромные плиты, наложенные одна на другую, подобно ступеням лестницы; с южной стороны край каждой плиты как бы уходит под верхнее плато, а с северной – он нависает над нижним. Эти уступы ребенок преодолевал без труда. Время от времени он замедлял шаг и, казалось, советовался сам с собою. Становилось все темнее, пространство, на котором можно было что-то различить, все сокращалось, и теперь ребенок видел не дальше чем на несколько шагов.
Вдруг он остановился, прислушался, еле заметно с удовлетворением кивнул головой, быстро повернулся и направился к небольшой возвышенности, смутно вырисовывавшейся справа, в том конце равнины, который примыкал к скале. На этой возвышенности виднелись смутные очертания чего-то, казавшегося в тумане деревом. Оттуда доносился шум, не похожий ни на шум ветра, ни на шум моря. Это не был также и крик животного. Ребенок решил, что там кто-то есть.
Сделав несколько шагов, он очутился у подножия холма.
Там действительно кто-то был.
То, что издали смутно виднелось на вершине холма, теперь вырисовывалось вполне отчетливо.
Это было нечто, похожее на огромную руку, торчавшую прямо из земли. Кисть руки была согнута в горизонтальном направлении, вытянутый вперед указательный палец подпирался снизу большим. Мнимая рука с указательным и большим пальцем приняла на фоне неба очертания угломера. От того места, где соединялись эти странные пальцы, свешивалось что-то вроде веревки, на которой болтался черный бесформенный предмет. Веревка, раскачиваемая ветром, издавала звук, напоминавший звон цепей.
Этот звук и слышал ребенок.
Вблизи веревка оказалась цепью, как и можно было предположить по ее лязгу, – корабельной цепью из крупных стальных звеньев.
В силу таинственного закона слияния впечатлений, который во всей природе как бы наслаивает кажущееся на действительное, все здесь – место, время, туман, мрачное море, смутные образы, возникавшие на самом краю горизонта, – сочеталось с этим силуэтом и сообщало ему чудовищные размеры.
Бесформенный предмет, висевший на цепи, имел сходство с футляром. Он был спеленут, как младенец, но по длине равнялся взрослому человеку. В верхней части его виднелось что-то круглое, вокруг чего обвивался конец цепи. Внизу футляр был разодран, и из него торчали лишенные мяса кости.
Легкий ветерок колыхал цепь, и то, что висело на ней, тихо покачивалось из стороны в сторону. Эта безжизненная масса подчинялась малейшим колебаниям воздуха; в ней было нечто, внушавшее панический страх; ужас, обычно изменяющий действительные пропорции предмета, скрадывал его истинные размеры, сохраняя лишь его контуры; это был сгусток мрака, принявший очертания; тьма была кругом, тьма была внутри; она вобрала в себя нараставшую вокруг нее могильную жуть; сумерки, восходы луны, исчезновения созвездий за утесами, сдвиги воздушных пространств, тучи, роза ветров – все в конце концов вошло в состав этого призрака; обрубок, висевший в воздухе, своим безличием походил на морскую даль и на небо, а мрак поглотил последние черты того, что было некогда человеком.
Это было нечто, ставшее ничем.
Превратиться в останки – для обозначения этого состояния в человеческом языке нет слов. Не жить и вместе с тем продолжать существовать, находиться в бездне и в то же время вне ее, умереть и не быть поглощенным смертью, – во всем этом, несмотря на несомненную реальность, есть что-то неестественное и потому невыразимое. Это существо – можно ли было назвать его существом? – этот черный призрак был останками, и притом останками ужасающими. Останками чего? Прежде всего природы, а затем общества. Это было ничто и все.
Он находился здесь во власти безжалостных стихий. Глубокое забвение пустыни окружало его. Он был оставлен на произвол неведомого. Он был беззащитен против мрака, который делал с ним все, что хотел. Он должен был терпеть все. И он терпел. Ураганы обрушивались на него. Мрачная задача, выполняемая ветрами!
Призрак был добычей всех разрушительных сил. Его обрекли на чудовищную участь – разлагаться под открытым небом. Для него не существовало закона погребения. Он подвергся уничтожению, но не обрел вечного покоя. Летом он покрывался слоем пыли, осенью обрастал корою грязи. Смерть должна быть прикрыта покровом, могила – стыдливостью. Здесь не было стыдливости, не было покрова. Гниение, цинично открытое взору каждого. Есть что-то бесстыдное в зрелище смерти, орудующей на глазах у всех. Она наносит оскорбление безмятежному спокойствию небытия, работая вне своей лаборатории – вне могилы.
Труп был выпотрошен. Выпотрошить останки – какой страшный приговор! В его костях уже не было мозга, в его животе не было внутренностей, в его гортани не было голоса. Труп – это карман, который смерть выворачивает и опустошает. Если у него и было когда-то свое «я», где оно теперь? Быть может, еще здесь, – страшно подумать. Что-то, витающее вокруг чего-то, прикованного к цепи. Можно ли представить себе во мраке образ более скорбный?
На земле существуют явления, открывающие путь к неведомому; мысль ищет выхода в этом направлении, и сюда же устремляется гипотеза. Догадка имеет свое compelle intrare[35]. В иных местах и перед иными предметами мы невольно останавливаемся в раздумье и пытаемся проникнуть в их сущность. Иногда мы наталкиваемся на полуоткрытую неосвещенную дверь в неведомый мир. Кого не навел бы на размышления вид этого мертвеца?
Огромная сила распада бесшумно подтачивала труп. В нем была кровь – ее выпили, на нем была кожа – ее изглодали, было мясо – его растащили по кускам. Ничто не прошло мимо, не взяв у него чего-нибудь. Декабрь позаимствовал у него холод тела, полночь – ужас, железо – ржавчину, чума – миазмы, цветок – запахи. Его медленное разложение было пошлиной, которую труп платил шквалу, дождю, росе, пресмыкающимся, птицам. Все темные руки ночи обшарили этого мертвеца.
Это был странный обитатель ночи. Он находился на холме среди равнины, и в то же время его там не было. Он был доступен осязанию и вместе с тем не существовал. Он был тенью, дополнявшей ночную тьму. Когда угасал дневной свет, он зловеще сливался со всем окружающим в беспредельном безмолвии ночи. Одно его присутствие здесь усиливало мрачную ярость бури и спокойствие звезд. Все то невыразимое, что есть в пустыне, было, как в фокусе, сосредоточено в нем. Жертва неведомого рока, он усугублял собою угрюмое молчание ночи. Его тайна смутно отражала в себе все, что есть загадочного в мире.
Близ него чувствовалось как бы убывание жизни, уходившей куда-то в бездну. Все в окружавшем его пространстве утрачивало спокойствие и уверенность в себе. Трепет кустарников и трав, безнадежная грусть, мучительная тревога, которая, казалось, находила свое оправдание, – все трагически сближало пейзаж с черной фигурой, висевшей на цепи. Присутствие призрака в поле зрения отягчает одиночество.
Он был лишь призраком. Колеблемый никогда не утихавшими ветрами, он был неумолим. Вечная его дрожь вселяла ужас. Он казался – страшно вымолвить – средоточием окружавшего пространства и служил опорой чему-то необъятному. Чему? Как знать? Быть может, той неясно сознаваемой и оскорбляемой нами справедливости, которая выше нашего правосудия. В его пребывании вне могилы была месть людей и его собственная месть. В этой сумрачной пустыне он выступал как грозный свидетель. Он был зловещей формой материи, ибо материя, перед которой дрожат люди, – это оболочка отлетевшей души. Вызывает в нас тревогу та мертвая материя, которая была некогда одухотворена. Он обличал закон земной перед лицом закона небесного. Повешенный здесь людьми, он ожидал Бога. Над ним, принимая расплывчато-извилистые очертания туч и волн, реяли исполинские видения мрака.
За призраком стояла какая-то непроницаемая, роковая преграда. Мертвеца окружала беспредельность, не оживляемая ничем: ни деревом, ни кровлей, ни прохожим. Когда перед нашим взором смутно возникают тайны бытия – небо, бездна, жизнь, могила, вечность, – все сущее воспринимается нами как нечто недоступное, запретное, огражденное от нас стеной. Когда разверзается бесконечность, все двери в мир оказываются запертыми.
VI
Битва смерти с ночью
Ребенок стоял перед непонятным силуэтом, безмолвно, удивленно, пристально глядя на него.
Для взрослого человека это была бы виселица, для ребенка это было привидение. Там, где взрослый увидел бы труп, ребенок видел призрак.
Он ничего не понимал.
Бездна таит в себе все разновидности приманок; одна из них находилась на вершине этого холма. Ребенок сделал шаг-другой. Он стал взбираться выше, испытывая желание спуститься, и приблизился, желая отступить назад.
Весь дрожа, он в то же время решительно подошел к виселице, чтоб получше рассмотреть призрак. Очутившись под виселицей, он поднял голову и стал внимательно разглядывать его.
Призрак был покрыт смолою и местами блестел. Ребенок различал черты лица. Оно тоже было обмазано смолою, и эта маска, казавшаяся липкой и вязкой, четко выступала в сумраке ночи. Ребенок видел дыру на том месте, где прежде был рот, дыру на месте носа и две черные ямы на месте глаз. Тело было как бы запеленато в грубый холст, пропитанный нефтью. Ткань истлела и расползлась. В одном месте обнажилось колено. В другом – видны были ребра. Одни части тела были еще трупом, другие – уже стали скелетом. Кожа была землистого цвета, ползавшие по лицу слизняки оставили на нем тусклые серебристые полосы. Под холстом, прилипшим к костям, обрисовывались выпуклости, как под платьем на статуе. Череп треснул и, распавшись надвое, напоминал собою гнилой плод. Зубы остались целы и скалились в подобии смеха. В зияющей дыре рта, казалось, замер последний крик. На щеках сохранилось несколько волосков бороды. Голова, наклоненная вниз, как будто к чему-то прислушивалась.
Труп, по-видимому, недавно подновляли. Лицо было заново вымазано смолой, так же как и выступавшие из прорех колено и ребра. Внизу из-под холста торчали обглоданные ступни. Прямо под ними, в траве, видны были два башмака, утратившие форму от снега и дождя. Они свалились с ног мертвеца.
Босой ребенок смотрел на эти башмаки.
Ветер то становился еще злее, то внезапно спадал, как будто собирался с силами, чтобы разразиться бурей; на несколько минут он даже совсем стих. Труп уже не качался. Цепь висела неподвижно, как шнурок отвеса с гирькой на конце.
Как у всякого существа, только что вступившего в жизнь, но отдающего себе отчет в своей тяжкой участи, у ребенка, несомненно, начиналось пробуждение мучительных мыслей – мыслей еще неясных, детских, но уже пробивавших себе путь в его голове, подобно птичьему клюву, долбящему скорлупу яйца; но все, чем в эту минуту было полно его младенческое сознание, повергало его лишь в оцепенение. Как излишек масла гасит огонь, так избыток ощущений гасит мысль. Взрослый задал бы себе тысячу вопросов, ребенок только смотрел.
Обмазанное смолой лицо мертвеца казалось мокрым. Капли смолы, застывшие в пустых глазницах, были похожи на слезы. Однако смола значительно замедляла разложение трупа: разрушительная работа смерти была насколько возможно задержана. То, что ребенок видел перед собой, было предметом, о котором заботились. По-видимому, человек этот представлял какую-то ценность. Его не захотели оставить в живых, но старались сохранить мертвым. Виселица была старая, вся в червоточинах, но прочная и стояла здесь уже давно.
В Англии с незапамятных времен существовал обычай смолить тела контрабандистов. Их вешали на берегу моря, обмазывали смолой и оставляли висеть; преступника, в назидание прочим, следует подвергать казни у всех на виду, и, если его просмолить, он на долгие годы будет служить острасткой. Трупы смолили из чувства человеколюбия, полагая, что благодаря этому можно будет реже обновлять повешенных. Виселицы расставляли на берегу на определенном расстоянии одна от другой, как ставят в наше время фонари. Повешенный заменял собою фонарь. Он по-своему светил своим товарищам-контрабандистам. Контрабандисты издали, еще находясь в море, замечали виселицы. Вот одна – первое предостережение, а там другая – второе предостережение. Это нисколько не мешало им заниматься контрабандой, но таков был порядок. Этот обычай продержался в Англии до начала нашего столетия. Еще в 1822 году перед Дуврским замком можно было видеть трех повешенных, облитых смолой. Впрочем, такой способ сохранения трупа преступника применялся не к одним только контрабандистам. Англия пользовалась им также по отношению к ворам, поджигателям и убийцам. Джон Пейнтер, совершивший поджог морских складов в Портсмуте, был в 1776 году повешен и засмолен. Аббат Койе, называющий Джона Пейнтера Жаном Живописцем, увидел его вторично в 1777 году. Джон Пейнтер висел на цепи над развалинами сожженных им складов, и время от времени его снова покрывали смолой. Этот труп провисел – можно бы сказать, прожил – почти четырнадцать лет. Еще в 1788 году он служил правосудию. Однако в 1790 году его пришлось заменить новым. Египтяне чтили мумии своих фараонов; оказывается, мумия простого смертного также может быть полезной.
Ветер, с особенной силой разгулявшийся на холме, смел с него весь снег. Во многих местах виднелась трава, кое-где выглядывал чертополох. Холм был одет густым и низким приморским дерном, благодаря которому вершины скал кажутся покрытыми зеленым сукном. Только под виселицей, под ногами казненного, росла высокая густая трава – явление, неожиданное на этой бесплодной почве. Объяснялось это тем, что тела повешенных разлагались здесь на протяжении нескольких веков. Земля питается прахом человека.
Какие-то мрачные чары удерживали ребенка на холме. Он стоял как вкопанный. Один только раз он наклонил голову: крапива больно обожгла ему ноги, и он принял это за укус животного. Затем он выпрямился и, закинув голову, снова стал смотреть прямо в лицо повешенному, который тоже смотрел на него. У мертвеца не было глаз, и потому казалось, что он смотрит особенно пристально. Это был взгляд рассеянный и вместе с тем невыразимо сосредоточенный; в нем были свет и мрак; он исходил из черепа, из оскала зубов, из черных впадин пустых глазниц. Вся голова мертвеца – сплошной взор, и это страшно. Глаз нет, но мы чувствуем на себе их взгляд, жуткий взгляд привидения.
Ребенок и сам был страшен. Он больше не шевелился, как будто оцепенел. Он не чувствовал, что теряет сознание. Он коченел, замерзал. Зима безмолвно предавала его ночи; в зиме есть что-то вероломное. Дитя почти превратилось в изваяние. Каменный холод проникал в его кости; мрак, это пресмыкающееся, заползал в него. Дремота, исходящая от снега, подкрадывается к человеку, как морской прилив; ребенком медленно овладевала неподвижность, напоминавшая неподвижность трупа. Он засыпал.
На руке сна есть перст смерти.
Ребенок чувствовал, как его хватает эта рука. Он был близок к тому, чтобы упасть под виселицей. Он уже не сознавал, стоит он на ногах или нет.
Неизбежность конца, мгновенный переход от бытия к небытию, зияющий вход в горнило испытаний, возможность ежеминутно скатиться в бездну – таково человеческое существование.
Еще мгновение – ребенок и мертвец, жизнь, едва зародившаяся, и жизнь, уже угасшая, должны были слиться в общем уничтожении.
Казалось, призрак все понял и не захотел этого. Он вдруг пошевелился, словно предупреждая ребенка. Это был просто новый порыв ветра.
Трудно представить себе что-либо более ужасное, чем этот качающийся покойник.
Подвешенный на цепи труп, колеблемый невидимым дуновением ветра, принимал наклонное положение, поднимался влево, возвращался на прежнее место, поднимался вправо, падал и снова взлетал мерно и угрюмо, как язык колокола. Зловещее движение взад и вперед. Казалось, качается во тьме ночи маятник часов вечности.
Так продолжалось некоторое время. Увидев, что мертвец движется, ребенок очнулся от столбняка, почувствовал страх. Цепь при каждом колебании поскрипывала с чудовищной размеренностью, словно переводила дыхание. Этот звук напоминал стрекотание кузнечика.
Приближение бури вызывает внезапное усиление ветра. Ветер вдруг перешел в ураган. Труп задвигался еще порывистее. Это было уже не раскачивание, а дикая пляска. Скрип цепи сменился пронзительным лязгом.
Звук этот, по-видимому, был услышан. Если это был призыв, то ему повиновались. Издали донесся какой-то шум.
То был шум крыльев.
Слеталась стая воронов, как это часто бывает на кладбищах и пустырях, в особенности перед грозой.
Черные летящие точки пробились сквозь тучу, преодолели завесу тумана, приблизились, выросли, сгрудились, сплотились и с неистовым криком бросились к холму. Это было подобно наступлению легиона. Крылатая нечисть ночи усеяла виселицу.
Ребенок в испуге отступил.
Стаи повинуются команде. Вороны кучками расселись на виселице. Ни один не спустился на мертвое тело. Они перекликались между собою. Карканье воронов вселяет страх. Вой, свист, рев – это голоса жизни, карканье – радостное приятие тления. В нем чудится звук потревоженного безмолвия гробницы. Карканье – голос ночной тьмы. Ребенок весь похолодел не столько от стужи, сколько от ужаса.
Вороны притихли. Но вот один из них прыгнул на скелет. Это было сигналом. За ним устремились все остальные – целая туча крыльев; еще мгновение – и повешенный исчез под кишащей грудой черных пятен, шевелившихся во мраке. В эту минуту мертвец вдруг дернулся.
Сам ли он вздрогнул? Дунуло ли на него ветром? Но его с устрашающей силой подбросило на цепи. Налетевший ураган пришел ему на помощь. Призрак забился в судорогах. Бурный ветер, разгулявшись на высоте, завладел мертвым телом и принялся швырять его во все стороны. Мертвец был ужасен. Он бесновался. Чудовищный картонный паяц, висевший не на тонкой веревочке, а на железной цепи! Какой-то злобный шутник дергал ее за конец и забавлялся пляской мумии. Она вертелась и подпрыгивала, угрожая каждую минуту распасться на куски. Вороны шарахнулись в испуге. Покойник точно стряхнул с себя омерзительных птиц. Но они вернулись. И начался бой.
Казалось, в мертвеце проснулись невероятные жизненные силы. Порывы ветра подбрасывали его, словно собираясь умчать с собою, а он как будто отбивался что было мочи, стараясь вырваться; только железный ошейник удерживал его. Птицы повторяли все его движения, то отлетая, то снова набрасываясь, испуганные, остервенелые. Страшная попытка к бегству и погоня за повешенным на цепи. Мертвец, весь во власти судорожных порывов ветра, подскакивал, вздрагивал, приходил в ярость, отступал, возвращался, взлетал и стремглав падал вниз, разгоняя черную стаю. Он был палицей, стая – пылью. Крылатые хищники, не желая сдаваться, наступали с отчаянным упорством. Мертвец, словно обезумев при виде множества клювов, участил бесцельные удары по воздуху, подобные ударам камня, привязанного к праще. Временами на него набрасывались все клювы и все крылья, затем все куда-то пропадало; орда рассыпалась, но через мгновение накидывалась еще яростней. Ужасная казнь продолжалась и за порогом жизни. Казалось, птицы пришли в исступление. Только из недр преисподней могла вырваться подобная стая. Удары когтей, удары клювов, карканье, раздирание того, что уже не было мясом, скрип виселицы, хруст костей, лязг железа, вой бури, смятение – возможна ли более мрачная картина схватки? Мертвец, борющийся с демонами. Битва призраков.
Временами, когда ветер усиливался, повешенный вдруг начинал вертеться, поворачиваясь лицом во все стороны, как будто хотел броситься на птиц и перегрызть им глотку своими оскаленными зубами. Ветер был за него, цепь – против него, – словно темные божества вели бой вместе с ним. Ураган тоже принимал участие в сражении. Мертвец извивался, вороны спиралью кружили над ним. То был живой смерч.
Снизу доносился глухой и мощный рокот моря.
Ребенок видел наяву этот страшный сон. Внезапно трепет пробежал по всему его телу; еле удержавшись на ногах, он сжал лоб обеими руками, словно это была единственная точка опоры; ошеломленный, с развевающимися по ветру волосами, с зажмуренными глазами, он сам был теперь похож на призрак; большими шагами спустился он с холма и бросился бежать, оставив позади себя мучительные видения ночи.
VII
Северная оконечность Портленда
Он бежал, задыхаясь, несся куда глаза глядят, мчался, не помня себя, по снегу, по равнине, прямо перед собой. Бег согрел его. Это было ему необходимо. Если бы не быстрое движение и не испуг, он был бы уже мертв.
Когда у него перехватило дыхание, он остановился, но оглянуться не посмел. Ему мерещилось, что птицы летят за ним, что мертвец, сорвавшись с цепи, следует за ним по пятам, что даже виселица кинулась с холма догонять покойника. Он боялся обернуться.
Немного передохнув, он снова пустился бежать.
Дети не отдают себе отчета в происходящем. Затуманенное страхом сознание ребенка воспринимало внешние впечатления без связи, без выводов. Он мчался, сам не зная куда и зачем. Охваченный щемящей тоской, он бежал с трудом, как бегут во сне. За три часа, проведенные им в одиночестве, его стремление идти вперед, не став определеннее, изменило, однако, свою первоначальную цель: сперва это были поиски, теперь это было бегство. Он уже не чувствовал ни голода, ни холода; он чувствовал только страх. Один инстинкт вытеснил другой. Все его помыслы свелись к одному – убежать. Убежать от чего? От всего. Жизнь мрачной стеной обступила его со всех сторон. Если бы он мог убежать от всего на свете, он так бы и сделал.
Но детям неведом тот способ взлома тюремной двери, который именуется самоубийством.
Он продолжал бежать.
Сколько времени он мчался так – неизвестно. Но наступает минута, когда и дыхания не хватает, и страху приходит конец.
И вдруг, как бы внезапно охваченный приливом энергии и рассудительности, ребенок остановился – ему, видимо, стало стыдно за свое бегство, – он выпрямился, топнул ногою, смело поднял голову и обернулся.
Ни холма, ни виселицы, ни воронья.
Туман опять окутал дали.
Ребенок снова пустился в путь.
Теперь он уже не бежал, он медленно шел. Сказать, что встреча с мертвецом сделала его взрослым, значило бы втиснуть в узкие рамки сложное и неясное впечатление, которое она на него произвела. Виселица, смутно запечатлевшаяся в его еще зачаточном сознании, оставалась для него лишь видением. Но так как победа над страхом придает нам силы, в нем пробудилась отвага. Будь он в том возрасте, когда человек способен разобраться в себе, он нашел бы тысячу поводов к раздумью; но мышление детей лишено четкости, и ребенок в лучшем случае может ощутить лишь легкую горечь пока недоступного ему чувства, которое, когда вырастет, он назовет негодованием.
Прибавим к этому, что ребенок одарен способностью быстро забывать свои ощущения. От него ускользают отдаленные, беглые очертания сущности горестного явления. Самим своим возрастом, своей слабостью дитя защищено от слишком сильных душевных волнений. Оно воспринимает события, но почти ничего с ними не связывает. Взрослый доискивается связи между разрозненными явлениями, ребенок легко удовлетворяется частичным их объяснением. Жизненный процесс как нечто целое возникает перед ним позднее, когда приходит опыт, на который уже можно опереться. Тогда сопоставляются группы фактов, просветленный и зрелый рассудок сравнивает их между собой, воспоминания детства проступают сквозь все пережитое, как палимпсест из-под новейшего письма. Воспоминания оказываются точками опоры для логики; то, что было в уме ребенка впечатлением, становится силлогизмом в сознании взрослого. Впрочем, опыт может быть полезным или вредным в зависимости от человеческой натуры. Хорошая натура созревает, дурная – растлевается.
Ребенок пробежал с добрую четверть лье и еще столько же прошел шагом. Вдруг он почувствовал мучительный голод. Мысль о еде завладела всем его существом, сразу вытеснив из памяти омерзительную картину, которую он видел на холме. В человеке, к счастью, есть животное: оно возвращает его к действительности.
Но что бы поесть? Где бы поесть? Как бы поесть? Мальчик невольно ощупал свои карманы, отлично зная, что они пусты.
Он ускорил шаг. Не зная сам, куда идет, он спешил добраться до какого-нибудь жилья.
Надежда на пристанище в известной мере является источником человеческой веры в Провидение. Верить, что для нас всегда найдется кров, – значит верить в Бога.
Однако на этой снежной равнине не было видно ничего, похожего на кровлю.
Ребенок шел и шел; перед ним по-прежнему простиралось голое плоскогорье; казалось, ему не будет конца.
На этой возвышенности никогда не было человеческого жилья. Только у подножия утеса, в расселинах скал, ютились в давние времена первобытные обитатели этой страны, у которых не было дерева для постройки хижин; оружием им служила праща, топливом – сухой коровий помет, божеством, которому они поклонялись, был идол Чейл, стоявший на лесной прогалине в Дорчестере, весь же их промысел сводился к ловле серого коралла, который валлийцы называют plin, а греки – isidis plocamos.
Ребенок искал дорогу, как умел. Вся наша судьба – перепутье; выбрать надлежащее направление очень трудно, а этому маленькому существу уже на заре его жизни предстояло сделать выбор вслепую. Тем не менее он продолжал идти вперед, и, хотя мышцы ног у него были точно стальные, он стал уставать. Нигде ни одной тропы, а если они и были, их занесло снегом. Безотчетно он продолжал двигаться на восток. Он изранил ступни об острые камни. Если бы было светло, можно было бы увидеть на следах, оставляемых им на снегу, алые пятна крови.
Местность была ему незнакома. Он шел по Портлендской возвышенности с юга на север, а шайка, с которой он сюда попал, вероятно избегая нежелательных встреч, пересекла ее с запада на восток. По-видимому, она бежала в рыбацкой или контрабандистской лодке с какого-нибудь пункта на Эджискомбском побережье, из Сент-Кэтрин-Чипа или из Суонкри, направляясь в Портленд, где ее ожидала урка, и должна была высадиться в одной из бухт Уэстона, с тем чтобы пересесть на другое судно в одном из заливчиков Истона. Путь этот был перпендикулярен тому, по которому шел теперь ребенок. Вот почему он не узнавал местности.
На Портлендском плоскогорье сплошь и рядом попадаются высокие холмы, нависающие прямо над берегом и отвесно обрывающиеся к морю. Блуждая, ребенок взобрался на один из таких холмов, остановился и огляделся, надеясь, что с высокого места ему будет виднее. Но перед ним, заслоняя горизонт, расстилалась синеватая туманная мгла. Он внимательно всмотрелся в нее, и пристальный взгляд его уловил какие-то очертания. На востоке, на дне отдаленной лощины, пониже синеватой мглы, которую можно было принять за движущийся в сумраке ночи утес, стлались по земле и развевались в воздухе черные клочья. Синеватая мгла была туманом, черные клочья – дымом. Где есть дым, там есть и люди. Ребенок направился в ту сторону.
Он увидел невдалеке спуск и внизу у спуска, среди неясных очертаний скал, окутанных туманом, что-то вроде песчаной мели или косы, которая, вероятно, соединяла видневшуюся на горизонте равнину с плоскогорьем, которое он только что пересек. Очевидно, надо было идти в этом направлении.
Действительно, он достиг Портлендского перешейка, образованного делювиальными наносами, который называется Чесс-Хилл.
Он стал спускаться. Скат был трудный и неровный. Это была противоположная сторона той возвышенности, на которую он поднялся, чтобы выбраться из бухты. Правда, спускаться было легче. Всякий подъем вознаграждается спуском. Раньше он карабкался, теперь скатывался кубарем.
Он перепрыгивал с утеса на утес, рискуя вывихнуть ногу или свалиться в невидимую пропасть. Чтобы удержаться на льду при спуске со скалы, он хватался руками за тонкие длинные ветки дикого терна или за усеянные шипами кусты утесника, и колючие иглы их вонзались ему в пальцы. Кое-где склон был не так крут, и тогда ребенок отдыхал, но рядом опять начинался обрыв, и снова приходилось рассчитывать каждый шаг. При спуске в пропасть надо быть ловким, иначе грозит смерть; каждое движение – решение задачи. Эту задачу ребенок разрешал с врожденным искусством, которому позавидовали бы обезьяны, и с таким умением, которому подивился бы акробат. Склон был крут и длинен. Тем не менее ребенок находился почти внизу.
Приближалась минута, когда он ступит на перешеек, издали представший его взору.
Он то перескакивал, то переползал с утеса на утес и вдруг начинал прислушиваться, насторожившись, как чуткая лань. Он различал вдали, налево, слабый протяжный гул, похожий на низкий звук рожка. Действительно, в вышине уже происходили сдвиги воздушных слоев – предвестники того страшного северного ветра, который трубным воем дает знать о своем прибытии с полюса. В то же время ребенок почувствовал у себя на лбу, на веках, на щеках нечто, напоминавшее прикосновение к лицу холодных ладоней. Это были крупные хлопья снега, сначала незаметно порхавшие в воздухе и вдруг закружившиеся вихрем. Они предвещали снежную бурю. Ребенок уже был с головы до ног покрыт снегом. Снежная буря, более часа свирепствовавшая на море, захватила теперь и берег. Она постепенно простирала свою власть на плоскогорья. Надвигаясь вкось с северо-запада, она готовилась разразиться над Портлендским плоскогорьем.
Книга вторая
Урка в море
I
Законы, не подвластные человеку
Снежная буря – одно из необычайных, таинственных явлений на море, таинственных в полном смысле слова. Природа этого соединения тумана со штормом до сих пор не вполне выяснена. Отсюда множество бедствий.
Причиною снежной бури считают ветер и волны. Но ведь в воздухе есть сила, отличная от ветра, а в воде – сила, отличная от волны. Сила эта, одна и та же и в воздухе и в воде, есть ток. Воздух и вода – две текучие массы, почти тождественные и проникающие одна в другую путем конденсации и испарения, вот почему дышать – то же, что пить. Но один лишь ток по-настоящему текуч. Ветер и волна – это сила, ток же – истечение. Ветер становится зримым благодаря облакам, волна – благодаря пене, ток же невидим. Тем не менее время от времени он дает знать о себе: «Я здесь». Это «я здесь» – удар грома.
Снежная буря представляется такой же загадочной, как и сухой туман. Если удастся когда-либо пролить свет на сущность явления, именуемого испанцами callina, а эфиопами quobar, то лишь при условии внимательного наблюдения над свойствами магнитных токов.
Иначе многие факты так и останутся загадкой. Известно, например, что при переходе к буре скорость ветра возрастает с трех до двухсот двадцати футов в секунду, вызывая подъем волны с трех дюймов при тихой погоде до тридцати шести футов при шторме. Далее, горизонтальным направлением ветра, даже при шторме, можно объяснить, каким образом вал тридцати футов высотою достигает иной раз в длину полутора тысяч футов. Но почему волны Тихого океана в четыре раза выше у берегов Америки, чем у берегов Азии, то есть выше на западе, чем на востоке? Почему в Атлантическом океане мы наблюдаем обратное явление? Почему уровень воды в океане выше всего на экваторе? Чем вызывается изменение уровня воды в океане? Все это зависит только от влияния магнитных токов в соединении с вращением Земли и притяжением небесных светил.
Не в этом ли таинственном сочетании различных сил следует искать причину внезапных перемен в направлении ветра, дующего, например, через запад от юго-востока к северо-востоку, затем внезапно поворачивающего обратно и возвращающегося назад тем же путем от северо-востока на юго-восток, – таким образом за тридцать шесть часов он описывает две огромные дуги, всего – в пятьсот шестьдесят градусов, как это наблюдалось перед снежной бурей 17 марта 1867 года.
В Австралии во время бури волны достигают восьмидесяти футов в высоту; это происходит от близости магнитного полюса. Штормы в этих широтах вызываются не столько перемещением воздушных слоев, сколько продолжительностью подводных электрических разрядов; в 1866 году работа трансатлантического кабеля каждые сутки регулярно нарушалась в продолжение двух часов, с двенадцати до двух часов пополудни, – приступы своеобразной перемежающейся лихорадки. Сложение и разложение некоторых сил влекут за собой определенные последствия; моряк, желающий избегнуть гибели, непременно должен принимать их в расчет.
В тот день, когда искусство кораблевождения, продолжающее еще руководствоваться рутинными представлениями о природе, станет наукой, точной, как математика; когда начнут доискиваться, почему, например, в наших широтах теплые ветры дуют иногда с севера, а холодные – с юга; когда поймут, что понижение температуры воды прямо пропорционально глубине океана; когда для всех станет очевидным, что земной шар – огромный, поляризованный в бесконечном пространстве магнит с двумя осями: осью вращения и осью магнитной, пересекающимися в центре Земли, и что магнитные полюсы вращаются вокруг полюсов географических; когда люди, рискующие своей жизнью, согласятся рисковать ею лишь во всеоружии научных знаний; когда неустойчивая стихия, с которой приходится иметь дело мореплавателям, будет достаточно изучена; когда капитан будет метеорологом, а лоцман – химиком, – только тогда явится возможность избегнуть многих катастроф. Море в такой же мере стихия магнитная, как и водная; целый океан неведомых сил зыблется в океане воды, иначе говоря – плывет по течению. Видеть в море одну лишь массу воды – значит совсем не видеть моря; в море происходит непрерывное движение токов точно так же, как непрерывное чередование приливов и отливов; законы притяжения имеют для него, быть может, большее значение, чем ураганы; молекулярное сцепление, которое выражается, помимо других явлений, в капиллярном притяжении, неуловимое для невооруженного глаза, приобретает в океане грандиозные размеры, зависящие от огромных водных пространств; волны магнитные то усиливают движение воздушных и морских волн, то противодействуют им. Кто не знает законов электричества, тому неизвестны и тесно связанные с ними законы гидравлики. Правда, нет области знания более трудной и менее разработанной: наука эта имеет столь же близкое отношение к данным опыта, как астрономия – к астрологии. Однако без этой науки немыслимо кораблевождение.
А теперь перейдем к нашему повествованию.
Одно из самых страшных явлений на море – снежная буря. Она в значительной мере вызывается магнитными токами. Подобно северному сиянию, она есть порождение полюса; во мгле снежной бури и в блеске северного сияния – все тот же полюс. И в снежных хлопьях, как и в голубоватых сполохах, очевидно присутствие магнитных токов.
Снежные бури – это нервные припадки и приступы горячки у моря. У моря тоже есть свои мигрени. Бури можно сравнить с болезнями. Одни из них смертельны, другие – нет; от одной болезни выздоравливают, от другой – умирают. Снежная буря считается смертельным бедствием. Один из лоцманов Магеллана, Харабиха, называл ее «тучей, вышедшей из левого бока дьявола» (Una nube salida del malo lado del diabolo).
Сюркуф[36] говорил: «Такая буря точно холера».
В старину испанские мореплаватели называли бурю la nevada, когда падали снежные хлопья, и la helada, когда шел град. По их словам, вместе со снегом падали с неба и летучие мыши.
Снежные бури – явление обычное в полярном поясе. Однако они доходят иногда и до наших широт, вернее, обрушиваются на них – так велики причиняемые ими бедствия.
Как мы уже видели, «Матутина», покинув Портленд, решительно устремилась навстречу всем опасностям ночи, еще возросшим из-за надвигавшейся бури. С трагической смелостью кинула она вызов уже возникшей перед ней угрозе. Но повторяем, она была достаточно хорошо осведомлена об этом.
II
Зарисовка первых силуэтов
Пока урка находилась еще в Портлендском заливе, море было довольно спокойно, волнения почти не чувствовалось. Океан, правда, потемнел, но на небе было еще светло. Ветер чуть надувал паруса. Урка старалась держаться возможно ближе к скалистому берегу, служившему для нее прекрасным заслоном.
Их было десять на бискайском суденышке: три человека экипажа и семь пассажиров, в том числе две женщины. В открытом море сумерки всегда светлее, чем на берегу; теперь можно было ясно различить всех, находившихся на борту судна. Притом им уже не было надобности прятаться и остерегаться; все держали себя непринужденно, говорили громко, не закрывали лиц; отчалив от берега, беглецы вздохнули свободно.
Эта горсточка людей поражала своей пестротой. Женщины были неопределенного возраста: бродячая жизнь преждевременно старит, а нужда налагает на лица ранние морщины. Одна женщина была баскийка, другая, с крупными четками, – ирландка. У обеих был безучастный вид, свойственный беднякам. Очутившись на палубе, они сразу уселись рядом на сундуках у мачты. Они беседовали: ирландский и баскский, как мы уже говорили, родственные между собой языки. У баскийки волосы пахли луком и базиликом. Хозяин урки был баск из Гипускоа, один из матросов – тоже баск, уроженец северного склона Пиренеев, а другой – южного, то есть принадлежал к той же национальности, хотя первый был французом, а второй испанцем. Баски не признают официального подданства. Mi madre se llama montaña («Мою мать зовут гора»), – говаривал погонщик мулов Салареус. Из пяти мужчин, ехавших вместе с женщинами, один был француз из Лангедока, другой – француз-провансалец, третий – генуэзец, четвертый, старик, носивший сомбреро без отверстия в полях для трубки, – по-видимому, немец; пятый, главарь, был баск из Бискарроса, житель каменистых пустошей. Он-то и сбросил доску в море, когда ребенок собирался подняться на урку. Этот крепыш, одетый, как уже было сказано, в лохмотья, расшитые галунами и блестками, отличался порывистостью и быстротой движений; он не мог усидеть на месте и то нагибался, то выпрямлялся, то переходил с одного конца палубы на другой, видимо озабоченный тем, что он только что сделал, и тем, что должно было произойти.
Главарь шайки, хозяин корабля и двое матросов – все четверо баски, говорили то на баскском языке, то по-испански, то по-французски: эти три языка одинаково распространены на обоих склонах Пиренеев. Впрочем, все, за исключением женщин, объяснялись по-французски – на языке, который был основою жаргона их шайки. В ту эпоху французский язык начинал входить во всеобщее употребление, так как он представляет собою переходную ступень от северных языков, отличающихся обилием согласных, к южным языкам, изобилующим гласными. В Европе по-французски говорили торговцы и воры. Многие, верно, помнят, что лондонский вор Джибби понимал Картуша[37].
Урка, быстроходный парусник, неслась вперед; однако десять человек, да сверх того еще и багаж, были слишком тяжелым грузом для такого утлого суденышка.
Бегство шайки на «Матутине» отнюдь не свидетельствовало о том, что между экипажем судна и его пассажирами существовала постоянная связь. Для такого предприятия было вполне достаточно, чтобы хозяин урки и главарь шайки были оба vascongado[38]. Помогать друг другу – священный долг каждого баска, не допускающий исключений. Баск, как мы уже говорили, не признает себя ни испанцем, ни французом: он – баск и потому везде, при любых обстоятельствах, обязан приходить на помощь своему соплеменнику. Таковы узы братства, связывающие всех жителей Пиренеев.
Все время, пока урка находилась в заливе, небо хотя и было пасмурно, однако не сулило ничего такого, что могло бы встревожить беглецов. Они спасались от преследования, уходили от врага и были безудержно веселы. Один хохотал, другой распевал песни. Хохот был грубый, но непринужденный, пение – не пленявшее слуха, зато беззаботное.
Уроженец Лангедока орал: «Caougagno!» – «Кокань!», что на нарбонском наречии означает высшую степень удовлетворения. Обитатель приморской деревушки Грюиссан, прилепившейся к южному склону Клаппы, он не был настоящим матросом, не был мореходом, а скорее рыбаком, привыкшим разъезжать в своей душегубке по Бажскому озеру и вытаскивать полный невод на песчаный берег Сент-Люси. Он принадлежал к тем людям, которые носят красный вязаный колпак, крестясь, складывают пальцы особым образом, как это делают испанцы, пьют вино из козьего меха, обгладывают окорок дочиста, становятся на колени, когда богохульствуют, и, обращаясь к своему покровителю с мольбой, грозят ему: «Великий святой, исполни мою просьбу, не то я запущу тебе камнем в голову» (ои té feg’un pic).
В случае нужды он мог оказаться полезным и в роли матроса.
Провансалец подкидывал куски торфа под чугунный котел в камбузе и варил похлебку.
Эта похлебка напоминала собой «пучеро», но только говядину заменяла в ней рыба; провансалец бросал в кипящую воду горох, маленькие, нарезанные квадратиками ломтики сала и стручья красного перца, что было уступкой со стороны любителя bouillabaisse[39] любителям olla podrida[40]. Развязанный мешок с провизией стоял рядом с ним. Провансалец зажег у себя над головой железный фонарь со слюдяными стеклами, подвешенный на крючке к потолку камбуза. Рядом с фонарем болтался на другом крючке зимородок, служивший флюгером. В те времена существовало народное поверье, будто мертвый зимородок, подвешенный за клюв, поворачивается грудью в ту сторону, откуда дует ветер.
Занимаясь стряпней, провансалец то и дело подносил ко рту горлышко фляги и прихлебывал из нее водку. Фляга была широкая и плоская, с ушками, оплетенная ивняком; такие фляги носили на ремне у пояса, почему они и назывались «поясными флягами». Потягивая вино, он мурлыкал себе под нос одну из тех деревенских песенок, которые как будто лишены содержания: протоптанная тропинка, изгородь; меж кустами видны на лугу, освещенном лучами заходящего солнца, длинные тени повозки и лошади; время от времени над изгородью показываются и тотчас же пропадают вилы с охапкой сена. Для незатейливой песенки этого вполне достаточно.
Отъезд, в зависимости от настроения и мыслей, владеющих нами в эту минуту, вызывает либо чувство облегчения, либо горесть. На урке все казались довольными, кроме самого старого члена шайки, человека в сомбреро.
Старика этого, скорее всего, можно было принять за немца, хотя у него было одно из тех лиц, на которых стерлись все признаки национальности; он был лыс и держал себя так степенно, что его плешь казалась тонзурой. Проходя мимо изваяния Пресвятой Девы на носу урки, он всякий раз приподнимал свою войлочную шляпу, и тогда на его черепе видны были вздутые старческие вены. Длинное, похожее на мантию, одеяние из коричневой дорчестерской саржи, потертое и рваное, распахиваясь, приоткрывало кафтан, плотно облегавший тело и застегнутый, наподобие сутаны, до самого горла. Его руки сами собой складывались как бы для молитвы. Цвет лица у него был мертвенно-бледный: лицо человека всегда отражает его внутренний мир, и ошибочно думать, будто мысль лишена окраски. Это старческое лицо отражало странное душевное состояние – результат сложных противоречий, влекущих человека одновременно к добру и к злу; внимательный наблюдатель разгадал бы, что этот человек способен опуститься до уровня дикого зверя, пасть ниже тигра или возвыситься над обыкновенными людьми. Такой душевный хаос вполне возможен. В этом лице было что-то загадочное. Его таинственность была почти символической. Чувствовалось, что он изведал и предвкушение зла, заранее рассчитав его последствия, и опустошенность, следующую за его совершением. Его бесстрастие, быть может только кажущееся, носило печать двойной окаменелости: окаменелости сердца, свойственной палачу, и окаменелости мысли, свойственной мандарину. Можно было безошибочно утверждать – чудовищное тоже бывает в своем роде совершенным, – что он был способен на все, даже на душевный порыв. Всякий ученый немного напоминает труп, а человек этот был ученым, что с первого же взгляда бросалось в глаза, ибо ученость была запечатлена во всех его движениях, даже в складках плаща. Подвижные морщины на лице этого полиглота порою складывались в гримасу, противоречившую строгому выражению каменных черт. В нем не было лицемерия, но не было и цинизма, – лицо трагического мечтателя, человека, которого преступление привело к глубокому раздумью. Из-под нахмуренных бровей бандита светился кроткий взор архиепископа. Поредевшие седые волосы побелели на висках. В нем чувствовался христианин, который фатализмом мог бы перещеголять турка. Костлявые пальцы были искривлены подагрой; высокая, прямая, как жердь, фигура производила смешное впечатление, уверенная поступь выдавала моряка. Ни на кого не глядя, замкнутый и зловещий, он медленно расхаживал по палубе. В глубине его глаз можно было уловить отблеск души, отдающей себе отчет в окружающем ее мраке и знающей, что такое угрызения совести.
Время от времени главарь шайки, человек грубый и порывистый, быстро ходивший по палубе, подскакивал к нему и шептал что-то на ухо. Старик в ответ кивал головой. Казалось, молния совещается с ночью.
III
Встревоженные люди на тревожном море
Два человека на судне были озабочены: старик и владелец урки, которого не следует смешивать с главарем шайки; судохозяин был озабочен видом моря, старик – видом неба. Один не спускал глаз с морских волн, другой сосредоточил свое внимание на тучах. Состояние моря тревожило владельца урки, старику же внушало опасение то, что происходило на небе. Он пристально наблюдал каждую звезду, показывавшуюся в разрывах туч.
Был тот сумеречный час, когда еще светло, но в вечерней мгле уже слабо мерцают редкие звезды. Дали выглядели необычно. Туман принимал самые разнообразные формы.
Он сгущался преимущественно над берегом, тучи же скоплялись главным образом над морем.
Еще до выхода из Портлендского залива владелец урки, озабоченный высотою волн, тщательно проверил такелаж. Не дожидаясь, когда судно обогнет мыс, он осмотрел швиц-сарвени, убедился, что нижние ванты хорошо натянуты, и подтянул шкоты у марса – необходимая предосторожность для человека, рассчитывающего идти на всех парусах.
Нос урки – в этом заключался ее главный недостаток – зарывался в воду на полвара глубже, чем корма.
Хозяин то и дело переходил от путевого к главному компасу, стараясь определить скорость движения судна и румб, под которым оно шло. Сначала дул бейдевинд, и владелец урки ничего не имел против этого, хотя боковой ветер и отклонял немного судно от намеченного курса. Он сам становился у руля, по-видимому не надеясь на других и считая, что он один может обеспечить наибольшую скорость хода.
Так как разница между румбом действительным и румбом кажущимся тем значительнее, чем быстрее движение судна, казалось, что урка идет под бо́льшим углом к направлению ветра, чем это было на самом деле. Урка шла не в бакштаг и не в бейдевинд, но настоящее направление ветра можно определить, только когда он дует в корму. Если в облаках видны длинные полосы, спускающиеся к какой-либо точке на горизонте, эта точка и есть то место, откуда дует ветер. Но в этот вечер дуло несколько ветров, румб ветра определить было трудно, и владелец урки сомневался в правильности курса.
Он правил судном осторожно и в то же время смело: брасопил реи, следил за всеми отклонениями от курса, старался не допускать их, наблюдал за дрейфом, замечал самые незначительные толчки румпеля, малейшие изменения в скорости хода, постоянно держался на известном расстоянии от берега, мимо которого шла урка, и, принимая во внимание малые размеры путевого компаса, старался, чтобы угол, образуемый флюгером и килем, был больше угла раствора парусов. Его взгляд, неизменно устремленный на воду, улавливал все изменения на ее поверхности.
Один только раз он поднял глаза к небу, стараясь найти три звезды в Поясе Ориона; эти три звезды носят название Трех волхвов, и в старину испанские лоцманы говаривали: «Кто видит Трех волхвов, тому недалеко и до Спасителя».
Как раз в то мгновение, когда владелец урки поглядел на небо, на другом конце урки послышалось бормотание старика:
– Не видно ни Полярной звезды, ни Антареса, несмотря на его ярко-красный цвет. Ни одной звезды на небе.
Остальных беглецов это, казалось, не тревожило.
Однако, когда прошел первый порыв радости, вызванный бегством, все почувствовали на себе ледяное дыхание ветра, напоминавшее о том, что стоит январь и что они находятся в море. Расположиться в каюте оказалось невозможно: она была слишком мала и к тому же загромождена багажом и тюками с товаром. Багаж принадлежал пассажирам, а тюки – экипажу, ибо урка была не яхтой для прогулок, а судном контрабандистов. Пассажирам пришлось разместиться на палубе – лишение, в сущности, небольшое для этих кочевников. Привычка жить на открытом воздухе устраняет для бродяг всякую заботу о ночлеге. Звездное небо заменяет им кров, на холоде приходит крепкий, а иногда и смертный сон.
Впрочем, в этот вечер, как мы только что сказали, небо было беззвездно.
Уроженец Лангедока и генуэзец в ожидании ужина примостились рядом с женщинами у мачты, под брезентом, который им бросили матросы.
Лысый старик все стоял на носу судна, не трогаясь с места и как будто не чувствуя холода.
Владелец урки, не отходя от руля, издал гортанный звук, похожий на крик птицы, которую в Америке называют «восклицателем», на этот зов к нему подошел главарь шайки, и судохозяин обратился к нему:
– Etcheco jaüna!
Эти два баскских слова, означающие «горный земледелец», служат у потомков древних кантабрийцев обычным вступлением к разговору, требующему серьезного внимания.
Владелец урки пальцем указал на старика, и беседа продолжалась на испанском языке, не отличавшемся особой правильностью, так как оба изъяснялись на наречии горцев:
– Горный земледелец! Что это за человек?
– Человек.
– На каких языках он говорит?
– На всех.
– Что он знает?
– Все.
– Какую страну он считает своей родиной?
– Никакую и все.
– Кто его бог?
– Бог.
– Как ты его зовешь?
– Безумцем.
– Повтори: как ты его зовешь?
– Мудрецом.
– Кто он в вашей шайке?
– То, что он есть.
– Главарь?
– Нет.
– Кто же он в таком случае?
– Душа.
Главарь шайки и хозяин расстались, и каждый снова погрузился в свои мысли; вскоре после этого «Матутина» вышла из залива.
Началась сильная качка.
Там, где море не было покрыто пеной, оно казалось клейкой массой; в вечернем сумраке волны, утратив четкость очертаний, походили на лужи желчи. В иных местах волны как будто ложились плашмя, и на них виднелись лучеобразные трещины, как на стекле, в которое бросили камнем. В центре этих расходившихся лучей, в кружащейся воронке, мерцал фосфорический свет, похожий на хищный блеск, которым горят глаза совы.
«Матутина» гордо и отважно миновала полосу опасной зыби над Чембурской мелью. Чембурская мель, заграждающая выход из портлендского рейда, имеет вид не прямой преграды, а амфитеатра. Песчаная круглая арена подводного цирка с симметрически расположенными ступенями, выбитыми круговоротом волн на поглощенной морем горе высотою с Юнгфрау, Колизей на дне океана, призрачным видением возникающий перед водолазом в прозрачной глубине морской пучины, – вот что представляет собою Чембурская мель. Чудовищная арена: там сражаются гидры, там бросаются в схватку левиафаны; там, если верить легенде, на дне гигантской воронки покоятся остовы кораблей, схваченных и потопленных исполинским пауком Кракеном, которого называют также «горой-рыбой». Такова страшная тайна моря.
Эта призрачная, неведомая человеку жизнь дает о себе знать на поверхности моря легкою зыбью.
В XIX столетии Чембурская мель почти совсем исчезла. Недавно построенный волнорез силою прибоя опрокинул и разрушил это высокое подводное сооружение, подобно тому как плотина, воздвигнутая в 1760 году в Круазике, передвинула время прилива и отлива у берегов его на четверть часа. Между тем приливы и отливы вечны. Но вечность подчиняется человеку гораздо больше, чем принято думать.
IV
Появление тучи, не похожей на другие
Старик, которого главарь шайки назвал сперва безумцем, а затем мудрецом, больше не покидал носовой части судна. Как только миновали Чембурскую мель, его внимание разделилось между небом и океаном. Он то опускал, то снова поднимал глаза; особенно пристально всматривался он в сторону северо-востока.
Хозяин передал руль одному из матросов, перешагнул через люк канатного ящика, перешел шкафут и очутился на юте.
Приблизившись к старику, он остановился в нескольких шагах позади него, прижал локти к бокам, расставил руки и склонил голову набок; выкатив глаза, приподняв брови, он улыбнулся одними уголками губ, и лицо его выразило любопытство, находившееся на грани между иронией и уважением.
Старик, потому ли, что он имел привычку беседовать сам с собою, или потому, что чувствовал у себя за спиной чье-то присутствие, вызывающее его на разговор, принялся разглагольствовать, ни к кому не обращаясь и глядя на расстилавшийся перед ним водный простор:
– Меридиан, от которого исчисляется прямое восхождение, в нашем веке обозначен четырьмя звездами: Полярной, креслом Кассиопеи, головой Андромеды и звездой Альгениб, находящейся в созвездии Пегаса. Но ни одной из них не видать…
Слова эти, прозвучавшие еле слышно, были обронены как будто безотчетно, словно сознание человека не принимало в этом никакого участия. Они слетали с его губ и как бы растворялись в воздухе. Монолог – это дым духовного огня, горящего внутри нас.
Владелец урки перебил его:
– Сеньор…
Старик был, вероятно, туг на ухо, а может быть, задумался и не расслышал обращения.
– Слишком мало звезд и слишком много ветра, – продолжал он. – Ветер то и дело меняет направление и дует к берегу. Он обрушивается на него отвесно. Это происходит оттого, что на суше теплее, чем на море. Воздух над сушею легче. Холодный и тяжелый морской ветер устремляется на землю и вытесняет теплый воздух. Потому-то на большой высоте ветры ополчаются на землю со всех сторон. Следовало бы делать длинные галсы между параллелью теоретической и параллелью истинной. В тех случаях, когда наблюдаемая широта уклоняется от широты истинной не больше чем на три минуты на каждые десять лье и на четыре минуты на каждые двадцать лье, можно не сомневаться в правильности курса.
Хозяин поклонился, но старик по-прежнему не замечал его. Закутанный в одеяние, похожее на мантию доктора Оксфордского или Геттингенского университета, он стоял неподвижно, не меняя своей надменно-суровой позы, пристально смотрел на море, как человек, хорошо изучивший и водную стихию, и людей. Он вглядывался в волны, как будто собираясь принять участие в их шумной беседе и сообщить им важную новость. В нем было нечто напоминавшее и средневекового алхимика, и авгура Древнего Рима. У него был вид ученого, претендующего на знание сокровенных тайн природы.
Он продолжал свой монолог, быть может, в расчете на то, что кто-то его слушает:
– Можно было бы бороться, будь у нас вместо румпеля штурвал. При скорости в четыре лье в час давление в тридцать фунтов на штурвал может дать триста тысяч фунтов полезного действия. И даже больше, ибо в некоторых случаях удается выгадать два лишних оборота.
Хозяин еще раз поклонился и произнес:
– Сеньор…
Старик пристально посмотрел на него. Он повернул только голову, не изменив позы:
– Называй меня доктором.
– Сеньор доктор! Я владелец судна.
– Хорошо, – ответил «доктор».
Доктор – отныне и мы будем называть его так, – по-видимому, согласился вступить в разговор.
– Хозяин! Есть у тебя английский октант?
– Нет.
– Без английского октанта ты не в состоянии определять высоту ни впереди, ни позади судна.
– Баски, – возразил владелец урки, – умели определять высоту, когда никаких англичан еще на свете не было.
– Берегись приводиться к ветру.
– Я приспускаюсь, когда это нужно.
– Ты измерил скорость хода корабля?
– Да.
– Когда?
– Только что.
– Чем?
– Лагом.
– А ты осмотрел сектор лага?
– Да.
– Песочные часы верно показывают свои тридцать секунд?
– Да.
– Ты уверен, что песок не расширил трением отверстие между двумя склянками?
– Да.
– Проверил ли ты песочные часы при помощи мушкетной пули, подвешенной…
– На ровной нитке из вымоченной пеньки? Разумеется.
– Хорошо ли навощил нитку, чтобы она не растянулась?
– Да.
– А лаг ты проверил?
– Я проверил песочные часы посредством мушкетной пули и лаг посредством пушечного ядра.
– Каков диаметр твоего ядра?
– Один фут.
– Калибр вполне достаточный.
– Это старинное ядро с нашей старой военной урки «Касс де Паргран».
– Она входила с состав Армады?
– Да.
– На ней было шестьсот солдат, пятьдесят матросов и двадцать пять пушек?
– Про то знает море, поглотившее их.
– А как определил ты силу удара воды об ядро?
– При помощи немецкого безмена.
– Принял ли ты в расчет напор волны на канат, к которому привязано ядро?
– Да.
– Что же у тебя получилось в итоге?
– Сто семьдесят фунтов.
– Иными словами, урка делает четыре французских лье в час.
– Или три голландских лье.
– Но ведь это только превышение скорости хода над быстротою морского течения.
– Конечно.
– Куда ты направляешься?
– В знакомую мне бухту между Лойолой и Сан-Себастьяном.
– Выходи поскорее на параллель, на которой лежит эта бухта.
– Да, надо как можно меньше отклоняться в сторону.
– Остерегайся ветров и течений. Ветры усиливают течения.
– Предатели!
– Не ругайся! Море все слышит. Избегай бранных слов. Наблюдай – и только.
– Я наблюдал и наблюдаю. Ветер дует сейчас навстречу поднимающемуся приливу, но скоро, как только начнется отлив, он будет дуть в одном направлении с ним, и тогда мы полетим стрелой.
– Есть у тебя карта?
– Нет. Для этого моря у меня нет карты.
– Значит, ты идешь вслепую?
– Нет. У меня компас.
– Компас – один глаз, а карта – второй.
– И кривой видит.
– Каким образом ты измеряешь угол, образуемый курсом судна и килем?
– У меня есть компас, остальное – дело догадки.
– Догадка хороша, но знание лучше.
– Христофор Колумб основывался на догадке.
– Когда во время бури стрелка компаса мечется как угорелая, никто не знает, за какой ветер следует ухватиться, и дело кончается тем, что теряешь направление. Осел с дорожной картой стоит большего, чем прорицатель с его оракулом.
– Но ветер пока еще не предвещает бури, и я не вижу повода к тревоге.
– Корабли – мухи в паутине моря.
– Сейчас ни волны, ни ветер не внушают опасений.
– Черные точки, качающиеся на волне, – вот что такое люди в океане.
– Я не предвижу ничего дурного этой ночью.
– Берегись, может произойти такая кутерьма, что ты и не выпутаешься.
– Пока все обстоит благополучно.
Взор доктора устремился на северо-восток.
Владелец урки продолжал:
– Только бы добраться до Гасконского залива, а там я отвечаю за все. Еще бы! Там я дома. Гасконский залив я знаю, как свой карман. Хотя эта лоханка довольно часто бурлит от ярости, мне известны все ее глубокие и мелкие места, все особенности фарватера: близ Сан-Киприано – ил, близ Сисарки – раковины, у мыса Пеньяс – песок, у Буко-де-Мимисана – мелкая галька; я знаю, какого цвета там каждый камешек.
Он замолчал: доктор не слушал его.
Доктор внимательно смотрел на северо-восток. Что-то необычайное появилось вдруг на его бесстрастном лице. Оно выражало ту степень испуга, какую способна выразить каменная маска. Из его уст вырвалось восклицание:
– В добрый час!
Глаза старика, ставшие круглыми, как у совы, расширились от ужаса при виде еле заметной точки на горизонте.
Он прибавил:
– Это справедливо. Что касается меня, я согласен.
Судовладелец смотрел на него.
Доктор, обращаясь не то к самому себе, не то к кому-то, притаившемуся в морской пучине, повторил:
– Я говорю: да.
Он умолк, шире раскрыл глаза, с удвоенным вниманием вглядываясь в то, что представилось его взору, и произнес:
– Оно надвигается издалека, но отлично знает, что делает.
Часть небосклона, противоположная закату, к которой неотрывно были прикованы взор и мысль доктора, была освещена, как днем, отблеском заходящего солнца. Резко очерченная окружавшими ее клочьями сероватого тумана, она была синего цвета, но скорее свинцового, чем лазурного оттенка.
Доктор, всем корпусом повернувшись к морю и уже не глядя на владельца урки, указал пальцем на эту часть неба:
– Видишь, хозяин?
– Что?
– Вот это.
– Что именно?
– Вон там.
– Синеву? Вижу.
– Что это такое?
– Клочок неба.
– Это для тех, кто думает попасть на небо, – возразил доктор. – Для тех же, кто туда не попадет, это совсем иное.
Он подчеркнул свои загадочные слова странным взглядом, потонувшим в вечернем полумраке.
Наступило молчание.
Владелец урки, вспомнив двойственную характеристику, данную старику главарем шайки, мысленно задал себе вопрос: «Кто же этот человек? Безумец или мудрец?»
Костлявый палец доктора все еще был направлен на мутно-синий край небосвода.
Хозяин внимательнее посмотрел в ту сторону.
– В самом деле, – пробормотал он, – это не небо, а туча.
– Синяя туча хуже черной, – произнес доктор и прибавил: – Это снеговая туча.
– La nube de la nieve, – проговорил хозяин, переведя эти слова на родной язык, чтобы лучше уяснить их смысл.
– Знаешь, что такое снеговая туча?
– Нет.
– Ну так скоро узнаешь.
Владелец урки впился взглядом в горизонт. Всматриваясь в тучу, он бормотал сквозь зубы:
– Месяц бурных ветров, месяц дождей, кашляющий январь да плачущий февраль – вот и вся наша астурийская зима. Дождь у нас теплый. Снег у нас выпадает только в горах. Зато берегись там лавины! Лавина ничего не разбирает: лавина – это зверь.
– А смерч – чудовище, – подхватил доктор и, помолчав немного, прибавил:
– Вот он надвигается.
Затем продолжал:
– Сразу начинает дуть несколько ветров: порывистый – с запада и другой, очень медленный, – с востока.
– Восточный – это лицемер, – заметил судовладелец.
Синяя туча росла.
– Если снег, – продолжал доктор, – страшен, когда он скатывается с горы, сам посуди, каков он, когда обрушивается с полюса.
Глаза его стали как бы стеклянными; казалось, туча, сгущавшаяся на горизонте, сгущалась и на его лице.
– С каждой минутой близится ужасный час, – задумчиво проговорил он. – Приподнимается завеса над предначертаниями верховной воли.
Владелец урки опять задал себе вопрос: «Не сумасшедший ли это?»
– Хозяин, – снова заговорил доктор, не отрывая взгляда от тучи. – Ты много плавал по Ла-Маншу?
– Сегодня в первый раз, – ответил тот.
Доктора, поглощенного тревожным созерцанием синей тучи, этот ответ не взволновал, – так губка, пропитанная влагой, не может вобрать в себя ни одной лишней капли. В ответ на слова хозяина он только слегка пожал плечами:
– Как же так?
– Я, сеньор доктор, обыкновенно плаваю только до Ирландии. Я делаю рейс от Фуэнтарабии до Блек-Харбора или до острова Акиля; называют его «остров», а состоит он из двух островов. Иногда я захожу в Брачипульт, на побережье Уэльса. Но я никогда не спускался до островов Силли и этого моря не знаю.
– Плохо дело. Горе тому, кто с трудом разбирает азбуку океана! Ла-Манш – книга, которую надо читать бегло, Ла-Манш – сфинкс. Дно у него коварное.
– Здесь глубина двадцать пять брассов[41].
– Надо держать курс на запад, где глубина достигает пятидесяти пяти брассов, и не плыть на восток, где она всего лишь двадцать брассов.
– Мы бросим лот.
– Помни, Ла-Манш – море особенное. Уровень в нем поднимается до пятидесяти футов при высокой воде и до двадцати пяти – при низкой. Здесь спад воды – еще не отлив, а отлив – это еще не спад… Ага! Ты, кажется, испугался.
– Ночью бросим лот.
– Чтобы бросить лот, нужно остановиться, а это тебе не удастся.
– Почему?
– Не позволит ветер.
– Попробуем.
– Шквал – острие шпаги в боку.
– Все равно мы бросим лот, сеньор доктор.
– Тебе не удастся даже поставить судно лагом к ветру.
– Бог поможет.
– Будь осторожен в словах. Не произноси всуе грозного имени.
– А все-таки я брошу лот.
– Будь скромнее. Еще немного – и ветер надает тебе пощечин.
– Я хочу сказать, что постараюсь бросить лот.
– Волны не дадут свинцу опуститься на дно, и линь оборвется. Видно, ты впервые в этих местах.
– Ну да, я уже говорил вам…
– В таком случае слушай, хозяин…
Это «слушай» было сказано таким повелительным тоном, что хозяин покорно склонил голову:
– Слушаю, сеньор доктор.
– Возьми галсы на бакборт и натяни шкоты на штирборте.
– Что вы хотите сказать?
– Поворачивай на запад.
– Карамба!
– Поворачивай на запад.
– Невозможно.
– Как хочешь. Я это говорю, чтобы спасти других. Я-то готов покориться судьбе.
– Но, сеньор доктор, повернуть на запад…
– Да, хозяин.
– Значит идти против ветра.
– Да, хозяин.
– Будет дьявольская качка!
– Выбирай другие слова. Да, качка будет, хозяин.
– Судно встанет на дыбы.
– Да, хозяин.
– Может и мачта сломаться.
– Может.
– Вы хотите, чтобы я взял курс на запад?
– Да.
– Не могу.
– В таком случае справляйся с морем как знаешь.
– Пусть только ветер переменится.
– Он не переменится всю ночь.
– Почему?
– Он дует на протяжении тысячи двухсот лье.
– Как же идти против такого ветра? Невозможно.
– Говорят тебе: возьми курс на запад.
– Попытаюсь. Но нас все равно отнесет в сторону.
– Это-то и опасно.
– Ветер гонит нас на восток.
– Не правь на восток.
– Почему?
– Знаешь, хозяин, как зовут сегодня нашу смерть?
– Нет.
– Ее зовут востоком.
– Буду править на запад.
Доктор посмотрел на хозяина таким взглядом, словно хотел запечатлеть в его мозгу какую-то мысль. Он всем корпусом повернулся к нему и, медленно отчеканивая слова, произнес:
– Если сегодня ночью в открытом море до нас долетит звон колокола, судно погибло.
Владелец урки с ужасом уставился на него:
– Что вы хотите сказать?
Доктор ничего не ответил. Его взор, оживившийся на мгновение, снова погас. Он опять смотрел как бы внутрь себя и, казалось, не расслышал вопроса изумленного судохозяина. Его внимание было целиком поглощено тем, что происходило в нем самом. С его губ невольно сорвались шепотом произнесенные слова:
– Настало время омыться черным душам.
Хозяин сделал выразительную гримасу, от которой его подбородок поднялся чуть не до самого носа.
– Он не столько мудрец, сколько сумасшедший, – пробормотал он, отойдя в сторону.
Но все-таки повернул судно на запад.
А ветер крепчал, и волны вздымались все выше.
V
Хардкванон
Туман набухал, поднимался клубами и застилал горизонт, словно какие-то незримые рты раздували мехи бури. Облака принимали зловещие очертания.
Синяя туча заволокла большую часть небосвода. Она захватила и запад и восток. Она надвигалась против ветра. Такие противоречия свойственны природе ветров.
Море, за минуту перед тем осыпанное крупной чешуей, теперь словно покрылось кожей. Таков этот дракон. Это был уже не крокодил, а боа. Грязно-свинцового цвета кожа казалась толстой и морщилась тяжелыми складками. На ней вздувались круглые пузыри, похожие на нарывы, и тотчас же лопались. Пена напоминала струпья проказы.
Как раз в эту минуту урка, которую брошенный ребенок разглядел на горизонте, зажгла фонарь.
Прошло четверть часа.
Хозяин поискал глазами доктора, но его уже не было на палубе.
Как только владелец урки отошел от него, доктор, согнув свой нескладный высокий стан, спустился в каюту. Здесь он уселся на эзельгофте[42] подле кухонной плиты, вынул из кармана чернильницу, обтянутую шагренью, и большой бумажник из крокодиловой кожи, достал из бумажника вчетверо сложенный кусок пожелтевшего, в пятнах, пергамента, развернул его, извлек из футляра перо, примостил бумажник на коленях, положил на него пергамент оборотной стороной вверх и при свете фонаря, выхватывавшего из мрака фигуру повара, начал писать. Ему мешали удары волн о борт, он медленно выводил букву за буквой.
Занятый этим делом, доктор случайно кинул взгляд на флягу с водкой, к которой провансалец прикладывался каждый раз, когда подбрасывал перцу в котел, как будто советовался с ней насчет приправы.
Доктор обратил внимание на флягу не потому, что это была бутыль с водкой, а потому, что заметил на ее плетенке имя, выведенное красными прутьями на белом фоне. В каюте было достаточно светло: он без труда прочитал это имя.
Прервав свое занятие, доктор произнес вполголоса, по слогам:
– Хардкванон.
Затем обратился к повару:
– Я до сих пор как-то не замечал этой фляги. Разве она принадлежала Хардкванону?
– Нашему бедняге Хардкванону? – переспросил повар. – Да.
Доктор продолжал допытываться:
– Фламандцу Хардкванону?
– Да.
– Тому самому, что сидит в тюрьме?
– Да.
– В Четэмской башне?
– Да, это его фляга, – ответил повар, – он был мне другом. Я храню ее как память. Когда-то мы еще свидимся с ним! Да, это его поясная фляга.
Доктор снова взялся за перо и опять начал с трудом выводить букву за буквой: строчки ложились криво, но он явно старался писать разборчиво. Рука у него тряслась от старости, судно сотрясала качка, и все же он довел свое дело до конца.
Он кончил писать вовремя, ибо как раз в эту минуту налетел шквал.
Волны приступом пошли на урку, и все люди на борту почувствовали, что началась та ужасающая пляска, которой корабли встречают бурю.
Доктор встал и, удержав равновесие, несмотря на сильную качку, подошел к плите, высушил на огне только что написанные строки, снова сложил пергамент, сунул его в бумажник, а самый бумажник вместе с чернильницей спрятал в карман.
Плита благодаря своему остроумному устройству занимала далеко не последнее место среди оборудования урки; она была расположена в части судна, наименее подверженной качке. Однако теперь котел сильно трясло. Провансалец не спускал с него глаз.
– Похлебка из рыбы, – сказал он.
– Для рыбы, – поправил его доктор и возвратился на палубу.
VI
Они уповают на помощь ветра
В душе доктора росла тревога, и он постарался выяснить положение дел. Тот, кто в эту минуту оказался бы рядом с ним, мог бы расслышать сорвавшиеся с его губ слова:
– Слишком сильна боковая качка и слишком слаба килевая.
Поглощенный мрачным течением своих мыслей, он снова погрузился в раздумье, подобно тому как рудокоп погружается в шахту.
Размышления не мешали ему наблюдать за тем, что происходило на море. Наблюдать море – значит размышлять.
Начиналась жестокая пытка водной стихии, от века терзаемой бурями. Из морской пучины вырывался жалобный стон. На всем безмерном пространстве ее совершались зловещие приготовления. Доктор смотрел на все, творившееся у него перед глазами, не упуская ни малейшей подробности. Но его взгляд не был взглядом созерцателя. Нельзя спокойно созерцать ад.
Начинался пока еще мало приметный сдвиг воздушных слоев, однако уже проявивший себя в смятении океана, усиливший ветер и волны, сгустивший тучи. Нет ничего более последовательного и вместе с тем более вздорного, чем океан. Неожиданные прихоти его соприродны его могуществу и составляют один из элементов величия океана. Его волна не ведает ни покоя, ни бесстрастия. Она сливается с другой волной, чтобы тотчас же отхлынуть. Она то нападает, то отступает. Ничто не сравнится с зрелищем бушующего моря. Как живописать эти почти невероятные в своей непрерывной смене провалы и взлеты, эти исполинские зыблющиеся гребни и теснины, эти едва воздвигнутые и уже рушащиеся подпоры? Как изобразить эти кущи пены на вершинах сказочных гор? Здесь все неописуемо: и разверстая бездна, и ее угрюмо-тревожный вид, и ее совершенная безликость, и светотень, и низко нависшие тучи, и внезапные разрывы облаков над головой, и их беспрестанное, неуловимое глазом таяние, и зловещий грохот, сопровождающий этот дикий хаос.
Ветер дул прямо с севера. Ярость, с которой он налетал на судно, была как нельзя более кстати, ибо порывы ее гнали урку от берегов Англии; владелец «Матутины» решил поднять все паруса. Вся в хлопьях пены, подгоняемая ветром, дувшим в корму, урка неслась как будто вскачь, с бешеным весельем перепрыгивая с волны на волну. Беглецы заливались смехом. Они хлопали в ладоши, приветствуя волны, ветер, паруса, быстроту хода, свое бегство и неведомое будущее. Доктор, казалось, не замечал их; он был погружен в задумчивость.
Померкли последние лучи заката.
Они угасли как раз в ту минуту, когда ребенок, стоя на отдаленном утесе и пристально глядя на урку, потерял ее из виду. До этого мгновения его взор был прикован к судну. Какую роль в судьбе беглецов сыграл этот детский взор? Когда ребенок перестал что-либо различать на горизонте, он повернулся спиною к морю и пошел на север, между тем как судно неслось на юг.
Все потонуло во мраке ночи.
VII
Священный ужас
А те, кого уносила на своем борту урка, с чувством радостного облегчения смотрели, как отступает все дальше и уменьшается в размерах враждебная земля. Перед ними все выше вздувалась мрачная поверхность океана, в сумерках скрывались Портленд, Пурбек, Тайнехэм, Киммеридж и оба Матраверса, длинный ряд мглистых утесов и усеянный маяками берег.
Англия исчезла из виду. Только море окружало теперь беглецов.
И вдруг наступила грозная тьма.
Ни расстояния, ни пространства уже не существовало; небо стало совершенно черным и непроницаемой завесой протянулось над судном. Медленно начал падать снег. Закружились первые хлопья. Казалось, это кружатся души умерших. В непроглядном мраке бушевал на просторе ветер. Люди почувствовали себя во власти стихии. На каждом шагу их подстерегала ловушка.
Именно таким глубоким мраком обычно начинается в наших широтах полярный смерч.
Огромная бесформенная туча, похожая на брюхо гидры, тяжко нависла над океаном, местами соприкасаясь с ним своей свинцовой утробой. Иногда она приникала к нему чудовищными присосками, похожими на лопнувшие гнойники, которые как бы втягивали в себя воду и выпускали клубящийся туман. Над ними на поверхности волн вздымались конусы пены.
Полярная буря обрушилась на урку, и урка ринулась в самую ее гущу. Шквал и судно устремились друг другу навстречу, словно хотели помериться силами.
Во время этой первой неистовой схватки ни один парус не был убран, ни один кливер не спущен, не взят ни один риф, ибо бегство граничит порой с безумием. Мачта трещала и гнулась, точно в испуге.
Смерчи в нашем Северном полушарии вращаются слева направо, как часовая стрелка, и в своем поступательном движении проходят иногда до шестидесяти миль в час. Хотя урка оказалась всецело во власти яростного вихря, она держалась так, как держится судно при умеренном ветре, стараясь только идти наперерез волне, подставляя нос первому порыву ветра, правый борт – последующим, благодаря чему ей удавалось избегать ударов в корму и в левый борт. Такая полумера не принесла бы ни малейшей пользы, если бы ветер стал менять направление.
Откуда-то сверху, с недосягаемой высоты, несся мощный протяжный гул.
Что может сравниться с ревущей бездной? Это оглушительный звериный вой мира. То, что мы называем материей, это непознаваемое вещество, этот сплав неизмеримых сил, в действии которых обнаруживается едва ощутимая, повергающая нас в трепет воля, этот слепой хаос ночи, этот непостижимый Пан иногда издает крик – странный, долгий, упорный, протяжный крик, еще не ставший словом, но силою своей превосходящий гром. Этот крик и есть голос урагана. Другие голоса – песни, мелодии, возгласы, речь – исходят из гнезд, из нор, из жилищ, они принадлежат наседкам, воркующим влюбленным, брачащимся парам; голос урагана – это голос из великого Ничто, которое есть Все. Живые голоса выражают душу вселенной, тогда как голосом урагана вопит чудовище, ревет бесформенное. От его косноязычных вещаний захватывает дух, объемлет ужас. Гулы несутся к человеку со всех сторон. Они перекликаются над его головой. Они то повышаются, то понижаются, плывут в воздухе волнами звуков, поражают разум множеством диких неожиданностей, то разражаясь над самым ухом пронзительной фанфарой, то исходя хрипами где-то вдалеке; головокружительный гам, похожий на чей-то говор, – да это и в самом деле говор; это тщится говорить сама природа, это ее чудовищный лепет. В этом крике новорожденного глухо прорывается трепетный голос необъятного мрака, обреченного на длительное, неизбывное страдание, то приемлющего, то отвергающего свое иго. Чаще всего это напоминает бред безумца, приступ душевного недуга; это скорее эпилептическая судорога, чем разумная сила; кажется, будто видишь воочию бесконечность, бьющуюся в припадке падучей. Временами начинает казаться, что стихии предъявляют свои встречные права и хаос покушается снова завладеть вселенной. Временами это жалобный стон причитающего и в чем-то оправдывающегося пространства, нечто вроде защитительной речи, произносимой целым миром; в такие минуты приходит в голову, что вся вселенная ведет спор; прислушиваешься, стараясь уловить страшные доводы за и против; иногда стон, вырывающийся из тьмы, бывает неопровержим, как силлогизм. В неизъяснимом смущении останавливается перед всем этим человеческая мысль. Вот где источник возникновения мифологии и политеизма. Ужас, вызываемый этим оглушительным и невнятным рокотом, усугубляется мгновенно возникающими и столь же быстро исчезающими фантастическими образами сверхчеловеческих существ: еле различимые лики эвменид, облакоподобная грудь фурий, адские химеры, в реальности которых почти невозможно усомниться. Нет ничего страшнее этих рыданий, взрывов хохота, многообразных возгласов, этих непостижимых вопросов и ответов, этих призывов о помощи, обращенных к неведомым союзникам. Человек теряется, слыша эти жуткие заклинания. Он отступает перед загадкой свирепых и жалобных воплей. Каков их скрытый смысл? Что означают они? Кому угрожают, кого умоляют? В них чудится бешеная злоба. Яростно перекликается бездна с бездной, воздух с водою, ветер с волной, дождь с утесом, зенит с надиром, звезды с морской пеной, несется вой пучины, сбросившей с себя намордник, – таков этот бунт, в который замешалась еще и таинственная распря каких-то злобных духов.
Многоречивость ночи столь же зловеща, как и ее безмолвие. В ней чувствуется гнев неведомого.
Ночь скрывает чье-то присутствие. Но чье?
Впрочем, следует различать ночь и потемки. Ночь заключает в себе нечто единое; в потемках есть известная множественность. Недаром грамматика, со свойственной ей последовательностью, не допускает единственного числа для слова «потемки». Ночь – одна, потемок много.
Разрозненное, беглое, зыбкое, пагубное – вот что представляет собою покров ночной тайны. Земля пропадает у нас под ногами, вместо нее возникает иная реальность.
В беспредельном мраке чувствуется присутствие чего-то или кого-то живого, но от этого живого веет на нас холодом смерти. Когда закончится наш земной путь, когда этот мрак станет для нас светом, мы начнем новую жизнь вне жизни земной. А пока мрак как бы испытывает нас. Темнота – это гнет. Ночь налагает руку на нашу душу. Бывают ужасные и торжественные мгновения, когда мы чувствуем, что нами овладевает этот посмертный мир.
Нигде эта близость неведомого не ощущается более явственно, чем на море, во время бури. Здесь ужас возрастает от фантастической обстановки. Древний тучегонитель, по своему произволу меняющий течение людских жизней, располагает здесь всем, что ему требуется для осуществления любой своей причуды: непостоянной, буйной стихией и рассеянными повсюду равнодушными силами. Буря, природа которой остается для нас тайной, только исполняет приказания, ежеминутно повинуясь внушениям чьей-то мнимой или действительной воли.
Поэты всех времен называли это прихотью волн.
Но прихоти не существует.
Явления, повергающие нас в недоумение и именуемые нами случайностью в природе и случаем в человеческой жизни, – следствия законов, сущность которых мы только начинаем постигать.
VIII
Nix et nox[43]
Характерный признак снежной бури – чернота. Обычная картина во время грозы – потемневшее море или земля и свинцовое небо – резко меняется: небо становится черным, океан – белым. Внизу – пена, вверху – мрак. Горизонт заслонен стеною мглы, зенит затянут крепом. Буря напоминает внутренность собора, задрапированного траурной материей. Но никакого освещения в этом соборе нет. Нет ни огней святого Эльма на гребнях волн, нет ни единой искорки, ни намека на фосфоресценцию – куда ни глянь, сплошной мрак. Полярный смерч тем и отличается, между прочим, от смерча тропического, что один из них зажигает все огни, другой гасит их все до единого. Над миром внезапно вырастает давящий каменный свод. В непроглядной тьме падают с неба, крутясь в воздухе, белые пушинки и медленно опускаются в море. Пушинки эти – не что иное, как снежные хлопья: они порхают и кружатся в воздухе. Как будто с погребального покрова, раскинутого в небе, срываются серебряные блестки и ожившими слезами падают одна за другой. Сеет снег, дует яростный северный ветер. Чернота, испещренная белыми точками, беснование во мраке, смятение перед разверзшейся могилой, ураган под катафалком – вот что представляет собою снежная буря.
Внизу волнуется океан, скрывающий страшные, неизведанные глубины.
При полярном ветре, насыщенном электричеством, хлопья снега мгновенно превращаются в градины и воздух пронизывают маленькие ядра. Обстреливаемая этой картечью, поверхность моря кипит.
Ни одного удара грома. Во время полярной бури молнии почти не слышно; про нее можно сказать то же, что говорят иногда про кошку: «Она шипит». Снежная буря – грозно разверстая пасть, не знающая пощады. Это буря слепая и немая. Сплошь и рядом после того, как она пронеслась, корабли тоже становятся слепыми, а матросы немыми.
Выбраться из этой бездны нелегко.
Было бы, однако, ошибкой думать, что в снежную бурю кораблекрушение неизбежно. Датские рыболовы из Диско и Балезена, охотник за черными китами, Хирн, отправившийся к Берингову проливу отыскивать устье реки Медных Залежей, Гудзон, Маккензи, Ванкувер, Росс, Дюмон-Дюрвиль – все они попадали за полярным кругом в полосу страшных снежных бурь и остались невредимы.
Навстречу такой буре дерзко устремилась урка, распустив все паруса. Безумие против безумия. Когда Монтгомери, спасаясь бегством из Руана, приказал гребцам своей галеры налечь на весла, чтобы с размаху прорвать цепь, загораживающую Сену у Буйля, он действовал с той же отвагой.
«Матутина» летела стрелой. По временам, несясь под парусами, она давала такой ужасный крен, что угол, образуемый ее бортом и поверхностью моря, был не больше пятнадцати градусов, но ее отличный закругленный киль прилегал к волне, словно приклеенный. Киль противостоял напору урагана. Носовая часть судна освещалась фонарем. Туча, с приближением которой усилился ветер, все ниже нависала над океаном, суживая и поглощая пространство вокруг урки. Ни одной чайки. Ни одной ласточки, гнездящейся на скалах. Ничего, кроме снега. Водная поверхность, освещенная фонарем впереди корабля, внушала ужас. На ней вздымались три-четыре вала исполинских размеров.
Время от времени огромная молния цвета красной меди вспыхивала, рассекая черные напластования тьмы от зенита до горизонта. Прорезанная ее алым сверканием, толща туч казалась еще более грозной. Пламя пожара, внезапно охватывавшего небесный свод, озаряло на миг нижние облака и хаотическое их нагромождение в глубине, открывая взорам всю бездну. На этом огненном фоне хлопья снега казались черными бабочками, залетевшими в пылающую печь. Потом все гасло.
После первого натиска ураган, продолжая подгонять урку, принялся реветь глухим басом. Это – вторая фаза, фаза зловещего замирания грохота. Нет ничего тревожнее такого монолога бури. Этот угрюмый речитатив как будто прерывает на время борьбу таинственных противников и свидетельствует о том, что в мире неведомого кто-то стоит на страже.
Урка по-прежнему с безумной скоростью мчалась вперед. Оба ее главных паруса были напряжены до предела. Небо и море стали чернильного цвета, брызги пены взлетали выше мачты. Потоки воды то и дело захлестывали палубу, и всякий раз, когда в боковой качке судно накренялось то правым, то левым бортом, клюзы, подобно раскрытым ртам, изрыгали пену обратно в море. Женщины укрылись в каюте, но мужчины оставались на палубе. Снежный вихрь слепил им глаза. Волны плевали им прямо в лицо. Все вокруг было охвачено неистовством.
В эту минуту главарь шайки, стоявший на корме, на транце, уцепившись одной рукой за ванты, другой сорвал с головы платок и, размахивая им при свете фонаря, с развевающимися по ветру волосами, с лицом, просиявшим от горделивой радости, опьяненный дыханием бури, крикнул:
– Мы свободны!
– Свободны! Свободны! Свободны! – вторили ему беглецы.
И вся шайка, держась за снасти, выстроилась на палубе.
– Ура! – крикнул вожак.
И шайка проревела в бурю:
– Ура!
Не успел еще замереть этот крик, заглушенный воем ветра, как на противоположном конце судна раздался громкий строгий голос:
– Молчать!
Все повернули головы в ту сторону.
Они узнали голос доктора. Вокруг царила непроглядная тьма; доктор прислонился к мачте, его высокая худая фигура сливалась с нею, его совсем не было видно.
Голос продолжал:
– Слушайте!
Все замолкли.
И тогда во мраке явственно прозвучал звон колокола.
IX
Бурное море предостерегает
Владелец урки, державший румпель, разразился хохотом:
– Колокол! Отлично! Мы идем левым галсом. Что означает этот колокол? Только одно: вправо от нас земля.
Медленно выговаривая каждое слово, доктор твердо сказал:
– Вправо от нас нет земли.
– Есть! – крикнул хозяин.
– Нет.
– Но ведь звон-то доносится с земли.
– Этот звон, – ответил доктор, – доносится с моря.
Даже наиболее бесстрашные из беглецов вздрогнули.
У входа в каюту, словно призраки, вызванные заклинанием, показались испуганные женщины. Доктор сделал шаг вперед, и его высокий черный силуэт отделился от мачты. Звон колокола был явственно слышен во мраке ночи.
– В море, на полпути между Портлендом и Ла-Маншским архипелагом, находится буй, предостерегающий суда об опасности. Буй этот цепями прикреплен к отмели и плавает на поверхности воды. На буе на железных козлах подвешен колокол. В непогоду море, волнуясь, раскачивает буй, и колокол звонит. Этот колокол вы и слышите.
Доктор выждал, чтобы улегся порыв ветра, и, когда снова долетел звон колокола, продолжал:
– Слышать этот звон во время бури, когда дует северный ветер, равносильно смертному приговору. Почему? Сейчас объясню. Если вы слышите звуки колокола, то лишь потому, что их доносит ветер. Ветер дует с запада, а буруны Ориньи лежат на востоке. До вас не долетали бы эти звуки, не находись вы между буем и бурунами. Ветер гонит вас прямо на риф. Вы мчитесь навстречу опасности. Если бы судно не сбилось с курса, вы были бы далеко, в открытом море, и не слышали бы колокола. Ветер не доносил бы до вас его звона. Вы прошли бы около буя, не подозревая о его существовании. Мы сбились с пути. Колокол – это набат, возвещающий о кораблекрушении. А теперь решайте сами, как быть!
Пока доктор говорил, удары колокола, слегка раскачиваемого утихшим ветром, стали реже; долетая через правильные промежутки, они как будто подтверждали слова старика. Казалось, в морской пучине раздается похоронный звон.
Задыхаясь от ужаса, беглецы внимали то голосу старика, то звону колокола.
X
Буря – лютая дикарка
Владелец урки схватил рупор:
– Cargate todo, hombres![44] Отдай шкоты! Тяни виралы! Спускай драйперы у нижних парусов! Забираем на запад! Подальше в море! Правь на буй! Правь на колокол! Там развернемся! Не все еще потеряно!
– Попробуйте, – сказал доктор.
Надо заметить, что этот буй, нечто вроде колокольни, был уничтожен в 1802 году. Старые моряки еще помнят его звон. Он предупреждал об опасности, но немного поздно.
Все кинулись исполнять приказания владельца урки. Уроженец Лангедока взял на себя роль третьего матроса. Работа закипела. Паруса не только убрали, но и закрепили; подтянули сезьни, завязали узлом нок-гордени, бак-гордени и гитовы, накрутили концы на стропы, превратив последние в ванты; наложили шкало на мачту; наглухо забили полупортики, благодаря чему судно оказалось как бы обнесенным стеной. Хотя все это делалось второпях, однако по всем правилам. Урка приняла вид гибнущего корабля. Но по мере того, как она, убирая свой такелаж, уменьшалась в размерах, волны и ветер все свирепей обрушивались на нее. Валы достигали почти такой же высоты, какой бывают они за полярным кругом.
Ураган, словно палач, спешащий прикончить свою жертву, рвал урку на части. В мгновение ока она подверглась невероятному опустошению: марсели были сорваны, фальшборт снесен, галс-боканцы выбиты, ванты превращены в клочья, мачта сломана – все это с треском и грохотом разлетелось в разные стороны. Толстые перлини – и те не выдержали.
Магнитное напряжение, сопутствующее обычно снежным бурям, способствовало разрыву снастей. Они лопались столько же от напора ветра, сколько от действия тока. Цепи, соскочив с блоков, больше не поддерживали рей. Скулы в носовой части и корма на всем протяжении от бизань-русленей до гакаборта сплющились от страшного давления. Первой волною смыло компас вместе с нактоузом; второй унесло шлюпку, подвешенную по старинному астурийскому обычаю к бушприту; третьей сорвало блинда-рей; четвертой – статую Богородицы и фонарь.
Уцелел только руль.
Фонарь заменили крупной пустой гранатой, которую повесили на форштевне, наполнив ее горящей смолой и паклей.
Мачта, сломанная пополам, опутанная сверху донизу клочьями парусов, обрывками снастей, остатками блоков и рей, загромождала палубу. Падая, она пробила правый борт.
Судовладелец, не выпускавший ни на минуту румпеля, крикнул:
– Еще не все потеряно, пока мы можем управлять судном! Подводная часть не повреждена! Давай сюда топоры! Топоры! Мачту в море! Расчищай палубу!
Экипаж и пассажиры работали с тем лихорадочным рвением, какое появляется у людей в решительные минуты жизни. Несколько взмахов топора – и дело было сделано.
Мачту выкинули за борт. Палуба была очищена.
– А теперь, – продолжал хозяин, – возьмите канат и принайтовьте меня к румпелю.
Его прикрутили к румпелю.
Пока товарищи исполняли его приказание, он смеялся. Он крикнул морю:
– Реви, старина, реви! Видывал я и почище бури у мыса Мачичако!
Привязанный к рулю, он обеими руками схватился за румпель и заорал в порыве восторга, который вызывает у нас борьба с опасностью:
– Все идет отлично! Слава Буглосской Божьей Матери! Держим курс на запад!
Внезапно сбоку налетела огромная волна и хлынула на корму. Во время бури не раз поднимается такой свирепый вал: как кровожадный тигр, он сначала крадется по морю, потом с рычанием и скрежетом набрасывается на гибнущий корабль и превращает его в щепы. Вся кормовая часть «Матутины» скрылась под горою пены, и в ту же минуту среди черного хаоса налетевших хлябей раздался громкий треск. Когда пена схлынула и из воды снова показалась корма, на ней не было уже ни хозяина, ни руля.
Все исчезло бесследно.
Руль вместе с привязанным к нему человеком унесло волной в ревущий водоворот.
Главарь шайки, напряженно всматриваясь в окружавшую темноту, воскликнул:
– Те burlas de nosotros?[45]
Вслед за этим негодующим криком раздался другой:
– Бросим якорь! Спасем хозяина!
Кинулись к кабестану. Отдали якорь. На урках бывает только один якорь. Попытка привела к тому, что «Матутина» потеряла свой единственный якорь. Дно было скалистое, волнение неистовое. Канат порвался, как волосок.
Якорь остался на дне морском.
От водореза сохранилась лишь фигура ангела, глядевшего в подзорную трубу.
С этой минуты урка, лишенная управления, стала добычей волн. Еще недавно крылатая, можно сказать, грозная в своем стремительном беге, она походила теперь на развалину. Оснастка была сорвана или пришла в полную негодность. Точно окаменев, судно без сопротивления подчинялось яростному произволу волн. В несколько мгновений парящий орел превратился в ползающего калеку: такие метаморфозы возможны только на море.
Порывы ветра ежеминутно возрастали, приобретая чудовищную силу. У бури – исполинские легкие. Она беспрестанно нагнетает ужас, сгущает мрак, хотя по своей сущности он и не имеет градаций. Колокол в море отчаянно гудел, словно его раскачивала чья-то безжалостная рука.
«Матутина» неслась по воле волн. Так плавает пробка, перескакивая с гребня на гребень. Она то ныряла, то снова всплывала. Казалось, она вот-вот перевернется, как мертвая рыба, брюхом кверху. Единственное, что спасало урку от гибели, – это ее прочный корпус, не давший ни малейшей течи. Сколько ее ни трепала буря, доски внутренней обшивки были целы. Ни трещины, ни щели, ни одна капля воды не попала в трюм. Это было чрезвычайно важно, потому что насос испортился и не действовал.
Урка прыгала по волнам в какой-то дикой пляске. Палуба судорожно вздымалась и опускалась, как диафрагма человека, которого тошнит. Казалось, она всячески старается изрыгнуть терпящих бедствие людей. А люди, не в силах ничего предпринять, только цеплялись за безжизненно повисшие снасти, за доски, за краспицу, за рустов, за линьки, за обломки вздувшихся переборок, гвоздями раздиравшие им руки, за искривленные ридерсы, за самые незначительные выступы на всем, что еще оставалось после катастрофы. Время от времени они прислушивались. Звон колокола доносился все слабее и слабее. Казалось, он тоже был в агонии. Его удары напоминали прерывистое хрипение умирающего. Но вот и оно прекратилось. Где же они находились? На каком расстоянии от буя?
Звон колокола испугал их, его молчание повергло в ужас. Ветер гнал их, быть может, туда, откуда нет возврата. Они чувствовали, что новый яростный шторм мчит их к чему-то страшному. Остов «Матутины» несся неизвестно куда среди непроглядной тьмы. Нет ничего страшнее стремительного движения навстречу неведомой цели. Со всех сторон – впереди них, сзади них и под ними – зияла бездна. Это был уже не бег, это было стремительное падение.
Вдруг сквозь сплошную завесу снежной метели мелькнуло что-то красное.
– Маяк! – закричали погибающие.
XI
Каскеты
То был действительно Каскетский маяк.
В XIX столетии маяк – это высокое конусообразное каменное сооружение, вверху которого находится осветительный аппарат, устроенный по всем правилам науки. В частности, Каскетский маяк в настоящее время представляет собою тройную башню с тремя вращающимися огнями. Световые приборы, приводимые в движение при помощи часовых механизмов, совершают оборот вокруг своей оси с такой точностью, что вахтенный, наблюдающий их огни в открытом море, успевает сделать десять шагов по палубе во время проблеска и двадцать пять во время затмения. Вся система построена на строжайшем расчете как фокусных расстояний, так и вращающегося восьмигранного барабана, образованного восемью ступенчатыми плоско-выпуклыми стеклами, сверху и снизу которых помещаются диоптрические зеркала; эта тончайшая аппаратура защищена от напора ветра и от прибоя волн литыми миллиметровыми стеклами; однако даже такие стекла иногда разбивают своим клювом морские орлы, налетающие, как огромные ночные мотыльки, на исполинские фонари маяков. Здание, заключающее в себе этот механизм и служащее ему как бы оправой, отличается неменьшей математической точностью устройства. Все в нем просто, соразмерно, целесообразно, строго, стройно. Маяк – это цифра.
В XVII веке маяк был, так сказать, пышным сооружением на берегу моря. Башня маяка привлекала к себе внимание вычурным великолепием архитектуры. Она была перегружена множеством балконов, балюстрад, башенок, ниш, беседок, флюгеров, покрыта лепными украшениями в виде голов, статуй, решеток, завитков, рельефов, фигурок, дощечек с надписями. Рах in bello[46], – гласил Эддистоунский маяк. Заметим кстати, что это провозглашение мира не всегда обезоруживало океан. Уинстенлей воспроизвел эту надпись на маяке, сооруженном им на свои средства в дикой местности близ Плимута. По окончании постройки он поселился в башне, желая лично проверить, выдержит ли она бурю. Но буря налетела и унесла в море и маяк, и Уинстенлея. Эти чрезмерно затейливые сооружения, со всех сторон открытые ветрам, навлекали на себя ярость ураганов, подобно тому как генералы в цветных, расшитых золотом мундирах оказываются во время битвы наиболее заметной целью. Помимо украшений из камня, на маяках были украшения из железа, меди, дерева; металлические части изобиловали рельефами, деревянные – всякого рода выступами. Всюду виднелись среди арабесок вделанные в стены снаряды, годные и непригодные к употреблению: лебедки, тали, блоки, багры, лестницы, грузоподъемные краны, дреки. На вершине башни, вокруг фонаря, на кованых, искусной работы кронштейнах были утверждены огромные железные подсвечники, в которые вставляли куски просмоленного каната, – этих факелов не мог погасить самый сильный ветер. Вся башня сверху донизу была убрана морскими флагами, вымпелами, флюгарками, знаменами, султанами, наметами, укрепленными на флагштоках и поднимавшимися от яруса к ярусу до самого фонаря; эта пестрая смесь разноцветных флагов, гербов различной формы и сигналов живописно развевалась во время бури вокруг пылавшего пламени. Дерзкий огонь на краю пучины походил на вызов и пробуждал отвагу у мореплавателей, терпевших бедствие в море. Но Каскетский маяк был совсем не похож на эти маяки.
В ту пору это был простой старинный, самого примитивного устройства маяк, воздвигнутый по приказанию Генриха I после гибели «Бланш-Нефа»[47]: на вершине утеса в железной клетке горел костер – высокая груда углей, обнесенная решеткой, и ветер раздувал языки пламени.
Единственным усовершенствованием, сделанным в этом маяке со времени его сооружения в XII веке, были кузнечные мехи, приводимые в движение зубчатым колесом с каменной гирей; их присоединили к железной клетке в 1610 году.
Для морских птиц эти старинные маяки представляли несравненно бо́льшую опасность, чем нынешние. Привлеченные ярким светом, птицы слетались на огонь и попадали прямо в костер; там они прыгали, как адские духи, корчась в предсмертных судорогах; иногда они вырывались из раскаленной клетки и падали на скалу, обугленные, искалеченные, ослепленные, как падает ночная мошкара, обгоревшая в пламени лампы.
Вполне оснащенному судну, повинующемуся воле кормчего, Каскетский маяк нередко оказывает услугу. Он кричит ему: «Берегись!» – предупреждает о близости рифа. Но для судна, потерявшего и такелаж и руль, он только страшен. Оголенный остов корабля, беспомощный, бессильный в борьбе с бешеным натиском волн, беззащитный против шторма, – рыба без плавников, бескрылая птица, – плывет лишь туда, куда его гонит ветер. Маяк указывает ему роковое место, где его ждет неминуемая гибель, освещает его могилу. Маяк для него – погребальный факел.
Озарять путь к неотвратимому, предупреждать о неизбежном – какая трагическая насмешка!
XII
Поединок с рифом
Несчастные люди на «Матутине» сразу поняли горькую насмешку судьбы. При виде маяка они сначала приободрились, затем пришли в отчаяние. У них не было выхода, они ничего не могли предпринять. К волнам вполне применимо изречение, относящееся к царям: всякий, кто им подвластен, становится их жертвой. Хочешь не хочешь, надо терпеть их безрассудства. Ветер гнал урку на Каскеты. Приходилось плыть по воле ветра. Сопротивляться было невозможно. Судно несло на риф. Беглецы чувствовали, что дно мелеет; если бы измерение лотом имело для них смысл, они убедились бы, что глубина моря здесь не больше трех-четырех брассов. Они прислушивались к глухому рокоту волн, врывавшихся в расщелины подводных скал. Они различали у подножия маяка, между двумя гранитными выступами, темную полосу – узкий пролив, соединявший с океаном страшную бухту, на дне которой, вероятно, покоилось немало человеческих скелетов и остовов кораблей. Это был скорее зев пещеры, чем вход в гавань. С вершины маяка доносилось потрескивание костра в железной клетке, его багровые вспышки угрюмо освещали картину бури; пламя, сталкиваясь с градом, разрывало пелену тумана, черная туча, словно змей, сцепившийся со змеем, вступала в схватку с красным дымом; взлетали, подхваченные ветром, горящие головешки, снежные хлопья, казалось, обращались в бегство перед внезапным натиском искр. Контуры рифов, вначале еле заметные, теперь выступали совершенно отчетливо – беспорядочное нагромождение скал с их пиками, гребнями и ребрами. Очертания углов обозначались ярко-алыми линиями, скаты – кровавыми огненными бликами. По мере того как люди приближались к рифу, его громада, разрастаясь ввысь и вширь, становилась все более зловещей.
Одна из женщин, ирландка, исступленно перебирала четки.
Обязанности лоцмана, лежавшие на погибшем судовладельце, пришлось взять на себя главарю шайки, который был капитаном. Баски, все без исключения, отлично знают горы и море. Они не боятся пропастей и не теряются при кораблекрушениях.
Судно подходило к самому рифу – вот-вот налетит на него. Внезапно северный склон Каскетов оказался так близко, что его гранитная стена сразу заслонила собою маяк. Виден был только утес да свет, пробивавшийся из-за него. Скала, выступившая из тумана, напоминала женскую фигуру в черном с огненным чепцом на голове.
Эта скала, пользующаяся дурной славой, носит название Библейской. Она находится на северной оконечности рифа, ограниченного с юга другим утесом, известным под именем Этак-о-Гильме.
Главарь, окинув взглядом Библейскую скалу, крикнул:
– Не найдется ли охотника доплыть с перлинем до бурунов? Кто умеет плавать?
Ответа не последовало.
Никто из находившихся на борту не умел плавать, даже матросы, – явление, довольно обычное среди моряков.
Наполовину оторвавшийся от бортовой обшивки лонг-карлинс болтался на скрепах, главарь схватил его обеими руками и сказал:
– Помогите мне.
Лон-карлинс оторвали. Теперь им можно было пользоваться как угодно. Из оборонительного орудия он стал орудием наступательным.
Это было довольно длинное бревно, вырезанное из сердцевины дуба, крепкое, толстое, одинаково пригодное для нападения и для упора; оно могло служить рычагом для подъема груза и тараном для разрушения башни.
– Становись! – крикнул главарь.
Все шестеро, выстроившись в ряд и упершись изо всех сил в обломок мачты, держали лон-карлинс горизонтально за бортом, как копье, направленное в ребро утеса.
Это был опасный маневр. Атаковать гору – дерзость немалая. Все шестеро могли быть сброшены в воду обратным толчком.
Борьба с бурей чревата неожиданностями. Вслед за штормом – риф. На смену ветру – гранит. Приходилось иметь дело то с неуловимым, то с несокрушимым.
Наступила одна из тех минут, когда у людей сразу седеют волосы.
Риф и судно должны были вступить в схватку.
Утес терпелив. Он спокойно выжидал этого мгновения.
Набежала волна и положила конец ожиданию. Она подхватила судно снизу, приподняла его на своем гребне и с минуту раскачивала, как праща раскачивает камень.
– Смелей! – крикнул главарь. – Это всего только утес, а мы – люди!
Бревно держали наготове. Все шестеро как бы срослись с ним. Острые шипы лон-карлинса врезались им в подмышки, но никто не чувствовал боли.
Волна швырнула урку на скалу.
Столкнувшись, они скрылись в бесформенном облаке пены, под покровом которой всегда разыгрываются такие драмы.
Когда пенное облако скатилось в море и волна отхлынула от утеса, шестеро мужчин лежали на палубе, но «Матутина» уже огибала буруны. Бревно выдержало испытание, и толчок повлек за собой изменение курса. Прошло еще несколько секунд, и урка, унесенная бешеным течением, оставила Каскеты далеко позади себя, «Матутина» на время оказалась вне опасности.
Такие случаи нередки. Удар бушприта о скалу спас от гибели Вуда из Ларго[48] в устье Тея. В опасном месте, близ мыса Уинтертона, оттолкнувшись гандшпугом от страшного Браннодумского утеса, капитан Гамильтон предотвратил гибель находившегося под его командой судна «Ройял Мери», хотя это был хрупкий фрегат шотландского типа. Волна – сила, подверженная мгновенному спаду, который делает если не легким, то, во всяком случае, возможным перемену галса, даже при сильнейшем толчке. В буре есть что-то животное: ураган – все равно что бык, его можно ввести в обман.
Перейти от движения по секущей к движению по касательной – вот секрет того, как избегнуть кораблекрушения.
Именно такую услугу и оказал судну лон-карлинс. Он сыграл роль весла, он заменил собою руль. Но этим спасительным маневром можно было воспользоваться лишь однажды: повторить его было нельзя – бревно унесло в море. Силою толчка оно было выбито из рук людей, переброшено через борт и кануло в волны. Оторвать же второй лон-карлинс значило бы расшатать самый корпус судна.
Ураган снова подхватил «Матутину». Каскеты вырисовывались уже на горизонте беспорядочной грудой камней. В подобных случаях у рифов бывает смущенный вид. В природе, еще далеко не изученной нами до конца, зримое как бы находит свое дополнение в незримом; скалы смотрят неподвижным негодующим взглядом, если добыча ускользает от них.
Именно так смотрели Каскеты, когда «Матутина» уходила в открытое море.
Маяк, отступая, бледнел, тускнел, затем пропал из глаз.
Исчезновение маяка вселило тоску. Густая пелена тумана заволокла растекавшийся во мгле багровый свет. Его лучи растворились в необъятности водной стихии. Пламя колебалось, меркло, вспыхивало, теряло форму и наконец как будто пошло ко дну. Костер превратился в огарок, еле мерцавший бледным огоньком. Вокруг него расплылось кольцо мутного сияния, точно кто-то раздавил во мраке горящий светильник.
Умолк колокол, звучавший угрозой. Исчез из виду маяк, предупреждавший об опасности. Однако, когда тот и другой остались позади, беглецов объял еще больший ужас. Колокол был голосом, маяк был факелом. В них было что-то человеческое. Без них осталась лишь пучина.
XIII
Лицом к лицу с ночным мраком
Урку снова захлестнули волны беспредельного мрака. Благополучно миновав Каскеты, «Матутина» теперь перепрыгивала с гребня на гребень бушующих волн. Отсрочка развязки среди хаоса. Подгоняемая ветром, увлекаемая течением, она воспроизводила безумные взлеты пенистых валов. Она почти уже не испытывала килевой качки – грозный признак близкой гибели. Потерпевшие аварию суда подвержены лишь боковой качке. Килевая – судороги борьбы. Только руль может повернуть судно против ветра.
Во время бури, особенно во время снежной бури, море и мрак в конце концов сливаются воедино и образуют одно неразрывное целое. Туман, метель, ветер, бесцельное кружение, отсутствие точки опоры, невозможность выправить курс, сделать хотя бы короткую передышку, переход из одной бездны в другую, отсутствие видимого горизонта, безнадежное движение вслепую – вот к чему свелось плавание урки.
Выбраться благополучно из Каскетов, миновать рифы было для несчастных беглецов подлинной победой. Но эта победа повергла их в оцепенение. Они уже не приветствовали ее криками «ура»: в море не позволяют себе дважды такой неосторожности. Бросать вызов там, где не рискуешь бросить лот, – опасно.
Оттолкнуться от рифа значило осуществить невозможное. Это ошеломило гибнувших. Мало-помалу, однако, в их сердцах пробудилась надежда. Человеку свойственно уповать на чудо. Нет такого отчаянного положения, такой критической минуты, когда из глубины души не подымалась бы заря надежды. Несчастные жаждали сказать себе: «Спасены!» У них уже готово было сорваться это слово.
Но вдруг во мраке ночи с левой стороны судна выросла какая-то чудовищная громада. Из тумана выступила и четко обозначилась высокая черная отвесная скала – четырехугольная башня, возникшая из бездны.
Они смотрели на нее в изумлении.
Шторм гнал их прямо на нее.
Они не знали, что это такое. Это была скала Ортах.
XIV
Ортах
Опять начинались рифы. После Каскетов – Ортах. Буря не блещет фантазией: она груба, могуча и прибегает к одним и тем же приемам.
Мрак неисчерпаем. Он вероломно таит в себе бесчисленные ловушки и козни. Человек быстро расходует свои средства. Человек выдыхается; бездна неистощима.
Глаза погибающих обратились к главарю, к единственному их защитнику. Но он только пожал плечами с угрюмым презрением к собственному бессилию.
Ортах – исполинский булыжник, поставленный дыбом посреди океана. Ортахский риф, этот сплошной массив, возвышается на восемьдесят футов над бушующими волнами. О него разбиваются и морские валы, и корабли. Неподвижный гранитный куб погружает свои отвесные грани в бесчисленные змеиные извивы волнующегося моря.
Ночью его можно принять за огромную плаху, придавившую собой складки черного сукна на помосте. В бурю он как бы ждет удара топора – иначе говоря, удара грома. Грома, однако, при снежной буре не бывает. Правда, ночная темнота вполне заменяет кораблю повязку на глазах. Его ждет плаха, как осужденного на казнь преступника. Но на молнию, убивающую сразу, он не должен возлагать надежд.
«Матутина», жалкая игрушка волн, неслась навстречу утесу, как незадолго перед тем мчалась к другому рифу. Несчастные, уже считавшие себя спасенными, снова впали в отчаяние. Перед ними вновь возник призрак кораблекрушения, который они оставили позади. Со дна моря опять поднялся риф. Оттолкнувшись от скалы, они ничего не добились.
Каскеты – вафельница со множеством углублений; Ортах – сплошная стена. Потерпеть аварию у Каскетов – значит быть растерзанным на части; потерпеть аварию у Ортаха – значит быть расплющенным.
И все-таки у находившихся на борту урки была еще возможность спастись.
От отвесной скалы – а Ортах именно такая скала – волна не отскакивает рикошетом, подобно пушечному ядру. Она соскальзывает вниз. Это похоже на прилив и отлив. Она налетает бурлящим валом, а отступает зыбью. В подобных случаях вопрос жизни и смерти решается следующим образом: если вал бросит судно на скалу, оно разобьется вдребезги; если же волна отхлынет раньше, чем корабль достигнет скалы, он будет спасен.
Сердце сжимала мучительная тревога. Погибавшие уже различали в полумраке приближение девятого вала.
Как далеко он увлечет их? Если волна ударит в борт, их отбросит к самому рифу, и тогда смерть неизбежна. Если же она пройдет под килем…
Волна прошла под килем.
Они облегченно вздохнули.
Но что будет с ними, когда она вернется? Куда умчит их отхлынувшая волна?
Волна умчала их в море.
Несколько минут спустя «Матутина» была уже далеко от рифа. Ортах постепенно скрывался из виду, как перед тем исчезли из виду Каскеты.
Вторая победа. Уже во второй раз урка была на краю гибели и счастливо избежала ее.
XV
Portentosum mare[49]
Между тем густой туман окутал несчастных, носившихся по прихоти волн. Они не знали, где они. Они едва различали, что происходит на расстоянии нескольких кабельтовых от урки. Несмотря на крупный град, из-за которого приходилось наклонять голову, даже женщины упорно отказывались спуститься в каюту. Всякий, кто терпит бедствие на море, предпочитает погибнуть под открытым небом. Когда смерть близка, потолок над головой кажется крышкой гроба.
Волны, вздымаясь все выше, вместе с тем становились короче. Нагромождение валов свидетельствует о том, что им приходится прорываться сквозь теснины, такое бурление указывает на близость узкого пролива. Действительно, беглецы, сами не догадываясь о том, огибали Ориньи. Между Ортахом и Каскетами на западе и Ориньи на востоке море сжато двойным рядом утесов, а там, где ему тесно, оно бурлит. Море, как и все на свете, не избавлено от страданий, и в тех местах, где оно испытывает боль, оно особенно яростно. Такой фарватер опасен для судов.
«Матутина» вступила в этот узкий проход.
Представьте себе под водою щит черепахи величиной с Гайд-Парк или с Елисейские Поля, на котором каждая бороздка была бы мелким протоком, а каждая выпуклость – скалой. Таковы подступы к Ориньи с запада. Море прикрывает и прячет эту западню для кораблей. Дробясь об острые выступы подводных камней, волны скачут и пенятся. В тихую погоду это лишь плеск, но в бурю это хаос.
Люди на судне почуяли новую опасность, хотя не могли сразу ее объяснить. Вдруг они все поняли. Небо в зените посветлело, на море пал бледный, тусклый свет, и с левого борта на востоке показалась длинная гряда утесов, на которую гнал урку вновь усилившийся ветер. Эта гряда была Ориньи.
Что представляла собою эта преграда? Они задрожали от ужаса. Они ужаснулись бы гораздо больше, если бы кто-нибудь сказал им, что это Ориньи.
Нет острова более недоступного для человека, чем Ориньи. И над водой, и под водой его охраняет свирепая стража, передовым постом которой является Ортах.
На западе – Бюру, Сотерьо, Анфрок, Ниангль, Фон-дю-Крок, Жюмель, Гросс, Кланк, Эгийон, Врак, Фосс-Мальер; на востоке – Соке, Омо, Флоро, Бринбете, Келенг, Кроклиу, Фурш, Со, Нуар-Пют, Купи, Орбю. Что это за чудовища? Гидры? Да, из породы рифов.
Один из этих утесов называется Бю (цель), словно в знак того, что здесь конец всякому странствованию.
Это нагромождение рифов, слитых воедино мраком и водою, предстало взорам погибающих в виде сплошной черной полосы, как бы перечеркнувшей собой горизонт.
Кораблекрушение – высшая степень беспомощности. Находиться близ земли и быть не в состоянии достигнуть ее; носиться по волнам и не иметь возможности выбрать направление; опираться на нечто кажущееся твердым, но на самом деле зыбкое и хрупкое; быть одновременно полным жизни и на пороге смерти; чувствовать себя узником неизмеримых пространств, заточенным между небом и океаном; ощущать над головою бесконечность, подобную сводам темницы; видеть вокруг себя буйный разгул ветров и быть схваченным, связанным, парализованным – такое состояние и подавляет, и рождает возмущение. Кажется, слышишь издевательский хохот незримого противника. Тебя сковывает именно то, что помогает птицам расправить крылья, а рыбам свободно плавать. На первый взгляд это ничто, а между тем это все. Зависишь от того самого воздуха, который колеблешь своим дыханием, от той самой воды, которую можешь зачерпнуть в ладонь. Набери полный стакан этой бурной влаги и выпей ее – и ты ощутишь только горечь во рту. Глоток ее вызывает тошноту – волна же может погубить. Песчинка в пустыне, клочок пены в океане – потрясающие явления; всемогущая природа не считает нужным скрывать свои атомы; она превращает слабость в силу, наполняет собою ничтожное и из бесконечно малого образует бесконечно великое, уничтожающее человека. Океан сокрушает нас своими каплями. Мы чувствуем себя его игрушкой.
«Игрушкой» – какое страшное слово!
«Матутина» находилась несколько выше Ориньи, и это вселяло надежду, но ее относило к северной оконечности гряды, а это угрожало роковой развязкой. Северо-западный ветер гнал урку со стремительностью стрелы, выпущенной из туго натянутого лука. У этого мыса, немного не доходя до гавани Корбеле, есть место, которое моряки Нормандского архипелага прозвали «обезьяной».
«Обезьяна» – Swinge – это бешеное течение. Ряд воронкообразных углублений на дне океана порождает здесь множество водоворотов. Только выберешься из одного, как тебя подхватывает другой. Судно, попав в лапы «обезьяны», кружится, перебрасываемое от воронки к воронке, пока не напорется на острую скалу. Получив пробоину, корабль останавливается, корма поднимается, нос уходит под воду, пучина довершает свое страшное дело: погружается корма – и волны смыкаются над затонувшим судном. Островок пены расширяется, тает, и вскоре на поверхности моря остается лишь несколько пузырьков – последние следы угасших жизней.
Самые опасные водовороты Ла-Манша находятся в трех местах: один – по соседству с пресловутой песчаной мелью Гердлер-Сендс, другой – возле Джерси, между Пиньоне и мысом Нуармон, третий – близ Ориньи.
Если бы на борту «Матутины» был местный лоцман, он предупредил бы несчастных об этой новой опасности. За отсутствием лоцмана им приходилось руководствоваться интуицией: в критические минуты у человека появляется нечто вроде второго зрения. Яростный ветер вздымал целые каскады пены и разносил вдоль побережья. Это плевалась «обезьяна», где погибло множество судов. Беглецы с ужасом приближались к этому месту, хотя и не знали, что оно собой представляет.
Обогнуть грозный мыс? Невозможно.
Так же, как перед ними ранее выросли Каскеты, а затем Ортах, теперь перед ними предстали высокие скалы Ориньи. Один великан вслед за другим. Ряд ужасных поединков.
Сцилла и Харибда – две опасности, Каскеты, Ортах и Ориньи – три противника.
Та же картина постепенного исчезновения горизонта за скалами повторялась с величавым однообразием, на какое способна только пучина. В битвах с океаном, так же как в гомеровских битвах, встречаются повторения.
С каждой волной, приближавшей их к мысу, громада его, и без того чудовищно разросшаяся в тумане, казалась выше на двадцать локтей. Расстояние между уркой и утесом сокращалось с угрожающей быстротой. Они были на грани водоворота. Первая волна должна была увлечь их – и уже безвозвратно. Еще немного – и все будет кончено.
Вдруг урка отпрянула, словно под ударом чудовищного кулака. Волна вздыбилась под килем судна, затем опрокинулась и отшвырнула урку, обдав ее облаком пены. Этим толчком «Матутину» отбросило от Ориньи.
Она снова очутилась в открытом море.
Кто же пришел на помощь урке? Ветер.
Шторм внезапно изменил направление.
До сих пор беглецы были игралищем волн, теперь они стали игралищем ветра. Из Каскетов они выбрались сами. От Ортаха их спасла волна. От Ориньи их отогнал ветер.
Северо-западный ветер сразу сменился юго-западным.
Течение – это ветер в воде, ветер – это течение в воздухе: две силы столкнулись, и ветру вздумалось вырвать у течения его добычу.
Внезапные причуды океана непостижимы: это бесконечное «а вдруг». Когда находишься в его власти, нельзя ни надеяться, ни отчаиваться. Он создает и вновь разрушает. Океан забавляется. Этому необъятному угрюмому морю, которое Жан Барт[50] называл «грубой скотиной», свойственны все черты хищника. Оно то выпускает острые когти, то прячет их в бархатных лапах. Иногда буря топит судно походя, на скорую руку, иногда как бы тщательно обдумывает кораблекрушение – можно сказать, лелеет каждую мелочь. У моря времени достаточно. В этом уже не раз убеждались его жертвы!
Порою, кстати сказать, отсрочка казни знаменует собою предстоящее помилование. Но такие случаи редки. Как бы то ни было, погибающим на море недолго поверить в свое спасение: стоит буре немного утихнуть, и им уже мнится, что опасность миновала. После того как несчастные считали себя погребенными на дне морском, они с лихорадочной поспешностью хватаются за то, что им еще не даровано; все дурное миновало, в этом нет сомнения, они довольны, они спасены, им уже ничего не нужно от Бога. Но не следует торопиться с выдачей Неведомому расписок в окончательном с ним расчете.
Юго-западный ветер начался вихрем. Тот, кто оказывает помощь терпящим кораблекрушение, обычно не церемонится. Шквал, ухватив «Матутину» за обрывки парусов, как хватают за волосы утопленницу, стремительно поволок ее в открытое море. Это напоминало великодушие Тиберия, даровавшего свободу пленницам ценой их бесчестья. Ветер беспощадно трепал тех, кого спас. Он оказывал им эту услугу с бешеной злобой. Это была помощь, не знавшая жалости…
После столь жестокого спасения урка окончательно стала обломком.
Крупные градины, величиною с мушкетную пулю и не уступавшие ей в твердости, казалось, готовы были изрешетить судно. При каждом крене градины перекатывались по палубе, как свинцовые шарики. Урка, терзаемая сверху и снизу водной стихией, чуть виднелась из-под перехлестывавших через нее волн и каскадов пены. На судне каждый думал только о себе.
Люди хватались за что попало. После очередной встряски они с удивлением оглядывались, видя, что никого не унесло в море. У многих лица были исцарапаны летевшими во все стороны щепками.
К счастью, отчаяние во много крат увеличивает силы человека. Рука объятого ужасом ребенка не слабее руки великана. В минуты смертельного страха пальцы женщин превращаются в тиски; молодая девушка способна тогда вонзить свои розовые ноготки в железо. Погибающие изо всех сил старались удержаться на месте. Но каждая волна грозила смыть их с палубы.
Вдруг они снова вздохнули с облегчением.
XVI
Загадочное затишье
Ураган внезапно утих.
Ни северного, ни южного ветра не было уже и в помине. Смолк бешеный вой бури. Без всякого перехода, без малейшего ослабления смерч в одно мгновение куда-то исчез, точно провалился в бездну. Куда он девался?
Вместо градин в воздухе опять замелькали белые хлопья. Снова начал медленно падать снег.
Снежным бурям свойственно такое внезапное затишье. Как только прекращается электрический ток, все успокаивается, даже волны, которые после обыкновенных бурь некоторое время еще продолжают бушевать. Тут же наоборот – никаких следов недавней ярости. Словно труженик после тяжкой работы, море сразу засыпает; это как будто противоречит законам статики, но нисколько не удивляет старых моряков, знающих, что море таит в себе всякие неожиданности.
Подобные явления – правда, очень редко – имеют место и при обыкновенных бурях. Так, в наши дни во время памятного урагана, разразившегося 27 июля 1867 года над Джерси, ветер, неистовствовавший четырнадцать часов подряд, внезапно сменился мертвым штилем.
Несколько минут спустя вокруг урки простиралась бесконечная пелена сонных вод. Одновременно с этим – ибо последняя фаза бури похожа на первую – наступила полная темнота. Все, что удавалось разглядеть, пока снежные тучи еще клубились в небе, снова стало невидимым, бледные силуэты расплылись, растаяли, и беспредельный мрак опять окутал судно. Стена непроглядной ночи, заколдованный круг, внутренность полого цилиндра, ежеминутно сокращавшаяся, окружила «Матутину», суживаясь со зловещей медлительностью замерзающей полыньи. В зените – ни звезды, ни клочка неба: давящий, низко нависший потолок тумана. Урка очутилась как бы на дне глубокого колодца.
В этом колодце море казалось жидким свинцом. Вода застыла в суровой неподвижности. Океан бывает особенно угрюм, когда он напоминает собою пруд.
Все было объято тишиной, спокойствием и глубоким мраком.
Тишина в природе – это чаще всего грозное безмолвие.
Последние всплески улегшегося волнения изредка докатывались до бортов судна. Палуба, опять принявшая горизонтальное положение, лишь слегка накренялась то в одну, то в другую сторону. Кое-где еле заметно колыхались оборванные снасти. Висевшая вместо фонаря граната, в которой горела просмоленная пакля, уже не раскачивалась на бушприте, и с нее не стекали в море огненные капли. Ветерок, еще разгуливавший в облаках, не производил никакого шума. Густой рыхлый снег падал косо. Уже не было слышно кипения волн у рифов. Мертвая тишина.
После взрывов дикого отчаяния, пережитого несчастными, беспомощно носившимися по волнам, это внезапное затишье казалось невыразимым счастьем. Они решили, что настал конец их испытаниям. Все вокруг них и над ними как будто молча сговорилось спасти их. К ним опять вернулась надежда. Все, что за минуту перед тем было яростью, стало спокойствием. Они сочли это признаком того, что мир заключен. Измученные люди вздохнули наконец полной грудью. Они могли теперь выпустить из рук обрывок каната или обломок доски, за которые до сих пор цеплялись, могли подняться, выпрямиться, стоять, ходить, двигаться. Неизъяснимое чувство покоя овладело ими. Во мраке бездны бывают иногда такие мгновения райского блаженства, служащие лишь приготовлением к чему-то иному. Было ясно, что людям больше не угрожают ни шторм, ни пенящиеся валы, ни бешеные порывы ветра – от всего этого они избавились.
Отныне все им благоприятствовало. Часа через три-четыре забрезжит заря, их заметит и подберет какое-нибудь встречное судно. Самое страшное осталось позади. Они возвращались к жизни. Самое важное достигнуто: им удалось продержаться на воде до прекращения бури. Они говорили себе: «Теперь конец».
Вдруг они убедились, что действительно пришел конец.
Один из матросов, уроженец Северной Бискайи, по имени Гальдеазун, спустился за канатом в трюм и, вернувшись, объявил:
– Трюм полон.
– Чего? – спросил главарь.
– Воды, – ответил матрос.
– Что же это значит? – крикнул главарь.
– Это значит, – ответил Гальдеазун, – что через полчаса мы потонем.
XVII
Последнее средство
В днище оказалась пробоина. Судно дало течь. Когда это произошло? Никто не мог бы ответить на этот вопрос. Случилось ли это, когда их пригнало к Каскетам? Или когда они находились вблизи Ортаха? Или, может быть, когда их едва не затянуло в водоворот, к западу от Ориньи? Вернее всего, они напоролись на подводный камень возле «обезьяны». Они не заметили толчка, так как их швыряло ветром из стороны в сторону. В состоянии столбняка не чувствуешь уколов.
Другой матрос, уроженец Южной Бискайи, которого звали Аве-Мария, тоже спустился в трюм и, вернувшись, сообщил:
– Воды в трюме на два вара.
Это около шести футов.
Аве-Мария прибавил:
– Через сорок минут мы пойдем ко дну.
В каком именно месте днище дало течь? Пробоины не было видно, ее скрывала вода, наполнявшая трюм, течь находилась под ватерлинией, где-то глубоко в подводной части урки. Отыскать ее было невозможно. Невозможно и заделать. Где-то была рана, а перевязать ее было нельзя. Впрочем, вода прибывала не слишком быстро.
Главарь крикнул:
– Надо выкачивать воду!
Гальдеазун ответил:
– У нас больше нет насосов.
– Тогда надо плыть к берегу! – воскликнул главарь.
– А где он, берег?
– Не знаю.
– И я не знаю.
– Но где-нибудь да он должен быть?
– Конечно.
– Пусть кто-нибудь ведет нас к берегу, – продолжал главарь.
– У нас нет лоцмана, – возразил Гальдеазун.
– Берись за румпель.
– У нас больше нет румпеля.
– Сделаем его из первой попавшейся балки. Гвоздей! Молоток! Инструмент! Живо!
– Весь плотничий инструмент в воде.
– Все равно будем как-нибудь править.
– Чем же править?
– Где шлюпка? В шлюпку! Будем грести!
– Шлюпки нет.
– Будем грести на урке.
– Нет весел.
– Тогда пойдем на парусах.
– У нас нет ни парусов, ни мачт.
– Сделаем мачту из лон-карлинса, а парус из брезента. Выберемся отсюда, положимся на ветер.
– И ветра нет.
Действительно, ветер совсем улегся. Буря унеслась, но затишье, которое они сочли своим спасением, было для них гибелью. Если бы юго-западный ветер продолжал дуть с прежней яростью, он пригнал бы их к какому-нибудь берегу раньше, чем трюм наполнился водою, или, быть может, выбросил бы на песчаную отмель до того, как судно начало тонуть. Шторм помог бы им добраться до суши. Но не было ветра, не было и надежды. Они погибали, потому что ураган утих.
Положение становилось безвыходным.
Ветер, град, шквал, вихрь – необузданные противники, с которыми можно справиться. Над бурей удается одержать верх, ибо она недостаточно вооружена. С врагом, который беспрестанно разоблачает свои намерения, мечется без толку и зачастую допускает промахи, всегда можно найти средства борьбы. Но против штиля нет никакого орудия. Тут не за что ухватиться.
Ветры – это налет казаков; держитесь стойко, и они рассеются. Штиль – это клещи палача.
Вода, тяжелая и неодолимая, медленно, но безостановочно прибывала в трюме, и, по мере того как она поднималась, урка оседала. Это совершалось очень медленно.
Находившиеся на «Матутине» чувствовали, как на них надвигается самая страшная гибель, гибель без борьбы. Ими овладела зловеще-спокойная уверенность в неизбежном торжестве слепой стихии. В воздухе не было ни малейшего дуновения, на воде – ни малейшей ряби. В неподвижности кроется что-то неумолимое. Пучина поглощала их безмолвно. Сквозь слой немотствующей воды безгневно, бесстрастно, бесцельно, безотчетно и безучастно их притягивал к себе центр земного шара. Пучина засасывала их среди полного затишья. Уже не было ни разверстой пасти волн, ни злобно угрожавших челюстей шквала и моря, ни зева смерча, ни валов, вскипавших пеной в предвкушении добычи; теперь несчастные видели перед собой черное зияние бесконечности. Они чувствовали, что погружаются в спокойную глубину, которая представляла собой не что иное, как смерть. Расстояние от борта до воды постепенно уменьшалось – только и всего. Можно было точно рассчитать, через сколько минут оно исчезнет. Это было зрелище, прямо противоположное зрелищу начинающегося прилива. Не вода поднималась к ним, а они опускались к ней. Они сами рыли себе могилу. Их могильщиком была собственная тяжесть.
Им готовилась казнь не по человеческим законам, но по законам природы.
Снег все шел, и, так как тонущее судно не двигалось, эта белая корпия пеленой ложилась на палубу, точно саваном покрывая урку.
Трюм постепенно наполнялся водой. И никакой возможности остановить течь! У них не было даже черпака, который, впрочем, не принес бы пользы – урка была палубным судном. Тремя-четырьмя факелами, воткнутыми куда попало, осветили трюм. Гальдеазун принес несколько старых кожаных ведер; решили отливать воду из трюма, образовали цепь. Но ведра оказались никуда не годными: одни расползлись по швам, у других было дырявое дно, и вода выливалась из них по дороге. Несоответствие между количеством воды прибывавшей и вычерпываемой было похоже на издевательство. Прибывала бочка, убывал стакан. Все старания не приводили ни к чему. Это напоминало усилия скупца, который пытается израсходовать миллион, тратя ежедневно по одному су.
– Нужно облегчить судно, – сказал главарь.
Во время бури несколько сундуков, находившихся на палубе, канатами привязали к мачте. Они так и остались принайтовленными к ее обломку. Теперь найтовы развязали и столкнули сундуки в воду через брешь в обшивке борта. Один из этих сундуков принадлежал уроженке Бискайи; у бедной женщины вырвалось горестное восклицание:
– Ведь там мой новый плащ на красной подкладке! И мои кружевные чулки! И серебряные сережки, в которых я ходила к обедне в праздник Богородицы.
Палубу очистили, оставалась каюта. Она была доверху загромождена. В ней, как помнит читатель, находился багаж пассажиров и тюки, принадлежавшие матросам.
Багаж вытащили и выкинули за борт через ту же брешь.
Тюки тоже столкнули в море.
Принялись опоражнивать каюту. Фонарь, эзельгофт, бочонки, мешки, баки, бочки с пресной водой, котел с похлебкой – все полетело в воду.
Отвинтили гайки чугунной печки, уже давно потухшей, сняли ее с цементной подставки, подняли на палубу, дотащили до бреши и бросили за борт.
Выкинули в море все, что можно было оторвать от внутренней обшивки, выбросили ридерсы, ванты, обломки мачты и реи.
Время от времени главарь шайки брал факел и, осветив цифры на носу урки, показывавшие глубину осадки, пытался определить, сколько еще продержится судно.
XVIII
Крайнее средство
Избавившись от груза, «Матутина» стала погружаться медленнее, но все же продолжала погружаться. Положение было отчаянное: не оставалось больше никакой надежды. Последнее средство было испробовано.
– Нет ли там еще чего, что можно было бы сбросить в море? – крикнул главарь.
Доктор, о котором все позабыли, вышел из каюты и сказал:
– Есть.
– Что? – спросил главарь.
– Наше преступление, – ответил доктор.
– Аминь! – вздрогнув, воскликнули все в один голос.
Доктор, мертвенно-бледный, выпрямился и, указав на небо, произнес:
– На колени!
Они качнулись, собираясь пасть ниц.
Доктор продолжал:
– Бросим в море наши преступления. Они – наша главная тяжесть. Из-за них судно идет ко дну. Нечего думать о спасении жизни, подумаем лучше о спасении души. Слушайте, несчастные: тяжелее всего наше последнее преступление – то, которое мы сейчас совершили или, вернее, довершили. Нет более дерзкого кощунства, как искушать пучину, имея на совести предумышленное убийство. То, что содеяно против ребенка, – содеяно против Бога. Уехать было необходимо, я знаю, но это была верная гибель. Тень, отброшенная нашим черным делом, навлекла на нас бурю. Так и должно быть. Впрочем, жалеть нам не о чем. Тут, неподалеку от нас, в этой непроглядной тьме, Вовильские песчаные отмели и мыс Гуг. Это – Франция. Для нас оставалось только одно убежище – Испания. Франция для нас не менее опасна, чем Англия. Избежав гибели на море, мы попали бы на виселицу. Либо потонуть, либо быть повешенным – другого выбора у нас не было. Бог сделал выбор за нас. Возблагодарим же Его. Он дарует нам могилу в пучине моря, которая смоет с нас грехи. Братья мои, это было неизбежно. Подумайте: ведь мы только что сделали все, от нас зависящее, чтобы погибло невинное существо, ребенок, и, быть может, в эту самую минуту в небе, над нашими головами, его чистая душа обвиняет нас перед лицом Судии, взирающего на нас. Воспользуемся последней отсрочкой. Постараемся, если только это еще возможно, исправить в пределах, нам доступных, содеянное нами зло. Если ребенок нас переживет, придем ему на помощь. Если он умрет, приложим все усилия к тому, чтобы заслужить его прощение. Снимем с себя тяжесть преступления. Освободимся от бремени, гнетущего нашу совесть. Постараемся, чтобы наши души не были отвергнуты Богом, ибо это было бы самой ужасной гибелью. Наши тела тогда достались бы рыбам, а души – демонам. Пожалейте самих себя! На колени, говорю вам! Раскаяние – ладья, которая никогда не идет ко дну. У вас нет больше компаса? Вы заблуждаетесь. Ваш компас – молитва.
Волки превратились в ягнят. Такие превращения происходят в минуты безысходного отчаяния. Бывают случаи, что и тигры лижут распятие. Когда приоткрывается дверь в неведомое, верить – трудно, не верить – невозможно. Как бы ни были несовершенны изобретенные людьми религии, но даже в том случае, когда вера человека расплывчата и догмат не согласуется с образом приоткрывшейся ему вечности, невольный трепет овладевает его душой в последнюю минуту. По ту сторону жизни нас ожидает неведомое. Это и угнетает человека перед лицом смерти.
Час смерти – время расплаты. В это роковое мгновение люди чувствуют всю тяжесть лежащей на них ответственности. То, что было, усложняет собою то, чему предстоит совершиться. Прошедшее возвращается и вторгается в будущее. Все изведанное предстоит взору такой же бездной, как и неизведанное, и обе эти пропасти: одна – исполненная заблуждений, другая – ожидания, – взаимно отражаются одна в другой. Это слияние двух пучин повергает в ужас умирающего.
Беглецы утратили последнюю надежду на спасение здесь, в земной жизни. Потому-то они и повернулись в другую сторону. Только там, во мраке вечной ночи, они еще могли уповать на что-то. Они это поняли. Это было скорбным просветлением, за которым снова последовал ужас. То, что постигаешь в минуту кончины, похоже на то, что видишь при вспышке молнии. Сначала – все, потом – ничего. И видишь, и не видишь. После смерти наши глаза опять откроются, и то, что было молнией, станет солнцем.
Они воскликнули, обращаясь к доктору:
– Ты! Ты! Ты один теперь у нас. Мы исполним все, что ты велишь. Что нужно делать? Говори!
Доктор ответил:
– Нужно перешагнуть неведомую бездну и достигнуть другого берега жизни, по ту сторону могилы. Я знаю больше всех вас, и наибольшая опасность угрожает мне. Вы поступаете правильно, предоставляя выбор моста тому, кто несет на себе самое тяжелое бремя. Сознание содеянного зла гнетет совесть, – прибавил он, а затем спросил: – Сколько времени нам еще остается?
Гальдеазун взглянул на цифры, показывавшие глубину осадки.
– Немного больше четверти часа, – ответил он.
– Хорошо, – промолвил доктор.
Низкая крыша каюты, на которую он облокотился, представляла собою нечто вроде стола. Доктор вынул из кармана чернильницу, перо и бумажник, вытащил из него пергамент, тот самый, на котором несколько часов назад он набросал строк двадцать своим неровным, убористым почерком.
– Огня! – распорядился он.
Снег, падавший безостановочно, как брызги пены водопада, погасил один за другим все факелы, кроме одного. Аве-Мария выдернул этот факел из гнезда и, держа его в руке, стал рядом с доктором.
Доктор спрятал бумажник в карман, поставил на крышу каюты чернильницу, положил перо, развернул пергамент и сказал:
– Слушайте.
И вот среди моря, на неуклонно оседавшем остове судна, похожем на шаткий настил над зияющей могилой, доктор с суровым видом приступил к чтению, которому, казалось, внимал весь окружающий их мрак. Осужденные на смерть, склонив головы, обступили старика. Пламя факела подчеркивало бледность их лиц. То, что читал доктор, было написано по-английски. Временами, поймав на себе чей-либо жалобный взгляд, молча просивший разъяснения, доктор останавливался и переводил только что прочитанное на французский, испанский, баскский или итальянский языки. Слышались сдавленные рыдания и глухие удары в грудь. Тонущее судно продолжало погружаться.
Когда чтение было кончено, доктор разложил пергамент на крыше каюты, взял перо и на оставленном для подписей месте под текстом вывел свое имя: Доктор Гернардус Геестемюнде.
Затем, обратившись к людям, окружавшим его, сказал:
– Подойдите и подпишитесь.
Первой подошла уроженка Бискайи, взяла перо и подписалась: Асунсьон.
Она передала перо ирландке – та по неграмотности поставила крест.
Доктор рядом с крестом приписал: Барбара Фермой, с острова Тиррифа, что в Эбудах.
Потом он протянул перо главарю шайки.
Тот подписался: Гаиздорра, капталь.
Генуэзец вывел под этим свое имя: Джанджирате.
Уроженец Лангедока подписался: Жак Катурз, по прозванию Нарбоннец.
Провансалец подписался: Люк Пьер Капгаруп, из Магонской каторжной тюрьмы.
Под этими подписями доктор сделал примечание: «Экипаж урки состоял из трех человек, судовладельца унесло в море, двое подписались ниже».
Оба матроса проставили под этим свои имена. Уроженец Северной Бискайи подписался: Гальдеазун. Уроженец Южной Бискайи подписался: Аве-Мария, вор.
Покончив с этим, доктор крикнул:
– Капгаруп!
– Есть! – отозвался провансалец.
– Фляга Хардкванона у тебя?
– У меня.
– Дай-ка ее мне.
Капгаруп выпил последний глоток водки и протянул флягу доктору.
Вода в трюме прибывала с каждой минутой. Судно погружалось в море.
Плоская, постепенно возраставшая волна медленно затопляла скошенную по краям палубу.
Все сбились в кучу.
Доктор просушил на пламени факела еще влажные подписи, свернул пергамент, чтобы он мог пройти в горлышко фляги, и всунул его внутрь. Потом потребовал:
– Пробку!
– Не знаю, где она, – ответил Капгаруп.
– Вот обрывок гинь-лопаря, – предложил Жак Катурз.
Доктор заткнул флягу кусочком несмоленого троса и приказал:
– Смолы!
Гальдеазун пошел на нос, погасил пеньковым тушилом догоревшую в гранате паклю, снял самодельный фонарь с форштевня и принес доктору; граната была до половины наполнена кипящей смолой.
Доктор погрузил горлышко фляги в смолу, затем вынул его оттуда. Теперь фляга, заключавшая в себе подписанный всеми пергамент, была закупорена и засмолена.
– Готово, – сказал доктор.
В ответ из уст всех присутствующих вырвался невнятный разноязыкий лепет, походивший на мрачный гул катакомб:
– Да будет так!
– Меа culpa![51]
– Asi sea![52]
– Aro rai![53]
– Amen![54]
Восклицания потонули во мраке, подобно угрюмым голосам строителей Вавилонской башни, испуганных безмолвием неба, отказывавшегося внимать им.
Доктор повернулся спиною к своим товарищам по преступлению и несчастью и сделал несколько шагов к борту. Подойдя к нему вплотную, он устремил взор в беспредельную даль и с чувством произнес:
– Bist du bei mir?[55]
Вероятно, он обращался к какому-то призраку.
Судно оседало все ниже и ниже.
Позади доктора все стояли погруженные в свои думы. Молитва – неодолимая сила. Они не просто склонились в молитве, они словно сломились под ее тяжестью. В их раскаянии было нечто непроизвольное. Они беспомощно никли, как никнет в безветрие парус; мало-помалу эти суровые люди с опущенными головами и молитвенно сложенными руками принимали, хотя и по-разному, сокрушенную позу отчаяния и упования на Божье милосердие. Быть может, то был отсвет разверзшейся перед ними пучины, но на эти разбойничьи лица легла печать спокойного достоинства.
Доктор снова подошел к ним. Каково бы ни было его прошлое, этот старик в минуту роковой развязки казался величественным. Безмолвие черных пространств, окружавших корабль, хотя и занимало его мысли, но не повергало в смятение. Этого человека нельзя было застигнуть врасплох. Спокойствия его не мог нарушить даже ужас. Его лицо говорило о том, что он постиг величие Бога.
В облике этого старика, этого углубленного в свои мысли преступника, была торжественность пастыря, хотя он об этом и не подозревал.
Он промолвил:
– Слушайте!
И, вперив взгляд в пространство, прибавил:
– Пришел наш смертный час.
Взяв факел из рук Аве-Мария, он взмахнул им.
Стая искр оторвалась от пламени, взлетела и рассеялась во тьме.
Доктор бросил факел в море.
Факел потух. Последний свет погас, воцарился непроницаемый мрак. Казалось, над ними закрылась могила.
И в этой темноте раздался голос доктора:
– Помолимся!
Все опустились на колени.
Теперь они стояли уже не на снегу, а в воде.
Им оставалось жить лишь несколько минут.
Один только доктор не преклонил колен. Снежинки падали, усеивая его фигуру белыми, похожими на слезы, звездочками и выделяя ее на черном фоне ночи. Это была говорящая статуя мрака.
Он перекрестился и возвысил голос, меж тем как палуба у него под ногами начала еле заметно вздрагивать, предвещая окончательное погружение судна в воду. Он произнес:
– Pater noster, qui es in coelis[56].
Провансалец повторил по-французски:
– Notre Père qui êtes aux cieux.
Ирландка повторила на своем языке, понятном уроженке Бискайи:
– Ar nathair ata ar neamh.
Доктор продолжал:
– Sanctificetur nomen Tuum[57].
– Que votre пот soit sanctifié, — перевел провансалец.
– Naomhthar hainm, – сказала ирландка.
– Adveniat regnum Tuum[58], – продолжал доктор.
– Que votre règne arrive, – повторил провансалец.
– Tigeadh do rioghachd, – подхватила ирландка. Они стояли на коленях, и вода доходила им до плеч.
Доктор продолжал:
– Fiat voluntas Tua[59].
– Que votre volonté soit faite, – пролепетал провансалец.
У обеих женщин вырвался вопль:
– Deuntar do thoil ar an Hhalámb!
– Sicut in coelo et in terra[60], – произнес доктор.
Никто не отозвался.
Он посмотрел вниз. Все головы были под водой. Ни один человек не встал. Так, коленопреклоненные, они дали воде поглотить себя.
Доктор взял в правую руку флягу, стоявшую на крыше каюты, и поднял ее над головой.
Судно шло ко дну.
Погружаясь в воду, доктор шепотом договаривал последние слова молитвы.
С минуту над водой виднелась еще его грудь, потом только голова, наконец лишь рука, державшая флягу, как будто он показывал ее бесконечности.
Но вот исчезла и рука. Поверхность моря стала гладкой, как у оливкового масла, налитого в бочку. Все падал и падал снег.
Какой-то предмет вынырнул из пучины и во мраке поплыл по волнам. Это была засмоленная фляга, державшаяся на воде благодаря плотной ивовой плетенке.
Книга третья
Ребенок во мраке
I
Чесс-Хилл
На суше буря свирепствовала не меньше, чем на море.
Та же дикая ярость окружала и покинутого ребенка. Слабым и неискушенным приходится самим изыскивать способы борьбы с бешеным разгулом слепой стихии; мрак не делает различий; природа вовсе не так милосердна, как принято думать.
Правда, на берегу почти не чувствовалось ветра: в холоде была какая-то странная неподвижность. Града не было. Но шел невероятно густой снег.
Град бьет, колотит, ранит, оглушает, разрушает, но снежные хлопья хуже града. Мягкие неумолимые снежинки делают свое дело втихомолку. Если до них дотронуться – они тают. Их чистота – то же, что искренность лицемера. Ложась слой за слоем, снежинки вырастают в лавину; нагромождая обман на обман, лицемер доходит до преступления.
Ребенок продолжал идти вперед в сплошном тумане. Туман на первый взгляд представляется легко преодолимым препятствием, но в этом-то и заключается его опасность: он отступает, но не рассеивается; так же как в снеге, в тумане есть нечто предательское. Ребенку, которому по странной прихоти судьбы приходилось бороться со всеми этими опасностями, удалось спуститься с возвышенности и выйти на Чесс-Хилл. Сам того не зная, он находился теперь на перешейке; по обеим сторонам простирался океан: достаточно было в ночном тумане и метели сделать несколько неверных шагов, и он, ступив направо, упал бы в глубокие воды залива, свернув налево – в бушующие волны открытого моря. Он шел, не подозревая об этом, между двумя безднами.
В те времена Портлендский перешеек имел необычайно суровый и дикий вид. Теперь этот перешеек уже нисколько не напоминает то, чем он был прежде. С тех пор как из портлендского камня стали делать романский цемент, скалу расковыряли сверху донизу, совершенно изменив ее первоначальный вид. Правда, там и в наши дни еще попадаются известняки нижнеюрской формации, сланцы и траппы, выступающие из пластов смешанных пород, точно зубы из десен, но кирка разрыла и сровняла с землей эти остроконечные каменистые холмы, на которых вили свои безобразные гнезда стервятники. Нет уже вершин, куда могли бы слетаться поморники и хищные чайки, любящие, подобно завистливым людям, грязнить все высокое. Напрасно стали бы искать там и исполинский монолит, прозванный Годольфином, что на древневаллийском языке означает «белый орел». Летом на этой изрытой и пористой, как губка, почве еще находят розмарин, мяту, дикий иссоп, морской укроп, настой которого служит хорошим укрепляющим средством, и узловатую траву, растущую прямо на песке и употребляемую для изготовления циновок. Но там уже не увидишь ни серой амбры, ни черного олова, ни трех разновидностей сланца – зеленого, голубого и цвета шалфейных листьев. Исчезли лисицы, барсуки, выдры, куницы. На скалистых уступах Портленда, так же как и на высотах Корнуэлла, водились прежде серны; теперь их больше нет. В некоторых местах еще ловят палтусов и сардин. Но вспугнутые лососи уже не поднимаются в период между Михайловым днем и Рождеством к верховьям Уэя, чтобы метать там икру. Сюда уже не прилетают, как в старину, во времена Елизаветы, неизвестные птицы величиною с ястреба, что расклевывали яблоко пополам и съедали только зернышки. Не видно тут и коварных желтоклювых ворон, называемых по-английски cornish clough, а по-латыни pyrrocarax, которые сбрасывали на соломенные крыши горящие прутья виноградных лоз. Не видно больше и переселившегося сюда с шотландского архипелага колдуна-буревестника, выпускавшего из клюва какой-то жир, который островитяне жгли в своих светильнях. Не встретить больше вечером в лужах, оставленных морским приливом, древней легендарной птицы со свиными ногами, мычавшей теленком. Прилив уже не выбрасывает на песок острозубую усатую нерпуху с загнутыми ушами, ползающую на ластах. На Портленде, ставшем в наши дни неузнаваемым, никогда не водились соловьи, потому что там не было лесов, но соколы, лебеди и морские гуси перевелись на нем сравнительно недавно. У теперешних портлендских овец жирное мясо и тонкое руно. Но у тех немногочисленных низкорослых овец, которые паслись здесь два века назад, питаясь соленой прибрежной травой, мясо было жесткое, а шерсть грубая; так и подобало кельтскому скоту, который стерегли во время оно пастухи, евшие много чеснока, жившие по сто лет и на расстоянии полумили пробивавшие латы стрелами в локоть длиною. Где не возделана земля, там и шерсть груба. Нынешний Чесс-Хилл ничем не напоминает прежний Чесс-Хилл: до такой степени все здесь преображено человеком и яростными ветрами, разрушающими даже камень.
В наши дни по этой узкой косе проведена железная дорога, доходящая до Чезлтона, новенькие дома которого расположены в шахматном порядке. Есть и станция Портленд. Там, где когда-то ползали тюлени, теперь катятся вагоны.
Двести лет назад Портлендский перешеек представлял собою двусторонний скат со скалистым хребтом посредине.
Опасности, угрожавшие ребенку, не исчезли – они только стали иными. При спуске самым страшным для него было сорваться и упасть к подножию утеса; на перешейке он на каждом шагу рисковал провалиться в рытвину. Раньше он имел дело с пропастью; теперь ему пришлось иметь дело с трясиной. На берегу моря все оказывается ловушкой: утесы скользки, песок зыбуч. Что ни изберешь точкой опоры – все обманчиво. Ходишь точно по стеклу. Почва может разверзнуться у вас под ногами, и вы исчезнете бесследно. Берег океана, как хорошо оборудованная сцена, имеет свои многоярусные люки.
Гранитные скалы, в которые упираются оба ската перешейка, почти недоступны. С трудом можно отыскать в них то, что на театральном языке называется выходом на сцену. Человек не должен рассчитывать на гостеприимство океана: ни скалы, ни волны не окажут ему радушного приема. Море заботится лишь о птицах и о рыбах. Перешейки всегда обнажены и каменисты. Волны, размывающие и подрывающие их с двух сторон, придают им первобытный вид. Всюду острые выступы, гребни, пилообразные хребты, грозные осколки треснувших глыб, впадины с зазубренными краями, напоминающие усеянную острыми зубами пасть акулы, волчьи ямы, прикрытые влажным мхом, крутые обрывы скал, нависших над пенящимся прибоем. Человек, задавшийся целью перейти по хребту перешейка, встречает на каждом шагу уродливые, величиною с дом, громады, имеющие форму берцовых или тазовых костей, лопаток, позвонков – омерзительную анатомию оголенных утесов. Пешеход с риском свернуть себе шею пробирается по этому нагромождению обломков. Он как бы идет по костяку исполинского скелета.
Представьте же себе ребенка, совершающего этот геркулесов подвиг.
При ярком дневном свете ему было бы легче, но вокруг царила тьма. Здесь необходим проводник, а ребенок был один. Даже взрослому человеку, не то что ребенку, здесь пришлось бы немало потрудиться. Проводника могла бы, на худой конец, заменить тропинка. Но тропинок здесь не было. Инстинктивно он избегал острых утесов и старался держаться как можно ближе к берегу. Но на этом пути ему попадались рытвины. Их было три разновидности: одни – наполненные водой, другие – снегом, третьи – песком. Последняя разновидность всего страшнее, ибо песок засасывает.
Опасность, которую ждешь заранее, внушает тревогу; опасность неожиданная внушает ужас. Ребенок боролся с неведомыми ему опасностями. Он то и дело вслепую приближался к тому, что могло стать его могилой.
Раздумывать не было времени. Он огибал скалы, обходил провалы, чутьем угадывал расставленные мраком ловушки и смело преодолевал одно препятствие за другим. Не имея возможности идти прямо, он все-таки уверенно шел вперед.
В случае надобности он мгновенно отступал. Он вовремя выбирался из зыбучих песков. Он стряхивал с себя снег. Не раз оказывался по колено в воде, и его мокрые лохмотья сразу же замерзали на сильном ночном морозе. Он шел быстро в своей обледеневшей одежде. При этом он как-то умудрился сохранить свою матросскую куртку сухой и теплой на груди. Голод по-прежнему мучил его.
Нет предела неожиданностям, кроющимся в бездне: тут все возможно, даже спасение. Исхода из нее не видно, но он существует. Каким образом ребенок, застигнутый метелью, от которой у него захватывало дыхание, заблудившийся на узком подъеме между двумя разверстыми пропастями, не видя дороги, все-таки одолел перешеек, он и сам не мог бы объяснить. Он скользил, карабкался, падал, поднимался, нащупывал дорогу и упорно шел вперед – вот и все. В этом тайна всякой победы. Не прошло и часа, как он почувствовал, что поднимается в гору: он достиг другого конца перешейка, он оставил позади себя Чесс-Хилл и стоял уже на твердой почве.
Моста, соединяющего теперь Сендфорд-Кэс со Смолмоус-Сендом, в ту пору не существовало. Возможно, что ребенок, руководясь верным инстинктом, добрался до гребня, высящегося как раз напротив Уайк-Реджиса, где тогда пролегала песчаная коса – природное шоссе, пересекавшее Ист-Флит.
Он избегнул гибели, грозившей ему на перешейке, но все еще находился лицом к лицу с бурей, с зимою, с ночью.
Перед ним снова простиралась во мгле необъятная равнина.
Он посмотрел на землю, отыскивая тропинку.
Вдруг он наклонился.
Это был след, след человеческой ноги. Он явственно был виден на белой пелене снега. Ребенок стал рассматривать его. След был оставлен босой ступней, нога была меньше мужской, но больше детской.
Вероятно, это была нога женщины.
За первым следом был второй, за ним – третий: следы шли на расстоянии шага один от другого и уклонялись вправо по равнине. Следы были еще свежие, слегка припорошенные снегом. Здесь, несомненно, прошла недавно женщина.
По-видимому, она направилась в ту сторону, где ребенок разглядел дым.
Не спуская глаз со следов, ребенок пошел по ним.
II
Действие снега
Некоторое время он шел по следам. К несчастью, они становились все менее и менее отчетливыми. Снег валил. Это было то время, когда «Матутина» под тем же снегопадом шла к гибели в открытом море.
Ребенок, боровшийся, как и судно, со смертью, хотя она и предстала ему в ином обличье, не видел в окружавшей его непроглядной тьме ничего, кроме следов на снегу, и он ухватился за них, как за путеводную нить.
Вдруг – потому ли, что их окончательно замело снегом, или по другой причине – следы пропали. Все вокруг опять стало гладким, плоским, ровным, без единого пятнышка. Земля была сплошь затянута белой пеленой, небо – черной.
Можно было подумать, что женщина, проходившая здесь, улетела.
Выбившийся из сил ребенок наклонился к земле и стал приглядываться. Увы, тщетно.
Не успел он выпрямиться, как ему почудился какой-то непонятный звук, но не ослышался ли он? Звук был похож на голос, на вздох, на неуловимый лепет и, казалось, исходил скорее от человека, чем от животного. Однако в нем было что-то замогильное, что-то неживое. Такой звук слышится нам иногда во сне.
Он осмотрелся, но ничего не увидел.
Перед ним расстилалась бесконечная, голая, мертвая пустыня. Он прислушался. Звук прекратился. Быть может, ему только почудилось? Он опять прислушался. Все было тихо.
Очевидно, в густом тумане что-то вызывало слуховую галлюцинацию. Он снова двинулся в путь.
Он брел теперь наугад.
Едва прошел он несколько шагов, как звук возобновился. На этот раз он уже не мог сомневаться. Это был стон, почти рыдание.
Звук вновь повторился.
Если души, находящиеся в чистилище, могут стонать, то, вероятно, они стонут именно так.
Трудно представить себе что-либо более трогательное, душераздирающее и вместе с тем более слабое, чем этот голос. Ибо это был голос – голос человека. В жалобном и, казалось, безотчетном стенании чувствовалось биение чьей-то жизни. Это молило о помощи живое страдание, не сознающее того, что оно страждет и молит. Стон, бывший, может быть, первым, может быть, последним вздохом, в равной мере напоминал предсмертный хрип и крик новорожденного. Кто-то дышал, кто-то задыхался, кто-то плакал. Глухая мольба среди мрака.
Ребенок зорко посмотрел во все стороны: вдаль, вблизи себя, вверх, вниз. Никого и ничего.
Он напряг слух. Звук раздался еще раз. Он явственно различил его. Голос немного напоминал блеяние ягненка.
Ему стало страшно, захотелось убежать.
Стон повторился. Уже четвертый раз. В нем была невероятная мука и жалоба. Чувствовалось, что это – последнее усилие, скорее невольное, чем сознательное, и что сейчас этот крик, вероятно, умолкнет навсегда. Это была мольба о помощи, безотчетно обращенная умирающим в пространство, откуда должно было прийти спасение; это был предсмертный лепет, взывавший к незримому провидению. Ребенок пошел в ту сторону, откуда доносился голос.
Он по-прежнему ничего не видел.
Чутко прислушиваясь, он сделал еще несколько шагов.
Стенание не прекращалось. Из нечленораздельного и еле внятного оно сделалось теперь явственным, громким. Это было где-то совсем близко. Но где именно?
Кто-то рядом жалобно взывал. Дрожащие звуки раздавались возле него. Человеческий стон, носившийся где-то в пространстве, – вот что слышал ребенок в непроглядной ночи. Таково, по крайней мере, было его впечатление, смутное, как густой туман, в котором он блуждал.
Колеблясь между безотчетным желанием бежать и безотчетным желанием остаться, он вдруг заметил на снегу, в нескольких шагах от себя, волнообразное возвышение размером с человеческое тело, невысокий бугорок, продолговатый и узкий, нечто вроде белой могильной насыпи на заснеженном кладбище.
В эту минуту стон перешел в крик.
Он исходил как раз оттуда.
Ребенок нагнулся, присел на корточки перед снежным сугробом и принялся торопливо разгребать его руками.
По мере того как он расчищал снег, перед ним стали обрисовываться очертания человеческого тела, и вдруг в вырытом углублении показалось бледное лицо.
Но кричало не это существо. Нет, глаза его были закрыты, а рот хотя и открыт, но полон снега.
Лицо было неподвижно. Оно не дрогнуло, когда ребенок дотронулся до него рукой. Ребенок отпрянул, ощутив своими окоченевшими пальцами холод лица. Это была голова женщины. В разметавшиеся волосы набился снег. Женщина была мертва.
Ребенок снова принялся разгребать снег. Показалась шея покойницы, потом верхняя часть туловища, прикрытая лохмотьями, сквозь которые виднелось голое тело.
Вдруг он почувствовал под своими руками слабое движение. Что-то маленькое шевелилось под снежным сугробом. Мальчик быстро раскидал снег и увидел на обнаженной груди матери жалкое тельце крошечного, совершенно голого младенца, хилого, посиневшего от холода, но еще живого.
Это была девочка.
Рваные пеленки, в которые ее завернули, были, должно быть, короткими, и она, ворочаясь, выбилась из них. Тепло, исходившее от ее щуплого тельца и от ее дыхания, растопило вокруг немного снега. Кормилица дала бы ей на вид месяцев пять-шесть, но ей было, вероятно, около года: ведь нищета ведет детей к рахитизму и задерживает их рост. Как только лицо малютки показалось из-под снега, горький плач ее сменился резким криком. Мать, несомненно, была мертва, если этот отчаянный вопль не мог разбудить ее.
Мальчик взял малютку на руки.
Мать, застывшая среди снега, производила страшное впечатление. Казалось, ее лицо светится каким-то призрачным светом. Ее отверстый бездыханный рот как будто готовился отвечать на невнятном языке теней на вопросы, предлагаемые там, в незримом мире, мертвецам. На лице ее лежал тусклый отсвет белевших кругом снежных просторов. Виднелось юное чело, обрамленное темными волосами, почти негодующе нахмуренные брови, сжатые ноздри, закрытые веки, слипшиеся от инея ресницы и спускавшиеся от углов глаз к концам губ следы обильных слез. Снег бросал бледный отблеск на это мертвое лицо. Зима и могила отнюдь не враждебны друг другу. Труп – это заледеневший человек. В наготе груди было нечто возвышенно-трогательное. Она исполнила свое назначение. Лежавшая на ней трагическая печать увядания свидетельствовала о том, что это ныне безжизненное существо дало жизнь другому существу: девственную чистоту сменило величие материнства. На одном соске белела жемчужина. Это была замерзшая капля молока.
Поясним сразу, что по тем же равнинам, по которым брел покинутый мальчик, незадолго до него прошла в поисках крова заблудившаяся нищенка с младенцем у груди. Окоченев от холода, она свалилась под бурным порывом ветра и уже не могла подняться. Ее замело вьюгой. Из последних сил она прижала к себе ребенка и умерла.
Малютка пыталась прильнуть губами к этому мрамору. В бессознательной доверчивости, с которой она искала себе пищи, не было ничего противного законам природы, ибо мать, только что испустившая последний вздох, по-видимому, еще способна накормить грудью ребенка.
Но ротик младенца не мог найти сосок, на котором застыла похищенная смертью капля молока, и малютка, привыкшая к колыбели, а не к могиле, закричала под снегом.
Покинутый мальчик услыхал вопль погибавшей крошки.
Он вырыл ее из сугроба.
Он взял ее на руки.
Почувствовав, что ее держат на руках, она перестала кричать. Головы двух детей соприкоснулись, и посиневшие губы младенца прильнули к щеке мальчика, как к материнской груди.
Малютка была близка к тому состоянию, когда застывающая кровь останавливает биение сердца. Мать уже успела приобщить ее к своей смерти; холод трупа распространяется на окружающее: ножки и ручки малютки были словно скованы этим ледяным холодом. Мальчик тоже почувствовал на себе его дыхание.
Из всей одежды на нем осталась сухой и теплой только матросская куртка. Положив крошку на грудь умершей, он снял с себя куртку, закутал в нее девочку, снова взял ее на руки и, полуголый, почти ничем теперь не защищенный от бушевавшей вьюги, держа малютку в объятиях, снова тронулся в путь.
Опять отыскав щеку мальчика, младенец прильнул к ней губами и, согревшись, уснул. Это было первым поцелуем двух детских душ, встретившихся во мраке.
Мать осталась лежать в снегу; лицо ее было обращено к ночному небу. Но в ту минуту, когда мальчик снял с себя куртку, чтобы завернуть в нее малютку, покойница, быть может, увидела это из беспредельности, где уже была ее душа.
III
Тягостный путь еще тяжелее от ноши
Прошло более четырех часов с того времени, когда урка покинула воды Портлендской бухты, оставив мальчика одного на берегу. За те долгие часы, когда он, брошенный всеми, брел куда глаза глядят, ему повстречались здесь, в человеческом обществе, в которое ему, быть может, предстояло вступить, лишь трое: мужчина, женщина и ребенок. Мужчина – тот, что был на холме; женщина – та, что лежала в снегу; ребенок – девочка, которую он нес на руках.
От усталости и голода он еле держался на ногах. Но он шел вперед еще решительнее, чем прежде, хотя теперь у него прибавилась ноша, а сил убавилось. Он был почти совсем раздет. Еле прикрывавшие его лохмотья, обледенев на морозе, подобно стеклу, резали тело и обдирали кожу. Он замерзал, зато девочка согревалась. То, что терял он, не пропадало даром, а шло на пользу малютке. Он ощущал это тепло, возвращавшее ее к жизни, и упорно продолжал путь.
Время от времени, стараясь не выронить ноши, он нагибался, захватывал полную горсть снега и растирал себе ступни, чтобы не дать им закоченеть.
Порою, когда у него пересыхало в горле, он набирал в рот немного снегу и сосал его: это ненадолго утоляло жажду, но вызывало озноб. Мимолетное облегчение лишь усиливало страдания.
Вьюга, разбушевавшись, уже не знала пределов своему неистовству, – в природе наблюдаются явления, которые следовало бы назвать снежными потопами. Это и было таким потопом. Беснуясь, буря обрушилась не только на океан: она свирепствовала и на побережье. Вероятно, как раз в это время урка, беспомощно носясь по волнам, теряла в поединке с рифами последние остатки такелажа.
Двигаясь сквозь вьюгу на восток, ребенок пересек широкие снежные пространства. Он не имел представления, который мог быть час. Уже давно он не видел дыма. Такие приметы исчезают во мраке ночи довольно скоро, не говоря уже о том, что час был поздний и огни давно были потушены; в конце концов он, может быть, просто ошибся, и в той стороне, куда он направлялся, не было ни города, ни селения.
Но эти сомнения нисколько не ослабили его решимости.
Несколько раз малютка принималась кричать. Он укачивал ее на ходу; она успокаивалась и умолкала. Наконец она заснула крепким, безмятежным сном. Дрожа от холода, он чувствовал, что ей тепло.
Он то и дело запахивал плотнее куртку вокруг шейки малютки, чтобы в разошедшиеся складки не забился снег и, растаяв, не потек струйками по ее тельцу.
Поверхность равнины была волнистая. В низинах намело такие сугробы, что мальчик утопал в них чуть не по грудь и с трудом прокладывал себе дорогу, расталкивая снег коленями.
Выбравшись из низины, он попал на плоскогорье, со всех сторон открытое ветрам, где снег лежал тонким слоем. Здесь была гололедица.
Теплое дыхание девочки, касаясь его щеки, согревало его на мгновение, но увлажненные на виске волосы тотчас же превращались в сосульку.
Он сознавал, насколько усложнилась его задача; ему уже нельзя было упасть. Он чувствовал, что, упав, он больше не подымется. Он изнемогал от усталости, и мрак немедленно придавил бы его своей свинцовой тяжестью к земле, а мороз заживо приковал бы к ней, как ту покойницу. Он уже не раз висел над пропастью, но спускался благополучно; не раз спотыкался, попадая ногою в ямы, но выбирался невредимым; теперь всякое падение было равносильно смерти. Неверный шаг разверзнул бы перед ним могилу. Ему нельзя было поскользнуться: у него не хватило бы сил даже стать на колени. А между тем поскользнуться можно было на каждом шагу: пространство вокруг него покрылось ледяной корой.
Девочка мешала ему идти; это была не только тяжесть, непосильная при его усталости и истощении, но еще и помеха. Обе руки у него были заняты, между тем при гололедице именно руки служат пешеходу необходимым естественным балансиром.
Надо было обходиться без этого балансира.
Он и обходился без него и шел, не зная, как ему управиться с ношей.
Малютка оказалась каплей, переполнившей чашу его бедствий.
Он продвигался вперед, ставя ноги как на туго натянутом канате, проделывая чудеса равновесия, которых никто не видел. Впрочем, повторяем: быть может, на этом скорбном пути за ним из мрака бесконечности следили открывшиеся глаза матери да око Божие.
Он шатался, оступался, но оставался на ногах и все время заботился о малютке, закутывал ее поплотнее, покрывал головку, опять оступался, но продолжал идти, скользил и снова выпрямлялся. У ветра хватало низости еще подталкивать его.
Мальчик, вероятно, много плутал. Судя по всему, он находился на тех равнинах, где позднее выросла Бинкливская ферма, на полпути между нынешними Спринг-Гарденсом и Персонедж-Хаузом. В настоящее время там фермы и коттеджи, тогда же была пустошь. Нередко меньше чем за столетие голая степь превращается в город.
Вдруг слепивший ему глаза ледяной ветер затих, и он заметил невдалеке от себя занесенные снегом крыши и трубы – целый город, выступавший белым пятном на черном фоне неба, так сказать, силуэт наизнанку, нечто вроде того, что теперь называют негативом.
Кровли, жилища, ночлег! Значит, он куда-то добрался! Он почувствовал неизъяснимый прилив бодрости, какой пробуждает в человеке надежда. Вахтенный на сбившемся с курса судне, кричащий своим спутникам: «Земля!» – переживает подобное волнение. Ребенок ускорил шаги.
Он наконец нашел людей. Он увидит живые лица. Куда девался страх! Он чувствовал себя в безопасности, и от одного этого сознания кровь быстрей потекла по его жилам. С тем, что ему пришлось пережить, покончено навсегда. Не будет больше ни ночи, ни зимы, ни вьюги. Ему казалось, что все самое страшное теперь позади. Малютка уже нисколько не обременяла его. Он почти бежал.
Его глаза были прикованы к этим кровлям. Там, под ними, была жизнь. Он не сводил с них взгляда. Так смотрел бы мертвец на мир, представший ему в щель приоткрытой крышки гроба. Это были те самые трубы, дым которых он видел издалека.
Теперь ни одна из них не дымилась.
Он быстро дошел до первых домов. Он вступил в предместье, тянувшееся по обе стороны незагороженной улицы. В то время уже отмирал обычай перегораживать улицы на ночь.
Улица начиналась двумя домами. Однако там не было видно ни одной горящей свечи, ни одной лампы, так же как во всей улице и во всем городе, на сколько хватало глаз.
Дом направо был похож скорее на сарай, чем на жилое строение, до того он был невзрачен: стены были глинобитные, крыша соломенная и по сравнению со стенами несоразмерно велика. Большой куст крапивы, разросшийся у стены, доходил чуть не до застрехи. В лачуге была одна только дверь, похожая на кошачью лазейку, и лишь одно крошечное окошко под самой кровлей. Все было заперто. Рядом, в хлеву, глухо хрюкала свинья, – это свидетельствовало о том, что и дом обитаем.
Дом слева представлял собой высокое длинное каменное здание с аспидной крышей. Палаты богача, выросшие против лачуги бедняка.
Мальчик не колеблясь направился к большому дому. Тяжелая дубовая двустворчатая дверь с узором из крупных шляпок гвоздей не вызывала сомнения в том, что она заперта на несколько крепких засовов и замков; снаружи висел железный молоток.
Ребенок не без труда поднял молоток – его окоченевшие руки были скорее обрубками, чем руками. Он постучал.
Никакого ответа.
Он постучал дважды.
В доме не слышно было ни малейшего движения.
Он постучал в третий раз. Никто не откликнулся.
Он понял, что хозяева либо спят, либо не желают подняться с постели.
Тогда он подошел к бедному дому. Разыскав в снегу булыжник, он постучал им в низенькую дверь.
Никакого ответа.
Привстав на носки, он стал барабанить камнем в окошечко – достаточно осторожно, чтобы не разбить стекла, но достаточно громко, чтобы его услышали.
Никто не отозвался, никто не шевельнулся, никто не зажег свечи.
Он понял, что здесь тоже не хотят вставать.
И в каменных палатах, и в крытой соломой хижине люди были одинаково глухи к мольбам обездоленных.
Мальчик решил идти дальше прямо перед собой, по узкому проходу, настолько мрачному, что его скорее можно было принять за ущелье между скалами, чем за городскую улицу.
IV
Иного рода пустыня
Поселок, в который он попал, назывался Уэймет.
Тогдашний Уэймет не был нынешним почтенным и великолепным Уэйметом.
В старинном Уэймете не было, подобно теперешнему Уэймету, безукоризненной, прямой, как стрела, набережной со статуей Георга III[61] и гостиницей, носящей имя того же короля. Это объясняется тем, что Георга III в то время еще не было на свете. По той же причине на зеленом склоне холма, к востоку от Уэймета, еще не красовалось сделанное из подстриженного дерна на обнаженной поверхности известняка изображение величиною с арпан[62] некоего короля верхом на белом коне с развевающимся хвостом, обращенным, в честь того же Георга III, в сторону города. Впрочем, почести эти были заслужены: Георг III, лишившийся в старости рассудка, которым он не обладал и в молодости, не ответствен за бедствия, происшедшие в его царствование. Это был дурачок. Почему бы не воздвигнуть памятник и ему?
Сто восемьдесят лет назад Уэймет отличался приблизительно той же симметричностью, что и сваленная в беспорядке куча бирюлек. Легендарная Астарот иногда прогуливалась по земле с мешком за плечами, в котором было решительно все, включая и домики с добрыми хозяйками. Груда домишек, выпавшая из этой дьявольской котомки, могла бы дать точное представление о хаотической разбросанности уэйметских жилищ и даже о добрых уэйметских хозяйках. Образцом его построек может служить сохранившийся доныне Дом музыкантов. Множество деревянных хижин, украшенных резьбою, уродливые, покосившиеся строения, из коих одни опирались на столбы, а другие прислонялись к соседним домишкам, чтобы не свалиться под напором морского ветра, узкие, кривые, извилистые проходы, переулки, перекрестки, часто затопляемые приливом, ветхие лачуги, лепившиеся вокруг старинной церкви, – вот что представлял собой в ту пору Уэймет. Уэймет был чем-то вроде древнего нормандского поселка, выброшенного волнами на английский берег.
Путешественник, заходивший в таверну, на месте которой стоит ныне гостиница, вместо того чтобы потребовать жареной камбалы и бутылку вина и с королевской щедростью заплатить двадцать пять франков, скромно съедал за два су тарелку рыбной похлебки, впрочем необыкновенно вкусной. Все это было очень убого.
Покинутый ребенок, неся на руках найденную девочку, прошел одну улицу, затем другую, третью. Он смотрел вверх, надеясь найти хоть одно освещенное окно, но все дома были наглухо заперты и темны. Иногда он стучался в какую-нибудь дверь. Никто не отзывался. Теплая постель обладает способностью превращать человеческое сердце в камень. Стук и толчки разбудили в конце концов малютку. Он заметил это, потому что она принялась сосать его щеку. Она не кричала, так как думала, что лежит на руках у матери.
Быть может, ему пришлось бы долго кружить и блуждать по лабиринту переулков Скрамбриджа, где в то время было больше огородов, чем домов, и больше изгородей из кустов терновника, чем жилых строений, если бы по счастливой случайности он не забрел в узкий проход, существующий еще и в наши дни возле школы Святой Троицы. Этот проход вывел его к отлогому берегу, где было сооружено некое подобие набережной с парапетом. Направо от себя он увидел мост.
Это был мост через реку Уэй, соединяющий Уэймет с Мелкомб-Реджисом, – мост, под пролетами которого гавань сообщается с рекой.
Уэймет был еще в те времена предместьем портового города Мелкомб-Реджиса. Теперь Мелкомб-Реджис – один из приходов Уэймета. Предместье поглотило город, чему в значительной степени помог мост. Мосты – это своеобразные насосы, перекачивающие население из одной местности в другую и иногда способствующие росту какого-нибудь прибрежного селения за счет его соседа на противоположном берегу.
Мальчик направился к мосту, который представлял собой в те времена просто крытые деревянные мостки. Он прошел по этим мосткам.
Благодаря крыше на настиле моста не было снега. Ступая босыми ногами по сухим доскам, мальчик испытал блаженное ощущение.
Перейдя мост, он очутился в Мелкомб-Реджисе.
Здесь деревянных домиков было меньше, чем каменных. Это было уже не предместье, а город. Мост вел на довольно красивую улицу Святого Фомы. Мальчик пошел по ней. По обеим сторонам улицы стояли высокие дома с резным щипцом, попадались окна лавок. Он снова стал стучаться в двери. У него уже не было сил ни звать, ни кричать.
Никто не откликался в Мелкомб-Реджисе, так же как и в Уэймете. Все двери были крепко заперты, окна закрыты ставнями, как глаза веками. Были приняты все меры предосторожности против внезапного, всегда неприятного пробуждения.
Маленький скиталец испытал на себе непередаваемое влияние спящего города. Безмолвие такого оцепеневшего муравейника вызывает головокружение. Кошмары спящих переплетаются, сны теснятся толпой, и над неподвижными телами людей облаком реют грезы. У сна есть точки соприкосновения с потусторонним миром; смутные мысли спящих поднимаются над ними то легким, то тяжелым туманом, сливаясь с их надеждами, которые, вероятно, тоже живут где-то в пространстве. Отсюда запутанность сновидений. Сон, этот мираж, порою ясный, порою расплывчатый, заслоняет собой звезду, имя которой – разум. За сомкнутыми веками глаз, где зрение вытеснено сновидениями, проносятся призрачные силуэты, распадающиеся образы, живые, но неосязаемые, и кажется, что рассеянные где-то в иных мирах таинственные существования сливаются с нашей жизнью на том рубеже смерти, который называется сном. Этот хоровод призраков и душ кружится в воздухе. Даже тот, кто не спит, чувствует, как давит его эта стихия, исполненная зловещей жизни. Окружающие его химеры, в которых он угадывает нечто реальное, не дают ему покоя. Бодрствующий человек проходит по спящим улицам точно сквозь мглу чужих сновидений, безотчетно сопротивляясь натиску наступающих на него призраков; он испытывает (или ему кажется, будто он испытывает) ужас соприкосновения с незримыми и враждебными существами; он то и дело сталкивается с чем-то неизъяснимым, что тут же пропадает бесследно. В этом ночном странствии среди летучего хаоса сонных грез есть нечто общее с блужданием по дремучему лесу.
Это и есть то состояние, которое называют беспричинным страхом.
У ребенка это чувство проявляется еще сильнее, чем у взрослого.
Ужас, внушаемый мальчику ночным безмолвием и зрелищем как будто вымерших домов, усугублял тяжесть бедственного его положения.
Пройдя по Коникер-лейн, он увидел в конце этого переулка запруженную реку и принял ее за океан; он уже не мог сказать, в какой стороне находится море; он возвратился на прежнее место, свернул влево по Мейдн-стрит и пошел назад по Сент-Олбенс-роу.
Здесь он стал громко стучать в первые попавшиеся дома. Отрывистые удары, в которые он влагал свои последние силы, повторялись через определенные промежутки все с большей и большей яростью. Это билось в двери его иссякшее терпение.
Наконец раздался ответный звук.
Ответили часы.
На старинной колокольне церкви Святого Николая медленно пробило три часа ночи.
Затем все снова погрузилось в безмолвие.
Может показаться невероятным, что ни один из жителей города не приоткрыл хотя бы окошка. Однако это до некоторой степени понятно. Надо сказать, что в январе 1690 года только что кончилась довольно сильная вспышка чумы, свирепствовавшей в Лондоне, и боязнь впустить к себе в дом больного бродягу вызвала во всей стране упадок гостеприимства. Не решались даже слегка приоткрыть окно, чтобы не вдохнуть зараженного воздуха.
Холодность людей была для ребенка еще страшнее, чем холод ночи. В ней ведь всегда чувствуется преднамеренность. Сердце у него болезненно сжалось; он впал в еще большее уныние, чем там, в пустыне. Он вступил в общество себе подобных, но продолжал оставаться одиноким. Это было мучительно. Безжалостность пустыни была ему понятна, но беспощадное равнодушие города казалось чудовищным. Мерные звуки колокола, отбивающего истекшие часы, повергли его в еще большее отчаяние. Порою ничто не производит такого удручающего впечатления, как бой часов. Это – откровенное признание в полном безразличии. Это – сама вечность, заявляющая громогласно: «Какое мне дело?»
Он остановился. Как знать, может быть, в эту горькую минуту он задал себе вопрос: не лучше ли лечь прямо на улице и умереть? Но в это время девочка склонила головку к нему на плечо и опять заснула. Инстинктивная доверчивость малютки побудила его идти дальше.
Ребенок, вокруг которого все рушилось, почувствовал, что он сам является чьей-то опорой. При таких обстоятельствах в человеке пробуждается голос долга.
Но ни эти мысли, ни состояние, в каком он находился, не соответствовали его возрасту. Возможно, что все это было выше его понимания. Он действовал бессознательно. Он поступал так, не отдавая себе отчета.
Он направился к Джонсон-роу.
Он уже не шел, а еле волочил ноги.
Оставив по левую руку Сент-Мерри-стрит, он миновал несколько кривых переулков и, пробравшись через узкий извилистый проход между двумя лачугами, очутился на довольно обширном незастроенном поле. Этот пустырь находился приблизительно в том месте, где теперь Честерфилдская площадь. Здесь дома кончались. Направо виднелось море, налево – редкие хижины предместья.
Как быть? Опять начиналась голая равнина. На востоке простирались покрытые пеленою снега широкие склоны Редипола.
Что делать? Идти дальше? Уйти снова в безлюдье? Вернуться назад на городские улицы? Что предпочесть: безмолвие снежных полей или глухой, бездушный город? Которое из двух зол выбрать?
Существует якорь спасения, существует и взгляд, молящий о спасении. Именно такой взгляд кинул вокруг себя отчаявшийся ребенок.
Вдруг он услышал угрозу.
V
Причуды мизантропа
Какой-то странный, пугающий скрежет донесся до него из темноты.
Тут было от чего попятиться назад. Однако он пошел вперед.
Тому, кого удручает безмолвие, приятно даже рычание.
Свирепое предостережение ободрило его. Угроза сулила выход. Здесь, неподалеку, было живое, не погруженное в сон существо, хотя бы и дикий зверь. Он пошел в ту сторону, откуда доносилось рычание.
Он повернул за угол и в мертвенно-тусклых отсветах снега и моря увидел какое-то темное сооружение, приютившееся у самой стены: не то повозку, не то хижину. Оно стояло на колесах – значит повозка. Но у него была крыша, как у дома, – значит жилье. Над крышей торчала труба, из трубы шел дым. Дым был красноватый, что свидетельствовало о жарко горящем огне. Петли, приделанные снаружи к стене, указывали на то, что здесь устроена дверь, а сквозь четырехугольное отверстие в середине двери был виден свет в хижине. Ребенок подошел ближе.
Существо, издававшее рычание, почуяло его. Когда он приблизился к повозке, угрожающие звуки стали еще яростнее. Это уже было не глухое ворчанье, а громкий вой. Он услышал лязг натянувшейся цепи, и внезапно между задними колесами повозки, под самой дверью, блеснул двойной ряд острых белых клыков.
В то время как между колесами показалась звериная морда, в четырехугольное отверстие двери просунулась чья-то голова.
– Молчать! – крикнула голова.
Вой прекратился.
Голова спросила:
– Есть тут кто-нибудь?
Ребенок ответил:
– Да.
– Кто?
– Я.
– Ты? Кто ты? Откуда ты?
– Я устал, – сказал ребенок.
– А который теперь час?
– Я озяб.
– Что ты там делаешь?
– Я голоден.
Голова возразила:
– Не всем же быть счастливыми, как лорды. Убирайся прочь.
Голова скрылась. Форточка захлопнулась.
Ребенок опустил голову, прижал к себе спящую малютку и собрал последние силы, чтобы снова тронуться в путь. Он уже отошел на несколько шагов от возка.
Но в то самое время, как закрылась форточка, распахнулась дверь и опустилась подножка. Голос, только что говоривший с мальчиком, сердито окликнул его из глубины возка:
– Ну, что ж ты не входишь?
Ребенок обернулся.
– Входи же, – заговорил тот же голос. – И откуда взялся на мою беду такой негодяй? Голоден, озяб, а входить не хочет.