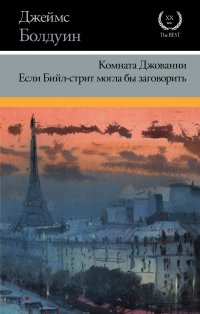Читать онлайн Другая страна бесплатно
- Все книги автора: Джеймс Болдуин
© James Baldwin, 1960, 1962
© Перевод. В. Бернацкая, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2022
Предисловие
Преодоление барьера
«Другая страна» опубликована в 1962 году. Время было такое, что книги, особенно те, где лицом к лицу оказывались персонажи из разных этнических миров, воспринимали так, словно они представляют только социологический или политический интерес. С авторскими намерениями при этом не считались. Важнее была ситуация, заставлявшая поминутно задумываться, уж не подошла ли Америка к порогу новой гражданской войны. Эта перспектива не выглядела невозможной или хотя бы отдаленной, в негритянских предместьях уже строили баррикады. Другая страна? Ну конечно, это цветной квартал, откуда исходит все более ощутимая угроза. Это подполье, грозящее взорвать стабильность общества, ввергнув его в хаос и кровь.
Лишь годы спустя, когда стала сглаживаться накаленность расовых антагонизмов, увидели, что роман Болдуина написан в общем-то совсем о другом – о любви. Это любовь – трагическая, исступленная, нередко беззаконная, а если судить по принятым меркам, и болезненная – виделась автору и его героям действительно как другая страна на фоне окружающего практицизма, эмоциональной стерильности, унылой борьбы за житейский успех. И на территорию вот этой другой страны Болдуин вместе с персонажами вновь и вновь предпринимал отважные вторжения, вполне отдавая себе отчет в том, что такие странствия непредсказуемы и опасны. Чреваты катастрофическим завершением, которое вовсе не редкость в романах американского писателя.
Из всех этих романов «Другая страна» повсюду в мире пользуется наибольшим признанием. Хотя и до появления этой книги Джеймс Болдуин был знаменит. Очень знаменит.
Слава пришла к этому уроженцу Гарлема и его поэту, когда в 1953 году он опубликовал свою первую книгу «Иди и вещай с горы». Болдуину было двадцать девять лет, он жил в Париже, где не так остро чувствовался расизм. Негритянскую литературу впервые начали замечать, ценить всерьез: Ричард Райт, Ральф Эллисон – это были писатели с мировыми именами. Болдуину предстояло окончательно поломать стереотип, согласно которому у негритянского писателя всегда очень определенный – и достаточно узкий – круг тем, а его художественные решения предсказуемы и даже несколько примитивны.
О нем такого не скажет никто. Гарлем, под какими бы небесами он ни располагался, – постоянное место действия в его книгах, а герои так или иначе связаны с гетто, которое они ненавидят, потому что оно для них знаменует собой духовный плен. Но эта проблематика осмыслена Болдуином так, что в ней прочитываются смыслы, узнаваемые и для тех, кто никогда не соприкасался с реальностью гарлемов. Болдуин пишет о черной Америке, но у него это просто материк, на котором особенно проявлены драмы и бедствия всей современной эпохи.
Вот отчего он никогда не воспринимался как чужой в американской литературной среде, никогда не был посторонним. Его круг общения еще с парижской литературной юности составляли писатели, у которых трудно складывались отношения с родной страной, в основном белые, – Норман Мейлер, Уильям Стайрон. Потом они займут в американской литературе выдающееся место. Как и Болдуин.
Тогда, в 50-е годы, их всех сближало ощущение, что для настоящего художника, не оглядывающегося на готовые мнения, предрассудки и вкусы толпы, Америка слишком неподходящее место, потому что в ней властвуют плоский стандарт и всесильный конформизм. На самом деле это был довольно предвзятый взгляд, но в тех условиях он понятен. Еще чувствовалась атмосфера заканчивающейся «холодной войны». Подозрительность и нетерпимость напоминали о себе постоянно, принуждение к единомыслию было не просто потенциальной опасностью. Думавших нешаблонно воспринимали с настороженностью, чтобы не сказать враждебно. Конфликт с окружающей средой для одаренных и действительно независимых молодых писателей становился неизбежен.
У Болдуина все усугублялось тем «метафизическим проклятием расы», которое он ощутил на самом себе очень рано и которое станет, пожалуй, самым неотступным мотивом его произведений. С детства он знал, какие социальные и психологические перегородки отделяют черных от белых, и попытка преодоления этих барьеров – самое тяжелое, что уготовано всем его персонажам.
Самому ему преодоление далось тяжелой ценой: сначала – резкий конфликт с отчимом, священником, насаждавшим под своей крышей дух смирения и аскезы, затем – не отпускавшее Болдуина чувство бесконечного одиночества. Бунтарь, впрямую столкнувшийся с холодной враждебностью мира, где недоверие то и дело перерастает в ненависть, и пытающийся от этого мира защититься бегством, неприятием, непризнанием его уродливых правил и законов, – таким был Болдуин в пору своей юности. И эта настроенность, соединившая в себе отвращение, боль, тоску по любви как единственной настоящей реальности, пронизывает его книги, делая их такими необычными по характеру коллизий, по интонации, в какой ведется повествование.
Читая эти книги, невозможно не почувствовать, насколько велико отчуждение между героями, которым автор доверил собственные мысли, и окружающим миром плоской нормальности, означающей, среди прочего, анемию чувств. Для Болдуина вызов этому миру всегда означал и преодоление еще одного барьера: того, который изолирует сексуальные меньшинства, делая их изгоями. Расовая отверженность для него с юности была явлением примерно того же ряда, что и гонения на приверженцев запретного эроса, одно время достаточно жестокие у него в Америке.
Франция в этом смысле была намного более либеральной, что не в последнюю очередь помогло Болдуину обрести на берегах Сены вторую родину. Он и умер во Франции в 1987 году, а Париж был выбран местом действия для «Комнаты Джованни», талантливой и откровенно скандальной книги, вышедшей в 1956 году. После нее имя Болдуина уже до самого конца его не слишком протяженного творческого пути называлось одним из первых, когда речь шла о современной американской прозе.
У нас «Комната Джованни», долго курсировавшая по самиздату, была опубликована всего несколько лет назад, и тогда мы впервые получили возможность прочесть настоящего Болдуина. До этого, правда, выходила в русском переводе его талантливая повесть «Если Бийл-стрит могла бы заговорить», была и книжка рассказов, а также фрагменты публицистики. Но все это подбиралось по одному принципу: с целью показать вовлеченность писателя в негритянское движение последних десятилетий, столь многое значившее для судеб Америки. Конечно, Болдуин никогда не осознавал себя свободным от гражданских обязательств, а его роль в движении, ведомом Мартином Лютером Кингом, которого иногда называют американским Сахаровым, без всяких натяжек велика и почетна. Но для писателя Болдуина движение все же не стало ни главной темой, ни источником сюжетов и коллизий.
Как писатель он по-настоящему выразил себя не в произведениях, где особенно чувствуется злоба дня, а в других книгах. По характеру действия это камерные произведения, в которых все замыкается кругом отношений всего нескольких героев. Они, эти герои, словно бы без остатка поглощены собственными интимными переживаниями и стараются не замечать давления среды, в которой находятся, эпохи, в которой живут. На самом деле зависимость и от среды, и от эпохи как раз и проявляется всего отчетливее в сокровенной сфере их жизни, и вот эту зависимость, ее трагические последствия Болдуин умел показать, пожалуй, как никто другой из его литературных современников.
С выходом в свет «Другой страны» истинная природа дарования Болдуина, должно быть, станет ясна для любого читателя, который задумается о пружинах, направляющих отношения Руфуса и Леоны, приводящих в действие всю эту поэтичную историю – поэтичную, как ни катастрофичен ее финал. Тональность Болдуина всегда очень прихотлива, ее переливы непредсказуемы, но все-таки для знающих его прозу привычно это смелое сближение лиризма, скепсиса, поэтической просветленности, сменяющейся жестокими, даже травмирующими сценами. В каждой из многочисленных повествовательных линий «Другой страны» прослеживается один и тот же сюжет – вызов нормативности, в том числе и той, которая руководит эротическими тяготениями, пристрастиями, потребностями.
Ида Скотт, Эрик, Вивальдо, супруги Силенски – за каждым из этих персонажей стоит вроде бы сугубо частная история, и никто из них не соответствует представлению о типичном герое. Болдуину они и важны своей неповторимостью – при общности ситуации бунтарства или конформизма, с которой сталкиваются все без исключения. Там, где социальный роман требовал бы обобщений и типажей, Болдуин, не желая, чтобы его герои иллюстрировали какие-то явления и тенденции, просто воссоздает несколько человеческих судеб, складывающихся по-разному, но неизменно с нерадостным итогом. И эти судьбы не олицетворяют ничего, кроме состояния мира, каким он видится американскому писателю.
Это всегда субъективно окрашенный мир, в котором главенствуют ценности, искания, надежды, драмы, переживаемые личностью, а не характеризующие социум. И чем более уникальны преломления судьбы, в общем-то одной и той же для болдуиновских героев, чем более сложные и непредвидимые отпечатки она оставляет в сознании и жизненном опыте каждого из них, тем очевиднее, что между ними очень много родственного, потому что они принадлежат одному и тому же человеческому типу. Но, сохраняя близость мироощущения, тем не менее все же расходятся друг с другом в минуты решающего выбора, и вот это расхождение – подчас очень болезненное – истинный болдуиновский сюжет.
Ясно, что по существу своего крупного дарования этот писатель, которого так старательно привязывали к идеологии и к политике, был прежде всего лириком. Может быть, он самый лиричный писатель во всей послевоенной западной прозе.
И один из самых печальных. У Болдуина есть страницы, написанные с юмором, который, по первому впечатлению, может даже показаться беззаботным. Он многое перенял из городского фольклора, никогда не пренебрегая мелочами повседневности, а они чаще всего гротескны и забавны. Но тональность его книг все же по преимуществу грустная – лирика становится щемящей, и чувствуется взгляд, привычно окрашивающий жизнь в цвета трагедии.
Судьба идет по следу болдуиновских персонажей, как сумасшедший с бритвой из стихотворения Арсения Тарковского. И не помогают ни самоотверженность, ни извечное человеческое тяготение навстречу друг другу: и формы, признаваемые нормальными, и те, что названы патологией, хотя в описываемых Болдуином отношениях неподдельная любовь чувствуется куда сильнее, чем вывих естества.
Любовь становится последним и единственным прибежищем в мире механической обыденности, которая убивает, и даже не метафорически. Но и это прибежище эфемерно. Смелость вызова тому, что принято и санкционировано обществом, не проходит безнаказанно: нищета, бездомность, приступы отчаяния, постепенно накапливающееся взаимное непонимание – все это знакомо героям Болдуина. Иные надламываются, для других сильнее остается инстинкт неприятия: что угодно, лишь бы не повторилась в их жизни история конформиста, от века одна и та же по своей сути. И увенчиваемая одними и теми же итогами – внешнее благополучие, за которым скрыта мертвенность чувства и духа.
Собственно, «Другая страна», как все лучшее, что создано Болдуином, – книга о неодолимом искушении, каким становится свобода, и о том, как это искушение обманчиво, каким бременем оборачивается даже та ущемленная свобода, которую его бунтарям действительно удается завоевать, пусть для одних себя. Болдуин был слишком аналитичным художником, чтобы доверяться иллюзиям, и знал, что свобода – это ноша, какую мало кто сумеет выдержать, а стремление к свободе непременно увенчано драмой.
Оттого он снова и снова заставляет своих героев блуждать в лабиринте обманчивых ориентиров и быстро гаснущих надежд, за которыми приходит чувство, что их будущее им не принадлежит, и все дороги заканчиваются тупиками, и самоубийство было бы самым логичным исходом. В подобных ситуациях спасением может стать только нежность, хотя вряд ли выручит и она. Что поделать, другой опоры у этих персонажей просто нет.
Своего читателя Болдуин умеет завоевать прежде всего той нешаблонностью рассказа, которая у него распознается сразу же, с первых абзацев. Эта проза все время вызывает ассоциации с искусством джаза: та же богатая и постоянно изменчивая звуковая палитра, те же лейтмотивы, обозначающиеся в разных контекстах, и яркая импровизационность, и сталкивающиеся, спорящие голоса. При сегодняшней ставшей привычной сухости и скупости повествования книги Болдуина кажутся достоянием иной эпохи, когда не надо было доказывать, что литература – не то же самое, что философский трактат или статистическая таблица, которая для занимательности пересказана с элементами беллетристики.
Болдуин тоже владел новейшими идеями и концепциями, был интеллектуалом в полном значении слова. Но прежде всего он был прирожденный художник. У него ни грана умозрительности, у него герои никогда не превращаются в марионеток, чтобы авторский замысел приобрел самоочевидную четкость, и никогда не ослабевает эмоциональная насыщенность его повествования. Он писал прозу, исчезающую буквально на глазах, он верил, что настоящая проза способна сказать намного больше, чем любой перенасыщенный ученостью текст, которыми теперь заполняется пространство, принадлежавшее литературе. Как знать, не выяснится ли со временем, что Джеймс Болдуин был одним из ее последних корифеев?
Алексей Зверев
Книга первая
Беспечный ездок
У. С. Хенди
- Кто еле тащится,
- Отъедет пусть в сторонку.
- С коня сойдя, поплелся он пешком.
- Добро что близко.
1
Он стоял на Таймс-сквер – прямо перед Седьмой авеню. Уже давно перевалило за полночь. С двух часов дня он торчал в кинотеатре, устроившись в последнем ряду балкона. Дважды его будили шумные герои итальянского фильма, затем нарушил сон билетер, а еще пару раз – чьи-то руки, украдкой ползущие по его бедрам. Взъяриться не было сил: из него ушла вся энергия, он так низко пал, что не считал себя вправе распоряжаться даже собственным телом – снявши голову, по волосам не плачут, – но все же зарычал, не просыпаясь, оскалился, обнажив белые зубы, и потуже сжал ноги. Постепенно балкон опустел, действие последнего фильма бодро шло к развязке, и тогда он, спотыкаясь, побрел по ступенькам, казавшимися бесконечными, вниз к выходу. Хотелось есть, во рту был неприятный привкус. Выйдя на улицу, он вдруг понял, что хочет помочиться. В карманах ни цента. Идти некуда.
Полицейский, проходя мимо, изучающе посмотрел на него. Отвернувшись, Руфус поднял воротник кожаной куртки и двинулся к северу по Седьмой авеню. Ветер, раздувая широкие летние брюки, едко пощипывал морозцем ноги. Он хотел было направиться в центр и разбудить Вивальдо – единственного своего друга во всем городе, а может, и в мире, но потом передумал, решив зайти в один из ночных клубов. Там могли оказаться знакомые – кто-нибудь да накормит или хотя бы даст денег на метро. Но в глубине души он надеялся, что его не узнают, и хотел этого.
На улице было пустынно, большинство огней не горело. Вот прошла одна женщина, другая; один мужчина, другой; изредка встречались парочки. Жизнь кипела на уголках, возле баров, где еще был свет; там сбивались в группки оживленные белые мужчины и женщины, они болтали, улыбались, жали друг другу руки, подзывали такси, которые уносили их прочь, исчезали в дверях баров или растворялись в темноте боковых улочек. Маленькие темные кубики газетных киосков притулились у края тротуара, к ним подходили полицейские, таксисты и прочий люд, обменивались привычными словами с продавцами, чьи голоса глухо, доносились изнутри. Рядом рекламировалась жевательная резинка – отведай, и все заботы уйдут, а улыбка никогда не покинет твоего лица. Пылающее неоном название гостиницы резко выделялось на фоне темного, беззвездного неба. С ним соперничали имена кинозвезд и других бродвейских знаменитостей, а также названия – чуть ли не в милю длиной – марок автомобилей, мчавших этих небожителей в бессмертие. Острые, как пики, или тупые, словно фаллосы, черные небоскребы стерегли этот никогда не засыпающий город.
Руфус брел у подножья темных великанов – один из падших, загубленных чудовищной тяжестью этого города, один из раздавленных им за день. Одинокий как перст, доведенный этим одиночеством до полного отчаяния, он, однако, был в своем сиротстве не одинок. Те юноши и девушки, что пили сейчас за стойками баров, могли легко попасть в его положение – их разделяла преграда почти мнимая, вроде дымка от сигареты. Они, конечно, никогда не признались бы в этом, один вид Руфуса их бы шокировал, но в глубине души знали, почему он оказался на улицах ночного города, почему допоздна разъезжает в подземке, почему у него подводит от голода живот, волосы свалялись, а сам он весь пропах потом, почему одежда и обувь на нем не по сезону легкие и, наконец, почему он так боится остановиться и перевести дух.
Руфус в нерешительности застыл перед запотевшими стеклянными дверями клуба, откуда доносилась джазовая музыка. Всматриваясь внутрь, он не столько видел, сколько знал, что на подиуме неистово работают негритянские парни, а им рассеянно внимает разношерстная публика. Громкая, бездушная музыка била по мозгам, музыканты не стремились передать что-то свое, они изрыгали звуки как проклятие, в силу которого больше не верили даже те, кто давно уже жил одной ненавистью. Они знали, что их не услышат – если кровь в жилах давно застыла, разве может она запульсировать, забиться вновь? Поэтому музыканты играли навязшие в ушах мелодии, словно уверяя слушателей, что все идет как надо, а людям за столиками это нравилось, и они громко переговаривались, стараясь перекричать ревущую музыку, а те, кто сидел у стойки, улаживали под прикрытием музыки, до которой им не было никакого дела, свои делишки. Руфусу хотелось в туалет, но стыд за свой неряшливый вид не пускал его внутрь. Он не появлялся на людях почти месяц. Ему представилось, как он крадется меж столиками в туалет, потом обратно, а люди – кто сочувственно, кто с ухмылкой – провожают его взглядами. Кто-нибудь не удержится и шепотом спросит: «Это что же, Руфус Скотт?» А кто-то взглянет на него с молчаливым ужасом, а потом снова займется своим делом, тяжело и жалостливо вздохнув: «Да, это он!» Нет, никакая сила не заставит его войти; и пока он пританцовывал у дверей, его глаза увлажнились слезами.
Из ресторана, смеясь, вышла белая парочка; проходя мимо, они даже не заметили его. Вырвавшиеся из дверей тепло, людской дух, запах виски, пива, сигарет ударили по нему с такой силой, что он зарыдал навзрыд, а в животе грозно заурчало.
Ему вспомнились дни и ночи, ночи и дни, когда он тоже был внутри, на подиуме или в зале, среди людей, и все ему удавалось, а отыграв, он отправлялся на какую-нибудь вечеринку, и там, понемногу пьянея, дурачился с музыкантами – своими друзьями, и все уважали его. Потом шел домой, а придя, запирал дверь, стаскивал обувь, иногда наливал себе что-нибудь выпить, ставил пластинку и слушал музыку, развалившись на постели, звонил подружке. Или, сменив белье, носки, рубашку и приняв душ, шел в Гарлем к парикмахеру, а потом отправлялся в родной дом – повидать родителей, повозиться с сестренкой Идой и вкусно поесть: свиные ребрышки, отбивную, цыпленка, зелень, кукурузные лепешки, картофель, печенье. На какое-то мгновение ему показалось, что он сейчас потеряет от голода сознание, и он поспешил привалиться к стене. Лоб его покрылся испариной. Нужно кончать с этим, Руфус, подумал он. Нужно кончать со всем этим дерьмом. Усталость и тупое равнодушие ко всему охватили его. Никого не видя на улице и надеясь, что из ресторана тоже никто не успеет выйти, он, держась одной рукой за стену, направил струю мочи прямо на холодный как лед тротуар; от асфальта тут же заструился легкий пар.
Он вспомнил Леону. Вернее, его вновь охватило холодом привычное состояние тошноты, и уже поэтому он знал, что вспомнил Леону. И тогда он очень медленно побрел прочь, подальше от гремевшей музыки, засунув руки в карманы и опустив голову. Холод он перестал ощущать.
Ведь вспомнив Леону, он почему-то не мог не вспомнить глаза матери, гнев отца, красоту сестры. Не мог не вспомнить гарлемские улицы, мальчишек, облепивших ступеньки, девчонок, расположившихся чуть повыше, белых полицейских, научивших его ненависти, уличные игры с мячом, торчащих у окон женщин и разные подпольные лотереи, в которые он играл, надеясь на удачу, навсегда ускользнувшую от его отца. А еще – музыкальные автоматы в кафе, ухаживания, танцульки, стычки, драки «стена на стену», первую ударную установку, купленную ему отцом, первую сигарету с марихуаной, первую рюмку. И рано ушедших друзей – зарезанных прямо там же, на ступеньках, и того, которого нашли мертвым в снегу на крыше дома: он умер от слишком большой дозы наркотика. И еще – вечный ритм, ни на секунду не покидавшую пульсацию. Негр, говорил ему отец, живет всю жизнь под эту дробь, живет и умирает. Черт побери, он даже детей делает под эту дробь, а ребенок, которого он посылает в утробу матери, в том же ритме брыкается там и спустя девять месяцев появляется на свет готовеньким чертовым тамбурином. В мире Руфуса все подчинялось этому ритму: руки, ноги, тамбурины, барабаны, фортепиано, смех, ругань, лезвия бритвы, мужчины под него наливались желанием, распаляя себя бравадой, рычанием и нежным мурлыканьем, а женщины таяли и увлажнялись, шепча, и вздыхая, и плача. Летом в Гарлеме, казалось, можно даже видеть эту дрожавшую над мостовыми и крышами пульсацию.
Он бежал от того, что называл ритмом Гарлема, но оказалось, тот совпал с биением его сердца. Бежал сначала в учебку для новобранцев, а потом – в открытое море.
Однажды, когда Руфус еще служил во флоте, он привез из рейса индийскую шаль для сестры Иды. Купил где-то в Англии. Сестра тут же примерила шаль, тронув в его душе дремавшие дотоле заветные струны. Раньше он не замечал красоты черных. А сейчас, глядя на Иду, стоявшую у окна, вдруг осознал, что перед ним не его маленькая сестренка, а взрослая девушка, которая скоро станет женщиной. Ее кожа отливала тем же золотым блеском, что и шаль, в сестре ощущалось величие, пришедшее из глубины веков, – более древнее, чем темные камни острова, на котором они с сестрой родились. Ему пришло в голову, что это величие может когда-нибудь вернуться в мир, в их мир, такой, казалось бы, предопределенный. В незапамятные времена Ида не была потомком рабов. Всматриваясь в ее озаренное солнцем темное лицо, смягченное отблеском дивной шали, он знал, что она была тогда царицей. Но, глянув из окна в вентиляционную шахту, он вспомнил шлюх с Седьмой авеню. И белых полицейских, делавших, как и весь остальной мир, бизнес на черной плоти.
А потом перевел взгляд на сестру, она улыбалась ему и крутила на тонком длинном пальчике кольцо-змейку с рубиновыми глазками, которое он привез в прошлый раз.
– Продолжай в том же духе, – сказала она, – и скоро я стану первой модницей квартала.
Хорошо, что сейчас Ида не видит его. Она сказала бы: Боже мой, Руфус, тебе нельзя вот так скитаться. Ведь мы верим в тебя. Разве ты не знаешь?
Семь месяцев назад – с тех пор прошла целая вечность – он играл в незадолго до того открывшемся ночном клубе в Гарлеме, хозяином которого был негр. Они давали здесь свое последнее выступление. Музыканты были в ударе. После концерта все они были приглашены в гости к известному негритянскому певцу, у которого только что вышел первый фильм. Клуб был новый, модный, и народу вечерами набивалось изрядно. Позже, он слышал, дела там пошли хуже. А в тот вечер кого только не было – белые и черные, богатые и бедные, пришли и те, кто хотел слушать хорошую музыку, и те, кому на нее наплевать, кто пришел сюда совсем по другому делу. Одна-две дамы щеголяли в норковых манто, еще несколько – в шубках классом похуже, на многих сверкали драгоценности – в ушах, на запястье и шее, в волосах. Цветные веселились от души, чувствуя, что сегодня все в этом зале, бог весть почему, с ними заодно; белые тоже веселились: никто не тыкал им в глаза – вы белые! Зал весь, как выразился бы Фэтс Уоллер, ходил ходуном.
Руфус восседал на подиуме выше других. Ему было хорошо, как никогда. А под конец он совсем возликовал: саксофонист, который сегодня из кожи вон лез, вдруг выдал великолепное соло. Парень был примерно одних лет с Руфусом, родом из какого-то странного местечка, вроде Джерси-сити или Сиракуз; там-то он и понял, что может рассказать о себе языком саксофона. А ему было что рассказать. Он стоял, широко расставив ноги, изо всей силы дул в инструмент, отчего его и без того выпуклая грудь выпирала еще больше, юношеское тело – лет двадцать с небольшим – содрогалось под одеждой. Саксофон надрывался: Ты любишь меня? Любишь? И снова: Ты любишь меня? Любишь меня? Руфус слышал все время один и тот же вопрос, одну и ту же бесконечно повторяемую в разных вариациях музыкальную фразу, в нее юноша вкладывал всю душу. Воцарилась мертвая тишина, никто не тянулся за сигаретой, никто не поднял бокал; все лица, даже у самых тупых и порочных, неожиданно просветлели. Саксофонист пронял даже их, хотя он, скорее всего, не ждал больше ни от кого любви, а просто бросал таким образом публике вызов с той же слегка презрительной гордостью язычника, с какой пронзал инструментом воздух. Но вопрос от этого не переставал быть менее реальным и менее мучительным: его заставляло выкрикивать короткое прошлое юноши. Когда-то давно, неведомо где – может, в сточной канаве; может, в уличной драке; или в сырой комнате, на жестком от спермы одеяле; затягиваясь марихуаной; или всаживая иглу; а может, в пропахнувшем мочой подвале, где-нибудь на окраине; словом, неважно где, но он получил урок, от которого не мог оправиться по сей день. Ты любишь меня? Любишь меня? Любишь? Другие музыканты, внешне невозмутимые, стояли немного поодаль, они кое-что договаривали за него, уточняли, поддакивали, стараясь снизить пафос его вопроса музыкальным озорством, но все знали, что юноша задает этот вопрос от имени каждого из них. После выступления со всех пот лил ручьем. Руфус чувствовал, как от него идет едкий запах, другие пахли не лучше. «Ну, хватит», – объявил бас-гитарист. В зале поднялся галдеж, просили играть еще, но музыканты исполнили на бис только одну вариацию, и тут же включили свет. Руфус простучал последние такты импровизации. Он собирался оставить все свои вещи здесь до понедельника. Спускаясь налегке с подиума, он заметил, что на него во все глаза смотрит бедно одетая блондинка.
– Что у тебя на уме, крошка? – спросил он. На них никто не обращал внимания, все были заняты кто чем, готовясь к предстоящей вечеринке. Стояла весна, и воздух был наэлектризован до крайности.
– А что у тебя на уме? – задала блондинка встречный вопрос, явно не зная, что ответить.
Но для Руфуса и этого было достаточно. Он понял, что девушка с Юга. Что-то дрогнуло в нем, он не сводил глаз с бледного, печального личика этой девушки из семьи южной «белой рвани», ее прямых тусклых волос. Значительно старше его, скорее всего, уже за тридцать, слишком худощава. Но разве в этом дело, ее тело вдруг стало для него самым желанным.
– Послушай, малышка, – произнес он, криво усмехнувшись. – Тебе не кажется, что ты забрела далековато от дома?
– Кажется, – ответила девушка, – но туда я никогда не вернусь.
Руфус рассмеялся, и она тоже.
– Ну что ж, мисс Энн, если у нас на уме одно и то же, приглашаю тебя повеселиться. – Он взял ее за руку и, как бы ненароком коснувшись при этом груди, прибавил: – Надеюсь, твое имя не Энн?
– Не Энн, – сказала она. – Меня зовут Леона.
– Леона? – он снова улыбнулся. Его улыбка обычно действовала безотказно. – Красивое имя.
– А как зовут тебя?
– Меня? Руфус Скотт.
Он не понимал, как девушка могла очутиться здесь, в Гарлеме. Она явно не принадлежала к фанаткам джаза, а также к тому типу женщин, что могут шляться одни по незнакомым ресторанам. На ней было легкое демисезонное пальто, заколки удерживали ее зачесанные назад волосы, на лице немного помады и больше никакой косметики.
– Пошли, – пригласил он. – Доберемся на такси.
– А это удобно?
– Было бы неудобно, не приглашал, – сказал он с некоторым сомнением. – Говорю тебе, все в порядке.
– Ну что ж, – проговорила она с коротким смешком. – Тогда пошли.
Они присоединились к остальным, которые уже выходили на улицу; стоял всеобщий гвалт, все болтали, смеялись, флиртовали. Было три часа утра, шикарно одетые люди, сверкая драгоценностями, подзывали такси и отъезжали. Другие, попроще – ресторанчик находился в западном конце 125-й улицы, – расположившись группками вдоль тротуара, праздно болтали, прохаживаясь взад-вперед и бросая – исподтишка или открыто – на незнакомые лица не столько заинтересованные, сколько оценивающие взгляды, как бы прикидывая, на что тут можно рассчитывать. Мимо прошествовал полицейский, который каким-то таинственным образом проникся убеждением, что с этими неграми, хоть они находятся на улице в неурочное время и все поголовно пьяные, нельзя поступать по старинке, то же касалось и бывших с ними белых. Руфуса вдруг пронзила мысль, что Леона – чуть ли не единственная белая среди них. Ему стало не по себе, а почувствовав, что нервничает, он взбесился еще больше. Но тут Леона высмотрела свободное такси.
Белый водитель безо всяких колебаний остановил машину, и даже когда они сели, в его отношении ничего не изменилось.
– Ты завтра работаешь? – спросил Руфус. Оставшись наедине с девушкой, он вдруг оробел.
– Нет, – спокойно ответила она. – Завтра воскресенье.
– А ведь правда. – Ему сразу стало радостно, и он почувствовал себя совсем раскрепощенным. Руфус собирался наведаться в воскресенье к родным, но теперь передумал, представив, как чудесно будет провести день в постели с Леоной. Он окинул девушку взглядом, отметив, что, несмотря на миниатюрность, она хорошо сложена. Интересно, о чем она думает? Слегка коснувшись ее руки, он предложил сигарету, но Леона отказалась.
– Ты не куришь?
– Иногда. За рюмкой.
– Часто поддаешь?
Она засмеялась.
– Нет. Не люблю пить в одиночестве.
– Думаю, теперь, – прокомментировал Руфус, – тебе какое-то время не придется пить в одиночестве.
Девушка не ответила, но даже в темноте было заметно, что она покраснела и как-то вся напряглась. Потом уставилась в стекло.
– Хорошо, что ты не спешишь домой.
– Мне некуда спешить. Я уже большая девочка.
– Радость моя, – сказал он. – Да ты не больше минутки.
Она вздохнула.
– Иногда минутка решает многое.
Руфус не решился спросить, что Леона имеет в виду. Лишь многозначительно взглянув на девушку, согласился: «Это верно». Но она, казалось, не поняла подтекста.
Они ехали по Риверсайд-Драйв, приближаясь к условленному месту. Слева, на темном противоположном берегу Гудзона, там, где находился Джерси-сити, проступали бледные огоньки. Подавшись вперед и слегка касаясь Леоны, Руфус всматривался в темноту, ловя взглядом огни светофоров. Автомобиль свернул, и перед Руфусом на миг предстал во всем великолепии, словно начертанная на небе тайнопись, дальний мост. Сбросив скорость, шофер разглядывал номера домов. Из ехавшего впереди такси вывалилось несколько человек, а сама машина покатила дальше по улице.
– Нам тоже сюда, – сказал водителю Руфус.
– Похоже, гуляете? – улыбнулся шофер и подмигнул.
Руфус ничего не ответил. Он расплатился, и они, выйдя из такси, тут же нырнули в подъезд. Огромный вестибюль поражал роскошью – повсюду висели зеркала, стояли кресла. Лифт только что начал подниматься, в нем слышались оживленные голоса.
– Что ты делала там в клубе одна, Леона? – спросил он.
Она удивленно взглянула на него.
– Не знаю. Хотелось увидеть Гарлем, вот я и пошла туда вечером. Случайно проходила мимо, услышала музыку, зашла и осталась. Музыку я люблю. – Она бросила на него насмешливый взгляд. – Тебя это устраивает?
Он только рассмеялся.
Наверху с шумом захлопнулась дверь лифта, и Леона повернула голову в сторону шахты. Послышалось гудение – лифт опускался. Девушка продолжала напряженно глядеть в сторону закрытой двери, как будто от этого зависела ее судьба.
– Ты первый раз в Нью-Йорке?
– Да, – призналась она, хотя всю жизнь мечтала о поездке; она отвечала, по-прежнему не глядя ему в глаза, на ее губах блуждала улыбка. Девушка держалась не очень уверенно, но оттого казалась еще более беззащитной и трогательной. Похожа на дикого зверька, который не знает, то ли подойти к протянутой руке, то ли спасаться бегством – короткими прыжками, путая следы.
– Я здесь родился, – сообщил он, не спуская с нее глаз.
– Знаю, – ответила она. – Потому все здесь не кажется тебе таким чудесным, как мне.
Руфус снова рассмеялся. Ему вдруг вспомнилось время на Юге, в учебке для новобранцев, и он явственно почувствовал на губах соль от сапог белого офицера, как будто вновь валялся в светлой солдатской форме на пыльной красноватой глине. Друзья из цветных поддерживали его, что-то кричали, помогая подняться. Белый офицер, смачно выругавшись, скрылся, тем самым навсегда унеся с собой всякую возможность отмщения. На грязном от глины лице Руфуса кровь смешалась со слезами, он сплюнул, но кровь потерялась на красной глине.
Лифт спустился, и двери раскрылись. Руфус взял Леону за руку и ввел в лифт.
– Ты очень милая девушка, – сказал он, прижимая ее руку к груди.
– Ты тоже милый, – отозвалась она.
В поднимающемся лифте голос ее странно дрожал – в унисон телу; легкая дрожь – словно от весеннего ветра с улицы.
Он сильней сжал ее руку.
– А тебя разве никогда не предостерегали там дома от черномазых, которых встретишь на Севере?
Девушка затаила дыхание.
– Мне они никогда не мешали. Люди как люди. Это мое мнение.
А баба есть баба – это мое мнение, подумал он, но был тем не менее благодарен ей за тон: он помог Руфусу справиться с собой, ведь его тоже начала сотрясать дрожь.
– Зачем ты отправилась на Север? – спросил он.
У него мелькнуло в голове: а кто должен предложить переспать? Он? Она? Он не станет просить об одолжении. Значит, она? В штанах, там, где росли волосы, отчаянно зачесалось. А непредсказуемый мускул у основания живота медленно наливался кровью и твердел.
Лифт замер, затем раскрылся, и они направились по длинному коридору к приоткрытой двери.
– Думаю, – вдруг заговорила она, отвечая наконец на его вопрос, – у меня просто кончилось терпение. После развода муж отобрал ребенка, мне даже не разрешали видеться с сыном, и тогда я подумала: не лучше ли вместо того, чтобы сидеть там и сходить постепенно с ума, поехать на Север и начать все заново.
Слова ее на какой-то миг захватили его воображение: значит, Леона – личность, и у нее есть своя история, а всякая история – драма. Но он тут же отмахнулся от этой мысли. К чему отягощать себя ее историей? Жить с ней он не собирается, она нужна ему только на ночь.
Руфус постучал в дверь и вошел, не дожидаясь ответа. Прямо перед ним, в огромной гостиной толклось более сотни человек, некоторые – в вечерних туалетах, другие – в слаксах и свитерах; стеклянная дверь на балкон распахнута настежь. Высоко над головами раскачивался громадный серебряный шар, в нем отражались самые неожиданные уголки комнаты, нелицеприятно комментируя поведение людей. От постоянного мельтешения – кто-то приходил, кто-то уходил, ярко переливались, сверкая, драгоценности, хрусталь, огоньки сигарет – тяжелый шар, казалось, ожил.
Хозяин квартиры, которого Руфус знал не очень хорошо, в поле зрения отсутствовал. Справа от гостиной находились еще три комнаты, в первой были грудой свалены пальто и шали.
Голоса присутствующих заглушала труба Чарли Паркера, гремевшая из проигрывателя.
– Брось там пальто, – сказал он Леоне, – а я постараюсь выяснить, есть ли у меня здесь хоть какие-нибудь знакомые.
– Уверена, ты знаешь всех, – простодушно заявила девушка.
– Ладно, иди, – улыбнулся он, подтолкнув ее в сторону комнаты-раздевалки, – делай, что говорят.
Пока Леона раздевалась, а может, и пудрила носик, Руфус вспомнил, что обещал позвонить Вивальдо. Он обошел всю квартиру в поисках телефона, который стоял бы уединенно, подальше от шумных гостей, и наконец нашел – в кухне и набрал номер.
– Привет, дружище. Как ты там?
– Да вроде ничего. А вот что с тобой? Ждал, что ты позвонишь раньше.
– Только что добрался. – Руфус понизил голос: в кухню вошла парочка – коротко стриженная, растрепанная блондинка и высокий негр. Девушка привалилась к раковине, молодой человек медленно гладил ее бедра. Они не обращали никакого внимания на Руфуса. – Здесь полно элегантных снобов, сечешь?
– Ага, – отозвался Вивальдо. Они помолчали. – Думаешь, стоит приехать?
– Это уж сам решай. Может, у тебя есть варианты получше…
– Здесь Джейн, – быстро проговорил Вивальдо. Руфус понял, что, скорее всего, Джейн лежит рядом и все слышит.
– Ну, если старушка с тобой, то тебе здесь делать нечего. – Руфус терпеть не мог Джейн, та была старше Вивальдо, у нее уже седели волосы. – Не вижу вокруг ни одной дамы почитаемого тобой преклонного возраста.
– Заткнись, негодяй. – Он слышал, как Джейн и Вивальдо переговариваются, но слов различить не мог. Затем вновь раздался голос Вивальдо: – Думаю, обойдусь.
– Тебе решать. Увидимся завтра.
– Может, я заскочу к тебе?
– О’кей. Ты там не очень-то ублажай старушку, побереги себя, а то они с возрастом входят в раж, просто звереют.
– Меня пока хватает, старик. Проблем нет!
Руфус рассмеялся.
– Не вздумай соревноваться со мной. Ты в этом деле за мной не угонишься. Пока!
– Пока!
Он повесил трубку и, не переставая улыбаться, пошел искать Леону. Та робко стояла в холле, глядя, как хозяева прощаются с некоторыми, прежде других отбывавшими гостями.
– Ты что, думала, я тебя бросил?
– Нет, ничего подобного мне и в голову не приходило.
Улыбнувшись, он провел рукой по ее подбородку. Хозяин квартиры, отойдя от двери, направился к ним.
– Идите-ка, ребятки, в гостиную и налейте себе чего-нибудь выпить.
Это был красивый шумный мужчина, крупного сложения, который выглядел значительно моложе и мягче, чем был на самом деле. Прежде, чем преуспеть в шоу-бизнесе, он сменил ряд не столь престижных профессий, был боксером и сводником. Успеха он добился благодаря не столько своему голосу, сколько энергии и красивой наружности, и знал это. Он не заблуждался относительно себя, и Руфус любил его – грубоватого, добродушного и щедрого, хотя одновременно и побаивался: несмотря на все обаяние, было в хозяине квартиры нечто, что заставляло других держаться с ним настороже. Женщины сходили по нему с ума, он же относился к ним подчеркнуто презрительно, впрочем, был женат уже четвертый раз.
Взяв Леону и Руфуса под руки, он повел их в глубь квартиры.
– Вот уйдут все эти снобы, тогда и повеселимся, – сказал он. – Потерпите немного.
– Ну и как ты себя чувствуешь, став уважаемым членом общества? – осклабился Руфус.
– Да пошел ты к черту! Со мной всегда считались. А от этих так называемых сливок общества, сукиных детей, на земле одна пакость. Дурят цветных, как хотят. А те и лапки кверху. – Он рассмеялся. – Знаешь, каждый раз, когда мне вручают большие деньги, я думаю: вот и вернулась часть украденного. – Он с силой хлопнул Руфуса по спине. – Проследи, чтобы твоя маленькая Ева хорошо повеселилась.
Гости расходились, большинство шикарной публики устремилось к дверям. Стоило «чужим» уйти, как вечеринка тут же изменилась, стала интимнее и теплее. Свет притушили, музыка зазвучала тише, разговоры завязывались реже, но были откровеннее и жарче. Кто-то напевал, кто-то наигрывал на рояле. Рассказывали свежие анекдоты, импровизировали на музыкальных инструментах, делились неприятностями. Кто-то закурил сигарету с марихуаной и пустил по кругу, словно трубку мира. Кто-то, примостившись на коврике, похрапывал в дальнем углу. Танцующие теснее прижимались друг к другу, тая в истоме. Неясные тени зашевелились по углам. Наконец на рассвете, когда с балкона донеслись резкие звуки пробуждающегося города, кто-то отправился на кухню и сварил всем кофе. Опустошив полностью холодильник, гости разошлись по домам, а хозяева смогли наконец забраться под одеяла, чтобы до вечера проваляться в постели.
В течение ночи Руфус несколько раз поглядывал вверх, на серебряный шар под потолком, но ни разу не увидел в нем ни себя, ни Леоны.
– Давай выйдем на балкон? – предложил он.
Она подняла свой бокал.
– Сначала налей вина.
В глазах ее лучилось озорство, она напоминала ему маленькую девочку.
Подойдя к столу, Руфус наполнил их бокалы почти до краев. Потом вернулся к девушке.
– Пойдем?
Она взяла бокал из его рук, и они вышли на балкон.
– Смотри, чтобы малышка Ева не простудилась, – окликнул их хозяин.
– Со мной она скорее сгорит, но уж никак не замерзнет, – крикнул Руфус в ответ.
Прямо перед ними внизу, в стороне Джерси-сити горели огни. Руфусу казалось, что он слышит плеск воды.
Ребенком он жил в восточной части Гарлема, всего в квартале от реки. Вместе с другими ребятами он плавал в ней, сбегая в воду с замусоренного берега, а то и нырнув с какой-нибудь гниющей развалюхи. А однажды летом в реке утонул мальчик. Руфус видел с крыльца своего дома, как несколько человек, перейдя в тени железнодорожного моста Парк-авеню, вышли на освещенное место; он разглядел среди них отца ребенка, тот шел в середине, неся завернутое тело сына и сгибаясь, словно это была неимоверная тяжесть. Руфус и сейчас видел перед собой его ссутулившиеся плечи, искаженное горем лицо. На другом конце улицы раздался страшный вопль, к шедшей в молчании группе бежала, прямо в халате, спотыкаясь как пьяная, мать утопшего.
Руфус повел плечами, как бы сбрасывая невидимый груз, и подошел ближе к Леоне. Стоя на балконе, девушка любовалась рекой и перекинутым через нее мостом Джорджа Вашингтона.
– Как красиво, – проговорила она. – Просто чудо.
– Тебе, вижу, Нью-Йорк по душе, – сказал Руфус.
Она повернулась к нему, пригубила вино из бокала.
– Да, очень. Дай мне, пожалуйста, сигарету.
Он протянул ей сигарету и поднес огонь, потом закурил сам.
– Ты хорошо устроилась?
– Прекрасно, – ответила она. – Работаю официанткой в ресторане, в самом центре, недалеко от Уолл-стрит. Чудесный район. Снимаю квартиру с двумя девушками, – (ага! значит, к ней поехать нельзя!) – да что говорить, устроилась прекрасно. – И она снова подняла на него нежные и печальные глаза бедной южанки.
Внутри него что-то вновь дрогнуло. Остановись, оставь ее в покое! Но одновременно мысль о ней, как о бедной несчастной девушке, заставила Руфуса сочувственно улыбнуться.
– А ты умница, Леона.
– Приходится стараться, – отозвалась она. – Иногда кажется – нет, больше не могу, пошлю-ка я все к черту. Но почему-то не получается.
Последние слова она произнесла с таким комичным недовольством, что он не мог не расхохотаться. Девушка присоединилась к нему.
– Видел бы сейчас меня мой муж, – заливалась она звонким смехом, – вот была бы потеха!
– И что бы он сказал? – спросил Руфус.
– Что? Да кто его знает! – Но смех ее как-то сам собой оборвался. Казалось, она проснулась и возвращается к реальной жизни.
– Слушай, налей-ка еще!
– Конечно, Леона. – Когда он брал бокал, их руки и плечи на мгновение соприкоснулись. Она опустила глаза.
– Сейчас вернусь, – сказал Руфус и быстро прошел в комнату, где уже притушили свет. Кто-то наигрывал на рояле.
– Эй, парень, как вы там с Евой? Все в порядке? – поинтересовался хозяин.
– Лучше не бывает. Балуемся винцом.
– От него никакого проку. Дай Еве травку. Пусть покайфует в свое удовольствие.
– Об ее удовольствии я сам позабочусь.
– Старина Руфус бросил ее на балконе одну, бедняжке остается только глазеть на стоячий «Эмпайр стейт билдинг» и облизываться, – сказал со смехом молодой саксофонист.
– Дайте курнуть, – попросил Руфус, и кто-то протянул ему сигарету с марихуаной. Он сделал несколько затяжек.
– Оставь себе, дружище. Отборный товар.
Руфус глотнул вина и, докуривая сигарету, постоял у рояля, машинально нажимая на клавиши. От наркотика он весь как бы очистился и почувствовал себя великолепно, просто победителем; когда он вновь выходил на балкон, в голове у него слегка шумело.
– Все что, ушли домой? – забеспокоилась девушка. – Так тихо стало!
– Да нет же, – успокоил ее Руфус. – Просто разбрелись по углам.
Теперь Леона казалось ему красивее и нежнее прежнего, а огоньки за рекой вдруг сами собой сплелись в ниспадающий живой ковер, этот роскошный фон колыхался вместе с девушкой – ослепительный, тяжелый, бесценный.
– А я и не знал, – медленно проговорил Руфус, – что ты принцесса.
Он передал ей бокал, и вновь их руки встретились.
– Ты, я вижу, совсем пьяная, – сказал Руфус с блаженной улыбкой, и глаза девушки, сверкнув над бокалом, неприкрыто позвали его.
Он выжидал. Все теперь казалось простым. Он перебирал ее пальцы в своих.
– Ты хотела чего-нибудь очень сильно с тех пор, как приехала в Нью-Йорк?
– Да всего! – призналась она.
– А сейчас хочешь?
Пальцы ее слегка напряглись, но Руфус не отпускал их.
– Не бойся. Скажи мне. Все будет хорошо.
Слова эти отозвались эхом в его сознании. Когда-то давно он уже говорил их кому-то. На мгновение Руфуса обдало прохладным ветром, который, взлохматив волосы, унесся прочь.
– А ты? – тихо спросила она.
– Я что?
– Хочешь чего-нибудь?
Он знал, что пьян: пальцы его мяли ладонь девушки, тяжелый взгляд остановился на ее шее. Хотелось прильнуть к гладкой коже и сладострастно покусывать ее, оставляя темно-синие разводы засосов. Его пьянило ощущение их вознесенности над городом, огни которого и манили, и притягивали его. Приблизившись к краю балкона, Руфус заглянул вниз: ему вдруг почудилось, что он стоит на утесе где-то на краю света, а перед ним раскинулись неведомое царство и река. И все это великолепие, до последнего дюйма, могло принадлежать ему. Непроизвольно Руфус начал насвистывать мелодию, а нога уже искала педаль большого барабана. Осторожно поставив бокал, он стал отбивать ритм на каменном парапете.
– Ты не ответил на мой вопрос.
– Что?
Он повернулся к Леоне, которая смотрела на него выжидательно, подняв брови и сжав обеими руками бокал, в глазах – застывшее отчаяние, а на губах – нежная улыбка.
– А ты не ответила на мой.
– Ответила. – Голос девушки звучал печальнее, чем обычно. – Я сказала, что хотела бы всего.
Руфус отобрал у нее бокал, выпил наполовину и, вернув его, отступил в тень.
– Тогда иди ко мне, – прошептал он.
Она послушно двинулась к нему, прижав бокал к груди. Но в самый последний момент, уже стоя перед ним, девушка тихо проговорила в замешательстве и гневе:
– А что ты хочешь со мной сделать?
– Радость моя, – пробормотал Руфус, – я уже делаю.
И он грубо притянул ее к себе, ожидая сопротивления. Она действительно сопротивлялась, упрямо держа между ними бокал и яростно вырываясь из его объятий. Руфус выбил бокал из ее рук, тот упал, но не разбился, а покатился по балкону. Воля твоя, подумал он насмешливо, но если я тебя сейчас отпущу, ты, пожалуй, перелетишь через перила. Валяй, дерись. Мне это даже нравится. У вас ведь так принято там, на Юге?
– Боже, – пробормотала она и заплакала. И тут же прекратила сопротивляться. Руки ее потянулись к его лицу, она ощупывала его, как слепая. Затем обвила его шею и прильнула к нему всем телом, все еще дрожа. Он покрывал мелкими поцелуями-укусами ее уши и шею, шепча:
– Плакать, радость моя, пока нет повода.
Он, конечно же, был пьян, потому и видел свои действия как бы со стороны, а еще чувствовал неожиданный прилив нежности к Леоне, теперь ему хотелось осчастливить ее своей любовью. Время, похоже, остановилось. Он ласкал ее грудь – два пышных смуглых холмика, и тугие, коричневатые, миниатюрные соски – играл ими, то сжимая, то покусывая, а она стонала и всхлипывала, ноги ее подкашивались. Он мягко потянул ее на пол и положил на себя, придерживая за бедра и плечи. Где-то в уголке его сознания еще всплывали образы хозяина, хозяйки, гостей, вызывая смутное беспокойство, но он понимал, что уже не в состоянии остановить охватившее их безумие. Ее пальцы расстегнули его рубашку до пояса, и нежный язык обжег шею и грудь, а он тем временем, откинув юбку, ласково водил рукой вдоль ее бедер. Так в изнеможении они, казалось, провели долгие часы, и он все время ощущал каждое мимолетное движение, каждую судорогу ее тела, отзываясь на них нервной чувственной дрожью. Потом осторожно перевернул девушку и, подмяв под себя, вошел в нее. Леона вся напряглась и затаила дыхание, на какое-то мгновение ему показалось, что она сейчас закричит. Но она только застонала и зашевелилась под ним. И тогда из самого горнила владевшего им страстного желания медленно и уверенно начал он путь домой – к себе.
А она несла его, как море, тихо покачивая, несет лодку, – то поднимая, то опуская – и не верилось, что это мерное убаюкивание таит под собой грозную пучину. В этом путешествии оба что-то бормотали и всхлипывали, он, почти не переставая, ласково ругался. Каждый стремился достичь гавани, но покой можно было обрести, только бешено ускорив движение, отдав ему всю нарастающую силу. На секунду Руфус открыл глаза и увидел ее искаженное страданием лицо, в темноте оно белело гипсовой маской. В глазах Леоны стояли слезы, ресницы увлажнились. Она часто дышала, постанывая и коротко вскрикивая, потом бессвязно забормотала, отчего он непроизвольно стал двигаться быстрее и энергичнее. Ему хотелось, чтобы она помнила эти мгновения до самой смерти. Но тут и сам он понесся неведомо куда, и на этом пути никто не смог бы остановить его – ни белый Бог, ни угрозы линчевателей, спустись они вдруг на крылышках прямо на балкон. Он шепотом ругался, обзывал ее белокожей сучкой, выл вполголоса, безжалостно пронзая ее своим грозным орудием. Она вдруг зарыдала. Говорил тебе, простонал он, что еще заставлю тебя поплакать, и вдруг почувствовал удушье: еще секунда – и он либо взорвется, либо умрет. Стон и проклятия сотрясли его тело, в последнее решающее движение он вложил всего себя и тут почувствовал, что из него изливается мощный ядовитый поток, которого хватило бы на сотню маленьких мулатов.
Лежа на спине, Руфус тяжело дышал. Теперь он слышал доносившуюся из комнаты музыку и гудки на реке. Мощь соития напугала его, в горле пересохло, там, где на теле остались мокрые пятна, он чувствовал холод. Девушка прикоснулась к нему, заставив испуганно вздрогнуть. С трудом он заставил себя повернуться к ней и заглянуть в лицо. В ее впавших, потемневших глазах все еще стояли слезы, на губах робко дрожала ликующая улыбка. Руфус притянул ее к себе, мечтая лишь о покое. Он надеялся, что у нее хватит ума помолчать, но услышал: «это было чудесно», и почувствовал на губах поцелуй. И эти слова, не вызвав в нем ответной нежности и не избавив от невесть откуда взявшегося мистического ужаса, вдруг вновь пробудили желание. Руфус сел.
– Забавная ты девчонка, – проговорил он, вглядываясь в нее. – Что ты скажешь мужу, когда заявишься к нему с черным малышом?
– Тебе не стоит беспокоиться, – сказала девушка. – У меня не будет больше детей. – Она ничего не добавила, хотя ей явно было что сказать. – Он выбил из меня и это, – призналась она наконец.
Ему захотелось услышать историю ее жизни. И в то же время не хотелось ничего знать.
– Пойдем умоемся, – предложил он.
Она положила голову ему на грудь.
– Мне страшно возвращаться туда.
Руфус засмеялся и погладил ее по голове. В нем вновь затеплилась нежность к девушке.
– Не собираешься же ты провести здесь ночь?
– А что подумают твои друзья?
– Послушай, Леона, полицию они уж никак не позовут. – Он поцеловал ее. – Ничего плохого они не подумают.
– Ты пойдешь со мной?
– Ну, конечно, пойду. – Руфус отстранил ее, окинув взглядом с головы до ног. – Все в порядке, одерни только одежду, – и он любовно провел рукой по ее телу, – ну и еще пригладь волосы вот так, – и он откинул пряди с ее лба.
Она не спускала с него глаз.
Руфус с удивлением услышал свой голос: «Я тебе нравлюсь?»
Она нервно сглотнула. Руфус видел, как у нее на шее пульсирует жилка. Девушка казалась ему сейчас совсем беззащитной.
– Да, – сказала она и потупилась. – Руфус, – опять заговорила она, – ты действительно мне очень нравишься. Постарайся не делать мне больно.
– С какой стати, Леона? – Он нежно гладил ее шею, серьезно глядя в глаза. – Почему ты думаешь, что я могу сделать тебе больно?
– Люди обычно именно так поступают друг с другом.
– Тебя кто-то обидел, Леона?
Она молчала, уткнувшись лицом ему в ладони.
– Мой муж, – наконец выговорила она. – Мне казалось, он любит меня, но он совсем не любил… я знала, что он груб, но не думала, что он еще и подлый. Какая уж тут любовь, если он отобрал у меня моего малыша и отправил его куда-то?
Девушка смотрела на Руфуса глазами, полными слез.
– Называл меня никудышной матерью, потому что я пила. Действительно тогда я много пила, но иначе жизни с ним не вынести. А для сына я ничего не пожалею, соринки не дам на него сесть.
Руфус молчал. На темнокожую руку капали ее слезы.
– Он и теперь живет в нашем доме. Я говорю о муже. Вместе с моими матерью и братом, они с ним заодно. Тоже считают меня никчемной. Если все время говорить, что ты бестолочь, – сделала она попытку пошутить, – можно и впрямь ею стать.
Руфус заставил себя забыть все вопросы, которые собирался задать ей. Холод пробирал до костей, он был голодный как собака, хотелось пить и еще поскорей очутиться дома в постели.
– Ладно, – сказал он. – Обижать тебя я не собираюсь.
Он встал, направляясь к балконным дверям. Идти мешали приспущенные и болтавшиеся на ногах брюки; он подтянул их, ощущая внутри клейкую массу, и застегнул молнию, стараясь держать ноги пошире. Небо алело. Звезды исчезли вместе с огоньками на побережье Джерси-сити. По реке медленно ползла груженная углем баржа.
– Как я выгляжу? – спросила Леона.
– Прекрасно, – ответил Руфус и не солгал. Девушка напоминала сейчас уставшего ребенка. – Поедем ко мне?
– Если ты хочешь, – сказала она.
– Именно этого я и хочу. – Но сам диву давался, зачем она ему понадобилась.
Зашедший к ним назавтра, во второй половине дня, Вивальдо застал Руфуса еще в постели. Леона возилась на кухне, готовя завтрак.
Она-то и открыла Вивальдо дверь. Руфус наслаждался ситуацией: Вивальдо изумленно переводил взгляд с Леоны, утопавшей в мужском халате, на восседавшего в постели среди скомканных одеял совершенно голого Руфуса.
Ну что, белый либерал, пробрало тебя, ублюдка, насмешливо подумал Руфус.
– Привет, мужик, – поздоровался он. – Входи, гостем будешь. Поспел как раз к завтраку.
– Я уже завтракал, – отказался Вивальдо. – Вижу, я здесь лишний. Загляну попозже.
– Не валяй дурака. Входи. Это Леона. Познакомься, Леона, это мой друг, Вивальдо. Его полное имя Дэниел Вивальдо Мур. Итальяшка с ирландскими предками.
– Руфус погряз в предрассудках, – сказала, улыбаясь, Леона. – Заходите.
Вивальдо неуклюжим движением закрыл за собой дверь и присел на край кровати. Когда он чувствовал себя неловко, а такое бывало частенько, его руки и ноги как бы вытягивались, становясь чудовищно непропорциональными, и он путался в них, словно обрел конечности совсем недавно.
– Может, вы хоть что-нибудь проглотите, – сказала Леона. – Еды много, все будет готово с минуты на минуту.
– Пожалуй, выпью чашечку кофе, – произнес Вивальдо, – если, конечно, у вас не найдется пива. – Он взглянул на Руфуса. – Вижу, вечеринка удалась.
Руфус расплылся в улыбке.
– Совсем неплохо было.
Леона открыла банку и, перелив пиво в стакан, поднесла его Вивальдо. Он взял стакан, поблагодарив ее своей мимолетной цыганской улыбкой и слегка расплескав содержимое.
– Тебе налить, Руфус?
– Нет, киска, пока не надо. Сначала поем.
Леона снова скрылась на кухне.
– Типичная южанка, правда? – сказал Руфус. – Они умеют там воспитывать своих женщин, учат, как ухаживать за мужчинами.
Из кухни послышался смех Леоны.
– Они только этому нас и учат.
– А что тебе еще надо знать, киска? Ты и так умеешь сделать мужчину счастливым.
Руфус и Вивальдо обменялись понимающими взглядами. Вивальдо широко улыбнулся.
– Так что, Руфус, поднимешь ты сегодня свой зад?
Отбросив одеяло, Руфус соскочил с постели, зевнул и, вскинув руки, потянулся.
– Ну и видок у тебя сегодня, – сказал Вивальдо, бросая другу трусы.
Руфус натянул трусы, затем влез в старые серые слаксы и накинул выцветшую зеленую рубашку спортивного покроя.
– Жаль, что тебя вчера не было. Там такую травку давали – закачаешься.
– У меня вчера и без того проблем хватало.
– Опять Джейн? И, конечно, ссорились?
– Она напилась и несла всякую дичь. Ты ее знаешь. Больной человек, не может с собой совладать.
– То, что она с придурью, я знаю. А вот что с тобой?
– Наверное, получаю, что заслужил. Может, втайне хочу, чтобы меня так прикладывали.
Они прошли к столу.
– Вы первый раз в Гринич-Виллидж, Леона?
– Нет, бывала и раньше. Но пока не узнаешь людей, место так и остается чужим.
– Теперь вы знаете нас, – сказал Вивальдо, – а, между нами говоря, мы здесь знаем всех. Покажем вам все самое интересное.
Руфуса почему-то раздражала манера разговора Вивальдо с Леоной. Радостное настроение улетучилось – как не бывало, в душе зародились дурные подозрения. Он бросил украдкой взгляд на Вивальдо, тот потягивал пиво, поглядывая на Леону со своей непроницаемой улыбкой – слишком уж открытой и добродушной: поди пойми, что под ней таится. Руфус перевел взгляд на Леону: сейчас, при дневном свете, в халате с чужого плеча, с подколотыми волосами и без всякой косметики на лице, ее и хорошенькой-то не назовешь. Может, Вивальдо смотрит на нее с презрением, как на заурядную простушку, но это означает, что Вивальдо переносит презрение и на него, Руфуса. А может, он флиртует с ней, потому что Леона кажется ему незатейливой и доступной – чего уж от нее ждать, коль она пошла даже с Руфусом.
Но тут Леона улыбнулась ему через стол. У него екнуло сердце, и сладко заныло внизу живота; вспомнив их яростную и нежную близость, он решил – черт с ним, с Вивальдо. Того, что было, Вивальдо не отнимет у него.
Руфус перегнулся через стол и поцеловал девушку.
– Можно еще пива? – попросил, улыбаясь, Вивальдо.
– Бери. Сам знаешь где, – сказал Руфус.
Леона, взяв стакан гостя, отправилась на кухню. Руфус показал язык приятелю, который насмешливо смотрел на него.
Вернувшись, Леона поставила перед Вивальдо свежее пиво и объявила:
– Вы, мальчики, не торопитесь, заканчивайте спокойно завтрак, а я пока пойду переоденусь. – Забрав свою одежду, Леона исчезла в ванной.
Некоторое время они молчали.
– Она что, останется здесь, у тебя? – задал вопрос Вивальдо.
– Еще не знаю. Ничего не решено. Хотя, думаю, она бы не возражала.
– Это видно невооруженным глазом. Но квартирка тесновата для двоих.
– Можем найти что-нибудь попросторнее. Кроме того, ты ведь знаешь, я чертовски мало нахожусь дома.
Вивальдо некоторое время обдумывал его слова, наконец осторожно произнес:
– Надеюсь, ты понимаешь, дружок, это, конечно, не мое дело, но…
Руфус взглянул на него.
– Она разве тебе не нравится?
– Напротив, очень нравится. Милая девушка. – Вивальдо отхлебнул пива. – Вопрос в том: насколько она нравится тебе?
– А ты не видишь? – ухмыльнулся Руфус.
– Говоря откровенно, нет. То есть я вижу, что нравится, но… даже не знаю.
Они снова помолчали.
– Причин для беспокойства нет, – подытожил Руфус. – Я уже большой мальчик.
Вивальдо поднял на него глаза.
– Но и мир вокруг тебя тоже большой. Надеюсь, ты подумал об этом.
– Подумал.
– Все несчастье в том, что у меня по отношению к тебе слишком отцовские чувства, сукин ты сын.
– Все вы, белые ублюдки, одинаковы.
Выйдя на улицу в воскресенье, они встретились с тем «большим миром», о котором говорил Вивальдо. Судя по неприязненным взглядам прохожих, он был настроен к ним враждебно, и Руфус понял, что совсем забыл о существовании этого мира и о его неиссякаемой способности ненавидеть и разрушать. Он не подумал, что ждет его с Леоной, потому что даже не рассматривал возможность их совместной жизни. Но она здесь, рядом, идет с ним по улице, и если он захочет, с радостью останется у него. Но за это придется платить – и немало: возможны стычки с хозяином дома и соседями, с подростками в Гринич-Виллидж и со всеми, кто приезжает сюда на уик-энд. Его семья тоже в восторге не будет. Но если у родителей протест – всего лишь привычный рефлекс на жизнь, то сестра Ида мгновенно возненавидит Леону. Она всегда ждала от Руфуса чего-то необыкновенного и, кроме того, обладала чрезмерной щепетильностью в расовых вопросах. «Будь она чернокожей, Руфус, ты и не взглянул бы на нее, – скажет Ида. – Но ты готов жить с любой швалью, если у той белая кожа. В чем дело? Ты что, стыдишься, что ты черный?»
Он вдруг впервые в жизни задумался над этим вопросом, точнее, тот на секунду обжег его мозг и почти сразу же, как бы извиняясь за доставленное беспокойство, погас.
Руфус искоса посмотрел на Леону. Вот теперь она была по-настоящему хорошенькой. Девушка заплела свои длинные волосы в косички и подколола наверх, эта, немного старомодная прическа делала ее значительно моложе своего возраста.
Навстречу шла юная чета – продавцы воскресных газет. Руфус перехватил взгляд молодого человека, с любопытством устремленный на Леону; потом оба, и юноша, и девушка, оценивающе оглядели поочередно Вивальдо и Руфуса, как бы решая, кто же ее любовник. Но Гринич-Виллидж – особый район, своего рода свободная зона, и только по быстрому, почти робкому взгляду молодого человека Руфус понял: тот догадался, что любовные отношения с Леоной связывают именно его. Однако лицо женщины приняло сразу же холодное выражение – словно ее окатили ушатом ледяной воды.
Они вошли в парк. На скамейках сидели старые неряшливые женщины из трущоб Ист-Сайда, чаще одни, иногда рядом с ними можно было увидеть седых, высохших мужчин; тут же дамы с претензией на элегантность, живущие на Пятой авеню, прогуливали своих собачек, а няни-негритянки, глядя невидящими глазами на мир взрослых, тихо напевали, склонясь над детскими колясками. Итальянские рабочие и мелкие торговцы приходили сюда целыми семьями – устраивались в тени деревьев, болтали, играли в шахматы, просматривали L’Espresso. Были здесь и такие обитатели Гринич-Виллидж, которые, пристроившись на скамейках, читали (Кьеркегор – кричало имя с мягкой обложки книги в руках коротко стриженной девушки в синих джинсах) или увлеченно беседовали о высших материях, или сплетничали, или смеялись, или сидели неподвижно, полные скрытой буйной энергии, которая могла бы сокрушить здесь все, кроме разве что скамеек и деревьев, или, напротив, расслабившись и как бы утверждая всем своим видом, что они вряд ли когда-либо сдвинутся со своего места.
Руфус и Вивальдо – Вивальдо особенно – знали тут достаточно многих и даже были с некоторыми из них дружны так давно, что казалось, знакомство это началось еще до рождения. Особенно пугал вид бывших друзей и любовниц, канувших непостижимым образом почти в небытие. Это говорило о том, что еще в прежние времена их подтачивала некая болезнь, вроде рака, которая теперь, возможно, переместилась в нынешних приятелей. Многие за прошедшее время почили, вернувшись в землю, из которой вышли, но другие по-прежнему топтали ее; кто-то стал алкашом, кто-то наркоманом, кто-то убивал время в поисках хорошего психиатра; были и такие, что с горя обзавелись семьей и теперь мирно толстели, обрастая потомством; все они мечтали о том же, что и десять лет назад, в споре приводили все те же аргументы, цитировали тех же властителей дум и, что всего ужаснее, были убеждены, что излучают обаяние, как и прежде, когда у них еще не выпадали зубы и не вылезали волосы. Держались они теперь много враждебнее, недоброжелательство ощущалось и в тоне, и во взгляде, оно, собственно, и оставалось их единственной живой чертой.
Вивальдо остановила тучная добродушная деваха, явно под градусом. Руфус и Леона, стоя поодаль, дожидались его.
– У тебя чудесный друг, – сказала Леона. – Совсем не важничает. Мне кажется, я его тысячу лет знаю.
Теперь, когда рядом не было Вивальдо, на Руфуса и Леону смотрели уже иначе. Обитатели Гринич-Виллидж, одиночки и находящиеся в компании, дружно уставились на них, словно попали на аукцион или на выставку племенных жеребцов.
Весеннее солнце припекало Руфусу затылок и лоб. Леона вся светилась; казалось, она забыла обо всех и всем на свете, кроме него. Достаточно было заглянуть в ее глаза, чтобы отпали все сомнения в искренности ее чувства. Если она так спокойна, подумал Руфус, если ничего не замечает, то почему он-то дергается? Может, просто напридумывал всякого, может, всем на них глубоко наплевать? Но тут, подняв глаза, он встретился взглядом с молодым итальянцем; пробивавшийся сквозь листву солнечный свет дрожал на лице юноши. Итальянец смотрел на Руфуса с нескрываемой ненавистью, а Леону окинул сверху вниз презрительным взглядом, словно последнюю дешевку. Опустив глаза, юнец брезгливо прошествовал мимо по дорожке, заявив таким образом свой молчаливый протест, и даже его спина, казалось, источала яд.
– Подонок, – пробормотал Руфус.
И тут его изумила Леона.
– Ты про мальчишку? Его просто жизнь заела – тоска и одиночество. Не сомневаюсь, что при желании ты легко мог бы с ним подружиться.
Руфус от души рассмеялся.
– Я правду говорю, – упорствовала Леона. – Люди просто одиноки, потому и злобятся. Верь мне, мальчик, я-то уж знаю.
– Слушай, не смей называть меня мальчиком, – взбесился он.
– Прости, – удивилась Леона. – Я не хотела тебя обидеть, дорогой. – Она взяла его за руку, и оба оглянулись, ища взглядом Вивальдо. Того крепко держала за воротничок толстуха, а он, хохоча, вырывался.
Картина рассмешила Руфуса.
– У Вивальдо вечные проблемы с бабами.
– А по-моему, он от души веселится, – сказала Леона. – Да и девушка тоже.
Действительно, толстуха, отпустив Вивальдо, теперь покатывалась со смеху, согнувшись в три погибели и чуть не падая на дорожку. Люди вокруг тоже заулыбались – кто сидя на скамейке, кто прямо на земле, а кто оторвавшись при этом от книги, заулыбались, при виде этих двух типичных живописных обитателей Гринич-Виллидж.
Но у Руфуса их реакция вызвала только новый прилив раздражения. Разве они с Леоной, приведись случай, смогли бы вот так раскрепощенно вести себя у всех на глазах? Какую бы девицу ни подцепил Вивальдо, никто не осмелится смотреть на него так, как сейчас на Руфуса, и на девушку не станут пялиться, как на Леону. Самая распоследняя шлюха в Манхэттене сразу оказалась бы под защитой, иди она под руку с Вивальдо. И все потому, что Вивальдо белый.
Руфусу вспомнился дождливый вечер прошлого года, когда он только что вернулся из Бостона после концерта, и они с Вивальдо решили пойти куда-нибудь поразвлечься, прихватив с собой Джейн. Руфус никогда не мог понять, что Вивальдо нашел в Джейн; та была старовата для него и в придачу ворчлива, нечистоплотна, ее седоватые волосы вечно висели патлами, свалявшиеся свитера, коих у нее было великое множество, болтались на ней как на вешалке, а запачканные краской джинсы пузырились на коленях. «Она одевается как огородное пугало», – сказал как-то Руфус и громко захохотал, увидев испуганное выражение на лице друга. Вивальдо так перекосило, как если бы при нем разбили тухлое яйцо. И все же до того дождливого вечера Руфус еще мог худо-бедно выносить Джейн.
Вечер действительно был жуткий; дождь лил как из ведра, наполняя воздух хлюпающими и рокочущими звуками; ливень был такой сильный, что, казалось, с ним вместе поплыли, растекаясь, фонари, улицы и дома. Он стучал, стекая струйками, в окна грязного бара, куда их привела Джейн и где они никого не знали. Тут было полно неухоженных, тучных женщин, с которыми Джейн иногда днем выпивала по рюмочке, и бледных неряшливых угрюмых мужчин из доков, у которых появление Руфуса вызвало крайнее раздражение. Руфус хотел было сразу же уйти, но помешал ливень, и он остался ждать, пока дождь хоть немного утихнет. Он устал от бесконечной болтовни Джейн, трещавшей без умолку о своих картинах, а за Вивальдо ему было просто стыдно: как можно с этим мириться?.. С чего завязалась драка? Он всегда считал, что спровоцировала ее Джейн. Тогда, чтобы не заснуть под нескончаемую бабью трескотню, Руфус стал задираться, поддразнивать Джейн, но в этом шуточном поддразнивании проскальзывали и серьезные нотки, и Джейн не могла этого не понять. Вивальдо следил за их перепалкой, вымученно улыбаясь. Он тоже изнывал от скуки, находя суждения Джейн невыносимо претенциозными.
– Во всяком случае, – заявила Джейн, – ты не художник и потому не вправе судить мою работу…
– Да перестань, – оборвал ее Вивальдо. – Только вслушайся, как глупо звучат твои слова. Ты что, хочешь сказать, что рисуешь исключительно для шайки недоумков-художников?
– Оставь ее, – сказал Руфус, начиная наслаждаться ситуацией. Он склонился через стол к Джейн, улыбаясь со светской учтивостью. – Куда нам со свиным рылом. Чтобы разобраться в ее мазне, нужны мужики покруче.
– Вы-то как раз и есть снобы, а не я, – парировала Джейн. – Честные, работящие, простые люди, которые приходят сюда, в этот бар, понимают мои картины, они задевают их за живое; вряд ли ваше искусство кого-то так трогает. Вы проводите время в обществе мертвых людей, а эти – живые.
Руфус залился смехом.
– А я-то думаю, чем это здесь воняет. Теперь ясно. Дерьмом. Вот они, живые люди, что делают. – И он снова рассмеялся.
Но одним глазом он уловил, что к ним начинают присматриваться. Повернувшись к слепым окнам, он приказал себе: о’кей, Руфус, будь паинькой. И откинулся на диване напротив Джейн и Вивальдо.
Но он ее, видимо, крепко достал, и тогда она нанесла ему ответный удар – единственным орудием, которое оказалось под рукой.
– Здесь пахнет не хуже, чем в той канаве, откуда ты родом.
Вивальдо и Руфус переглянулись. У Вивальдо побелели губы. Он резко сказал:
– Еще одно слово, бэби, и я тебе челюсть сверну.
От этих слов она прямо расцвела и, тут же надев маску Бетт Дэвис[1], гневно выкрикнула:
– Ты что, мне угрожаешь?
Все повернулись на ее голос.
– Черт побери, – вырвалось у Руфуса. – Надо смываться.
– Да, – согласился Вивальдо. – Пойдем скорей отсюда. – И взглянул на Джейн. – Пошевеливайся ты, сучка чертова.
Теперь Джейн стала само раскаяние. Перегнувшись через стол, она ухватила Руфуса за руку:
– Я не хотела тебя обидеть, поверь!
Руфус не вырвал руку, боясь, что со стороны их возню могут принять за драку. Теперь на него смотрели глаза Джоан Фонтейн[2].
– Пожалуйста, верь мне, Руфус!
– Я верю тебе, – сказал он и поднялся с места, чтобы идти, но ему преградил дорогу дородный ирландец. Мгновение они сверлили друг друга взглядом, затем мужчина плюнул ему в лицо. Руфус услышал истошный крик Джейн, но его уже понесло: он ударил своего обидчика или только занес руку, чтобы ударить, тут-то ему и заехали в челюсть и чем-то тяжелым стукнули по голове. Все стало затягиваться перед его глазами черно-красной пленкой, а потом, взревев, ринулось на него – перекошенные лица, нацеленные кулаки. Он ударился спиной обо что-то острое и холодное, видимо, об угол стойки, но понять, как оказался возле нее, не сумел; боковым зрением он увидел занесенный над головой Вивальдо табурет и вновь услышал пронзительный крик Джейн, она вопила как резаная. Руфус даже не предполагал, что в баре так много мужчин. Он двинул кого-то, почувствовав, что попал в скулу, на какое-то мгновение взгляд полных ненависти зеленых глаз ослепил его, словно свет фар при дорожном столкновении, и тут же потух – жертва от боли сомкнула веки. Руфуса ударили в живот, потом по голове. Удары сыпались со всех сторон, его швыряло из угла в угол, и он, уже не помышляя о нападении, слабо защищался. Молотили его почем зря, толкали, пинали, а он только, низко наклонив голову, сгибался, чтобы прикрыть от удара мошонку. Послышался звон разбитого стекла. На мгновение он увидел в противоположном конце бара Вивальдо, его окружали трое или четверо мужчин, кровь из разбитого носа и лба текла по его лицу, а еще он успел увидеть тыльную сторону руки, мощной затрещиной отправившей Джейн в центр бара. Лицо женщины побелело от страха. Так тебе и надо, подумал Руфус, но в ту же минуту сам взлетел в воздух и приземлился в другом конце зала. Снова зазвенели осколки стекла, затрещали доски. Чьи-то ноги придавили ему плечо и ступню. Упираясь ягодицами в пол, Руфус с силой выбросил вверх свободную ногу, а рукой пытался смягчить удары, которые ему наносил, целясь в лицо, все тот же ирландец с горящими зелеными глазами. Вскоре Руфус перестал что-либо видеть, слышать или чувствовать. Спустя какое-то время рядом громко затопали – обидчики убегали. Руфус лежал на спине за стойкой. Собрав все силы, он выполз из укрытия. Бармен, стоя в дверях, выпроваживал клиентов; сидящая за стойкой пожилая женщина мирно потягивала джин, а Вивальдо лежал, уткнувшись лицом в лужу крови. Над ним беспомощно склонилась Джейн. Снаружи по-прежнему доносился шум дождя.
– Я думаю, он мертв, – сказала Джейн.
Руфус полоснул ее взглядом, его переполняла ненависть.
– Лучше бы на его месте лежала ты, сучка рваная.
Джейн заплакала.
Склонившись, Руфус помог Вивальдо подняться. Согнувшись в три погибели и поддерживая друг друга, они, пошатываясь, направились к двери. Джейн плелась следом.
– Давайте я вам помогу, – повторяла она.
Вивальдо остановился, стараясь выпрямиться. Они привалились к полураскрытой двери. Бармен не сводил с них глаз. Вивальдо посмотрел на него, потом перевел взгляд на Джейн. Спотыкаясь, они с Руфусом вывалились из бара прямо под дождь.
– Давайте я вам помогу! – снова выкрикнула Джейн. Однако она все же задержалась в дверях, чтобы отчитать бармена, сохранявшего все это время невозмутимое выражение лица. – Поверьте, вам это так не пройдет. Костьми лягу, а добьюсь, чтобы бар закрыли. – Потом тоже выскочила на улицу, пытаясь помочь Руфусу удерживать Вивальдо.
Вивальдо отпрянул в сторону, желая избежать ее прикосновения, поскользнулся и чуть не упал.
– Убирайся! Не смей прикасаться ко мне! Хватит того, что ты уже натворила!
– Но тебе нужно поскорей лечь! – рыдала Джейн.
– Пусть это тебя не волнует. Слышишь, не волнует. Катись ты куда подальше! Отвали! Мы идем в больницу.
Глянув на друга, Руфус по-настоящему перепугался. Оба его глаза заплыли, рана на голове кровоточила, слезы струились по лицу.
– Разве можно так обращаться с моим другом, – повторял Вивальдо все время. – Вот беда! Разве можно ему такое говорить!
– Нужно идти к ней, – прошептал Руфус. – Она живет недалеко.
Но Вивальдо, казалось, не услышал его.
– Пойдем, дружище, пойдем к Джейн. И наплевать на все!
Руфус предполагал, что у друга серьезная рана, и потому боялся идти в больницу, слишком хорошо зная, что может случиться, заявись туда двое белых, из которых один заливается кровью, и черномазый. Ведь доктора и медицинские сестры считают себя образцовыми белыми гражданами. Руфус опасался не столько за себя, сколько за Вивальдо, который так мало знал о своих соотечественниках.
Скользя и пошатываясь, брели они за переполошенной Джейн, которая, словно толстозадая Жанна д’Арк, вела их к своему дому. Руфус отвел Вивальдо в ванную и усадил там. Заглянул и сам в зеркало. Лицо разбито в кровь, но ссадины заживут сами, да и глаз только затек. А вот с Вивальдо хуже: когда Руфус начал смывать кровь, то увидел на его голове глубокую рану, которая показалась ему опасной.
– Знаешь, дружище, – прошептал он, – без больницы не обойтись.
– А я что говорил? Ладно, пойдем. – Вивальдо сделал попытку встать.
– Нет, дружище. Послушай меня. Если я пойду с тобой, поднимется страшный переполох, меня заподозрят, ведь я черный, а ты белый. Сечешь? Это как пить дать.
– Не неси чушь, Руфус, – сказал Вивальдо.
– Верь – не верь, но это истинная правда. Тебя отведет Джейн. Я не пойду. Не могу.
Вивальдо сидел с закрытыми глазами, лицо белое как мел.
– Вивальдо?
Тот приподнял затекшие веки.
– Ты злишься на меня, Руфус?
– Пошел к черту! С какой стати?
Но он знал, что мучает Вивальдо, и, склонившись над ним, шепнул:
– Выброси все из головы, дружище. Я знаю, что ты мой друг.
– Я люблю тебя, сукин сын. Правда люблю.
– И я тебя. А теперь марш в больницу. Мне совсем не хочется, чтобы ты отдал концы здесь, в ванной этой белой задницы. Я дождусь тебя. Со мною будет все в порядке. – Руфус торопливо вышел из ванной и буркнул Джейн: – Вези его скорее в больницу – ему хуже, чем мне. Я буду ждать вас здесь.
У нее хватило ума промолчать. Вивальдо провалялся тогда в больнице десять дней, ему наложили три шва. А Руфус наутро отправился к врачу в верхнюю часть города и потом неделю отлеживался в постели. Ни он, ни Вивальдо никогда не вспоминали об этом вечере, и хотя он, Руфус, знал, что Вивальдо через какое-то время вновь начал встречаться с Джейн, они в разговоре не упоминали ее имени. Но после этого случая Руфус стал больше доверять Вивальдо и полагаться на него; даже теперь, глядя с досадой, как он жеребчиком скачет по дорожке вокруг толстухи, он продолжал верить ему. Почему – он не знал, просто смутно чувствовал, что верить можно. Вивальдо не был похож на остальных, кого знал Руфус: те удивляли его проявлениями доброты или преданности, и только Вивальдо мог бы удивить предательством. Даже связь с Джейн свидетельствовала в его пользу: будь он способен променять друга на бабу, как большинство белых мужчин, особенно если друг – черный, тогда нашел бы себе подружку покраше – с манерами светской дамы и с душонкой шлюхи. Но Джейн не стремилась казаться лучше, чем была, а была она обыкновенной неряхой и потому, даже не догадываясь об этом, как-то уравнивала Руфуса и Вивальдо.
Вивальдо наконец отвязался от толстухи и заторопился к ним, улыбаясь во весь рот. Он помахал рукой кому-то позади них.
– Смотрите-ка! – воскликнул он. – Да здесь Кэсс!
Руфус обернулся и действительно увидел Кэсс – хрупкая блондинка сидела в одиночестве на краю фонтана. Для него она всегда оставалась загадкой, он никогда не знал, куда ее отнести в «белом мире», к которому она по всем признакам принадлежала. Родом Кэсс была из Новой Англии, происходила из крепкой простой семьи, ведущей родословную от первых поселенцев, так она говорила, с удовольствием прибавляя, что одну из ее прапрабабушек сожгли как ведьму.
Она была замужем за Ричардом, поляком по происхождению, они растили двух детей. Много лет назад Ричард преподавал английский в школе, где учился Вивальдо. Супруги говорили, что он был сущим разбойником, да и сейчас не очень изменился, они дружили еще с тех пор.
Руфус и Вивальдо, подхватив Леону, направились к Кэсс.
Улыбка женщины обдала Руфуса теплом и одновременно подействовала отрезвляюще. С одной стороны – она была неподдельно дружелюбна, а с другой – слегка насмешлива.
– Не знаю, стоит ли с вами говорить. Вы нас забросили самым бесстыдным образом. Ричард вычеркнул вас из списка друзей. – Она приветливо взглянула на Леону. – Меня зовут Кэсс Силенски.
– А это Леона, – сказал Руфус, кладя руку на плечо девушки.
Взгляд Кэсс стал еще насмешливей, но и теплее.
– Рада познакомиться с вами.
– А я с вами, – отозвалась Леона.
Теперь они все сидели на краю фонтана, в центре которого била слабая струйка – на радость малышам, которые любили возиться здесь, у воды.
– Расскажите, что поделываете, – попросила Кэсс. – И почему пропали.
– Я очень занят, – попытался оправдаться Вивальдо. – Работаю над романом.
– Сколько его знаю, – сказала Кэсс, обращаясь к Леоне, – он всегда работает над романом. А ведь я познакомилась с ним, когда ему было семнадцать лет, теперь же ему почти тридцать. Вот и считайте.
– Ты несправедлива, – отозвался Вивальдо. Он выглядел пристыженным и огорченным, хотя разговор забавлял его.
– Впрочем, Ричард тоже пишет роман. Начал его в двадцать пять, а теперь ему скоро стукнет сорок. Так что… – Кэсс выдержала паузу и продолжала: – Но теперь он обрел второе дыхание, работает не отрываясь. Просто как с цепи сорвался. Думаю, он ждал вашего прихода и по этой причине – хотел показать написанное, посоветоваться.
– А откуда оно взялось, это второе дыхание? – спросил Вивальдо. – Просто ниоткуда – не бывает.
– Ох, – весело пожала плечами Кэсс и глубоко затянулась сигаретой. – Разве мне чего говорят – я в полном неведении. Вы ведь знаете Ричарда. Встает чуть свет, сразу уединяется в кабинете, сидит там, пока не придет время идти на работу, а вернувшись, опять – шмыг в кабинет и до глубокой ночи. Я его почти не вижу. У детей больше нет отца, у меня – мужа. – Она рассмеялась. – Однажды утром он пробурчал что-то вроде того, что все идет неплохо.
– Вот как, – не без зависти произнес Вивальдо. – Так это новый роман? Не тот, что он писал раньше?
– Думаю, другой. Но полностью не уверена. – Кэсс снова затянулась, затоптала сигарету и тут же полезла в сумочку за новой.
– Да, надо зайти и самому во всем разобраться, – сказал Вивальдо. – Похоже, что он прославится раньше меня.
– Я всегда это знала, – заявила Кэсс, закуривая.
Руфус смотрел, как по дорожке важно разгуливают голуби и слоняются, сбившись в компании, подростки. Ему хотелось поскорее уйти из этого места, скрыться от опасности. Леона положила поверх его руки свою. Он крепко сжал ее пальцы и не отпускал.
Кэсс повернулась к Руфусу.
– Ну а ты ведь не работаешь над романом. Тебя-то почему не видно?
– Я играл в верхней части города. Вы обещали прийти послушать меня. Помнишь?
– Но мы совсем на мели, Руфус…
– Когда у меня работа в ночном клубе, о деньгах можете не беспокоиться. Я ведь говорил.
– Он великий музыкант, – вмешалась Леона. – Вчера вечером я услышала его впервые.
Руфус выглядел раздосадованным.
– Но вчера я закончил там свои выступления. Буду некоторое время болтаться без дела, ублажать свою старушку.
И он рассмеялся.
Кэсс и Леона переглянулись с улыбкой.
– Вы давно в Нью-Йорке, Леона? – спросила Кэсс.
– Немногим больше месяца.
– Вам здесь нравится?
– Очень. Отличается от мест, где я жила, как день от ночи. Не могу даже передать, до чего нравится.
Кэсс бросила на Руфуса быстрый взгляд.
– Прекрасно, – серьезно сказала она. – Рада за вас.
– Я верю, что вы говорите искренне, – сказала Леона. – Видно, что вы очень хороший человек.
– Спасибо, – сказала, залившись краской, Кэсс.
– А как ты собираешься ублажать свою старушку, если остался без работы? – спросил Вивальдо.
– У меня намечается парочка записей. Не беспокойся за старину Руфуса.
Вивальдо вздохнул.
– Я беспокоюсь о себе. Не ту я выбрал профессию. Никто не хочет знать, что у меня на душе.
Руфус взглянул на него.
– Не вынуждай меня рассказывать о моей профессии. Я могу завестись.
– Дела всюду идут не блестяще, – согласился Вивальдо.
Руфус окинул взглядом залитый солнцем парк.
– Никто не собирает денежные пожертвования, чтобы покончить наконец с менеджерами и разными агентами, – произнес он. – Они же ежедневно выбрасывают музыкантов на улицу.
– Успокойся, – сказала Леона. – Тебя-то никогда не выбросят.
Она протянула руку и погладила его по голове. Руфус мягко отстранил ее руку.
Воцарилось молчание. Кэсс встала.
– Не хочется расставаться, но нужно домой. Соседка повела детишек в зоопарк, но, думаю, сейчас они уже возвращаются. Нужно спасать Ричарда.
– А как поживают ребятишки, Кэсс? – спросил Руфус.
– Ты еще спрашиваешь? Скоро они забудут, как тебя зовут. И поделом тебе. Прекрасно поживают. Лучше, чем их родители.
Вивальдо сказал:
– Пойду провожу Кэсс. Какие у вас планы?
Руфус почувствовал тупой страх и возмущение, как будто Вивальдо бросал его.
– Даже не знаю. Наверное, отправимся домой.
– Мне нужно возвращаться к себе, Руфус, – сказала Леона. – Я должна переодеться перед работой.
Кэсс протянула Леоне руку.
– Мне было очень приятно познакомиться с вами. Заходите с Руфусом как-нибудь к нам.
– Я тоже очень рада. Сколько замечательных людей я увидела сразу!
Джеймс Болдуин
– Надо нам встретиться и завалиться куда-нибудь, выпить по рюмочке, поболтать – вдвоем, без мужчин.
Обе рассмеялись.
– Мне это правда по душе.
– Может, увидимся у Бенно, примерно в половине одиннадцатого? – предложил Вивальдо Руфусу.
– Отлично. Прошвырнемся по городу, послушаем где-нибудь джаз.
– Заметано.
– До свидания, Леона. Рад был познакомиться с вами.
– Я тоже. Скоро увидимся.
– Привет от меня Ричарду и ребятишкам. Скажи, скоро заскочу.
– Скажу. А ты смотри, не забудь про свое обещание. Мы всегда тебе рады.
Кэсс и Вивальдо неторопливо двинулись в сторону арки. Заходящее солнце заливало ярко-красным светом удалявшиеся фигуры, над темной и золотистой головами стояли нимбы. Руфус и Леона смотрели им вслед; дойдя до арки, те обернулись и помахали.
– Нам тоже надо топать отсюда, – сказал Руфус.
– Думаю, да.
Они пошли тем же путем через парк.
– У тебя замечательные друзья, Руфус. Ты счастливчик. Они по-настоящему любят тебя. Уважают.
– Ты так думаешь?
– Уверена. Это видно по тому, как они с тобой говорят, как держатся.
– Да, здесь к ним не придерешься.
Леона рассмеялась.
– Странный ты мальчик. – Но тут же поправилась: – Странный человек. Ведешь себя так, словно не знаешь, кто ты на самом деле.
– Нет, я знаю, кто я, – сказал он, не переставая чувствовать ощупывающие их взгляды, различать чуть слышный шепот, доносящийся со скамеек и с лужайки. Он плотнее сжал ее тонкую руку. – Я твой мальчик. А ты знаешь, что это значит?
– Что?
– Ты должна быть ко мне добра.
– Руфус, я только этого и хочу.
И вот теперь, изнемогая под тяжестью воспоминаний о случившемся после того памятного дня, Руфус понуро брел к 42-й улице; на углу у «Бара и Гриля» он остановился. Через стекло виднелся стоявший за прилавком продавец сандвичей, а перед ним, на мармите[3] – куски мяса. Повыше, на уровне груди, располагались полочки для хлеба, масла, горчицы, острых соусов, соли и перца. Продавец – рослый, крупный мужчина с багровым лицом, отмеченным злом и опустошенностью, – работал в белом халате. Время от времени он ловко готовил сандвич для очередного местного отщепенца. Среди последних встречались пожилые люди, уже смирившиеся со своей участью, как смирились они с тем, что у них выпали зубы, вылезли волосы, а сама жизнь прошла мимо. Молодые люди с мертвыми глазами на желтых лицах, сбившись в кучки, похохатывали; по особой расслабленности тел, вялости мускулатуры можно было прочитать историю их падения. Юнцы были легкой добычей, до которой уже мало находилось охотников, хотя сами они вряд ли догадывались об изменении своего статуса и не находили в себе сил покинуть место, где их развратили. Охотники тоже присутствовали здесь, те держались спокойнее и увереннее своих жертв. В любом городе на нашей грязной земле можно холодной ночью купить мальчишку, пообещав ему пиво и теплый ночлег.
Засунув руки в карманы, Руфус дрожал от холода и, глядя на стеклянную витрину, размышлял, что делать дальше. Он уже подумывал, не отправиться ли в Гарлем, но его страшила мысль о полицейских, которые непременно привяжутся к нему за время долгого путешествия через весь город. И еще он не представлял себе, как будет смотреть в глаза родителям или сестре. Когда он в последний раз видел Иду, то сказал ей, что они с Леоной собираются перебраться в Мексику, где их наконец оставят в покое. Но с тех пор он ни разу не был дома.
Из бара вышел белый мужчина плотного сложения – хорошо одетый, грубоватое лицо, волосы с проседью. Он остановился рядом с Руфусом, поглядывая по сторонам. Руфус не двигался с места, хотя всей душой хотел уйти, в его болезненном сознании одна мысль судорожно сменяла другую, живот скрутили голодные спазмы. Его уже второй раз прошиб пот. Частью своего существа он знал, что сейчас произойдет, и прежде, чем мужчина приблизился к нему и заговорил, что-то в нем умерло.
– Холодновато здесь, на улице. Может зайдем внутрь и выпьем вместе?
– Я бы предпочел съесть сандвич, – пробормотал Руфус и подумал: «Вот и все. Падать дальше уже некуда».
– И сандвич съешь. Почему нет? Закон этого не запрещает.
Руфус огляделся вокруг, потом взглянул в белое, как снег, ледяное лицо мужчины. Он повторял себе, что бояться нечего, это ему не в новинку, бывали и раньше трудные времена, когда приходилось уступать и идти на неприятные физические контакты, но одновременно чувствовал, что не вынесет прикосновения мужчины. Они вошли в бар.
– Какой тебе сандвич?
– Солонину на черном хлебе, – выдавил Руфус.
Они ждали, пока продавец отрежет ломоть мяса, кинет его на хлеб и положит сандвич на прилавок. Мужчина расплатился, и Руфус понес свой сандвич к бару. Ему казалось, что все вокруг знают, что совершается между ними, знают, что Руфус будет расплачиваться своей задницей. Но всем было наплевать. Никто на них даже не смотрел. В баре по-прежнему стоял гул голосов, все так же орало радио. Бармен налил Руфусу пива, а мужчине виски и пробил их заказ в кассе. Руфус старался не думать о том, что происходит. Он жадно набросился на сандвич. От сыроватого хлеба и теплого мяса его затошнило, все вдруг поплыло перед глазами, и он хлебнул пива, чтобы поскорее протолкнуть сандвич в живот.
– Ты голодал?
Руфус, сказал он себе, не смей устраивать скандал. Ни за что. Не бросайся на этого человека. Просто уйди.
– Хочешь еще сандвич?
Руфус отчаянно боролся с первым, к горлу подкатывала тошнота. В баре стоял густой запах перестоявшего пива, мочи, тухлого мяса и потных тел.
Он чувствовал, что сейчас разрыдается.
– Нет, спасибо, – ответил он. – Больше не могу.
– Тогда еще пива?
– Нет, спасибо.
Дрожа всем телом, он уронил голову на стойку.
– Эй!
Яркий свет ослепил его, стены бара вдруг накренились, лица поплыли, сливаясь в одно, звуки радио били по мозгам. Лицо мужчины оказалось совсем близко: холодные глаза, тяжелый нос, грубые, чувственные губы. От него разило потом. Руфус инстинктивно отпрянул.
– Все в порядке.
– По-моему, ты на минуту вырубился.
Бармен заинтересованно смотрел на них.
– Тебе лучше выпить чего-нибудь покрепче. Эй, парень, налей-ка ему.
– А вы уверены, что он здоров?
– Да, здоров. Я его знаю. Дай ему выпить.
Бармен налил и поставил перед Руфусом порцию виски. Глядя на слабо мерцавшую в рюмке жидкость, Руфус молился: Боже, не дай этому случиться. Не допусти, чтобы я пошел с этим мужчиной к нему домой. У меня так мало осталось в жизни, Боже, не дай утратить все.
– Пей! Это пойдет тебе на пользу. А потом пойдем ко мне, там ты хорошо выспишься.
От выпитого виски Руфус поначалу ощутил еще большую слабость, но потом по телу разлилось приятное тепло. Он распрямил плечи.
– Вы живете неподалеку? – спросил Руфус мужчину. Только попробуй прикоснись ко мне, подумал он, и те же необъяснимые слезы готовы были вот-вот брызнуть из его глаз. Живого места на тебе не оставлю. Никто меня больше не будет лапать, никто, никто, никто.
– Можно сказать, по соседству. На 46-й улице.
Выйдя из бара, они вновь очутились на ночной улице.
– В этом городе чувствуешь себя одиноко, – проговорил мужчина, шагая рядом. – Я очень одинок. А ты?
Руфус промолчал.
– Может, мы сможем утешить друг друга этой ночью?
Руфус видел перед собой горящие светофоры, темные, почти пустые улицы, молчаливые черные здания, мрачные дыры подъездов.
– Ты меня понимаешь?
– Я не тот, кто вам нужен, мистер, – проговорил он с трудом и вдруг вспомнил, что именно эти слова он когда-то сказал Эрику.
– Как ты можешь знать, тот или не тот? – Мужчина вымученно рассмеялся. – Разве не мне судить?
– Мне нечего предложить вам, – ответил Руфус. – Я никому ничего не могу предложить. Не заставляйте меня. Пожалуйста.
Они стояли на пустой улице, глядя друг на друга. Глаза мужчины сузились от гнева.
– А о чем ты думал раньше, там, в баре?
Руфус сказал:
– Я хотел есть.
– Ты что, динамо привык крутить?
– Я хотел есть, – повторил Руфус. – Хотел есть.
– Разве у тебя нет семьи, друзей?
Руфус опустил глаза. Некоторое время молчал, потом сказал:
– Я не хочу умирать, мистер. И вас убивать не хочу. Позвольте мне идти своим путем – к друзьям.
– А ты знаешь, где их найти?
– Знаю… по крайней мере одного.
Оба молчали. Руфус глядел в сторону; незаметно для него слезы подступили к глазам и поползли по крыльям носа.
Мужчина взял его за руку.
– Пойдем, ну пойдем же ко мне.
Однако оба чувствовали, что момент упущен. Мужчина отпустил его руку.
– Красивый ты мальчик, – сказал он.
Руфус уже двинулся прочь.
– Прощайте, мистер. И спасибо.
Мужчина ничего не ответил. Руфус остановился и проводил взглядом его удалявшуюся фигуру.
Потом повернулся и пошел в другую сторону, в центр города. Впервые за долгое время он вспомнил об Эрике. И подумал, что, может, и он вот так же рыскает этой ночью в поисках добычи где-то на чужих улицах. Он только сейчас осознал всю глубину одиночества Эрика, необычную природу этого одиночества, многие опасности, которые отсюда проистекали, и искренне пожалел, что не был с ним чуть добрее. Сам Эрик всегда был очень добр к нему. Он заказал дорогие запонки ко дню рождения Руфуса, потратив деньги, отложенные на покупку обручальных колец, и этот дар, это признание в любви целиком отдали его во власть Руфуса. В глубине души он презирал Эрика: тот был родом из Алабамы; возможно, и любить себя позволял, чтобы еще полнее его презирать. Когда Эрик это понял, то бежал от Руфуса, бежал далеко – в Париж. Но сейчас его мятущиеся глаза, ярко-рыжие волосы, манера растягивать слова, все это вдруг вспомнилось Руфусу, и сердце его сжалось.
Не тяни, расскажи мне все. Чего ты боишься?
Но Эрик колебался, и тогда Руфус, лукаво улыбаясь и не сводя с него глаз, добавил: «Ты ведешь себя как маленькая девочка».
Даже сейчас сладко защемило сердце при воспоминании, как легко ему удалось вызвать Эрика на откровенность. Когда тот закончил исповедь, Руфус медленно проговорил:
– Я не тот, кто тебе нужен. Никогда этим не занимался.
Эрик положил свою руку рядом с его рукой и задумчиво уставился на них – розоватую и коричневую.
– Я знаю, – сказал он.
Потом отошел на середину комнаты.
– Ничего не могу с собой поделать. Мечтаю о тебе. Может, попробуешь? – И затем со страшным усилием – Руфус угадывал эту невыразимую муку в его голосе и прерывистом дыхании: – Я сделаю все. Буду изобретательным. Все, чтобы доставить тебе радость. – И с улыбкой: – Я ведь не намного старше тебя. И не так уж опытен.
Улыбаясь, Руфус следил за ним. Он чувствовал прилив нежности к Эрику. И одновременно сознание своей власти над ним.
Он приблизился к Эрику и положил руки ему на плечи, еще не зная, что собирается говорить или делать. Но когда Руфус ощутил плечи Эрика под своими руками, на него вдруг неожиданно, с некой, как будто дремавшей где-то ранее и испугавшей его самого силой нахлынуло любовное чувство, а вместе с ним любопытство и горделивое ощущение власти, руки же, которые должны были удерживать Эрика на расстоянии, сами собой притянули его, и стало ясно, что остановить этот мощный чувственный поток нельзя.
Все еще улыбаясь, он наконец проговорил хрипловатым голосом:
– Я, пожалуй, рискну разок, старик.
Сейчас эти запонки хранились в Гарлеме, в письменном столе Иды. После того как Эрик уехал, Руфус позабыл их ссоры, физическую неловкость интимных отношений, а также способы, которыми заставлял Эрика расплачиваться за наслаждение – безразлично, получал его или давал. Он помнил только одно – Эрик любил его, так же как теперь помнил, что его любила Леона. Руфус выражал свое презрение к Эрику, обращаясь с ним как с женщиной и постоянно повторяя, насколько тот уступает женщине и вообще представляет из себя в сексуальном отношении невероятного урода. Но Леона-то не была уродом. И все же он награждал ее теми же оскорбительными эпитетами, что и Эрика, и так же, как прежде, ощущал при этом страшный шум в голове и невыносимую тяжесть в груди.
Вивальдо жил один на первом этаже дома, расположенного на Бэнк-стрит. Он был у себя – в его окне горел свет. Руфус замедлил было шаг, но пронизывающий, холодный ветер решил дело, и он поспешно вошел в незапертую дверь подъезда, думая: ну что ж, значит, надо пройти и через это. И забарабанил в дверь квартиры Вивальдо.
Стук пишущей машинки, слышный с лестницы, умолк. Руфус постучал снова.
– Кто там? – послышался встревоженный голос Вивальдо.
– Это я, Руфус.
Яркий свет, бьющий из раскрытой двери, и лицо Вивальдо явились для него шоком.
– Боже мой, – только и сказал Вивальдо.
Обхватив Руфуса за шею, он втянул его в квартиру и не отпускал. Некоторое время они стояли не двигаясь, прислонившись к закрытой двери.
– Боже мой, – повторил Вивальдо. – Где же тебя носило? Ты что, не понимаешь, что так поступать нельзя? Ты всех нас до смерти напугал, старина. Где только тебя не искали!
Шок от встречи был словно удар под дых, и Руфус весь обмяк. Он стоял, прильнув к Вивальдо, будто они были связаны одной веревкой. Потом отстранился.
Вивальдо внимательно окинул его взглядом. По выражению его лица Руфус понял, как скверно выглядит. И поспешил укрыться от проницательных глаз Вивальдо в глубине квартиры.
– Ида приходила ко мне, она на грани безумия. Ты хоть знаешь, что со времени твоего исчезновения прошел месяц?
– Да, – сказал Руфус, тяжело опускаясь в кресло, которое осело под ним почти до самого пола. Комната, в которой он так часто бывал, казалась теперь незнакомой.
Он откинулся в кресле, закрыв руками глаза.
– Сними куртку, – сказал Вивальдо. – Пойду посмотрю, нет ли чего поесть, ты ведь голоден?
– Сейчас уже нет. Скажи лучше, как Ида?
– Беспокоится за тебя ужасно, но в остальном все нормально. Налить тебе выпить?
– Когда она приходила?
– Вчера. А сегодня звонила. Она заявила в полицию. Все встревожены, Кэсс, Ричард, все…
Руфус выпрямился в кресле.
– Меня ищет полиция?
– Ну, старик, ты же понимаешь, черт подери, что люди просто так не исчезают.
Вивальдо прошел на свою крошечную, захламленную кухоньку и распахнул холодильник, где сиротливо стояли кварта молока и половинка грейпфрута. Некоторое время он беспомощно созерцал их, потом захлопнул дверцу.
– Нужно пойти куда-нибудь поесть. У меня, оказывается, ничего нет. А вот выпить можешь – есть немного виски.
Вивальдо наполнил две рюмки, одну передал Руфусу, а с другой уселся на стул с прямой спинкой.
– Ну, вздрогнули. Где же ты был все это время, что делал?
– Слонялся по улицам.
– Господь с тобою, Руфус, в такую погоду? А спал где?
– Где придется. В метро, в подземных переходах. Иногда в кино.
– А что ел?
Руфус сделал глоток. Может, было ошибкой приходить сюда?
– Ну, – пробормотал он, удивляясь, что говорит правду, – приходилось иногда подставлять зад.
Вивальдо пристально посмотрел на него.
– Полагаю, тебе пришлось выдержать жестокую конкуренцию. – Он закурил, а остальную пачку и спички бросил Руфусу. – Надо было сообщить о себе хоть кому-то, дать знать, что происходит.
– Я… не мог. Правда не мог.
– А мне казалось, что мы друзья, ты и я.
Руфус поднялся с кресла и, держа в руке незажженную сигарету, принялся обходить комнату, трогая разные вещи.
– Не помню. Не знаю, о чем я думал. – Он закурил. – Но помню, как обошелся с Леоной. Не совсем еще свихнулся.
– И я помню, как ты обошелся с Леоной. Тоже не совсем свихнулся.
– Понимаешь, я не думал…
– О чем?
– Что кто-то будет беспокоиться обо мне.
Воцарилось гробовое молчание. Вивальдо встал и направился к проигрывателю.
– Ты, значит, не догадывался, что Ида будет беспокоиться? Что я буду, тоже не догадывался?
Руфус чувствовал, что задыхается.
– Я не знаю. Не помню ничего.
Вивальдо промолчал. Лицо его побелело от гнева, перебирая пластинки, он старался успокоиться. Наконец выбрал одну и поставил на проигрыватель. Это была пластинка с блюзами Джеймса Пита Джонсона и Бесси Смит «Тихая заводь».
– Ну раз так, – растерянно произнес Вивальдо и снова сел.
Помимо проигрывателя, в комнате находилось не так уж много вещей: торшер-самоделка, стоявшие на кирпичах книжные полки, пластинки, провислая кровать, треснувшее кресло и стул с прямой спинкой. Перед письменным столом, за которым работал Вивальдо, стоял высокий табурет, на него-то и взгромоздился сейчас хозяин дома; жесткие курчавые волосы падали ему на лоб, глаза омрачились, уголки рта опустились вниз. На столе лежали карандаши, бумага, стояли пишущая машинка и телефон. В нише, где была устроена кухонька, горел верхний свет. В раковине горой свалена грязная посуда, поверх нее – консервные банки, некоторые открыты вкривь и вкось. К одной из шатких ножек кухонного столика прислонен бумажный мешок с мусором.
Тысячам людей, пела Бесси, негде преклонить голову, и Руфус впервые услышал в нарочитой монотонности этого блюза нечто, чему раскрылось навстречу его исстрадавшееся сердце. Фортепьяно соглашалось с истинностью стоических и ироничных откровений певицы. Сейчас, когда Руфусу тоже негде было преклонить голову – потому что дом мой рухнул и в нем нельзя больше жить, пела Бесси, – он по-новому прочувствовал слова блюза и интонацию певицы, и ему захотелось понять, как другие справляются с чудовищной пустотой и кошмаром, заслоняющими от человека весь остальной мир.
Вивальдо не спускал с него глаз. Потом, откашлявшись, произнес:
– Может, тебе стоит сменить обстановку, Руфус? Все вокруг будет напоминать тебе о прежнем, иногда полезнее забыть прошлое и начать все сначала. А что, если тебе поехать на Тихоокеанское побережье?
– Чего я там не видел?
– Многие музыканты ездят туда.
– Там тоже находятся любители чужих задов, как и в Нью-Йорке. Никакой разницы.
– Говорю тебе, там здорово работается. Ты можешь почувствовать себя лучше – сам понимаешь, солнце, апельсины и все такое. – Вивальдо улыбнулся. – Станешь новым человеком, старик.
– Вижу, ты считаешь, – зло сказал Руфус, – что мне пора становиться другим человеком.
Минуту они молчали. Потом Вивальдо произнес:
– Не столько я, сколько ты сам так считаешь.
Руфус смотрел на этого высокого, худощавого, нескладного, белокожего молодого человека, своего лучшего друга, борясь с острым желанием причинить ему боль.
– Руфус, – вдруг снова заговорил Вивальдо, – поверь, я знаю… знаю, что тебя мучает множество вещей, которых я не могу до конца понять. – Он рассеянно постукивал по клавиатуре машинки. – Я даже не могу понять некоторых вещей, мучающих меня самого.
Руфус уселся на краешек растрескавшегося кресла, мрачно глядя на Вивальдо.
– Ты обвиняешь меня в том, что случилось с Леоной?
– Руфус, ну какой смысл в моих обвинениях? Ты сам осудил себя и осудил жестоко – отсюда все твои мучения, так зачем же еще мне винить тебя?
Но Руфус понимал, что Вивальдо пытается уклониться от ответа на прямой вопрос.
– Нет, все-таки скажи, обвиняешь или нет? Только говори правду.
– Руфус, не будь я твоим другом, то, без сомнения, винил бы тебя. Ты вел себя как последний негодяй. Но я понимаю, почему так случилось, вернее, думаю, что понимаю, пытаюсь понять. Кроме того, ты мой друг, и потому, будем смотреть правде в глаза, значишь для меня несравненно больше, чем Леона, и, конечно, я не стану читать тебе мораль из-за того, что ты вел себя как сукин сын. Все мы сукины дети. Потому мы так нуждаемся в друзьях.
– Хотелось бы мне объяснить тебе, как обстояло дело, – сказал, помолчав, Руфус. – Если б только можно было все вернуть.
– Но этого-то как раз и нельзя. Поэтому, пожалуйста, постарайся все забыть.
Руфус задумался. Нет, невозможно забыть ту, с которой так сроднился и которая так льнула к тебе. Разве можно забыть то, что постоянно мучает тебя, колет в самое сердце, делает другим весь мир? Невозможно забыть человека, которого убил.
Отхлебнув виски, он подержал спиртное во рту, а потом медленно проглотил. Никогда не сможет он забыть светлые испуганные глаза Леоны, нежную улыбку, печальную, протяжную интонацию ее голоса, хрупкое, ненасытное тело.
Поперхнувшись и закашлявшись, он отставил рюмку и затушил сигарету в грязной, переполненной окурками пепельнице.
– Думаю, ты мне не поверишь, но я по-настоящему любил Леону. Это правда.
– В том-то и дело, – сказал Вивальдо, – что я верю тебе. Потому положение и выглядит таким отчаянным.
Встав с табурета, он перевернул пластинку. В тишине снова зазвучал голос Бесси Смит.
В пустой постели мне так одиноко.
– О, пой еще, Бесси, – пробормотал Вивальдо.
Даже пружины заржавели от пустых, одиноких ночей.
Руфус потянулся за рюмкой и допил виски.
– Тебе знакомо чувство, когда кажется, что женщина пожирает тебя? Не потому, что она плохая или что-то не так делает, а просто потому, что она женщина?
– Знакомо, – ответил Вивальдо.
Руфус встал. Прошелся по комнате.
– Она иначе не может. Ты – тоже. И вот результат… – Он помолчал. – Конечно, у нас с Леоной было еще много другого…
Потом они надолго замолчали. Слушали Бесси.
– Тебя никогда не тянуло стать голубым? – неожиданно спросил Руфус.
Вивальдо улыбнулся, глядя в свой стакан.
– Я даже считал себя голубым в душе. Черт подери, и даже хотел этого. – Он засмеялся. – Но нет, я не голубой. Так уж я устроен.
Руфус направился к окну.
– Так, значит, мы с тобой болтаемся в одной лодке, – сказал он.
– Все мы там болтаемся. Не так уж много этих лодок. Просто нас с детства приучают ко лжи, мы врем так много, что не знаем, на каком мы свете.
Руфус промолчал. Он по-прежнему мерил шагами комнату.
Вивальдо продолжал:
– Думаю, тебе стоит пожить у меня пару деньков, собраться с мыслями и решить, что делать дальше.
– Мне не хочется стеснять тебя, Вивальдо.
Вивальдо взял пустую рюмку Руфуса и направился в кухню. На пороге остановился.
– Будешь лежать здесь утром и смотреть в потолок. Он весь в трещинах, они образуют разные причудливые картинки и, может, расскажут тебе то, что утаили от меня. Пойду плесну еще.
И тут Руфус вновь почувствовал, что задыхается.
– Спасибо, Вивальдо.
Вивальдо достал лед и разлил виски по рюмкам. Потом вернулся с ними в комнату.
– Ну, давай. За все то, чего мы еще не знаем.
Они выпили.
– Ну и поволновался я за тебя, – сказал Вивальдо. – Рад, что ты пришел ко мне.
– Я тоже рад тебя видеть, – сказал Руфус.
– Твоя сестра оставила номер телефона, просила позвонить, если я что-нибудь узнаю. Это телефон вашей соседки. Пожалуй, сейчас и позвоню.
– Не надо, – попросил Руфус. – Слишком поздно. Лучше я утром сам к ним зайду. – Эта мысль, мысль о том, что утром он увидит родителей и сестру, отрезвила его. Он опять уселся в кресло и, откинувшись, закрыл лицо руками.
«Руфус, – часто повторяла Леона, – поверь, нет ничего плохого в том, что ты цветной».
Иногда, услышав эти слова, он только бросал на нее ледяной отрешенный взгляд, словно не мог уразуметь, что такое она там вещает. Его глаза обвиняли Леону в невежестве и равнодушии. А ее глаза, встретив этот взгляд, наливались тоской, отчаянием, и еще в них загоралось жгучее желание.
Руфус же все откладывал выход на работу, а потом стал бояться даже мысли об игре на публике.
Раз на ее слова, что нет ничего позорного быть цветным, он ответил:
– Конечно, если ты нищая белая леди.
Услышав это впервые, Леона только поморщилась, как от боли, но ничего не сказала. Во второй раз дала ему пощечину. Он ответил тем же. Между ними началась непрерывная война. В ход шло все, оружием становились руки, голос, тело, одна ссора походила на другую. Часто, сидя неподвижно в кресле, закрыв лицо руками и слушая музыку, вспоминал Руфус, он внезапно срывался с места, швырял испуганную, заливающуюся слезами Леону на кровать или на пол, пригвождал ее к столу или стене, она, бесконечно жалкая, слабо, со стоном отбивалась, а он, запустив пальцы в ее длинные белокурые волосы, брал ее тем способом, который представлялся ему особенно унизительным. Находясь в близости с ней, он не чувствовал никакой любви; опустошенный, трясущийся, неудовлетворенный, он сбегал от изнасилованной им белой женщины и отправлялся бродить по кабакам. Там никто не аплодировал его победе, но и не осуждал. Руфус начал задираться с белыми мужчинами. Его выбрасывали из баров. В глазах друзей он читал, что летит в пропасть. Сердце вопило о том же. Но сам воздух вокруг был тюрьмой, и, падая, он не мог даже поглубже вдохнуть, чтобы, закричав, позвать на помощь.
И вот он на самом дне. С какой-то стороны даже хорошо, думал он: падать дальше некуда. Но, как он ни уговаривал себя, эта мысль не приносила стойкого утешения. Где-то в груди зрело подозрение, что дна как такового не существует.
– Я не хочу умирать, – неожиданно услышал он себя со стороны и заплакал.
Безумно громко и как бы в отдалении продолжала греметь музыка. В лицо жаркой волной бил яркий свет. Руфус весь покрылся испариной, тело зудело, от него шел нестерпимый запах. Вивальдо стоял рядом и гладил Руфуса по голове, его свитер мешал Руфусу дышать. Он плакал, не в силах остановиться, встать, вдохнуть воздух полной грудью, он мог только сидеть вот так, зарыв лицо в ладони. Вивальдо прошептал: «Все хорошо, старик, поплачь, облегчи душу». Руфус хотел подняться, вздохнуть свободно, но в то же самое время его тянуло броситься плашмя на пол и забыться, избавиться от невыносимой боли.
Но, пожалуй, первый раз в жизни он знал наверняка: эта боль – он сам, каждый дюйм его тела. Как и все люди, он состоит из мяса, костей, мышц, жидкости, волос, кожи, в его плоти, как и у всех, несколько отверстий. Тело его подчиняется каким-то ему неведомым законам. Руфус не понимал их, не понимал и того, что за сила привела его к такому полному одиночеству. Но за какую-то долю секунды непостижимое таинство свершилось в его душе, призвав к примирению. А музыка все плыла. Бесси пела теперь, что согласна жить в тюрьме, но не так же долго!
– Я виноват, – сказал Руфус, поднимая голову.
Вивальдо подал ему платок. Руфус вытер глаза и высморкался.
– Чего уж тут виниться, – отозвался Вивальдо. – Радоваться надо, что так все кончилось. – Он немного помолчал, склонившись над Руфусом, а потом прибавил: – Надо бы тебя вытащить отсюда и накормить пиццей. Ты голодный, старик, отсюда и все проблемы. – И он отправился на кухню умыться. Руфус наблюдал с улыбкой, как друг плещется, согнувшись над раковиной, при тусклом свете лампочки.
Кухня Вивальдо напомнила Руфусу ту, которая была у них с Леоной на Сент-Джеймс-стрит. Эта квартирка на краю острова стала их последним совместным жилищем. Когда Руфус бросил работу, деньги быстро кончились, в ломбард нести было уже нечего, и они жили на жалованье, которое платили в ресторане Леоне. Но потом и она потеряла работу: ей все труднее стало приходить вовремя на службу из-за постоянных пьянок дома, да и вид у нее становился все потрепаннее. Однажды вечером полупьяный Руфус зашел за ней в ресторан, и уже на следующий день ее уволили. Больше она так и не нашла постоянной работы.
Как-то на последней квартире их навестил Вивальдо. За окном круглые сутки раздавались гудки барж. Леона сидела на полу в ванной с грязным и опухшим от слез лицом, растрепанные волосы свисали на глаза. Руфус избил ее. Сам он с угрюмым видом сидел на постели.
– За что он тебя? – вырвалось у Вивальдо.
– Не знаю, – рыдала Леона. – Я ни в чем не виновата. Он всегда колотит меня просто так, ни за что. – Она судорожно глотала воздух, приоткрыв как ребенок рот. В тот момент Вивальдо ненавидел Руфуса, и тот это понял. – Он говорит, что я сплю за его спиной с другими цветными парнями, но это неправда, клянусь, это неправда!
– Руфус знает, что это неправда, – сказал Вивальдо. – Он взглянул на друга – тот по-прежнему молчал – и вновь перевел взгляд на Леону. – Поднимайся, Леона. Вставай. Умой лицо.
Войдя в ванную, он помог ей подняться и пустил воду.
– Хватит, Леона. Соберись. Будь умницей.
Она силилась подавить рыдания, брызгая себе в лицо водой. Вивальдо ласково похлопал Леону по плечу, очередной раз поразившись хрупкости ее фигурки, и прошел в спальню.
Руфус волком зыркнул на него.
– Это мой дом, – рявкнул он, – и девушка тоже моя! Ты здесь третий лишний. Лучше выматывайся отсюда подобру-поздорову.
– Тебя ведь, дурака, пришить могут, – сказал Вивальдо. – Стоит ей только пикнуть. Или стоит мне завернуть за угол и пригласить сюда первого встречного полицейского.
– Ты что, пытаешься запугать меня? Иди, веди своего полицейского.
– Ты в своем уме? Да он глянет на эту сцену с порога и тут же заберет тебя в кутузку. – Вивальдо снова направился в ванную. – Собирайся, Леона. Надень пальто. Я увезу тебя отсюда.
– Я еще в своем уме, – зашипел Руфус, – а вот в каком ты – не знаю. Куда ты хочешь отвести Леону?
– Мне некуда податься, – пробормотала Леона.
– Можешь пожить у меня, пока не подберешь себе что-нибудь получше. Здесь я тебя не оставлю.
Руфус откинул голову назад и расхохотался. Вивальдо и Леона повернулись в его сторону. А он тем временем уже орал, уставившись в потолок:
– Он приходит в мой дом и уводит мою девушку в полной уверенности, что жалкий черномазый, конечно же, спустит это ему с рук! Ну не сукин сын?
И, дико хохоча, он повалился набок.
Вивальдо крикнул:
– Руфус! Что с тобой? Руфус!
Руфус резко оборвал смех и снова принял сидячее положение.
– Я только хочу знать! Кому ты морочишь голову? Уж мне-то известно, что в твоей квартире только одна кровать.
– Бог с тобой, Руфус, – всхлипывала Леона. – Вивальдо только хотел помочь.
– А ты заткнись, – оборвал Руфус девушку, грозно взглянув на нее.
– Не все животные, – пробормотала она.
– Ты хочешь сказать – как я?
Она промолчала. Вивальдо следил за ними, ничего не говоря.
– Ты хочешь сказать, как я, сука? Или – как ты?
– Пусть я животное, – вспыхнула Леона, осмелев от присутствия Вивальдо, – но я хочу знать, кто сделал меня такой. Ответь!
– Ясно – кто. Твой муж, сука. Сама говорила, что трахало у него большое, как у коня. Сама рассказывала, как он тебя уделывал и все похвалялся, что у него самое большое трахало на Юге – и среди белых, и среди негров. По твоим словам, все это было невыносимо. Ха-ха! Ничего смешнее отродясь не слышал.
– Вижу, – устало сказала Леона, помолчав, – много лишнего я тебе наговорила.
Руфус фыркнул.
– Да уж. – Он говорил, обращаясь неизвестно к кому: Вивальдо, комнате, реке? – Эту суку испортил ее муж. Муж и все те трусливые черномазые, что трахали ее под кустами в Джорджии. Из-за этого ее муж и прогнал. Взяла бы да и рассказала всю правду. Тогда никто бы тебя не бил. – Он осклабился в сторону Вивальдо. – Старик, эту курочку нельзя удовлетворить, – хохотнул он, но осекся, взглянув на Леону.
– Руфус, – произнес Вивальдо, стараясь говорить как можно спокойнее. – Не понимаю, к чему ты клонишь. Похоже, ты сошел с ума. У тебя чудесная девушка, которая пойдет за тобой на край света, и тебе это известно, а ты ведешь себя как герой «Унесенных ветром». Не случилось ли у тебя что-нибудь с головой? – Он вымученно улыбнулся. – Старик, кончай ты все это. Слышишь?
Руфус молчал. Теперь он сидел на постели в той же позе, в какой его застал Вивальдо.
– Пойдем, Леона, – сказал Вивальдо, и тут Руфус встал, глядя на них с легкой улыбкой, в которой читалась неприкрытая ненависть.
– Я заберу ее на несколько дней – поостыньте оба. Так дальше дело не пойдет.
– Сэр Уолтер Рэли[4] с дымящимся членом наперевес, – ухмыльнулся Руфус.
– Послушай, – разозлился Вивальдо. – Вижу, ты мне не доверяешь. Так вот, я сниму дешевую комнату у «Христиан»[5]. Или приду сюда. Какого черта! – заорал он. – Не собираюсь я уводить твою девушку. Ты что, не знаешь меня?
Руфус вдруг заговорил нарочито смиренно, но с потаенной угрозой.
– Ну, конечно, она ведь недостаточно хороша для тебя.
– О, черт! Да это ты так считаешь! Что она недостаточно хороша для тебя!
– Нет, – вмешалась Леона, и мужчины посмотрели в ее сторону. – Вы оба неправы. Руфус думает, что он недостаточно хорош для меня.
Они с Руфусом жгли друг друга взглядами. Послышался отдаленный гудок баржи. Руфус криво усмехнулся.
– Видишь? Ты первая начинаешь. Всегда ты. Разве можно с тобой после этого иметь дело?
– Тебя так воспитали, – сказала она. – Ты просто другого не понимаешь.
Вновь воцарилась тишина. Леона сжала губы, а глаза ее наполнились слезами. Чувствовалось, что она всем сердцем хотела бы, чтобы ее последние слова не были произнесены, хотела бы вернуть назад прошлое, начать все сначала. Но она не знала, что сказать, и молчание затягивалось. Руфус скривил рот.
– Катись отсюда, дешевка, – бросил он, – займись любовью с этим итальяшкой. Только проку не будет. Вот уж нет. Опять ко мне приползешь. Будешь бегать за мной как пришитая. – И он уткнулся лицом в одеяло. – Наконец-то я высплюсь по-человечески.
Вивальдо подтолкнул Леону, а сам, пятясь к двери, не сводил глаз с Руфуса.
– Я сразу же вернусь, – сказал он.
– Только посмей, – отозвался Руфус. – Убью на месте.
Леона бросила на Вивальдо умоляющий взгляд – не надо перечить, и они вышли из квартиры.
– Леона, – спросил Вивальдо уже на улице, – давно у вас так? Почему ты это терпишь?
– А почему, – устало задала Леона встречный вопрос, – люди вообще терпят? Наверное, просто не знают, как быть. Так и я. Клянусь Богом, я ума не приложу, что мне делать. – Она снова заплакала. На улице было темно и пустынно. – Ведь он болен, я все ждала, что ему станет получше, а к доктору он обращаться не хочет. Он знает, что я не делаю этих гадких вещей. Знает, а все равно говорит.
– Так продолжаться не может, Леона. Он убьет и тебя и себя!
– На той неделе он подрался в метро с одним парнем, несчастным человеком, которому не понравилось, что мы идем вместе. И что ты думаешь? Он обвинил во всем меня. Сказал, что я заигрывала с этим бедолагой. Клянусь, Вив, я даже не замечала его, пока он не открыл рот. Но Руфус все время ждет, что такое случится, видит оскорбление там, где его нет и в помине, не замечает ничего другого. Повторяет, что я разбила ему жизнь. Хотя, по совести, мне он тоже не принес много добра.
Она вытерла рукой слезы. Вивальдо дал ей свой платок и обнял одной рукой за плечи.
– Жизнь и так достаточно сложна, и людей плохих хватает, так чего же еще искать хлопот? Зачем напрашиваться на неприятности? Я много раз твердила ему, что знаю полно людей, которые меня терпеть не могут. Но мне на них наплевать. Пусть живут как хотят. А я буду жить своей жизнью.
Полицейский, проходя мимо, внимательно посмотрел на них. Вивальдо почувствовал, как по телу Леоны прошла дрожь. Ее испуг передался ему. Никогда раньше не испытывал он страха перед полицейскими – просто глубоко их презирал. А вот теперь его охватила дрожь при виде обезличенного формой человека на пустой улице. Он представил себя на месте Руфуса. Что сказал бы полицейский и что бы сделал, встреть он Руфуса здесь, в обнимку с Леоной?
Однако уже минуту спустя Вивальдо говорил:
– Тебе нужно оставить его. И уехать из города.
– Да пойми ты, Вив, я надеюсь, что все образуется. Когда я познакомилась с ним, он был совсем другой, ничего похожего. И сейчас, верю, таким в душе остается. У него просто что-то сместилось в голове, и он никак с этим не справится.
Они остановились под фонарем. Горе сделало ее измученное лицо невыразимо прекрасным. Слезы струились по впалым щекам, она пыталась совладать с собой, но безуспешно – ее губы, губы маленькой девочки, непроизвольно дергались.
– Я люблю его, – беспомощно говорила она. – Люблю. И ничего не могу с собой поделать. Как бы он со мной ни обращался. Он просто запутался и бьет меня, потому что под рукой нет никого другого.
Вивальдо притянул к себе тоненькую, как тростинка, рыдающую девушку – ни в чем не повинную жертву, расплачивающуюся за грехи предыдущих поколений. Он не находил слов утешения. К нему вдруг пришло ужасное прозрение. Впереди, в отдалении, слабо обозначились неясные опасности, тайные бездны, о которых он раньше даже не подозревал.
– Вот и такси, – сказал он.
Она отстранилась от него и опять принялась утирать слезы.
– Я отвезу тебя и сразу вернусь, – сказал он.
– Нет, – возразила Леона, – просто дай ключи. За меня не беспокойся. Иди скорее к Руфусу.
– Он обещал убить меня, – сказал Вивальдо с кривой улыбкой.
Такси затормозило рядом с ними. Вивальдо передал Леоне ключи. Она распахнула дверцу, слегка отвернувшись, чтобы водитель не видел ее заплаканного лица.
– Руфус не может никого убить, – сказала Леона, – разве что себя, если рядом не будет друга. – Уже садясь в машину, она немного помедлила. – Кроме тебя, Вивальдо, у него больше нет друзей на этом свете.
Он дал ей денег на дорогу и посмотрел на нее взглядом, выражение которого теперь, после нескольких месяцев знакомства, было ясно обоим. Они оба любили Руфуса. И оба были белые. Сейчас, когда столь ужасным образом обозначилось это противостояние, они как никогда не хотели об этом говорить. И каждый знал, что другой думает о том же.
– Значит, едешь? – спросил он. – Прямо ко мне?
– Да. А ты возвращайся к Руфусу. Может, сумеешь помочь ему. Ему нужна помощь.
Вивальдо назвал шоферу адрес и проводил взглядом отъехавшую машину. Потом повернулся и пошел тем же путем обратно.
Теперь, когда он остался один, дорога показалась ему дольше, а сама улица темнее. Ощущение, что где-то рядом, в темноте, рыщет полицейский, делало тишину почти зловещей. Ему стало не по себе, появилось ощущение смутной угрозы. Он почувствовал себя чужим в этом городе, где родился и к которому испытывал иногда нечто вроде симпатии – ведь другой родины у него не было. Но настоящего дома он здесь так и не обрел – разве можно назвать домом дыру на Бэнк-стрит? И все же он всегда надеялся, что когда-нибудь у него будет в этом городе настоящий дом. А вот теперь засомневался, можно ли пустить корни на камнях, или, точнее, стал догадываться, какими становятся те, кто пустил-таки эти корни. И задумался: не меняется ли он сам?
Вивальдо всегда считал, что его уединенная жизнь говорит о некоем превосходстве над остальными. Но другие, вполне заурядные люди тоже были очень одинокими, они не могли разорвать путы сиротства хотя бы потому, что не имели для этого нужных качеств. А сейчас его собственная одинокость, усилившаяся вдруг в миллионы раз, заставила ночной воздух казаться еще холоднее. Ему вспомнилось, до каких крайностей доводил его этот индивидуализм, в какие жуткие ловушки и западни он попадал, и он задал себе вопрос, куда приведет родной город эта витающая над ним страшная опустошенность?
Подходя к дому Руфуса, Вивальдо изо всех сил отгонял мысли о друге.
Он шел по району, где размещались склады. Жилых домов было немного. В дневное время здесь взад-вперед сновали грузовики, и грузчики, смачно ругаясь, снимали с машин и грузили неподъемные тяжести. В прошлом Вивальдо в течение довольно долгого времени тоже работал грузчиком. Он гордился своей ловкостью и крепкими мускулами и радовался тому, что работает как равный среди настоящих мужчин. Однако грузчики не принимали Вивальдо за своего, было в нем нечто такое, что мешало этому. Время от времени то один мужчина, то другой, закуривая сигарету, вдруг бросал на него насмешливый взгляд. За улыбкой скрывалась идущая из глубины существа враждебность, своего рода самозащита. Они звали его «головой», говорили, что он «далеко пойдет», тем самым подчеркивая, что его место не здесь, а уж куда он пойдет – не их забота.
Но как Вивальдо ни отгонял мысли о Руфусе, они все глубже впивались в его сознание и причиняли боль. В школе, где он учился, было несколько цветных ребят, но они, как он помнил, всегда держались отдельно. Вивальдо знал, что некоторые парни сбивались в банды, вылавливали на улице чернокожих сверстников и жестоко избивали их. Вряд ли возможно и, конечно, совсем несправедливо, чтобы все эти битые в школе цветные выросли во взрослых мужчин, которые только и искали бы, кого отдубасить, в том числе и тех, или особенно тех, кто их и в мыслях никогда не обижал.
В окне Руфуса горел свет – единственный огонек во всем доме.
Вивальдо вдруг вспомнился случай, произошедший с ним года два или три назад. Тогда он проводил много времени в Гарлеме, бегая за тамошними шлюхами. Раз вечером он шел по Седьмой авеню, направляясь в жилые кварталы. Моросило. Вивальдо торопился: надвигалась ночь, в этой части улицы почти не встречались прохожие, и он боялся, что его остановит полицейская патрульная машина. На 116-й улице он заскочил в бар, сознательно выбрав тот, где раньше не бывал. Попав в новое место, Вивальдо почувствовал себя непривычно скованно, не понимая, что таится за выражениями лиц местных завсегдатаев. Что бы там ни было, скрывалось это отменно. Люди пили, болтали, кидали монеты в музыкальный автомат. Он не видел, чтобы его присутствие кого-нибудь стесняло или заставляло придержать язык. Никто, однако, не заговаривал с Вивальдо, а если кто-нибудь случайно встречался с ним глазами, то взгляд гостя тут же странно стекленел. Даже если он в тот момент улыбался. И бармен, посмеявшись шутке Вивальдо и пододвинув к нему рюмку, всем своим видом показывал, что разделяющая их стойка как бы символизирует несравненно большую пропасть.
Но той ночью он все же увидел их настоящие глаза. Какое-то время спустя к нему подошла девушка. Она жила неподалеку, и они отправились к ней домой. Оказавшись на месте, он быстренько ослабил галстук и стянул брюки; они уже приступали к делу, когда дверь распахнулась и в комнату вошел ее «муж». Это был один из тех, кто пил и смеялся в баре. Девушка взвизгнула, впрочем, весьма мелодично, и начала преспокойно одеваться. Вивальдо чуть не разрыдался от огорчения, а потом, напротив, так рассвирепел, что был готов убить нежданного гостя. Но, заглянув в глаза мужчины, по-настоящему испугался.
Мужчина посмотрел на него сверху вниз и улыбнулся.
– Куда ты собирался его засунуть, белый щенок?
Вивальдо промолчал, потихоньку натягивая брюки. У мужчины была очень темная кожа, ростом он не уступал Вивальдо и находился сейчас в более выгодной для драки позиции.
Девушка, сидя на постели, надевала туфли. В тишине слышалось, как она низким голосом мурлыкала нечто бессвязное, то и дело обрывая мелодию. Вивальдо не мог уловить мотив, и это почему-то привело его в бешенство.
– Мог бы постоять за дверью пару минут, – сказал он в запальчивости. – Я даже войти в нее не успел.
Он произнес эти слова, застегивая ремень и смутно ощущая, что таким способом хоть как-то отплатит за свое унижение. Но не успел он еще закрыть рот, как мужчина влепил ему пощечину, сначала одну, потом другую. Вивальдо отлетел от кровати в угол, где стоял умывальник, и свалил стаканчик для воды, который, упав, разбился вдребезги.
– Черт бы вас побрал, – выругалась девушка, – можно хоть квартиру не разносить? – Встав на колени, она подобрала осколки. Вивальдо показалось, что ей немного стыдно за своего сожителя и что она слегка испугалась.
– Поторапливайся, – сказала она, все еще стоя на коленях, – и выметайся отсюда.
Мужчины не сводили друг с друга глаз, и постепенно нарастающий страх вытеснил из Вивальдо остатки гнева. Страх порождала не сама ситуация, нет, источник его крылся во взгляде мужчины. В устремленных на Вивальдо глазах была разлита спокойная неколебимая ненависть, пронять которую невозможно, потому что она сродни сумасшествию.
– Тебе чертовски повезло, что ты не успел войти, – произнес мужчина. – Иначе тебе пришлось бы пожалеть, белый щенок. Нечего было бы больше засовывать в негритянских девушек. Точно говорю.
Если тебе это так важно, хотел сказать Вивальдо, чего же ты не заберешь ее с улицы? Но чутье подсказывало ему, что лучше помолчать, о том же говорило и молчание девушки.
Поэтому он произнес только несколько слов, стараясь, чтобы они звучали как можно дружелюбнее:
– Ладно. Все случилось как в бородатом анекдоте. Вот я стою перед тобой. Скажи, чего тебе надо?
Но мужчина хотел большего, чем мог выразить словами. Он жадно следил за Вивальдо, ожидая, что тот снова заговорит. В мозгу Вивальдо вдруг ожила сцена из старого кинофильма. Там охотничья собака, застыв, ждет, когда стая куропаток, не выдержав напряжения, взмоет в небо, где птиц настигнут пули охотников. Нечто подобное происходило и в этой комнате: негр упорно ждал, что Вивальдо заговорит. Сами слова уже ничего не значили – нужен был лишь повод для жестокой расправы. Вивальдо затаил дыхание, стараясь изо всех сил скрыть охватившую его панику, но по спине забегали мурашки. Мужчина перевел взгляд на стоявшую рядом с кроватью девушку, а потом медленно направился к Вивальдо. Стоя прямо перед ним, негр сверлил его взглядом, как бы желая, пробуравив череп, проникнуть в его мысли. Потом резко выбросил вперед руку.
Вивальдо покорно протянул бумажник.
Мужчина закурил сигарету, она дымилась в уголке его рта, а он неторопливо, с насмешливым высокомерием обследовал бумажник.
– Чего я не понимаю, – произнес он, – так это почему вас, белых сосунков, тянет в наши края, почему вы приходите сюда волочиться за чернокожими девушками? Ведь мы же не болтаемся у вас в центре и не пристаем к белым кралям. – Он поднял глаза. – Такого не бывает.
Это еще бабушка надвое сказала, подумал Вивальдо, но вслух ничего не произнес. Однако слова задели его за живое, и в нем снова забурлила злость.
– А если я скажу тебе, что она моя сестра, – сказал мужчина, указывая на девушку. – Понравилось бы тебе, застань ты меня со своей сестрой?
Вот уж плевать, затрахай ее хоть до смерти, мелькнуло в голове у Вивальдо. В то же время от этого вопроса кровь ударила ему в голову. Было понятно, что этого-то и добивался мужчина.
Где-то в глубине сознания задержался немой вопрос – почему эти слова заставили его задрожать от ярости?
– Скажи, что бы ты со мной сделал? – настаивал мужчина, держа в руках бумажник и посматривая на Вивальдо с той же насмешливой улыбкой. – Хочется знать, какое наказание ожидало бы меня. – Не добившись ответа, он прибавил: – Ну, говори. Знаешь ведь, что вы делаете в таких случаях. – По непонятной причине мужчина, казалось, немного стыдился своих слов, но не становился от этого менее опасен.
Вивальдо с трудом выдавил из себя:
– Нет у меня никакой сестры, – и стал затягивать галстук, стараясь унять дрожь, потом оглянулся, ища взглядом куртку.
Мужчина еще минуту смотрел на него, затем взглянул на девушку и снова занялся бумажником. Он извлек оттуда все деньги.
– Это все?
Как раз в это время у Вивальдо была постоянная работа, и в бумажнике находилось почти шестьдесят долларов.
– Да, – ответил он.
– А в карманах есть что-нибудь?
Вивальдо извлек оттуда бумажные деньги и мелочь, все вместе – примерно долларов на пять. Мужчина забрал и их.
– Мне нужно немного денег, чтобы добраться до дома, – сказал Вивальдо.
Мужчина вернул ему пустой бумажник.
– Пройдись пешочком, погуляй, – посоветовал он. – Считай, что тебе еще повезло. Застукаю еще раз, покажу, что бывает с негром, если мистер Чарли застанет его с мисс Энн.
Вивальдо сунул пустой бумажник в задний карман и подобрал упавшую на пол куртку. Мужчина по-прежнему не сводил с него глаз, а девушка напряженно следила за мужчиной. Подойдя к двери, Вивальдо открыл ее, чувствуя, как у него подкашиваются ноги.
– Что ж, – сказал он, – премного благодарен, – и заковылял вниз по лестнице. Он миновал уже один лестничный пролет, когда услышал, как дверь наверху открылась и на лестнице послышались быстрые вороватые шаги. Остановившись, девушка что-то протянула ему с верхнего пролета.
– Вот, – шепнула она, – возьми, – и, смело перегнувшись через перила, сунула ему в нагрудный карман доллар. – Иди сразу домой, – прибавила она, – и поскорей, – и торопливо побежала вверх по ступенькам.
Еще долго после этого вечера, полного ярости, стыда и ужаса, помнил Вивальдо взгляд негра. Эти глаза и сейчас, когда он поднимался наверх, в квартиру Руфуса, буравили его. Он вошел, не постучав. Руфус стоял у самой двери, зажав в руке нож.
– Нож – для кого? Для меня или для себя? А может, ты собрался отрезать ломтик салями?
Вивальдо стоило большого труда не попятиться назад и не отвести взгляд.
– Я собирался всадить его тебе в грудь.
Проговорив это, Руфус, однако, не тронулся с места. Вивальдо перевел дыхание.
– Брось ты его. Не видел еще никого, кому были бы так нужны друзья, как тебе сейчас.
Они довольно долго смотрели друг другу в глаза, ни один из них даже не пошевелился. Возможно, искали на дне глаз воспоминания о былой дружбе. Вивальдо настолько хорошо знал лицо перед собой, что в какой-то момент перестал смотреть на него, продолжая меж тем видеть и отмечать зрением сердца печальные перемены в облике Руфуса. Раньше этот лоб не прорезала сеть тонких морщинок и между бровями не залегала глубокая и извилистая складка, а губы не были угрюмо поджаты. Вивальдо не верил глазам – таким он никогда не видел друга. Тот никогда не ассоциировался у него с насилием: походка у Руфуса всегда была легкая и неторопливая, интонация – шутливая и мягкая. Но тут Вивальдо вспомнил, как яростно мог играть Руфус на своем барабане.
Он сделал еле заметный шаг вперед, не сводя глаз с Руфуса. И с ножа.
– Не убивай меня, Руфус, – услышал он свой голос. – Я не причиню тебе вреда. Я хочу только помочь.
Дверь в ванную была все еще открыта, там по-прежнему горел свет. На кухне тусклая лампочка безжалостно высвечивала убогий столик – обыкновенную доску, лежавшую на двух ящиках от апельсинов, – таз и стопку выстиранного белья. В углу свалена грязная одежда. В полумраке спальни, прямо на полу посреди комнаты лежали два раскрытых чемодана, один Руфуса, другой Леоны. На кровати – смятая серая простыня и легкое одеяло.
Руфус внимательно вглядывался в Вивальдо. Казалось, он не верил ему, хотя страстно хотел поверить. Вдруг его лицо исказила страдальческая гримаса, он выронил нож и, упав Вивальдо на грудь, обнял его трясущимися руками.
Вивальдо повлек Руфуса в спальню и усадил на кровать.
– Кто-то должен мне помочь, – наконец заговорил Руфус, – кто-то должен помочь. С этим дерьмом нужно кончать.
– Расскажи, что с тобой происходит? Ты губишь себя. Почему? Не пойму.
Руфус со вздохом рухнул спиной на одеяло и, заложив руки за голову, уставился в потолок.
– Сам не знаю. Я теперь черное от белого не отличу. Не пойму, на каком я свете.
Весь дом спал, стояла гробовая тишина. Казалось, комната, где они находились, существует сама по себе и никак не связана с жизнью остального острова.
Вивальдо заговорил как можно мягче:
– Не стоит так поступать с Леоной. Даже если бы ты был прав. Если не можешь обращаться с ней иначе, ну, тогда вам лучше расстаться.
Руфус силился улыбнуться.
– Знаешь, я думаю, у меня что-то случилось с головой.
Он снова замолк, повернулся на бок и взглянул на Вивальдо.
– Ты посадил ее в такси?
– Да, – ответил Вивальдо.
– Она поехала к тебе?
– Да.
– И ты тоже туда отправишься?
– Если ты не возражаешь, я хотел бы немного пожить у тебя.
– Ты что, хочешь присматривать за мной? Как это понять?
Руфус расплылся в улыбке, но тон его был серьезен.
– Я подумал, может, ты не против, если кто-нибудь побудет сейчас рядом с тобой, – сделал попытку оправдаться Вивальдо.
Сорвавшись с кровати, Руфус возбужденно заходил по квартире.
– Не нужны мне никакие компаньоны. Сыт по горло. Хватит впечатлений до конца моих дней. – Он остановился у окна, спиной к Вивальдо. – Ненавижу всех этих белых сволочей там снаружи. Они хотели бы убить меня, думаешь я не понимаю? Подчинили себе весь мир и вокруг моей шеи удавку стягивают все туже. – Он отошел от окна, по-прежнему не глядя на Вивальдо. – Иногда лежу здесь и слушаю, просто слушаю. Они там копошатся за окном, разгружают машины – в полной уверенности, что никогда в их жизни ничего не изменится. А я лежу и жду – когда же на этот город свалится бомба и разнесет его к чертям собачьим, чтобы прекратилась наконец эта возня. Хочу услышать их стоны, увидеть, как они будут истекать кровью и задыхаться, хочу слышать их мольбу, понимаешь, старик, мольбу о помощи. О, им придется долго канючить, прежде чем я приду им на помощь. – Он замолчал, его полные слез глаза горели ненавистью. – Когда-нибудь это случится, обязательно случится. Вот тогда я порадуюсь. – Он вернулся к окну. – Иногда, слыша за окном гудки, я думаю, не лучше ли сесть на один из судов и уплыть куда-нибудь подальше от этих ничтожеств, туда, где с человеком обращаются, как должно обращаться с человеком. – Он утер слезы тыльной стороной руки и вдруг с силой саданул ею по подоконнику. – Нужно обороняться от домовладельца, ведь он белый. Нужно обороняться от лифтера, ведь он тоже белый! Любой бомж с Бауэри[6] может насрать тебе на голову; пусть он не слышит, не видит, не может ходить, пусть у него не стоит – но он белый!
– Руфус, послушай, Руфус! А как же… – Вивальдо хотел спросить, а как же я, Руфус? Ведь я тоже белый. Но он закончил фразу иначе: – Не все такие, Руфус.
– Вот как? Для меня это новость.
– Леона любит тебя…
– Она так любит всех цветных, – прервал его Руфус, – что меня от этого тошнит. Сказать тебе, что ей во мне нравится больше всего? Единственное, что ей нужно, это… – Он вызывающе положил руку на причинное место, сделав движение, словно хотел вырвать член. Вивальдо поморщился, как от боли, и это вроде бы доставило Руфусу удовольствие. Он снова уселся на кровать. – Только это.
– Ты совсем рехнулся, – сказал Вивальдо. От страха голос его звучал неубедительно.
– Но только она и нужна мне на этом свете, – прибавил после небольшой паузы Руфус. – Вот ведь какая незадача.
– Ты губишь девушку. Разве ты этого хочешь?
– И она тоже губит меня.
– Пусть так. Так ты этого добиваешься?
– Что нужно двум людям друг от друга? – спросил Руфус. – Можешь мне сказать?
– Думаю, чего не нужно, так это доводить партнера до сумасшествия. В этом я уверен.
– Значит, ты осведомленнее меня, – сказал Руфус не без сарказма. – А что тебе надо от девушки?
– Что надо мне?
– Да, что надо тебе?
– Ну, как тебе сказать, – начал Вивальдо, пытаясь спрятать за улыбкой самую настоящую панику. – Думаю, переспать с ней.
– Вон оно что! – Руфус с любопытством смотрел на него, как бы прикидывая в уме: вот, значит, как обстоят дела с вами, белыми. – И ничего больше?
– Ну нет, – Вивальдо опустил глаза. – Хотелось бы, конечно, нравиться… чтобы меня любили.
Воцарилась тишина. Потом раздался голос Руфуса:
– Ну и как, любили?
– Нет, – ответил Вивальдо, вспоминая девушек-католичек и проституток. – Думаю, никто не любил.
– А как ты ведешь себя в постели? – шепнул Руфус. – Что ты делаешь? – Он бросил взгляд на Вивальдо, криво усмехнувшись. – Что ты делаешь?
– Что ты имеешь в виду? – Вивальдо сделал попытку улыбнуться, но он знал, о чем спрашивает Руфус.
– Делаешь, что тебя просят? – Руфус, понизив голос, потянул Вивальдо за рукав. – А твоя белая подружка, Джейн, она берет в рот?
О, Руфус, хотел закричать Вивальдо, кончай ты разводить бодягу! – и почувствовал, что слезы подступают к глазам. В то же время сердце его екнуло в страхе и кровь отхлынула от лица.
– Нет у меня таких умелиц, – ответил он, мысленно перебрав занудных девушек-католичек, подруг его юности. Попытавшись вызвать в памяти череду постелей, в которых побывал, Вивальдо понял, что из этого ничего не получится – ни одна не запомнилась. – Разве что проститутки, – вырвалось у него, и в воцарившемся молчании он остро ощутил, что рядом с ними на кровати сидит сама смерть. Он в испуге взглянул на Руфуса.
Руфус расхохотался. Он повалился на постель и хохотал до колик, пока слезы не заблестели в уголках глаз. Ничего страшнее этого смеха Вивальдо не слышал, ему хотелось с силой встряхнуть Руфуса или нахлестать его по щекам – все что угодно, лишь бы этот смех прекратился! Но он только закурил сигарету, ладони его были влажными. Руфус закашлялся, брызгая слюной, и сел на кровати. Повернулся раскрасневшимся лицом к Вивальдо. И, выкрикнув: «Проститутки!» – вновь залился смехом.
– Что тут такого смешного? – тихо поинтересовался Вивальдо.
– Если не понимаешь, тебе не объяснить, – ответил Руфус. Отсмеявшись, он как-то сразу успокоился и помрачнел. – Все мы болтаемся в одном поезде – только ты едешь в одну сторону, а я – в другую… чистое безумие. – В его устремленных на Вивальдо глазах вновь блеснула ненависть. Он проговорил: – У нас с Леоной была обалденная постель. Чего только мы не вытворяли.
– Замечательно, – отозвался Вивальдо. Он затоптал сигарету. В нем снова закипало раздражение, и в то же время тянуло рассмеяться.
– А толку чуть, – сказал Руфус. – Никакого толку. – С реки доносились протяжные гудки, Руфус снова направился к окну.
– Нужно выбираться отсюда. Так будет лучше для меня.
– Тогда поторопись. Не тяни – уезжай, и все.
– Я и собираюсь, – сказал Руфус. – Собираюсь уехать. Хочется только еще разок увидеть Леону. – Он не сводил глаз с Вивальдо. – Хочется трахнуть ее на прощание… кончить… полюбить… еще хоть раз.
– Чтоб ты знал, – оборвал его Вивальдо, – меня не очень интересуют подробности твоей интимной жизни.
Руфус осклабился.
– Да ну? А мне всегда казалось, что вас, белых, хлебом не корми, а только расскажи, как у нас, бедолаг, эта штука работает.
– Ну, значит, я иначе устроен, – сказал Вивальдо.
– Похоже на то, – согласился Руфус.
– Я только хотел быть твоим другом, – прибавил Вивальдо. – И ничего больше. Но, вижу, друзья тебе не нужны. Так?
– Так, – ответил Руфус. – Так. – Помолчав, он через силу, медленно заговорил: – Не обращай внимания на мои слова, Вивальдо. Я знаю, ты мой единственный друг. Больше у меня никого нет.
Поэтому ты и ненавидишь меня, подумал Вивальдо; в охватившем его спокойствии слились печаль и безнадежность.
И вот теперь Вивальдо и Руфус сидели в молчании у окна пиццерии. Они почти обо всем уже переговорили. Все рассказали друг другу, вернее, рассказывал Руфус, а Вивальдо слушал. Снаружи из соседнего клуба доносилась музыка, растворяясь в неумолчном городском шуме. Руфус не отрывал глаз от окна, всматриваясь с печальной безнадежностью в темноту и как бы надеясь увидеть там Леону. Эти улицы поглотили ее. По словам Руфуса, однажды холодной ночью она выбежала из дома полуодетая, все искала своего малыша. И снова и снова повторяла, что знает, где он, знает, куда его упрятали и как выглядит дом, только забыла адрес.
Потом, продолжал Руфус, Леону увезли в Бельвью[7], и он не сумел вызволить ее оттуда.
Врачи посчитали, что будет преступно передать опеку над ней человеку, ответственному за этот нервный срыв, тем более что у него не было на нее никаких законных прав. Они связались с ее семьей, с Юга за ней приехал брат и увез Леону с собой. Теперь она сидела взаперти где-то в Джорджии, в четырех стенах, и не было никакой надежды, что она когда-нибудь оттуда выйдет.
Вивальдо зевнул и сразу же почувствовал себя виноватым. Но что делать, он устал – устал от исповеди Руфуса, устал внимать ему, устал от самой дружбы. Он хотел бы попасть домой, плотно затворить дверь и наконец-то уснуть. Он устал от человеческих забот, реальных людей и с удовольствием вернулся бы к своим вымышленным героям, чьи проблемы переносить легче.
Но он тоже был охвачен беспокойством и теперь, оказавшись вне дома, не собирался тут же отправляться обратно.
– Может, проведем остаток ночи у Бенно? – предложил он и, не дожидаясь ответа, так как знал, что Руфусу не очень-то хочется туда идти, немного надавил на друга: – Идет?
Руфус кивнул, чувствуя, что на него снова накатывает волна страха. Вивальдо пристально глядел на него, с облегчением ощущая, что все возвращается на круги своя – его любовь к Руфусу и сострадание. Перегнувшись через стол, он потрепал друга по щеке.
– Пойдем, – позвал он. – И не нужно никого бояться.
После этих слов Руфус стал выглядеть еще более взволнованным, хотя слабая улыбка заиграла на его губах, а Вивальдо остро почувствовал, что все уже предрешено – назад пути нет. Он облегченно вздохнул, в то же время жалея о произнесенных словах. К ним подошел официант, Вивальдо расплатился, и они вышли на улицу.
– Праздник Благодарения на носу, – вдруг произнес Руфус. – Я совсем забыл. – Он рассмеялся. – Скоро Рождество, год кончается… – Не закончив фразы, он поднял глаза и окинул взглядом оцепеневшую от холода улицу.
На углу, под фонарем, звонил по автомату полицейский. На противоположной стороне улицы молодой человек выгуливал собаку. По мере приближения друзей к ночному клубу Бенно музыка становилась все слышней. Крупная некрасивая девушка-негритянка с пакетами в руках и очкастый белый юноша с недовольным лицом бросились навстречу подъезжавшему такси. Желтый огонек погас, дверцы захлопнулись. Такси дернулось с места; когда оно проезжало мимо Руфуса и Вивальдо, свет уличных фонарей вырвал на мгновение из темноты лица молчаливо сидевшей в автомобиле пары.
Обняв Руфуса за плечи, Вивальдо тихонько втолкнул его внутрь бара Бенно.
Бар был переполнен. Кого здесь только не было! Работники рекламы потягивали двойные порции виски или водки со льдом, студенты пили пиво прямо из бутылок, ухватив их влажными скользкими пальцами, одинокие мужчины подпирали стены – ближе к дверям или в углах, бросая жадные взгляды на женщин. Юные студенты, ежеминутно выдавая свою полную неосведомленность в вопросах секса и пребывая из-за этого в отчаянии, делали мучительные попытки привлечь внимание женщин, но привлекали лишь внимание друг друга. Мужчины заказывали напитки для снующих без устали от музыкального автомата к бару подруг, оба пола обменивались улыбками, в равной степени демонстрирующими желание и презрение. Смешанные пары, в которых один партнер был белый, а другой – черный, держались вместе, они нарочито подчеркивали на публике свое единение, что могло и не соответствовать истине. Понять, что к чему, здесь вообще было невозможно; все скрадывал жаргон, своеобразная речь витала в воздухе, не выдавая непосвященным ничьих тайн. Лишь музыкальный автомат отдувался за всех, каждый вечер далеко разнося свои синкопированные любовные мольбы.
Глаза Руфуса с трудом привыкали к электрическому свету, сизому дыму, непрерывному мельтешению. Его не покидало странное чувство, что он видел все это раньше во сне. Из того же сна возвращались к нему лица, жесты, голоса, и, как и положено во сне, никто не обращал на него внимания, никто, казалось, не помнил его. Совсем рядом за столом сидела девушка; помнится, он пару раз переспал с ней, ее звали Белл. Она болтала со своим приятелем Лоренцо. Откидывая назад волосы, она мельком взглянула на Руфуса, но, видимо, не узнала.
Над ухом загремел голос:
– Да никак Руфус! Когда тебя выпустили?
Руфус обернулся и увидел прямо перед собой широко улыбающееся шоколадного цвета лицо с гривой выпрямленных волос, небрежно падавших говорящему на лоб. Лицо Руфус помнил, а вот имя – нет. И отношений, которые связывали его с этим лицом, – тоже. Но все же сказал:
– У меня все отлично. Как ты?
– Помаленьку, дружище, помаленьку. – Глаза парня впивались в него, как пара злых насекомых, на лбу и вокруг губ – капельки пота, волосы вздыблены. – Попал в одну переделку, но сейчас все в порядке. А про тебя говорили, что ты сел.
– Сел? Нет. Работал в другом районе.
– Вот как? Ну, прекрасно. – Парень мотнул головой в направлении двери, как бы отвечая на настойчивые призывы, которые Руфус не слышал. – Мне надо отваливать, дружки поджидают. Еще увидимся.
На мгновение холодный воздух проник с улицы, но тут же растворился в дыму и человеческих испарениях.
Друзья стояли в нерешительности, не зная, стоит ли здесь оставаться, и даже не успели еще ничего заказать, когда из мрака и гула выступила Кэсс. В черном вечернем платье она выглядела очень элегантно, белокурые волосы были тщательно подколоты наверх. Она держала в одной руке рюмку и сигарету и казалась похожей одновременно и на усталую матрону, какой была на самом деле, и на озорную девчонку, какой давно уже не была.
– Что ты здесь делаешь? – спросил Вивальдо. – Вырядилась как на бал. Что-нибудь случилось?
– Мне надоел муж. Ищу нового. Но, видимо, попала не в те торговые ряды.
– Подожди дешевой распродажи, – посоветовал Вивальдо.
Кэсс повернулась к Руфусу и дружески коснулась его руки.
– Приятно снова тебя видеть. – Ее большие карие глаза смотрели ему прямо в лицо. – У тебя все в порядке? Мы все скучали по тебе.
Он непроизвольно отдернул руку, съежившись от ее доброжелательного тона. Но, не желая обижать женщину, проговорил, кивая и пытаясь выдавить из себя подобие улыбки:
– Приятно снова быть среди своих.
Она заулыбалась.
– Сказать, что мне приходит в голову всякий раз, когда я вижу тебя? Что мы очень похожи. – Она вновь перевела взгляд на Вивальдо. – Ты сегодня без своей старушки? Может, тоже ищешь новую любовницу? Тогда ты ошибся местом.
– Чертовски давно не видел Джейн, – сказал Вивальдо. – Наверное, нам лучше не встречаться. – Но выглядел он при этом расстроенным.
– Бедненький Вивальдо, – пожалела его Кэсс. Мгновение спустя они оба уже покатывались со смеху.
– Идите за мной. Ричард здесь. Он будет рад вас видеть.
– Вот уж не знал, что в это заведение ходят семейные люди. Вам что, наскучили домашние радости?
– У нас сегодня праздник. Ричард продал свой роман.
– Не может быть!
– Может. Может. Разве это не чудесно?
– Еще бы, черт подери, – сказал Вивальдо с заметным изумлением.
– Пойдем, – повторила Кэсс и, ухватив Руфуса за руку, потащила его за Вивальдо, который тем временем уже протискивался через бар. По ступенькам они сошли в следующий зал. Ричард сидел за столиком один, посасывая трубку. – Ричард, – крикнула Кэсс, – посмотри, я привела к тебе воскресших из мертвых!
– Не уверен, стоило ли их извлекать из небытия, – расплылся в улыбке Ричард. – Ладно, садитесь. Рад вас видеть.
– И я рад тебя видеть, – отозвался Вивальдо и сел с ним рядом. Они заулыбались друг другу. Ричард глянул довольно сурово на Руфуса и отвел глаза. Он всегда недолюбливал Руфуса, а сейчас, видимо, не мог простить ему истории с Леоной.
Воздух в зале был спертый. Руфус сознавал, что от него разит потом, и пожалел, что не принял душ у Вивальдо. Он тоже сел.
– Значит, – первым заговорил Вивальдо, – ты продал свой роман! – Откинув назад голову, он оглушительно расхохотался. – Продал-таки! Вот молодец! Ну и как теперь себя ощущаешь?
– Я держался сколько мог, – отшучивался Ричард. – Все отговаривался, что один мой хороший знакомый по имени Вивальдо обещал зайти и почитать рукопись. – Это какой Вивальдо? Поэт? – спросили у меня. – Да он же эстет! Не станет он читать криминальный роман, напиши его хоть сам Господь Бог. А так как ты не приходил, я решил, что они говорят правду, и отдал роман.
– Прости, Ричард. Мне очень жаль. Я что-то в последнее время совсем замотался…
– Знаю, знаю. Давай выпьем. А ты как, Руфус? Где пропадал?
– Да так. Собирался с мыслями, – ответил Руфус, улыбаясь. Ричард старается проявить дружелюбие, сказал он себе, но в глубине души, конечно, считает его психованным слабаком.
– Не смущайся, – ободрила его Кэсс. – Мы все годами пытаемся привести себя в порядок. И сам видишь, какой результат. Так что ты в хорошей компании. – Она положила голову Ричарду на плечо. Муж нежно провел рукой по ее волосам и поднял лежавшую в пепельнице трубку.
– Не думаю, что все там сводится к убийству, – сказал Ричард, жестикулируя трубкой. – На мой взгляд, форма детектива не мешает серьезному содержанию. Лично меня она всегда восхищала.
– Когда ты учил меня английскому в школе, то был другого мнения, – широко улыбнулся Вивальдо.
– Тогда я был моложе, чем ты сейчас. Мы меняемся, дружище, взрослеем! – В зал влетел официант, на лице его застыло бессмысленное выражение, он как будто не понимал, на каком он свете. Ричард позвал его: – Эй! Мы умираем от жажды. – Он повернулся к Кэсс. – Хочешь еще выпить?
– А как же! – ответила она. – Особенно теперь, когда с нами наши друзья. Могу веселиться всю ночь. Только немного кружится голова. Не возражаешь, что я так бессовестно расположилась на твоем плече?
– Возражаю? – Ричард рассмеялся и посмотрел на Вивальдо. – Возражаю! Как ты думаешь, ради кого я торчу за письменным столом в надежде на успех? – Он склонился над ней и поцеловал, а его лицо повзрослевшего мальчишки засветилось нежностью и страстью, отчего он вдруг очень похорошел. – Да ты в любое время можешь склонить голову мне на плечо. Когда пожелаешь, детка. Оно для этого и существует. – И еще раз ласково, с затаенной гордостью погладил ее по голове. Официант тем временем унес пустые бокалы.
Вивальдо обратился к Ричарду:
– Когда можно прочитать твой роман? Меня гложет зависть. Хочу узнать, стоит ли он того.
– Ну, если ты так заговорил, негодяй, подожди немного – купишь в книжном магазине.
– Или возьмешь в библиотеке, – прибавила Кэсс.
– Ладно, без дураков, когда можно прочесть? Сегодня? Завтра? Он длинный?
– Больше трехсот страниц, – ответил Ричард. – Приходи завтра, сам увидишь. – И повернулся к Кэсс. – Иначе его не заманишь. – Потом прибавил: – Ты совсем не приходишь к нам, как бывало. Что-нибудь случилось? Мы по-прежнему любим тебя.
– Ничего не случилось, – сказал Вивальдо. Он явно колебался, говорить или нет. – Цапались с Джейн, потом вконец разругались и… даже не знаю. Работа не шла и еще… – он метнул взгляд на Руфуса, – всякое другое. Много пил и шлялся вместо того, чтобы брать пример с тебя и усердно работать над книгой.
– А она продвигается?
– Да как сказать… – Вивальдо опустил глаза и глотнул из рюмки, – через пень-колоду. Видимо, писатель из меня неважный.
– Вот негодяй, – весело отозвался Ричард.
Он стал опять похож на того преподавателя английского языка и литературы, которого Вивальдо боготворил, ведь тот первый заговорил с ним о важных вещах, первый, кто принял его всерьез.
– Я очень рад, – проговорил Вивальдо, – честное слово, очень рад, что ты свалил с себя этот чертов груз и что роман удалось удачно пристроить. Верю, что ты разбогатеешь.
А Руфус вспомнил дни и ночи, когда он работал на подиуме и к нему подходили люди, благодарили его и предсказывали ему блестящее будущее. Тогда они только раздражали его. Зато сейчас он мечтал оказаться на месте себя прежнего и чтобы кто-нибудь смотрел на него так, как Вивальдо – на Ричарда. На лице Вивальдо любовь и признательность боролись с сомнением. Он был искренне рад успеху Ричарда, хотя и предпочел бы сам оказаться на его месте, и в то же время задавался вопросом, какого порядка этот успех. Похожее выражение Руфус видел и в устремленных на него тогда взглядах гостей клуба. Им хотелось знать, откуда проистекает сила, приводящая их в такое восхищение. В глубине души они изумлялись и задавали себе вопрос, не убивает ли он себя.
Вивальдо отвел глаза, уставился в рюмку и закурил сигарету. Ричард вдруг как-то сник и выглядел очень усталым.
В зал влетела высокая, прекрасно одетая, очень хорошенькая девушка, по виду манекенщица, она огляделась, всматриваясь в лица за их столиком. Потом повернулась, чтобы уйти.
– Вы не меня случаем ищете? – выкрикнул Вивальдо.
Девушка со смехом взглянула на него.
– Вам повезло! Не вас!
У нее был приятный смех, а в голосе слышался легкий южный акцент. Руфус смотрел, как она, грациозно поднявшись по ступенькам, исчезла в переполненном баре.
– Не упусти свой шанс, старина, – сказал Руфус. – Беги, догоняй ее.
– Нет уж, – улыбнулся Вивальдо. – Одному спокойнее. – Он взглянул на дверь, за которой исчезла девушка. – Красавица, правда? – сказал он, обращаясь одновременно и к себе, и ко всем присутствующим. Он снова бросил взгляд на дверь, заерзал на стуле, а потом решительно опрокинул в рот остатки спиртного.
У Руфуса вертелось на языке: не отказывайся от нее ради меня, – но он промолчал. Он остро ощущал свою черноту, чувствовал себя грязным и глупым. Ему хотелось оказаться сейчас на краю света, а лучше всего – умереть. Мысли о Леоне не уходили, они терзали его, накатывая и отступая, как зубная боль или ноющая рана.
Кэсс пересела ближе к нему. Она не отрывала от него глаз, и сочувствие, которое Руфус видел в ее взгляде, испугало его. Какие воспоминания, какой горький опыт питали это сочувствие? Такой взгляд мог быть у нее только в том случае, если она испытала то, что в его представлении не могла знать женщина, подобная Кэсс.
– Как Леона? – спросила Кэсс. – Где она сейчас? – Задавая вопрос, она пристально смотрела на него.
Руфусу не хотелось отвечать. Не было сил говорить о Леоне, но ни о чем другом он говорить тоже не мог. На мгновение его затопила волна ненависти к Кэсс.
– Сейчас она дома, где-то на Юге. За ней приехали родные и забрали ее из Бельвью. Я даже не знаю, как называется местечко, где она живет.
Кэсс помолчала. Предложив ему сигарету, раскурила ее, а потом еще одну – для себя.
– Я видел ее брата. Должен был его видеть и увидел. Он плюнул мне в лицо и сказал, что, будь он дома, не задумываясь убил бы меня.
Руфус утер лицо платком, позаимствованным у Вивальдо.
– Но мне и так казалось, что я уже мертвец. Мне не разрешали видеться с ней. Ведь я не родственник и, значит, не имею никаких прав.
Воцарилось молчание. Руфусу представились белые стены больницы, халаты врачей и сестер – белые на белом. И лицо брата Леоны, тоже белое, и внезапно проступившая краснота – когда кровь бросилась тому в лицо при виде смертельного врага. Будь они на Юге, кровь их смешалась бы, пролившись на равнодушную землю под равнодушным солнцем.
– Хорошо хоть детей у вас нет, – подытожила Кэсс. – И на том спасибо.
– У нее есть ребенок, – сказал Руфус, – там, на Юге. Но его отобрали. – И прибавил: – Потому-то она и отправилась на Север.
Ему вспомнился вечер, когда они впервые встретились.
– Хорошая девушка, – проговорила Кэсс. – Она мне очень понравилась.
Он ничего не ответил. Словно издалека до него донеслись слова Вивальдо: «…никогда не знаю, чем заняться, когда не работаю».
– Отлично ты знаешь, чем заняться. Только не всегда знаешь – с кем.
Хохот друзей подействовал на Руфуса, как шум работающей дрели, его даже передернуло.
– И все же, – продолжал Ричард серьезно, – нельзя все время работать.
Краем глаза Руфус видел, как Ричард постукивает соломинкой по столу.
– Надеюсь, – продолжала Кэсс, – ты не займешься самобичеванием. Во всяком случае, надолго. Это ничему не поможет. – Она положила свою руку на его. Руфус глянул ей в глаза. Кэсс улыбнулась. – С годами ты, думаю, поймешь, что у всех есть грешки. Главное – не обманываться на свой счет, знать, что ты натворил и почему. – Она придвинулась еще ближе – открытый взгляд карих глаз, белокурая прядь прилипла к взмокшему лбу. – Тогда ты научишься прощать себя. Это очень важно. Ведь если ничего не прощаешь себе, то не сможешь простить и других, и тогда тебе суждено вечно повторять свои ошибки.
– Я знаю, – пробормотал Руфус, не глядя на женщину, и нагнулся над столом, стиснув кулаки. Издалека до него донеслась заказанная кем-то мелодия, которую он часто играл. Он опять подумал о Леоне. Ее лицо все время стояло перед ним. – Я знаю, – повторил он, хотя на самом деле не знал ничего. Он не понимал, почему эта женщина ведет с ним такой разговор и что она пытается объяснить ему.
– Что ты собираешься теперь делать? – осторожно спросила Кэсс.
– Соберусь с силами, – ответил он, – и начну работать.
Но сам он понимал, что все это пустые разговоры: он не мог больше играть.
– А дома ты уже был? Кажется, Вивальдо виделся с твоей сестрой. Она ужасно беспокоится.
– Я как раз туда собираюсь, – сказал Руфус. – Не хочется идти к ним в таком виде.
– Да плевать им на твой вид, – отрезала Кэсс. – И мне плевать. Я просто рада тебя видеть, знать, что ты жив. А ведь я тебе даже не родственница.
С удивлением он мысленно согласился с ней. Это была правда, и он поднял на нее глаза, улыбаясь, чтобы скрыть навернувшиеся слезы.
– Я всегда считала тебя замечательным человеком, – сказала Кэсс, легонько похлопав его по руке и незаметно сунув в ладонь мятую бумажку. – Хорошо, если бы ты тоже так о себе думал.
– Эй, старушка, не пора ли нам двигаться? – окликнул ее Ричард.
– Думаю, пора, – отозвалась Кэсс и зевнула. – По-моему, мы напраздновались всласть.
Она поднялась и, вернувшись на свое место, начала собирать вещи. Руфусу вдруг стало страшно при мысли, что Кэсс уйдет.
– Можно как-нибудь на днях зайти к вам? – спросил он, улыбаясь.
Кэсс посмотрела на него через стол.
– Пожалуйста, заходи, – приветливо ответила она. – И не тяни.
Ричард выбил трубку и, сунув ее в карман, оглянулся, ища взглядом официанта. Вивальдо разглядывал кого-то за спиной Руфуса, затем, видимо, признав, прямо-таки подпрыгнул на стуле.
– А ведь это Джейн, – произнес он тихим голосом. Тут и сама Джейн собственной персоной пожаловала к их столику. Ее короткие седеющие волосы были аккуратно причесаны, что несказанно всех удивило, так же как и хорошо сидевшее на ней темное платье. Ведь до сих пор только Вивальдо мог видеть ее без традиционных синих джинсов и свитера.
– Привет, – поздоровалась она, улыбнувшись своей широкой отчужденной улыбкой, и подсела к ним. – Тысячу лет вас не видела.
– Все рисуешь? – спросила Кэсс. – Или уже бросила?
– Пашу как вол, – объявила Джейн, озираясь и прилагая основательные усилия, чтобы не встретиться глазами с Вивальдо.
– Это тебе явно на пользу, – рассеянно сказала Кэсс, надевая пальто.
Джейн бросила взгляд на Руфуса, чувствовалось, что к ней понемногу возвращается самообладание.
– Как ты, Руфус?
– Лучше не бывает.
– Мы все здесь предаемся разгулу, – сказал Ричард, – а ты, похоже, рано ложишься спать как паинька, чтобы наутро проснуться красоткой.
– Просто потрясно выглядишь, – вырвалось у Вивальдо.
Тут Джейн первый раз взглянула на него.
– Правда? Я и чувствую себя неплохо. Стала меньше пить. – Джейн расхохоталась слишком громко и, почувствовав это, скромно потупилась. Ричард расплатился с официантом и теперь стоял, перекинув через руку куртку военного образца. – Вы что, все уходите?
– Нам пора, – ответила Кэсс. – Мы скучные, бездарные, старые семейные люди.
На прощанье Кэсс сказала Руфусу:
– Будь умницей и хорошенько отдохни. – И одарила его улыбкой. Он отдал бы все на свете, чтобы продлить ее улыбку, удержать это мгновение, но в ответ только небрежно кивнул, даже не улыбнувшись. Кэсс повернулась к Джейн и Вивальдо.
– Пока, ребятки. Скоро увидимся.
– Всенепременно, – отозвалась Джейн.
– Завтра же заскочу, – пообещал Вивальдо.
– Жду тебя, – сказал Ричард, – смотри, не обмани. Всего хорошего, Джейн.
– Пока.
– Пока.
Они ушли, остались только Джейн, Руфус и Вивальдо.
Пусть я в тюрьме, но почему так долго?..
Опустевшие стулья отделяли пропастью Руфуса от белого мужчины и белой женщины.
– Еще по одной? – предложил Вивальдо.
Прощайте…
– Плачу я, – заявила Джейн. – Я продала картину.
– Правда? За хорошие бабки?
– Довольно-таки. Когда мы виделись последний раз, работа над ней застопорилась, все валилось из рук и настроение было – хуже некуда.
– Это уж точно. Хуже некуда.
Пусть я в тюрьме…
– Что будешь пить, Руфус?
– Раз уж начал пить виски, мешать не буду.
Но почему так долго?..
– Прости, – сказала Джейн, – не знаю сама, почему бываю такой стервой.
– Много пьешь. Давай возьмем еще только по одной. А потом я тебя провожу.
Они метнули быстрые взгляды на Руфуса.
Прощайте…
– Пойду в туалет, – объявил Руфус. – Возьмите мне виски и минералку.
Он перешел из зала в гогочущий, ревущий бар. Постоял немного в дверях, разглядывая юношей и девушек, мужчин и женщин: влажные рты равномерно открывались и закрывались, лица – бледные, с проступившими на коже капельками пота, руки в последней надежде вцепились в бокал или бутылку, в рукав, в плечо, просто в воздух. То там, то здесь вспыхивали огоньки, казалось, они плывут на волнах густого дыма. Поминутно щелкала касса. В дверях топтался могучего сложения детина – следил за порядком, другой сновал по бару, убирая со столиков и расставляя стулья. Двое молодых людей, один в красной рубашке, похожий на испанца, другой в коричневой, по виду англичанин, стоя у музыкального автомата, толковали о Френке Синатре.
Руфус засмотрелся на миниатюрную блондинку в открытой полосатой блузке и юбке колоколом, стянутой на талии широким кожаным ремнем с блестящей медной пряжкой. Она была в туфлях на низком каблуке и черных гольфах. Глубокий вырез позволял ему частично видеть ее грудь, глаза его мысленно проследовали ниже, к полным соскам, гордо торчащим под блузкой, рука обняла тонкую талию, приласкала живот и медленно, осторожным движением раздвинула бедра. Девушка болтала с подружкой. Почувствовав взгляд Руфуса, она посмотрела в его сторону. Глаза их встретились. Он резко повернулся и направился в туалет.
Туалет хранил в себе запахи тысяч тел, извергнувших из себя моря мочи, тонны желчи, блевотины и дерьма. Он влил и свой маленький ручеек в этот необъятный океан, держа двумя пальцами презреннейшую часть своего естества. Но почему так долго?.. Его взгляд задержался на стенах, хранивших яростные и жуткие истории несчастных человеческих существ – все эти телефонные номера, мужские и женские половые органы, сиськи, яйца, смачно, с какой-то жгучей ненавистью нацарапанные на штукатурке. Хочу, чтобы отшлепали. Бей жидов. Убивайте ниггеров.
Руфус с особой тщательностью вымыл руки, вытер их несвежим полотенцем на ролике и вышел в бар. Молодые люди по-прежнему стояли у музыкального автомата, девушка в полосатой блузке все так же болтала с подружкой. Он прошел через весь бар, распахнул дверь и вышел на улицу. И только тогда полез в карман посмотреть, что ему сунула Кэсс. Пять долларов. Что ж, можно продержаться до утра. Хватит на ночлег у «Христиан».
Он пересек Шеридан-стрит и медленно побрел вдоль 4-й западной улицы. Ночные бары уже закрывались. Люди толклись у дверей, некоторые в смутной надежде попасть внутрь, другие просто не спешили домой, затягивая прощание; несмотря на холод, ближе к уличным фонарям жались проститутки и прочий неприкаянный люд. Руфус остро чувствовал свою обособленность, нечто похожее испытывал он, разглядывая из окна электрички проносившиеся мимо заборы, фермерские домики, деревья. Вот они неумолимо приближаются, ежеминутно меняя обличья, вот, спеша, словно гонцы или дети, оказываются наравне с ним – и уже несутся прочь, уменьшаясь, пропадая, и вот их уже нет! Этот забор скоро рухнет, – мелькало у него в мозгу, когда поезд мчал его мимо очередной вехи, или: «А вот этот дом надо бы покрасить», или: «Вот засохло дерево». Но эта неожиданно нахлынувшая сродненность с объектом через секунду пропадала – и он уже не имел никакого отношения ни к забору, ни к домику, ни к дереву. Так и сейчас, проходя мимо, он узнавал лица, фигуры, походку, машинально отмечая – смотри-ка, Руфь! Или – прошел старина Ленни. Опять, сукин сын, надрался. Но вслух ничего не произносил.
Руфус миновал Корнелиа-стрит. Когда-то здесь жил Эрик. Ему вдруг представилась комната Эрика, он сам, сидящий под лампой, разбросанные повсюду книги, неубранная постель. Эрик… Но Руфус уже шел по Шестой авеню, огни светофоров и мчащихся такси ослепляли его. На противоположной стороне улицы стояли две юные белые парочки, ожидая разрешительного сигнала светофора. Мимо пронесся большой сверкающий автомобиль, а в нем с полдюжины мужчин, они что-то проорали молодым людям. Руфус почувствовал, что сзади кто-то приближается, – с ним поравнялся молодой парень, белый, в кепочке военного образца и черной кожаной куртке. Он с нескрываемой враждебностью окинул взглядом Руфуса и вразвалочку, виляя задом, пошел дальше по авеню. Остановившись у куполообразного здания кинотеатра, он оглянулся. Зажегся зеленый огонек светофора. Руфус и молодые парочки двинулись навстречу друг другу и, встретясь на середине улицы, прошли мимо; одна из девушек успела бросить на него сочувственно-заинтересованный взгляд. Ладно, сука. Он безо всякой цели направился к 8-й улице, не хотелось спускаться в подземку.
Но ноги сами привели его к метро и, стоя на ступеньках при входе, он поглядывал вниз. Как ни странно, учитывая время суток, но в метро никто не заходил, и лестница пустовала. Интересно, сумеет ли кассир разменять пятидолларовую бумажку? И Руфус начал спускаться по лестнице.
Стоило кассиру отсчитать сдачу, а ему поспешить к турникету, как в метро ввалилась целая толпа: толкаясь и шумно болтая, эти люди опередили его, как рвущиеся к победе спортсмены-пловцы обходят торчащий из воды шест. Что-то новое пробудилось в его душе, что-то, что увеличивало дистанцию между ним и остальными, усиливало боль. Люди торопились на платформу, к путям. Пока он плелся в хвосте у шумной толпы, ему пришла в голову мысль, подспудно зревшая в нем все эти годы. Платформа подземки была, как ему всегда представлялось, опасным местом – она шла несколько наклонно к путям, недаром, будучи ребенком, он никогда, стоя здесь, не выпускал руку матери. Сейчас он затерялся в этой толпе, где каждый был не менее одинок, чем он, и поджидал поезд с завоеванным за долгие годы спокойствием.
А вдруг, подумалось ему, из-за какой-то поломки, погаснет свет и не будет видно, где кончается платформа? Или рухнут балки? Он представил себе, как на несущийся в туннеле поезд обрушивается лавина воды, как машинист, ничего не видя, теряет голову от страха, не различает более огней светофора, а поезд, не останавливаясь, все мчится и мчится по блестящим пересекающимся рельсам неведомо куда, и люди, глядя в окна, истерически вопят, выплескивая друг на друга ярость, накопившуюся за всю их бессмысленную, богохульственную жизнь, все человеческое покидает их, они одержимы лишь одним желанием – крушить, убивать, и потому раздирают друг друга на части, проливают море крови и все это с радостью – впервые за долгие годы пребывания в цепях, с радостью, вне себя от радости, что можно удивить мир, еще раз удивить. Или другая картина. Поезд в туннеле, кругом вода, электричество отключается, со всех сторон попавших в западню людей окружают стены, поток не обрушивается на них сразу, нет, вода сочится постепенно, заливая их раскрытые в крике рты, глаза, добираясь до волос, разрывая одежду и ненароком раскрывая тайны, которые станут теперь достоянием стихии. Это могло случиться. Могло. И Руфус был бы рад этому бедствию, даже если б пришлось погибнуть самому.
Но вот на станцию ворвался поезд, скрыв под собой шрамы рельсов, люди вошли и расселись в освещенном вагоне, почти заполнив его, в верхней же части города он будет набит до отказа, но тогда каждый изолирует себя, преобразовав доставшееся ему пространство в сидячую или стоячую камеру.
Поезд остановился на 14-й улице. Сидя у окна, Руфус видел, как несколько человек вошли в салон. Среди них была цветная девушка, чем-то неуловимо напомнившая ему сестру; посмотрев в его сторону, она сразу же отвела глаза и села подчеркнуто далеко. Поезд рванул в туннель. Следующая была 34-я улица – его остановка. Снова вошли люди, он следил, как перрон стал удаляться. 42-я улица. На этот раз в вагон ввалилась целая толпа, некоторые пассажиры держали в руках газеты. Свободных мест не осталось, и какой-то белый встал рядом с ним, держась за поручень. Руфус еле сдержал приступ отвращения.
На 49-й улице тоже вошло изрядное количество людей, но многие и сошли, поспешив через перрон на пересадку. Белые и черные, скованные временем, местом и историей как одной цепью, – все они спешили как одержимые. Спешили, чтобы поскорее отделаться друг от друга, разойтись по разным квартирам, но разве это возможно? Вечно нам вместе тянуть одну лямку.
Двери захлопнулись, ужасный скрежет заставил Руфуса вздрогнуть. Поезду, видно, надоело тащить тяжелый груз, надоело опасное соседство белых ягодиц с черной коленкой, поэтому он застонал, дернулся, колеса заскрежетали на рельсах, издав неприятный лязгающий звук. Потом он все же покатил дальше, на окраину, где люди постепенно выходили и нагрузка уменьшилась. Фонари, ослепляя, проносились мимо, поезд проезжал станции, где пассажиры дожидались других поездов. Потом поезд снова нырнул в туннель. Он ринулся в зияющую черноту, которая раскрылась, как женщина, чтобы принять его, раскрылась, и весь мир содрогнулся от этого соития. И вот, когда казалось, что рев и движение уже никогда не кончатся, впереди ярко засветились огни 125-й улицы. Со стоном и скрежетом поезд замер. Руфус собирался было выйти, но теперь только оцепенело наблюдал, как люди тянутся к выходу, как открываются двери, как пустеет вагон. Выходили здесь в основном черные. Он подумал, что ему тоже стоит сойти и направиться к родителям, но тут его взгляд задержался на девушке, напомнившей сестру, она шла, печальная, среди белых, ненадолго задержавшись на платформе, прежде чем идти к эскалатору. И вдруг он понял, что никогда не вернется домой.
Поезд тронулся наполовину пустой и с каждой остановкой становился все легче; теперь в нем преобладали белые, бросавшие на Руфуса подозрительные взгляды. Он чувствовал эти взгляды на себе, но как-то отстраненно и незаинтересованно. Лучшее вы забрали, почему ж остального не взяли? На станции у моста, построенного, чтобы увековечить в памяти благодарных граждан имя отца нации, Руфус сошел.
И – вверх по ступенькам, на пустынные темные улицы, где горбатятся неосвещенные великаны-небоскребы, рядом с которыми чувствуешь себя пигмеем; эти гиганты, казалось, исподтишка следили за ним. Прямо над его головой начинался мост, он взмывал ввысь, но саму реку с этого места не было видно. И все же Руфус чувствовал ее близость, ее запах ударял ему в ноздри. А ведь раньше он не понимал, как животные издали чуют воду. Чтобы увидеть реку, надо было перейти шоссе, по которому на огромной скорости мчались автомобили.
И вот наконец он на мосту – осматривается, заглядывает вниз. Молниеносно сменяющийся свет фар на шоссе, казалось, вычерчивал невообразимо длинное загадочное послание. В стороне Джерси-сити тускло светились огоньки, то тут, то там вспыхивали неоновые вывески с рекламой товара, который кто-то хотел продать. Медленным шагом побрел он на середину моста, удивляясь, как это город, по которому он совсем недавно тащился почти в полной темноте, теперь сияет перед ним тысячами огней.
Посередине моста Руфус остановился, холод пробирал его до костей. Он воздел глаза к небу. Ну что? Ты, ублюдок, мать твою… Разве я не Твой сын? Рыдания душили его.
Что-то, с чем Руфус не мог совладать, встряхнуло его как тряпичную куклу, плеснуло в лицо соленой водой и наполнило горло и ноздри мучительным страданием. Он знал, что эта боль не кончится никогда. В город он больше не вернется. Голова упала на грудь, словно кто-то резко ударил его. Он не сводил глаз с воды. Холодно, значит, вода также холодная.
Он черный, и вода – тоже.
Руфус подтянулся на перилах как можно выше и сильно перегнулся. Резкий ветер рвал на нем одежду, дул в лицо, а внутри что-то пронзительно выкрикивало: почему? почему? Он вспомнил Эрика. Руки уже не выдерживали напряжения. Не могу больше так. Перед ним возник образ сестры. Прости меня, Леона, прошептал он, а затем ветер подхватил его, он почувствовал, что летит головой вниз; ветер, звезды, огни, вода – все смешалось, ладно. Он успел почувствовать, как с одной ноги сорвался ботинок, вокруг больше ничего не было, только ветер, ладно. Ты, сукин сын, Ублюдок Всемогущий, я иду к тебе.
2
Шел дождь. Кэсс устроилась на полу в гостиной с кофе и воскресными газетами. Она прикидывала, какая фотография Ричарда будет лучше смотреться на первой странице книжного обозрения. Зазвонил телефон.
– Алло!
В трубке послышался глубокий вздох, а затем низкий, неуловимо знакомый голос спросил:
– Это Кэсс Силенски?
– Да.
Кэсс мельком взглянула на часы, не понимая, кто бы это мог звонить. Половина одиннадцатого – все, кроме нее, еще спали.
– Наверное, – торопливо заговорили в трубке, – вы не помните меня, хотя однажды мы виделись, в центре, в ночном клубе, где работал Руфус. Я его сестра, Ида. Ида Скотт…
Кэсс ясно представила себе очень молодую, красивую, темнокожую девушку с рубиновым колечком-змейкой на пальце.
– Как же, очень хорошо помню вас. Как поживаете?
– Хорошо. Хотя, – короткий смешок, – наверное, не очень хорошо. Я ищу брата. Сегодня все утро звонила Вивальдо, но его нет дома, – она изо всех сил старалась, чтобы голос не дрожал и не срывался, – и вот решила позвонить вам. Подумала, может, вы видели Вивальдо или знаете, где его можно отыскать. – Не в силах больше сдерживаться, девушка разрыдалась. – Вы не видели его? Или моего брата?
Краем уха Кэсс услышала, что в спальне завозились дети.
– Пожалуйста, – сказала она, – постарайтесь успокоиться. Не знаю, где сейчас находится Вивальдо, но вашего брата я видела вчера вечером. И он неплохо выглядел.
– Видели вчера вечером!
– Да.
– Но где вы его видели? Где он был?
– У Бенно. Даже выпили с ним. – Кэсс вспомнилось лицо Руфуса, и неясное, безотчетное беспокойство охватило ее. – Поболтали о том о сем. Он в полном порядке.
– Ох, – в голосе послышалось неподдельное облегчение, и Кэсс вдруг припомнила характерную улыбку девушки, – ну, доберусь я до него! – И еще: – А вы знаете, куда он пошел? Где живет?
По доносившемуся из спальни шуму Кэсс мгновенно определила, что Пол и Майкл затеяли драку.
– Не знаю. – Почему я не спросила, подумала она. – Но Вивальдо непременно знает, они были вместе, когда я уходила, они оставались вдвоем… знаете что… – Громко вскрикнув, навзрыд зарыдал Майкл – как пить дать разбудят Ричарда. – Сегодня днем нас навестит Вивальдо, может, и вы подойдете?
– В какое время?
– Ну, в четыре или в половине четвертого. Вы знаете, где мы живем?
– Да. Да. Я приду. Спасибо.
– И, пожалуйста, не волнуйтесь зря. Уверяю вас, все будет хорошо.
– Конечно. Я так рада, что позвонила вам.
– Значит, увидимся.
– Да. До свидания.
– До свидания.
Кэсс со всех ног бросилась в детскую; Пол и Майкл, яростно вцепившись друг в друга, катались по полу. Майкл побеждал. Кэсс еле оторвала его от брата. Пол поднялся сам, вид у него был пристыженный. Ему как-никак уже стукнуло одиннадцать, а Майклу только исполнилось восемь.
– В чем дело?
– Он хотел отобрать мои шахматы, – сказал Майкл.
Шахматная доска валялась тут же, старые облупившиеся фигуры беспорядочно рассыпались по кроватям и полу.
– Я не собирался их отнимать, – оправдывался Пол, заглядывая матери в лицо. – Просто хотел научить его играть.
– А вовсе ты и не умеешь играть, – огрызнулся Майкл. Теперь, когда мать была рядом, он шмыгнул раза два носом и принялся собирать свою рассеянную по комнате собственность.
Пол знал, как играть, во всяком случае ему было известно, что в шахматы играют по определенным правилам. Иногда он играл с отцом, и ему нравилось дразнить младшего брата, который относился к шахматным фигурам как к игрушкам, двигая их по полу и придумывая про них разные истории. В этой игре ему, разумеется, партнер был не нужен. А Пол, видя, какая роль отводится старым, сослужившим добрую службу шахматам отца, впадал в справедливый гнев.
– Не трогай его, – сказала Кэсс, – это шахматы Майкла, и он может делать с ними что хочет. А теперь одевайтесь и марш в ванную.
Она сама зашла туда, чтобы лично убедиться, что все идет как надо, проследить, как они умываются.
– Папа проснулся? – поинтересовался Пол.
– Нет. Еще спит. Он много работал.
– Можно мне разбудить его?
– Нет. Сегодня нельзя. Стой спокойно.
– А завтракать он будет? – спросил Майкл.
– Проснется – и позавтракает, – ответила Кэсс.
– Никогда мы вместе не завтракаем, – захныкал Пол. – Почему мне нельзя его разбудить?
– Потому, – отрезала она. Все трое перешли в кухню. – Сегодня мы могли бы вместе позавтракать, но папе нужно выспаться.
– Всегда-то он спит, – посетовал Пол.
– А вы вчера очень поздно пришли, – робко произнес Майкл.
Кэсс была довольно объективной, беспристрастной матерью, во всяком случае, хотела такой быть, но иногда не могла сопротивляться обаянию застенчивого, серьезного Майкла; прямой и расчетливый Пол не имел над ней такой власти.
– А тебе что за дело? – сказала она и взъерошила белокурые, с рыжеватым отливом, волосы сына. – Да и откуда тебе знать, когда мы пришли? – Она вопросительно посмотрела на Пола. – Эта женщина что, разрешила вам поздно лечь? Когда вы вчера отправились в спальню?
Ее тон мгновенно объединил сыновей, сделав союзниками. Она считалась их общей собственностью – между ними сродства было больше.
– Не очень поздно, – неопределенно ответил Пол. Подмигнув брату, он принялся уплетать завтрак.
Кэсс с трудом сдержала улыбку.
– Так во сколько же вы легли, Майкл?
– Не знаю, – сказал Майкл, – но было и вправду еще рано.
– Ну, если эта женщина позволила вам лечь хоть на минуту позже десяти…
– Нет, совсем не так поздно, – запротестовал Пол.
Кэсс сдалась, налила себе еще чашечку кофе и осталась сидеть с сыновьями, пока они ели. Потом, вспомнив про звонок Иды, набрала номер Вивальдо. Там не отвечали. Кэсс подумала, что он может быть у Джейн, но ни номера телефона, ни адреса той не знала.
В спальне послышались шаги Ричарда, а потом и сам он прошлепал в ванную.
Когда муж появился на кухне, Кэсс, подождав, пока он утолит первый голод, сказала:
– Знаешь, Ричард… звонила сестра Руфуса.
– Сестра? Ах да, помню, мы еще как-то ее видели. И что она хочет?
– Хочет знать, где находится Руфус.
– Ну, если уж она не знает, то откуда, черт подери, мы можем знать?
– У нее очень взволнованный голос. Она давно не видела его.
– Она жаловалась? Может, негодяй нашел себе еще одну беззащитную девушку и теперь измывается над ней.
– Да не в этом дело. Она волнуется за брата, хочет найти его.
– Братец у нее не первый сорт, ну ничего, рано или поздно где-нибудь да отыщется. – Ричард удивленно всматривался в расстроенное лицо жены. – Что с тобой, Кэсс, мы же видели его только вчера и не заметили ничего плохого.
– Это правда, – согласилась Кэсс. И прибавила: – Она сегодня днем зайдет к нам.
– О боже! Когда?
– Я пригласила ее часам к трем-четырем.
– Ну, это еще ничего.
Они перешли в гостиную. Пол стоял у окна, глядя на залитую дождем улицу. Майкл на полу что-то чертил в тетради. У него было их великое множество, все разрисованные деревьями, домами и разными чудищами, а также абсолютно не поддающимися расшифровке сюжетами.
Пол отошел от окна и встал перед отцом.
– Мы пойдем наконец? – спросил он. – Можем опоздать.
Пол никогда не забывал данных ему обещаний и намеченных мероприятий.
Ричард подмигнул Полу и легонько щелкнул Майкла по голове. Майкл всегда ворчал, когда отец шутил с ним таким образом, но было видно, что в душе он не очень-то возражает и даже рад; он как будто каждый раз убеждал себя, что из-за любви к отцу можно изредка поступиться достоинством.
– Ладно, пошли, – позвал сыновей Ричард. – Хотите, чтобы вас проводили в кино, – поторапливайтесь. Любишь кататься – люби и саночки возить.
Стоя у окна, Кэсс смотрела, как все трое, сбившись под большим зонтом Ричарда, удаляются от дома.
Двенадцать лет. Тогда ей был двадцать один год, а ему двадцать пять, они познакомились в самый разгар войны. Кэсс перебралась в Сан-Франциско, где ей платили за то, что она, по сути дела, просто слонялась по верфи. Могла бы устроиться и получше, но ей было на все наплевать. Она просто ждала конца войны, ждала, когда Ричард вернется к ней. А он закончил войну в военно-хозяйственном управлении Северной Африки, где занимался, как она поняла, в основном тем, что защищал арабских чистильщиков ботинок и нищих от нападок циничных, злонамеренных французов.
Кэсс взбивала тесто для торта на кухне, когда вернулся Ричард. Он просунул голову в дверь, с носа у него капала вода.
– Как дела?
Она засмеялась.
– Как сажа бела. Вот вожусь с тестом.
– Плохой знак. Выходит, никакой надежды на лучшее будущее. – Ухватив одно из кухонных полотенец, он вытер лицо.
– А что случилось с зонтом?
– Оставил ребятам.
– Ричард, он же громадный. Думаешь, Пол с ним справится?
– Ну конечно нет, – «успокоил» ее Ричард, – сильный ветер подхватит зонт и унесет далеко-далеко, и мы никогда больше не увидим наших детей. – Он подмигнул. – Это как раз и входило в мои планы. Не так уж я глуп. – Ричард прошел в кабинет и закрыл дверь.
Кэсс поставила торт в духовку, начистила картошки и моркови, залила овощи водой и прикинула, сколько времени потребуется, чтобы приготовить ростбиф, переоделась, вынула торт и поставила его остудиться. Тут и раздался звонок в дверь.
Пришел Вивальдо – в черном плаще, с взлохмаченных волос стекали капли дождя. Лицо бледнее, а глаза чернее обычного.
– Привет! – воскликнула Кэсс. – Как чудесно, что ты смог прийти! – И она втянула Вивальдо внутрь квартиры, не дав ему застрять на пороге. – Оставь мокрые вещи в ванной, а я тебе тем временем чего-нибудь налью.
– Умная девочка, – слабо улыбнулся Вивальдо. – Господи, ну и наследил же я. – Он скинул плащ и исчез в ванной.
Кэсс подошла к двери кабинета и постучала.
– Ричард, Вивальдо уже здесь.
– О’кей. Сейчас выйду.
Она наполнила две рюмки и внесла их в гостиную. Вивальдо, вытянув длинные ноги, сидел на диване, неподвижно глядя на ковер.
Кэсс протянула ему рюмку.
– Как чувствуешь себя?
– Нормально. А где ребятки? – Он осторожно поставил рюмку подле себя, на низкий столик.
– В кино. – Она пристально смотрела на него. – Может, все и нормально, но я видела тебя и в лучшей форме.
– Ну, что тебе сказать… – опять та же слабая улыбка, – наверное, еще не совсем протрезвел. Надрался вчера с Джейн. Пока не напьется до чертиков – бревно бревном в постели. – Взяв рюмку, он сделал глоток, вытащил из кармана помятую сигарету и закурил. Он выглядел таким печальным и убитым, когда сидел вот так, ссутулившись, с дымящейся сигаретой в руке, что у Кэсс слова не шли с языка.
– А где Ричард?
– Сейчас выйдет. Он в кабинете.
Вивальдо еще немного отхлебнул из рюмки, он явно хотел завязать разговор, но не знал, с чего начать.
– Вивальдо?
– Да?
– Руфус ночевал вчера у тебя?
– Руфус? – Вид у него стал испуганный. – Нет. А что?
– Звонила его сестра. Спрашивала, где он.
Они молча смотрели друг на друга, и растерянность Вивальдо вызвала у Кэсс новый прилив мучительного страха.
– Куда он пошел? – спросила она.
– Кто его знает. Я думал – в Гарлем. Он так неожиданно испарился.
– Вивальдо, она придет сюда сегодня.
– Кто?
– Его сестра, Ида. Я сказала, что вчера вечером Руфус остался с тобой, и пообещала, что днем ты будешь у нас.
– Но я не знаю, где он. Мы сидели в дальнем зале, я разговаривал с Джейн, а он вскользь бросил, что идет в туалет или еще куда-то. И не вернулся. – Он поднял на нее глаза, потом перевел взгляд на окно. – Куда он мог пойти?
– Может, встретил друга.
Вивальдо даже не потрудился прокомментировать это предположение.
– Не мог же он подумать, что я выставлю его на улицу. Мы с Джейн прекрасно устроились бы у нее.
Вивальдо швырнул сигарету в пепельницу. Кэсс молча следила за ним.
– Никогда не понимала, – мягко заметила она, – что Джейн от тебя надо. Или, скажем, тебе – от нее.
Вивальдо погрузился в изучение своих неровно подстриженных, не очень чистых ногтей.
– Сам не знаю. Думаю, просто хотелось, чтобы у меня была женщина, с которой можно коротать долгие зимние вечера.
– Но она намного старше тебя. – Кэсс взяла его пустую рюмку. – Она и меня-то старше.
– Это неважно, – угрюмо пробурчал он. – Мне нужна женщина, которая знала бы, что к чему.
Кэсс немного подумала.
– Да, – произнесла она наконец, – эта женщина знает, что к чему…
– Мне нужна женщина, – буркнул Вивальдо, – а ей – мужчина. Что в этом плохого?
– Ничего, – промолвила она. – Если именно это вам обоим надо.
– Ты думаешь, я притворяюсь?
– Не знаю, – сказала Кэсс, – право, не знаю. Только, я уже говорила, около тебя всегда вьются жуткие бабы – проститутки, нимфоманки, пьяницы, и мне кажется, ты путаешься с ними, чтобы спрятаться от настоящего чувства. Всерьез и надолго.
Вивальдо вздохнул и улыбнулся.
– Ну вот, а я как раз хотел влюбиться в тебя.
Кэсс рассмеялась.
– Вивальдо, ты невозможен.
– Ведь мы с тобой друзья, – сказал он.
– Ну конечно. Но ты всегда смотрел на меня как на жену своего друга. И не думал обо мне как…
– …о женщине, – закончил он. – Не будь так уверена.
Она густо покраснела; его слова вызвали у нее раздражение, но почему-то были и приятны.
– Я не говорю о твоих сексуальных фантазиях.
– Я всегда восхищался тобой, – сказал он спокойно. – И завидовал Ричарду.
– Давай лучше сменим тему, – попросила она.
Вивальдо промолчал. Кэсс со звоном перекатывала лед в пустом стакане.
– А что мне делать? – проговорил он. – Я не монах. Бегать в негритянские кварталы и за деньги…
– Значит, в негритянские? – улыбнулась она. – Примерный американец.
Ее слова разозлили Вивальдо.
– Я ведь не говорил, что негритянские девушки лучше белых. – Неожиданно он расхохотался. – Может, отрезать эту штуку к чертям собачьим, и дело с концом.
– Не будь ребенком. Право, ты только послушай, что несешь.
– Значит, ты утверждаешь, что рядом бродит кто-то, кому я позарез нужен. Это я-то?
– Ничего я не утверждаю, ты сам все знаешь, – отрезала Кэсс.
Они услышали, как открывается дверь кабинета.
– Пойду налью тебе еще, напьешься хоть раз в приличной компании. – В передней Кэсс столкнулась с Ричардом, который нес рукопись. – Тебе налить?
– С удовольствием пропущу стаканчик, – ответил он и проследовал в гостиную. В кухню доносились их голоса, они приветствовали друг друга слишком громко и подчеркнуто дружелюбно. Когда Кэсс вновь вошла в гостиную, Вивальдо листал рукопись, а Ричард стоял у окна.
– Просто читай, – говорил он, – и на время забудь о Достоевском и прочих высоких материях. Это всего лишь книга, правда, весьма неплохая.
Кэсс протянула Ричарду рюмку.
– Даже очень хорошая, – подтвердила она. Рюмку гостя она поставила на столик. Ее удивляло собственное волнение: понравится или нет?
– Следующая книга, думаю, будет получше, – сказал Ричард. – И совсем другая.
Вивальдо отложил рукопись и отпил из рюмки.
– Обещаю, – широко улыбнулся он, – что прочту сразу как протрезвею. Если только, – прибавил он, помрачнев, – это когда-нибудь произойдет.
– Только чур все начистоту. Слышишь, сукин ты сын?
Вивальдо поднял на него глаза.
– Обещаю.
Давным-давно Вивальдо принес Ричарду рукопись, вручив ее с теми же словами. Кэсс отошла в уголок и закурила. Услышав, как хлопнула дверь лифта, она взглянула на часы. Четыре. В дверь позвонили.
– Вот и она, – вымолвила Кэсс и поймала взгляд Вивальдо.
– Расслабьтесь, – сказал Ричард. – У вас не лица, а трагические маски.
– Ричард, – проговорила Кэсс, – это, должно быть, сестра Руфуса.
– Прекрасно. Впусти ее. Не заставляй ждать на лестнице. – Не успел он договорить, как раздался еще один звонок.
– О боже, – вырвалось у Вивальдо. Он встал, выглядя при своем гигантском росте удивительно беспомощным.
Кэсс отставила рюмку и пошла открывать. Перед ней стояла довольно высокая, плотная, хорошо одетая девушка, с более темной, чем у Руфуса, кожей. На ней был плащ с капюшоном, в руке – зонтик; в полумраке на Кэсс внимательно глядели из-под капюшона темные глаза, не терявшиеся, однако, на темном лице. Было что-то общее с Руфусом в этих глазах – больших, умных, настороженных – и в улыбке.
– Кэсс Силенски?
Кэсс протянула руку.
– Входите. Я, конечно же, помню вас. – Она закрыла за девушкой дверь. – Тогда я еще подумала, что вы одна из самых красивых женщин, которых я видела.
Глядя на девушку, Кэсс впервые осознала, что негритянки тоже краснеют.
– Ну, что вы, миссис Силенски…
– Дайте мне ваши вещи. И, пожалуйста, зовите меня просто Кэсс.
– А вы меня Идой.
Кэсс забрала ее верхнюю одежду.
– Налить вам чего-нибудь?
– Думаю, мне это просто необходимо, – ответила Ида. – Если бы вы знали, сколько дней я рыскаю по городу в поисках этого негодника, моего брата…
– Вивальдо в гостиной, – быстро проговорила Кэсс, желая как-то подготовить девушку и не зная, что сказать. – Что будете пить? У нас есть бурбон, шотландское виски, хлебная водка. Есть немного русской водки, кажется…
– Бурбон, пожалуйста. – Девушка еще не успела отдышаться; она последовала за Кэсс на кухню и ждала, пока та наполнит рюмку. Кэсс передала ей бурбон и со значением взглянула на нее.
– Вивальдо не видел вашего брата со вчерашнего вечера, – сказала она. Глаза Иды широко распахнулись, нижняя губка оттопырилась и мелко задрожала. Кэсс мягко коснулась ее плеча. – Пойдемте. Постарайтесь не волноваться. – Они вошли в гостиную.
Вивальдо стоял в той же позе, в какой его оставила Кэсс, и, похоже, не двигался за все время ее отсутствия, Ричард подравнивал ногти, при виде женщин он приподнялся с кресла.
– Это мой муж Ричард, – проговорила Кэсс, – а с Вивальдо вы знакомы.
Они обменялись рукопожатиями, бормоча при этом приветствия, потом воцарилась тишина, которая с каждой минутой становилась напряженнее. Все сели.
– Много воды утекло с тех пор, как мы виделись последний раз, – произнесла Ида дрожащим голосом.
– Больше двух лет прошло, – отозвался Ричард. – Руфус приводил вас пару раз, потом куда-то спрятал. И поступил, по-своему, мудро.
Вивальдо не проронил ни звука. Его черные как смоль волосы, глаза и брови резко контрастировали с мертвенной бледностью лица.
– Кто-нибудь знает, где мой брат? – вырвалось у Иды. Она обвела взглядом присутствующих.
– Вчера он был со мной, – ответил Вивальдо тихим голосом. Ида подалась вперед, чтобы лучше слышать. Вивальдо откашлялся.
– Мы все его видели, – вмешался Ричард. – Он прекрасно выглядел.
– Предполагалось, что он будет ночевать у меня, – сказал Вивальдо, – но тут я… заговорился с кем-то… и когда снова огляделся, его уже не было. – Он смутно чувствовал, что такое объяснение девушку не устроит. – Там толклось много его друзей, может, он остановился с кем-нибудь выпить, слово за слово, вышли вместе и решили не расставаться.
– Ты знаешь этих друзей? – спросила Ида.
– В лицо. Узнаю при встрече. Но имен – нет.
Снова все замолкли. Вивальдо опустил глаза.
– Деньги у него хоть были?
– Как сказать… – Вивальдо бросил быстрый взгляд на Кэсс и Ричарда, – точно не знаю.
– Как он выглядел?
Все переглянулись.
– Неплохо. Разве что немного усталым.
– Еще бы. – Ида пригубила бурбон; рука, державшая рюмку, слегка дрожала. – Не хочу устраивать много шума из ничего. Думаю, с ним все в порядке, где бы он ни находился. Мне просто надо знать. Мама и папа сходят с ума от волнения, – она нервно засмеялась, у нее перехватило дыхание, – и я, как видите, тоже. – Она помолчала. – Он – мой единственный старший брат. – Глотнув спиртного, она поставила рюмку рядом с креслом на пол. И непрерывно вертела на длинном тонком пальчике кольцо с рубиновой змейкой.
– Не сомневаюсь, что он жив-здоров, – заговорила Кэсс, понимая, как жалко звучат слова утешения. – Дело в том, что Руфус… ну, он, как большинство из нас, когда нам плохо, хочет быть один, уползти в нору, чтобы зализать там свои раны. Только потом возвращается к людям. – Она взглянула на Ричарда, ища поддержки.
Ричард не подвел.
– Мне кажется, Кэсс права.
– Я всюду побывала, – сказала Ида, – всюду, где он играл. Расспрашивала всех, с кем он работал и кого сумела разыскать, даже тех, с кем он был шапочно знаком. Ездила в Бруклин к родственникам… – Она перевела дух и повернулась к Вивальдо: – А где же он все-таки был? Он тебе сказал?
– Нет.
– Ты что, не спрашивал?
– Спрашивал, конечно. Но он ничего не сказал.
– Ведь я оставила тебе номер телефона, просила позвонить сразу же, если увидишь его. Почему ты не позвонил?
– Он пришел ко мне очень поздно и просил не беспокоить вас, заверил, что утром сразу же направится домой.
Объяснения Вивальдо звучали беспомощно, а сам он был готов едва ли не расплакаться. Ида внимательно вгляделась в него и опустила глаза. В воцарившейся тишине явственно ощущалась глухая враждебность, исходившая от девушки, сидевшей обособленно от остальных в круглом кресле, посередине комнаты. Она обвела взглядом поочередно друзей своего брата.
– Странно, что он ничего не рассказал, – проговорила она.
– Руфус вообще не очень разговорчив, – сказал Ричард. – Вы сами, наверное, знаете, как трудно из него что-нибудь выудить.
– Мне бы удалось, – отрезала Ида.
– Но вы его сестра, – мягко вымолвила Кэсс.
– Да, – подтвердила Ида, опустив голову и рассматривая свои руки.
– Вы обращались в полицию? – поинтересовался Ричард.
– Обращалась. – Она брезгливо махнула рукой, поднялась и подошла к окну. – Мне ответили, что цветные сплошь и рядом уходят из дома. Пообещали, что постараются отыскать его. Но им плевать. Плевать, что случится с черным!
– Зачем вы так? – вскинулся Ричард, густо покраснев. – Это несправедливо. Я не сомневаюсь, что они будут его искать, как искали бы любого другого жителя города.
Ида взглянула на него.
– Что вы можете знать? А вот я знаю, знаю, о чем говорю. И если говорю, что им наплевать, значит, действительно наплевать…
– Напрасно вы так думаете.
Девушка смотрела в окно.
– Черт возьми! Бродит где-то там. Мне нужно отыскать его!
Она стояла к ним спиной. Кэсс видела, как плечики ее задрожали, и, подойдя, ласково взяла ее за руку.
– Не надо, – отпрянула от нее Ида. Она порылась в кармане своего костюма, ничего там не нашла и, вернувшись на прежнее место, вынула из сумки бумажную салфетку. Утерла глаза, высморкалась и взяла в руки рюмку.
Кэсс беспомощно смотрела на нее, не зная, как быть.
– Давайте налью вам еще, – сказала она и, взяв рюмку, отправилась на кухню.
Когда она вернулась, Вивальдо как раз говорил:
– Ида, если я могу хоть чем-то… – Голос его дрогнул. – Черт подери, я тоже его люблю. И тоже хочу найти. Целый день себя казню, что упустил его вчера вечером.
При словах Вивальдо «я тоже его люблю» Ида подняла на юношу свои громадные глаза и посмотрела так, словно увидела его впервые, потом потупилась.
– Не представляю, чем ты можешь помочь.
– Ну, буду хотя бы сопровождать тебя в поисках. Могли бы искать вместе.
Было видно, что Ида мысленно взвешивает это предложение, как бы прикидывая, на что он может сгодиться.
– Ладно, – произнесла она наконец, – мы можем вместе проверить пару местечек в Вилледж…
– Хорошо.
– Ничего не могу с собой поделать. Мне кажется, все считают меня просто истеричкой.
– Я буду рядом. Про меня так не подумают.
Ричард расплылся в улыбке.
– Это уж точно, такое про тебя не подумают. – Помолчав, он прибавил: – И все-таки не пойму, в чем проблема. Скорее всего, Руфус спит где-нибудь без задних ног.
– Но его никто не видел почти шесть недель! – вскричала Ида. – До самого вчерашнего вечера! Я хорошо знаю своего брата, такого с ним никогда не случалось. Где бы он ни был, что бы там ни происходило, он всегда возвращался домой, не желая нас волновать. Всегда приносил деньги и подарки, но и будучи на мели, без цента в кармане, все-таки приходил в родной дом. И не рассказывайте мне сказки, что он где-то отсыпается. Шесть недель – это уже слишком. – Она понизила голос, перейдя на злобный шепот. – А ведь вам известно, как все обернулось у него с этой чертовой психованной сучкой, с которой он спутался.
– Это ваше дело, – сказал растерянно Ричард, помолчав. – Поступайте, как считаете нужным.