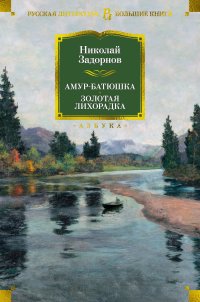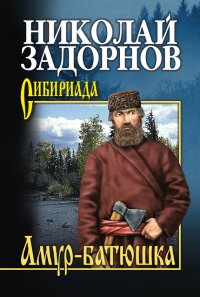Читать онлайн Гонконг бесплатно
- Все книги автора: Николай Задорнов
© Задорнов Н.П., наследники, 2016
© ООО «Издательство „Вече“», 2016
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2016
Сайт издательства www.veche.ru
Так кончилась эта экспедиция, в которую укладываются вся Одиссея и Энеида – и ни Эней, с отцом на плечах, ни Одиссей не претерпели и десятой доли тех злоключений, какие претерпели наши Аргонавты…
И. Гончаров. Через двадцать лет
Глава 1. Над омраченным Петроградом
…Постыдное чувство овладело петербургскою публикою, когда англо-французский флот… явился перед Кронштадтом. Был ли взят Кронштадт?.. Нам чуть ли уже не казалось, что он взят… Англичане по делу о стоянии их флота у Толбухина маяка совершенно уподобились нам… Мы позеленели от подвигов их флота… они закричали: «Англия обесчещена и должна показать, что она не так бессильна!»… «Непир – трус! – закричали они. – Если он не взял Кронштадта и не бомбардировал Петербурга, мы должны загладить этот стыд наш другим делом».
Н. Чернышевский.Рассказ о Крымской войне (по Кинглеку)
…Поезд подходил к Николаевскому вокзалу, паровоз уже вошел под своды и дал гулкий гудок, а по окнам вагона все еще лило. Дождь! Дождь и ветер, как всегда в Европе и в ее «окне». Словно этот дождь и не прекращался с тех пор, как вышли на фрегате из Кронштадта.
– Отец! – радостно воскликнул лейтенант Александр Колокольцов, видя высокую фигуру в цилиндре.
Встреча русского посла, прибывшего из Японии, официальная. Сквозь зеркальные стекла вагона видно, что на перроне полно форменных шинелей. Генералы и адмиралы. Высшие чиновники Министерства иностранных дел. Тут же в фуражках с голубыми и красными околышами жандармские офицеры, полиция, носильщики – не менее важные, чем жандармы.
Под крутым и гулким сводом в последний раз, как через гигантский рупор, кратко свистнул паровоз и громче ударили струи пара.
«Круг замкнулся! Вот когда наконец закончились мои путешествия! – подумал Путятин, сходя с подножки вагона. – Вот и она! Мэри, моя милая Мэри. Дети мои! Как она прекрасна, свежа и нарядна!»
На Мэри пальто из современной непромокаемой материи; и дети в таких же, с пелеринами; светские, чистые петербургские дети. Слуги со сложенными зонтиками и с готовностью оказать внимание господам и вещам.
Моряки вышли не задерживаясь. У вагона третьего класса толпа встречала матросов. Путятин взял их в поезд с собой. Ушел из Петербурга с шестьюстами, а возвратился с десятью.
Блестящий поезд, это не пиратская халка[1] на Жемчужной или на Янцзы, где офицеры и матросы спали вповалку на палубе, не ночлег в японской деревне Миасима на пешем переходе в Хэду через горы полуострова Идзу и не Амур широкий, где и Путятину пришлось идти бечевой. Шел босой по песку с господами офицерами и матросами, налегая на лямки. Под конец плавания у парохода плавучими лесинами вдребезги разбило колеса, несмотря на то что и баграми и жердями охраняли как могли.
Вчера, когда отошли от Москвы, Витул снял с адмирала сапоги, и он отдыхал на бархатном диване, как в дорогом отеле, в одиночестве…
Мэри истово перекрестила мужа, словно уже при встрече благословляла его на подвиг еще более тяжкий, чем те, что он совершил в путешествиях. У нее сильная рука, объятия кратки и крепки, как и ее тройной поцелуй. Милый округлый подбородок, миловидное лицо, взгляд решительный, властный и требовательный, более адмиральский, чем у самого Путятина. Мэри воинственно воодушевлена. Она не сидела здесь сложа руки и старалась помогать делу мужа все эти годы, проведенные в разлуке. Истово и много молилась в церквах и соборах, ездила на поклонение мощам, заказывала молебны, исповедовалась и всем этим как бы торжественно присягала на верность. Ведь Евфимий Васильевич сам ей говорил, что ему нравится истовость веры.
…Выставив грудь в орденах, боцман Черный сходил среди расступившейся толпы со ступеней вокзала.
– Ваня! – удивилась жена, державшая его под руку. – А где же ухо-то?
Черный посмотрел на высокие дома вокруг площади и на Лиговке, как бы еще не веря, что вернулся.
– Ухо – ничего! – ответил он. С потерей уха он примирился. – Это не беда!
– Серебряным долларом американец снес ему ухо, самым краешком, и сразу выбросил, – пояснил Аввакумов.
«Обкорнали его! – подумал Глухарев, шедший с двумя рослыми сыновьями, одетыми в сапоги и кафтаны. – А то чуть что скажешь – и тут же его ухо…»
…Евфимий Васильевич, усевшись в карете рядом с Мэри, взявшей на руки маленькую Олю, очень расчувствовался и не имел никакого желания говорить про политику, о раздвинутых им на Востоке горизонтах и о просторах для будущего. С приездом в Петербург Путятин становился почти богатым человеком. За все время плавания ежемесячно получал он три тысячи рублей серебром. Тысячу министерство платило Мэри. Тысяча откладывалась до возвращения посла и адмирала. Тысячу он брал себе, но старался не тратить. Ведь никто не узнает и в историю не будет записано, как ради семьи Путятин скупился, ничего себе не позволял, берег каждую копейку. Офицерам не нравилось. Матросы замечали, но не осуждали. Для экономии счастливейшее время было, когда шли вверх по реке и пароход тянули на себе бечевой. По целым месяцам ни копейки расходовать не приходилось, ни полушки, ни гроша. Вот чем еще Амур и хорош! Там купить нечего и деньги некуда девать. Теперь должно было скопиться более сорока тысяч. Почти четыре года прошло, считая время подготовки к экспедиции. Да еще будет пенсион! Теперь уж, по всей видимости, скоро конец войне.
«Но, впрочем, разве это богатство по нынешним временам? Для Петербурга и то невелик капитал, а в Гонконге китайские компрадоры зарабатывают по двести тысяч в год и взяток платят своим чиновникам на сумму большую, чем я отложил за четыре года».
Мэри с воодушевлением рассказывала, какая торжественная панихида была отслужена в столице по адмиралу Корнилову.
В отеле нанята целая анфилада комнат, как квартира в скромном, но приличном доме. С окнами на Исаакиевский собор и на военное министерство. Наконец Путятин вернулся в Петербург! Хотя и в отеле, а все же дома! Тут уж не опасаешься сидящих на мачтах бакланов, что подслушивают. Тут все бакланы сами его опасаются!
В Министерстве иностранных дел пришлось услыхать о предстоящей смене директора Азиатского департамента. Прочили на эту должность Егора Петровича Ковалевского, которого ждали на днях из Севастополя, где он сражался в рядах защитников и получил генерала. Ковалевский хорошо знаком Путятину. Знаменитый путешественник по пустыням Африки и Азии. Под видом священника когда-то побывал в Пекине в составе духовной православной миссии, изучал Китай. Знает многие восточные страны и восточные языки. В Севастополе, конечно, немало пользы принес, скорее всего, через свои дружеские связи с влиятельными турками, арабами и с крымскими татарами, добывал через них нужнейшие сведения. Обратил на себя высочайшее внимание! Не зря в петербургском обществе просвещенных болтунов Егора Петровича возненавидели, и у него явилось много завистников и неблагожелателей.
Пришлось услыхать, что государь перед отъездом в Николаев ждал Путятина. Это означало, что записка на высочайшее имя будет передана графом Нессельроде незамедлительно, как только царь вернется в Петербург. Бумагам дадут ход, а самому Путятину предстоит высочайшая аудиенция. Министр иностранных дел и канцлер граф Нессельроде хотя и болен, но примет.
Ловко умеют петербуржцы объяснять! Понятно, что Карл Васильевич Нессельроде все еще министр и канцлер, но что уж почти не у дел.
Его высочество генерал-адмирал великий князь Константин также с молодым государем на Черном море.
Приглашение на обед к Карлу Васильевичу. Вместе с супругой.
Нессельроде сказал, что осада Севастополя дорого обошлась союзникам.
Оказалось, что из Гонконга американский банкир Сайлес прислал письма канцлеру графу Нессельроде, сообщая о пребывании Путятина в Японии, и что помощь оказана русскому посольству американцами. Сайлес предлагал и в дальнейшем свои услуги.
– Вы знаете его? Кто этот Сайлес? – спросил Карл Васильевич.
Путятин видел Сайлеса в Симоде, мнения о нем не составил, Константин Николаевич Посьет услугами Сайлеса воспользовался.
Нессельроде сказал, что запасы золота и серебра в Петропавловской крепости убыли более чем вдвое. Заем можно сделать после заключения мира через лондонского банкира Беринга, но еще вернее через парижского Джеймса Ротшильда, с которым у правительства наилучшие отношения.
У Путятина у самого были векселя на контору Джеймса Ротшильда в Шанхае. Конечно, через банкиров можно получить займы. От той же Франции для восстановления нашей страны… И от Англии! И через амстердамского Гоппе! Может быть, нужен выпуск процентных бумаг. Путятин узнал в Южной Африке, что, в то время как шла война в Калекой земле против каффров, английские же торговцы снабжали врагов огнестрельным оружием…
«…Поблек наш Петербург за время войны, многие в трауре, а еще чувствуются богатство и роскошь жизни», – думал Путятин, проезжая в карете. А какой магазин итальянский сверкнул витринами на Невском!
Все время доносится отдаленный гром: это в Кронштадте время от времени палят тяжелые морские орудия. Но в столице все живут спокойно, не прикрываются стенами из мешков с землей.
Противник у Кронштадта. Говорят, его корабли стоят рядами, и по ночам кажется, что в море протянулись освещенные огнями улицы современного города.
Но уж осень; неприятельские эскадры отправятся к себе на Спитхэдский рейд. Скоро отойдут их последние суда… Грохочет далеко, словно ломается лед на большой реке.
О войне весь мир долго узнавал по сообщениям из Крыма. Между тем огромная война велась самыми могущественными морскими державами против царя и его империи не только в Крыму.
Английскому флоту приходилось действовать у всех побережий России, в Черном и Балтийском морях, входить в Белое море и в Рижский залив. Взяты Керчь, Феодосия, убраны все русские крепости на берегах Кавказа.
О событиях на театре военных действий в Крыму и английские и русские газеты писали много. О действиях английского флота на Балтике гораздо меньше и суше сообщалось с обеих сторон. Для русских невыгодно слишком распространяться, что англо-французские эскадры стоят у ворот столицы, что Петербург лишь немногим дальше от войны, чем Севастополь, и в тихую погоду пальба слышна на Невском, хотя бомбы на бульвары не залетают. Не заслуга, и нечего много говорить; казалось, в Петербурге все заткнули уши ватой. У английской прессы свои причины, чтобы не распространяться об этом же.
Впрочем, все знали, что наши стоят стойко, что в Петербурге – гвардия, в Кронштадте – неприступная крепость и флот. Ученый Якоби осуществил свои новые изобретения, созданы еще невиданные смертоносные устройства.
Все это так, но лучше молчать. И сто лет и более спустя будут молчать по инерции и государственные умы, и историки, и пресса. Смолчат о военных действиях и генералы, так как в Кронштадте выстаивают адмиралы, а в военном министерстве не до них.
Началось с того, что в 1854 году 11 марта английский флот отбыл из Портсмута со Спитхэдского рейда. Никогда прежде для действий против неприятеля не отряжалось одновременно такого количества паровых судов… Всего 15 колесных и винтовых, к ним присоединена армада парусных.
Рослый плотный адмирал стоял на мостике флагманского стотридцатипушечного парохода «Герцог Веллингтон». Чарльз Непир со скуластым лицом, со светлыми глазами и выпуклым лбом.
Непир, известный моряк, всегда был в службе. Он не чета другим старикам. Во время войны на флот пошло более ста старых адмиралов, числившихся в службе, но сидевших до того без должностей. Флот Великобритании так велик и могуществен, что выдержит и эту сотню.
Рандеву французской эскадре назначено у берегов Швеции. 25 марта командующий нанес визит датскому королю. 27 марта без помощи лоцманов прошли Бельт и встретили ожидавший эскадру стодвадцатипушечный корабль флота ее величества «Нептун».
Прибыла французская эскадра. У союзников командует адмирал Гамелин. У Непира на эскадре деятельный адмирал Майкл Сеймур. В свои сорок девять лет выглядит молодым человеком, какими бывают в этом возрасте белокурые. Гамелин и Сеймур, кажется, почти в товарищеских отношениях.
За лето 1854 года соединенный флот стоял под Кронштадтом, был у Абе, под Свеаборгом, у Риги, Ревеля и бомбардировал Бомарзунд.
Изучали возможность штурма крепости Свеаборг. Непир послал донесение в адмиралтейство, что комбинированной атакой с суши и с моря Свеаборг может быть взят. Косвенно это предложение о присылке подкреплений морской пехоте. Французы утверждали, что флот может справиться со Свеаборгской крепостью за два часа. К Кронштадту подходили и уходили и снова возвращались. Блокировали Финский залив. Ловили и захватывали парусные суда и суденышки, маленькие пароходики и лодки эстонцев и финнов с дровами и молоком для Петербурга.
Адмиралам известно, что русские ожидают атаки на Кронштадт. По их предположениям, у союзников существует план захвата Свеаборга, высадки десанта и движения сушей на Петербург. Но Кронштадт и Свеаборг с такой силой отвечали на попытки обстрела, что 22 июля блокада Финского залива была прекращена. 8 августа русские взорвали свои укрепления на Ханко. Вот тогда-то, осенью, адмиралы снова собрались на совет. Непир получил депешу, ему предлагалось принять решение.
Адмирал Парсеваль, вице-адмирал Пено и английский контр-адмирал Майкл Сеймур обсуждали с Чарльзом Непиром и адмиралом Гамелином предстоящие операции. В адмиралтейство сообщено, что по позднему времени ничего не может быть предпринято против Свеаборга. Майкл Сеймур с решением согласился неохотно. Молодой адмирал, возвратившись в метрополию, не скрывал своего мнения. Кроме разрушения Бомарзунда и блокады портов эффект кампании ничтожен. Флот должен быть усилен для новых действий против балтийских крепостей.
Общественное мнение обвиняло Чарльза Непира в бездеятельности, проволочках и неспособности командовать.
В «Тайме» писали: «Полезным действиям флота на Балтике серьезно препятствовали не только старческий возраст и моральная робость командующего, но также немобильность французского контингента, состоявшего в значительной части из парусных кораблей».
В 1855 году новым командующим назначен адмирал Ричард Дундас. На корабле «Герцог Веллингтон» он пойдет в плавание во главе теперь уже могущественного флота из 88 судов. Вице-командующий адмирал Майкл Сеймур – на корабле «Эксмоут».
Чарльз Непир оправдался. Он доказал, что своими действиями в 54-м году подготовил кампанию 55-го года. Он собирал «интеллидженс» о русских войсках и укреплениях все время, особенно настойчиво и неустанно в Финском заливе. Были жертвы. Матросы и солдаты морской пехоты погибали, но не зря и редко. Шкипера захваченных судов и пленные лодочники доставляли полезные сведения.
Кампания 1855 года на Балтике началась в густом дыму от массы пароходных труб. Предполагалось в Лондоне, что возможно занятие Гельсингфорса и действия на Кронштадт и в направлении Петербурга. Крепость Свеаборг – главная цель. Но прежде всего – демонстрация у Кронштадта и угрожающий обстрел.
Дундас и Сеймур в кампанию 55-го года продолжали ловлю лайв, мелких шхун и пароходиков, идущих в Петербург, который кормился подвозом по морю.
Чтобы захватить большой пароход, пришлось двум английским крейсерам выбросить русские флаги. Прием разгадан поздно. Пароход захвачен. Вел в Петербург три огромные баржи со свежим продовольствием. Великолепный подарок для моряков, давно уже плававших без «освежения»!
Подошел французский флот. Все время подходили все новые английские корабли.
Мир говорит об отсталости России, о неспособности развить современную науку и создать промышленность. Больше всего об этом пишут сами русские в своих сочинениях, осмеивают самих себя, декларируют маниловизм как свое основное свойство.
Дальнобойные орудия Кронштадта не позволяют приблизиться и занять удобную позицию для бомбардировки. Быстроходный пароход «Мерлин» с храбрым французским командующим адмиралом Гамелином пошел к Кронштадту. За ним английский пароход «Файрфляй», что означает «светлячок», но русским можно перевести эффектней, как «летающий огонек», или в американском смысле «поджигатель», небольшой быстроходный пароход с железным корпусом. На «Мерлин» французский и английский капитаны-наблюдатели. Выброшен белый флаг…
В «шпионские стекла», как принято называть новинку – бинокль, видны золотые шпили церквей Петербурга, сверкающие в солнечных лучах. Пересчитаны русские суда в Кронштадте и на чистой воде. Между гаванью и Кроншлотом десять пароходов разного размера, некоторые винтовые: между Кроншлотом и фортом Меншиков – два трехдечных[2] корабля – bow to bow[3]. Берега охраняются сухопутными войсками, видны три лагеря. Множество gunboats[4].
«Мерлин» возвращалась с обсервации, когда взрыв подбросил корму парохода. Второй удар с еще большей силой потряс весь корабль от кормы до носа. Адмирал Гамелин, в то время как мачты наклонились, угрожая пасть прямо на него, не покинул мостика… И тотчас такой же взрыв подкинул вверх нос английского корабля «Файрфляй»…
В рапортах сообщалось: «Эти неопознанные подземные взрывы причинили весьма значительные разрушения на наших судах. Отойдя на глубокую воду, наши корабли избежали дальнейших разрушений». Так в совершенно разных враждующих между собой государствах одинаково умело составлялись рапорты.
Адмирал Гамелин послал в Париж сообщение о новом характере морской войны.
Мелкие суда и баркасы посланы на поиски. Адмирал Майкл Сеймур на корабле «Эксмоут» командует операцией. Храбрый и славный французский адмирал Гамелин сегодня ушел с частью эскадры к Свеаборгу.
С баркаса сигналили: «Мина изловлена!» На фарватере вблизи Кронштадта оказалась прикрепленной линем к бревну, стоящему на якорях на глубине четырнадцать футов. Сквозь прозрачную воду матрос заметил плавающий предмет.
По палубе корабля «Эксмоут» внесли на ют остроконечный предмет из цинка, формы конуса. Отличившийся матрос держал его на руках. Адмирал Сеймур наклонился и рассматривал таинственную находку. Капитан и офицеры обступили ее.
– Зажигательная трубочка… гильза… задвижка… – говорил Майкл Сеймур. Он рискнул и тронул пальцами железный язычок.
Внутри щелкнуло и что-то соскользнуло; задвижка опустилась, разбилась скляночка – и вдруг мина лопнула, обдавая всех огнем и дымом.
Адмирал схватился руками за лицо и опустился на палубу. Капитан пал навзничь, у него раздроблена нога.
Адмирал привстал, стараясь рассмотреть, что происходит. Сквозь дым он едва видел правым глазом, левый жгло, как огнем.
Остолбеневший матрос, на руках у которого произошел взрыв, стоял цел и невредим и был напуган.
…Ловля мин продолжалась. Ежедневно гребные суда с утра до ночи ходили по заливу. Тем временем сведения о Свеаборге собраны. Адмирал Гамелин прислал судно с новыми известиями.
В виду русского укрепления Гангут к финскому берегу пошла шлюпка под белым флагом. Повезли, чтобы отпустить захваченного в плен капитана-финляндца и его матросов, которые уверяли, что можно в деревне купить корову. Когда шлюпка подошла к обрыву, сверху раздалась стрельба.
В Лондон сообщено, что несколько англичан и пленных финнов коварно и предательски убиты первыми же выстрелами с берега в упор по безоружным людям в шлюпке с белым флагом. Остальные взяты в плен. Убит доктор.
Парламент, газеты, общественное мнение возмущены…
Русский и английский командующие обменялись письмами. На английском судне, пославшем шлюпку, был поднят белый флаг. В шлюпке при тихой погоде белый флаг, как утверждал в ответном письме русский военный министр, не был виден. О месте высадки под флагом мира полагается договориться заранее. Не везде это можно разрешить противнику, что общеизвестно. «Белый флаг уже не раз употреблялся для приближения к нашим судам и укреплениям… Английский офицер и доктор, бывшие в шлюпке, живы».
В Англии буря… Весь мир заговорил о лживости, коварстве, жестокости, о неуважении варваров к белому флагу, о нарушении священных принципов и прав человека. В парламенте требуют возмездия.
Вскоре весь соединенный флот собрался под Свеаборгом. Корабли выстроились тремя линиями. Началась бомбардировка.
Через три дня Свеаборгская крепость, прикрывавшая город Гельсингфорс с моря, была снесена с лица земли артиллерийским огнем соединенных эскадр. Ночью прекратились последние ответные выстрелы. На островах из мглы проступили лишь руины…
В чистоте безветренного ясного утра, перед восходом солнца на эскадре отчетливо стал слышен звон множества церковных колоколов, который казался тем ближе, чем неподвижней и прозрачней был мирный воздух. Это звонили протестантские церкви города Гельсингфорса, как бы восставшего в это утро из-за стен павшей крепости во всем северном великолепии, еще не тронутом ничьими ударами.
Не слышен бас большого православного собора Святого Николая, описания которого имеются во всех энциклопедиях и справочниках. Четко, честно и упрямо и почти однотонно, как в медные доски, били и били колокола на протестантских звонницах, и эти знакомые звуки бередили сердца моряков. Под звон таких колоколов молились дома, ходили в юности на конфирмацию и венчались…
Свеаборгская крепость не существовала. Город, как семья, лишившаяся защиты, просил колокольным звоном о пощаде.
Морская пехота всегда готова к высадке и штурму. Ждут лишь барабана и сигналов. Знамена морской пехоты помнят времена битвы за Гибралтар. Солдаты морской пехоты рекрутировались когда-то из уроженцев Сити, и это единственный род войск, которым разрешалось входить в Сити с оружием, развернутыми знаменами и маршировать под звуки своих прославленных оркестров. Ни один солдат или матрос всех других родов королевских войск не смеет входить в Сити с оружием.
Но десанта не будет, и продвижения к Петербургу по суше не начнется. Адмирал Дундас поднялся наверх, на мостик своего статридцатипушечного трехдечного флагмана с двумя дымящимися трубами и с бортами, похожими на крепостные стены, в трех рядах пушечных бойниц. Действительно, звонили колокола протестантов-единоверцев.
На флагманский корабль явился контр-адмирал Майкл Сеймур с забинтованной головой.
Дундас сказал на военном совете: «Гельсингфорс является твердыней, такой же, как Севастополь, и мы не можем счесть его мирным городом. Гельсингфорс должен разделить судьбу крепости Свеаборг».
Поданы голубые серебряные кувшины со льдом в воде. Тяжелая серебряная посуда и легкое столовое серебро заполнили длинный стол. Известно, что ни одна нация в мире не умеет содержать столовое серебро в таком порядке, как англичане.
Адмиралы и коммодоры разъехались на вельботах. Со склянками на эскадре пробили барабаны, пропели трубы, и сигналы были подняты.
Первыми ударили большие современные нарезные орудия, поставленные на сравнительно небольших пароходах. Видно было, как с одной из кирок сначала покатились черепица и кирпичи, потом колокола, силуэты которых были отчетливо видны, осели, и один из них упал и раскололся. Дробно палили из своих чугунных и медных пушек трехдечные гиганты. Казалось, что борта их пылают огнем. Матросы работали у паровых машин, поливали обшивку кораблей из шлангов. Картинные офицеры, с обнаженными палашами, стоят на палубах всех кораблей.
…После разгрома Свеаборгской крепости и разрушения Гельсингфорса эскадра еще раз пришла на вид Кронштадта, как бы для прощальных салютов.
При ясном небе опять на солнце сверкали золоченые шпили столицы Святой Руси и Петра. В лагерях, раскинутых на берегу, зашевелилась пехота и конница!
Флот начал покидать Балтику, когда заревели осенние штормы.
На каменный причал в Портсмуте в сопровождении офицеров сошел адмирал Майкл Сеймур. Он в непромокаемом плаще и с черной повязкой, закрывающей глаз.
Майкл Сеймур – вице-командующий флотом в минувшую кампанию на Балтике, теперь он сам назначен командующим. Предстоит отправиться в город Викторию, в новую английскую колонию Гонконг, и принять начальствование над индокитайской эскадрой, корабли которой базируются в Гонконге, ведут войну на севере и готовятся к новой войне с Китаем. Репутация боевого моряка и храброго, предприимчивого воина гарантирует, что ошибки, совершенные в минувшие кампании на севере Тихого океана, не повторятся.
Значение Дальнего Востока колоссально возрастает в мировой торговле и в политике. Там Япония, Индия, Гонконг, Китай и Сиам.
Злые языки тем временем утверждают, что дело не в способностях нового командующего, назначенного в Гонконг. Причина не в том, что на Дальнем Востоке решится судьба будущего человечества. Просто кривого сбывают туда, какое бы там будущее ни было, не в Лондоне его оставлять!
Новый командующий должен быть представлен королеве Великобритании. Лицо у Майкла Сеймура длинное, обрамлено белокурыми волосами в начинающейся седине. Выражение его стало еще строже с тех пор, как выбит глаз, и приходилось напрягаться, чтобы за всем усмотреть. Поэтому сэр Майкл Сеймур как бы вдвойне озабочен и никогда не улыбается.
Капитан 1-го ранга Константин Николаевич Посьет, верный спутник и ближайший помощник адмирала Путятина, лучший из его дипломатических советников, у себя в номере гостиницы сидел со своим молодым другом и товарищем по скитаниям лейтенантом Александром Колокольцовым, возвратившимся из деревни.
– Государь, видимо, утвердит все представления Евфимия Васильевича. Шхуна «Хэда» пойдет в Японию как наш подарок в знак вечной к ним дружбы. Мне быть посланником, вам – капитаном. Сможете увидеть свою японскую жену. Как только закончится война, мы должны отправиться… Будет сделано все, чтобы продолжить наши начинания на Востоке… Но неожиданно оказывается, что у дела есть более горячие союзники, оно возбуждает в обществе гораздо больший интерес, чем в Зимнем! У меня есть сведения, что русские в эмиграции, несмотря на войну, уже узнали все, и, видимо, через Америку. Они возлагают большие надежды на Муравьева. Может быть, у него есть ход к ним через Париж и французских родственников. Петербургская молодежь готова видеть в Евфимии Васильевиче передового деятеля… От государя ждут реформ, надеются, что он освободит крестьян, что дадут избирательное право, у нас будет парламент, а через Сибирь и океан мы сблизимся с Америкой и отойдем от реакционной европейской политики. Американская печать полна выражения дружественного восторга нам и твердит, что будущее откроется, только когда Россия получит открытый берег на Тихом океане. Пишут, что от этого зависит прогресс и движение в мире. В Штатах идет запись в добровольческие полки, которые предполагается послать в помощь нам в Крым.
Колокольцов только что из родного поместья, под Новгородом.
– В среду всех участников плавания на «Палладе» приглашает к себе наш несравненный Иван Александрович Гончаров. Идемте! Соберемся, запрем двери и потолкуем.
Горчаков заменяет Нессельроде.
…Горчаков сказал Путятину, что в Вене послам Англии и Франции и представителям Австрии и Пруссии не дал никаких обещаний.
«Мир не будет позорен! – сказал он и добавил: – Временные уступки мы сделаем». О действиях англичан и французов в Китае сказал, что это продолжение их европейской политики, так же как в Индии и в Африке, дал понять, что теперь нельзя судить о европейских державах, пренебрегая сведениями об их колониальной политике. Это прямо касается нас, задевает наши интересы. Полная перемена во взглядах нашей дипломатии! Согласен, что нам надо выходить на Тихий океан. Друг юности его, Пушкин, видел там наше будущее, хотел писать исторический роман о Камчатке.
…Комнаты покойного государя Николая внизу закрыты наглухо. Александр занимается и принимает на втором этаже, как и прежде, когда был наследником. Больших перестановок в Зимнем не сделано, недосуг, все откладывается, видимо, до окончания войны и коронационных торжеств.
Нарядные комнаты Александра после скупого кабинета Николая Павловича! А покои внизу как-то невольно считаешь настоящими императорскими. Почувствовалось, что в новых палатах заговорят о новых плаваниях. Впрочем, путешествие Путятина само по себе не меньшая новинка, чем предполагаемые молодым государем реформы. Привезены сведения, которые хватит изучать много лет целым поколениям.
Молодой государь огромного роста, держится прямо, смотрит строго.
Александр понимал значительность деятельности моряков и Муравьева на Востоке, которой долго не признавал канцлер Нессельроде, ставивший всем палки в колеса. Когда-то по просьбе Константина, проникшегося идеей выхода на Тихий океан еще с юности, отец велел Александру быть председателем Амурского комитета и во всем разобраться.
Отца боялись, его требования исполнялись беспрекословно. Год был тяжкий. В семье наследника умер ребенок. Александр умел заставить себя взяться за дело. Знаменитые учителя с детства внушали, что Сибири принадлежит будущее. Александр знал суждения Петра Великого и Ломоносова об этой стране. Жуковский приучил Александра к мысли об освобождении крестьян и что он станет гуманным самодержцем. И что же теперь? Разноголосица в обществе, в Государственном совете, в правительстве. Все привыкли к гнету отца, покорно ходили под его тяжелой рукой. А теперь все эти старички заспорили, засуетились, и оказывается, что все они – ничтожества.
Путятин доложил о заключении трактата, о постройке шхуны в Хэда и жизни в Японии. Об императоре и шегуне[5], о городах, селах, о торговле и земледелии. Вернувшись в Россию, он уже наслушался упреков за сделанные уступки. Евфимий Васильевич упомянул об англичанах, об их давлении на Японию, как всеми средствами и силами надобно было уравновесить положение…
Александр поднялся и, приходя в хорошее настроение, сказал, что начало положено, поблагодарил Путятина и поцеловал.
Шхуну «Хэда», построенную в Японии, как и представил Путятин, послать в подарок императору Японии. Заплатить тринадцать тысяч за содержание посольства и команды погибшего фрегата «Диана». Материалы, закупленные у японцев для постройки шхуны, не оплачивать, поскольку шхуна, как было на такой случай договорено с бакуфу[6], передается Японии. Быть по сему! Вернуться к этому, чтобы окончательно завершить дела после войны. Представить соображения и все подготовить об отношениях с японским правительством, о доставке в Японию ратификации, о назначении нашего консула, о преподавании японского языка в петербургском университете и о японском словаре. Представить все карты. Вернуться в будущем к делу о границе на Сахалине… Велено будет канцлеру Нессельроде написать обо всем японскому правительству и отправить письмо с ратификацией.
– Но как же так… Путятин, – спросил Александр, подводя адмирала к столу с бумагами, – говорят, что твои офицеры при дешевизне в Японии потратили большие деньги не только на дело? И будто бы все это японцы записали мне в счет, хотя и не упомянули за что?
Путятин смешался, ссутулился, покраснел, стал слабым, старым и жалким. На высочайшее имя тайные доносы доставлялись прежде докладных записок. Как же можно? Во время войны? – как бы говорил молодой укоряющий взор.
Александр взял адмирала за локоть и продолжал со строгостью:
– Скажи, Путятин, своему государю, неужели уж так хороши японки? Впрочем, пусть будет все, как ты просишь! Как и все остальное, что ты предлагаешь… Быть по сему.
Через день в газетах был напечатан указ о возведении Евфимия Васильевича Путятина в графское достоинство. Граф Путятин и графиня Мария Васильевна Путятина получили приглашение в Зимний к высочайшему обеду.
В английской газете, полученной с опозданием через Берлин, Путятин прочел: «Корабли английской эскадры под командованием адмирала Стирлинга захватили в Тихом океане в плен адмирала Путятина и его посольство, возвращающееся из Японии на бременской шхуне „Грета“…»
«Меня в плен взяли?» – испуганно подумал Евфимий Васильевич, в первый миг по привычке веря английской газете. Он всю жизнь считал, что все английские газеты, как «Таймс» – Gazetteer of the world – «газета газет», или «всемирный справочник», как ее называют, печатают лишь достоверные сведения…
Но, видно, что-то все же случилось. Нет дыма без огня! Как же и что все-таки там произошло минувшим летом?
Глава 2. Бременский бриг «Грета»
Большая часть международных бед происходит… оттого, что народы слишком мало знают друг друга.
Н. Чернышевский.Рассказ о Крымской войне (по Кинглеку)
Налетал ветерок, паруса слабо заполнялись и тут же провисали. Судно едва двигалось. По левому борту, на траверсе, видна щетинистая возвышенность северной оконечности острова Сахалин. В море военный пароход, он быстро приближается. На мачте виден Полосатый Джек. С парохода сделали два выстрела. Бриг лег в дрейф.
Лейтенант Алексей Сибирцев надеется, что вид его не выдает; в двадцать два года, кажется, пора научиться владеть собой. За время перехода из Японии его тяготил не голод, не грязь и теснота…
Есть пословица: кто чего боится, то с тем и случится!
Жаль было уходить из Японии. Но раз ушли, то ушли. Как и все, он желал скорее к своим берегам. Возвращение к родному гнезду лечит и заглушает впечатления от того, что осталось за кормой.
Когда завиделись горы Сахалина, Алексей словно увидел отца и мать, боль и тоска по далекому еще дому дали знать о себе с новой силой. Невесте он расскажет обо всем прямо и открыто. До Петербурга еще неблизко…
И вдруг этот английский крейсер!
– Немедленно спускайтесь все в трюм! – кричал, бегая по палубе, шкипер бременского брига Тауло, шедшего под американским флагом, обращаясь ко множеству русских моряков, собравшихся в этот солнечный час наверху. Кричал яростно на обескураженных людей, и они невольно повиновались.
Странно, впрочем, что даже в этот горький час у Алексея сохранился интерес к происходящему.
Все офицеры нервничали. У всех дома семьи или невесты. Все истосковались по России и, наверно, гораздо больше, чем Алексей. Ведь им не жаль было уходить из Японии.
Матросы поглядывают на офицеров, словно хотят спросить: что же будет приказано – дать сдачи или сдаваться? В плен никому не хотелось.
– Только бы подойти к ним, Алексей Николаевич, – сказал Маслов, рослый и плечистый детина с толстой шеей, по приказу адмирала произведенный в Японии в унтера, – мы бы им, сволочам…
Офицеры не выказывали никакого желания драться. Алексей удивлялся, что все подчиняются нелепым требованиям Тауло.
Но остаются мгновения.
– Неужели нельзя взять пароход? – вслух подумал Маслов. – Нас триста. Нет, никому и в голову не приходит. Неужели нельзя заставить немца и подойти к ним, обмануть…
Приказано всем спускаться в трюм. Маслов знал, что хорошим признаком характера представляется офицерам умение с достоинством подчиняться обстоятельствам, посчитаться с силой вовремя.
Плотными рядами улеглись и уселись на настиле в трюме триста человек матросов и офицеров. Здесь же все вещи. У немногих оружие.
Штурманский поручик Петр Елкин прикреплял к кожаной сумке тяжелую гирю. Не меньшая тяжесть и на душе. Три года вел гидрографические заметки, снимал карты. В этой сумке дело всей жизни: плавания, описи, открытия. Надо решиться и расстаться со всем навсегда.
– Господа! Вот мне действительно можно впасть в отчаяние! Вам-то что! Просидите в плену, и все. А у меня отберут все мои описи. Все наши секреты не в ваших глупейших канцелярских бумагах и рапортах, а у меня на картах…
– Куда, зачем они всюду идут? Кто их тут просит, – говорил Янка Берзинь.
– Придут с досмотром, – сказал белокурый матрос-татарин Махмутов, – сразу схватить и дать предупреждение на пароход, что всем головы отрежем, если хоть раз выстрелят. Пусть пропустят в Россию. Пообещаем, что там отдадим всех живыми!
Пароход приблизился, но не подходил, словно его капитан угадывал мысли путятинских матросов. Отвалила шлюпка с вооруженной командой. По выброшенному штормтрапу поднялся офицер и за ним матросы с ружьями и кинжалами.
Шкипер Тауло – рослый немец с лысиной во всю голову – поздоровался, сделал вид, что удивился, зло ощерился и пригласил офицера в рубку. Курс проложен на карте, на штурманском столе.
– Национальность судна?
– Какой груз?
– Пожалуйста, документы. Почему пытались уйти? Почему под американским флагом?
Тауло надел очки, подал бумаги, объясняя, что идет в поисках американских китобойных судов, по просьбе их консула в Японии, для продажи продовольствия, полагал, что американский флаг гарантирует безопасность.
– Есть ли на судне люди кроме команды?
– Нет…
Матрос Тунчжинг – гонконгский китаец, считавший себя англичанином и произносивший свою фамилию на английский лад, – молча стоял в дверях рубки позади Тауло и уже несколько раз подмигивал офицеру, как бы показывая при этом куда-то вниз, словно желал сказать, что там кто-то есть.
– Откройте люки! – велел офицер, выйдя из рубки и обращаясь к своим людям.
Тунчжинг удовлетворенно кивнул головой и отошел в сторону.
Матросы подняли крышку. Офицер заглянул в люк.
– Эу! – неподдельно изумился матрос с нашивками и, отступив шаг, перекинул карабин на руку.
– Так вот кто здесь! – воскликнул офицер и взглянул на растерянного Тауло.
По палубному настилу в трюме сплошной массой теснились люди. Матросы навели ружья на люк.
– А ну, выходите все! Кам, кам аут! – сказал английский матрос с нашивками на плече, смотревший и сам испуганно.
Матросы стали подыматься из трюма на палубу. Они жмурились от солнца.
– Кладите оружие! – предупредили по-русски. Есть у них переводчик.
Но оружия ни у кого не было – все брошено в трюме; все подымались разоруженными.
Офицеров просили отходить в сторону. Матрос с нашивками считал и записывал. Люди все шли и шли.
Поодаль, наведя карабины на пленных, стоял целый строй британских матросов.
«Первый враг, которого я вижу в эту войну!» – печально подумал Алексей Сибирцев.
– Ваше оружие, – обратились к нему.
– Я не имею.
– Что вам? – обернулся офицер к подошедшему лейтенанту Мусину-Пушкину.
– Я командую экипажем погибшего корабля «Диана», – заговорил Пушкин на французском. – Согласно международной конвенции о терпящих бедствие на море, вы не вправе задерживать нас. Вы видите – мои люди безоружны…
Английский лейтенант с жесткими русыми усами на сильно загоревшем, с редкими морщинами лице молчал – кажется, не понимал французской речи.
Николай Шиллинг перевел по-английски.
– Я не веду никаких переговоров, – ответил офицер. – С этого момента вы пленные.
– В таком случае я должен говорить с вашим командиром, – сказал Пушкин.
– Ждите.
– Сто пятьдесят шесть… сто пятьдесят семь… – считал матрос у трапа.
Поднялся Петр Елкин, красный как рак, решительно и быстро прошагал к борту, вздохнул и с размаха выбросил в море кожаную сумку с грузом, как персидскую княжну. К нему кинулись двое английских матросов.
– Полегче, полегче, – запальчиво заметил Елкин, показывая взглядом на свои офицерские эполеты.
– Что он выбросил? – с беспокойством спросил офицер. Он приостановил движение у люка. – Что вы выбросили?
«Чего они боятся?» – раздраженно подумал Сибирцев.
– What is the matter to you? – со злом и насмешкой ответил он. – The letters of his sweetheart![7]
Лейтенант вгляделся в Алексея и отошел. Можно было понять как совет или предупреждение не осложнять дело дерзостями.
Уже двести! Сколько их еще там?.. Каков груз продовольствия доставлял немец под чужим флагом!
Когда трюм опустел и вся масса матросов столпилась на палубе, лейтенант переписал фамилии офицеров и Гошкевича.
Старшие матросы осматривали трюм, ощупали некоторые из тюков, велели поднять наверх ящики Гошкевича и Елкина. Лейтенант попросил открыть их. Потом, обращаясь к Шиллингу, сказал, что шлюпка сейчас отходит. Пушкин взял с собой Сибирцева и Шиллинга.
«Барракута», с ее большими пушками на носу и корме и с высокой трубой, выглядела все значительнее по мере того, как приближалась. У борта большого парохода еще более чувствуешь свое униженное положение. Быстрая и опасная, как хищная рыба барракута, виденная не раз в южноамериканских аквариумах, – так сейчас представлялось неприятельское судно до смерти уставшему Алексею. Все эти дни на «Грете» офицеры спали в одной каюте вповалку. Матросы – в трюме и на палубе, где по ночам начинало веять холодом еще несогревшегося северного моря; ели кое-как, всухомятку; у Тауло не было порядочного камбуза, на бриге не хватало воды.
Командир «Барракуты» лейтенант Артур Стирлинг оказался очень молодым человеком при палаше, кажется, сверстник Алексея. Он с короткими усами и коротким козырьком форменной фуражки, посаженной как по ватерпасу, похож на лейтенанта Гибсона, производившего досмотр и взявшего «Грету».
– Я – старший офицер фрегата «Диана», – представился Пушкин. Он все объяснил.
Во время его рассказа Стирлинг на мгновение понурился, но тут же поднял голову, лицо его приняло серьезное выражение.
– Идемте! – ответил он по-французски и, взглянув на «Грету» в дрейфе, пошел вперед.
Алексей подумал, что еще может обойтись, не поторопился ли Елкин выбросить сумку. Все чуть оживились.
В небольшом салоне Пушкин повторил свои доводы. Стирлинг перестал смотреть ему в лицо.
– Я иду в Хакодате… Там можете передать свои претензии командующему эскадрой адмиралу, – сказал он.
До некоторой степени Алексей понимал, что Стирлинг по-своему прав. «Но мне-то не легче». Когда завидели пароход в море, Сибирцев сам полагал, зачем же прятаться в трюм. Надо всем быть на обычных местах и твердо сказать при опросе, что не считаем себя военнопленными, мы безоружны, потерпели кораблекрушение и с нами не воюют. С толку сбил проклятый Тауло, накинувшись с криками: «Поспешней, как можно поспешней, все в трюм! Я знаю, что им сказать!» Разве боялся, что с парохода начнут стрелять по «Грете», если увидят на ней русских моряков в форме? Спрятались, хотя и унизительно! В общем-то, все равно, хрен редьки не слаще; все устали! Что же теперь? Из рук вон плохо! Если в плен, то уж долго никуда не вырвемся. Какие бы доводы ни приводили, нас уже некуда будет девать, кроме как держать в плену. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
С аффектацией, свойственной его французской речи, Пушкин повторил свои доводы.
– Мы заявляем решительный протест против нарушения международного права, – заявил Шиллинг.
Все волновались, и это выгодно подчеркивало англичанам их хладнокровие.
– Вы сами отказались от статута потерпевших кораблекрушение! – резко возразил Стирлинг.
– У нас больные в команде, в том числе заразные, – в тон ему продолжал Шиллинг. – Зачем же транспортировать их в Хакодате? Экипаж полгода жил после катастрофы в Японии. Какой смысл вам доставлять больных в Хакодате, когда рядом Аян и Охотск? Вы в первую очередь обязаны свезти их на берег. – Он говорил не только как лейтенант с лейтенантом, он говорил как барон.
На эскадрах южных морей заразными болезнями никого не удивишь.
– Вы говорите по-английски? – обратился Стирлинг к Сибирцеву.
– Немного.
– Было ли вами в японском порту Симода совершено нападение на французское судно?
– Нападения на французское судно не было.
– А что же было?
– Предполагаю, что опасения высказывались находившимися в Японии одновременно с нами американцами, будто мы можем напасть на зашедшего в Симоду французского китобоя. Французское судно сразу ушло, узнав от американцев, что мы в Японии.
– Где вы были в Японии?
– В порту Симода.
Стирлинг слушал внимательно, глядя глаза в глаза.
– Вы пережили там катастрофу?
– Да.
– Ужасное происшествие. Много слышал!
– Вы не говорите по-английски? – обратился Стирлинг к Мусину-Пушкину.
– Ответьте ему, Николай Александрович, что я говорю на трех языках с детства, но по-английски не говорю и говорить не хочу на этом языке.
– Лейтенант Пушкин не говорит по-английски, – перевел Шиллинг.
Офицеры уже знали от взявшего их в плен лейтенанта Гибсона, что командир парохода Артур Стирлинг – сын командующего флотом адмирала Джеймса Стирлинга, который сейчас находится в Хакодате, и что «Барракута» была в Аяне и в те дни там стояла плохая погода и был снег.
– Какой же смысл, капитан, когда Аян рядом, доставлять нас в Хакодате, чтобы потом отправлять в Россию? – заговорил Сибирцев.
– Вы уверены, что так будет?
– Да, вполне. Мы все уверены, что это лишь недоразумение.
«Может быть, они по-своему правы, но отпускать нельзя», – полагал Стирлинг.
Неожиданно подали, как говорят у них, «освежение», и довольно обильное. Отказываться не надо, тем более что не считаем себя пленниками, да и голодны, чего нельзя, однако, показать. При виде мяса, вина и фруктов скулы сводит.
Стирлинг, подымая бокал, сказал:
– То absent friends[8].
Попросил рассказать про кораблекрушение. Заговорил Шиллинг. Сибирцев иногда добавлял. Все слушали с возрастающим интересом.
Когда дошла очередь до сорока оборотов, которые сделала «Диана» на своих якорных канатах, проносясь у подножия скал вместе с крутящейся водой бухты, старший офицер, до того совершенно немой как рыба, что-то закричал и вскочил, подняв обе руки со сжатыми кулаками. Все хладнокровие с них как ветром сдуло. Стали расспрашивать…
Алешу грызла мысль, что все это не поможет; к делу никакого отношения… А матросы наши про нас сказали бы: «Ну, жруть!»
– А где адмирал Путятин? – спросил старший лейтенант. Он высок и худощав, с большим носом и маленькими усами.
– Ушел из Японии ранней весной и теперь находится в России, – ответил Пушкин. – На корабле, который мы построили в Японии.
Про корабль не стали спрашивать.
Гибсон спросил про Гошкевича и про коллекции, где он набрал такие прекрасные экземпляры, кто набивал чучела птиц и рыб.
Стирлинг заметил, что хотел бы видеть коллекцию, сказал, что отдает приказание идти в Аян.
– Там коммодор Эллиот – командующий отрядом кораблей.
Ясно. Все должно решиться начальством. Аян близок, а до Хакодате далеко.
– Но я прошу вас, господин Пушкин, дать мне честное слово, – сказал Стирлинг по-французски, – что вами и вашими офицерами и людьми не будет предпринято никакой попытки к освобождению силой или к какому-либо сопротивлению. В противном случае я должен буду принять меры строгости.
– Я даю вам честное слово, капитан Стирлинг, что ни я, ни мои офицеры и матросы не позволят себе никакой попытки к насилию, чтобы добиться освобождения. По прибытии в Аян я надеюсь выручить свою команду, убедив коммодора освободить нас на законном основании.
Стирлинг подумал, что лейтенант, не зная языка, не знает и английских морских правил. «У нас нет закона, на который он мог бы рассчитывать».
– Пожалуйста, лейтенант Пушкин, можете остаться с офицерами на пароходе. Вам предоставим каюты.
– Благодарим вас, капитан. В настоящем положении не могу воспользоваться вашей любезностью. Мы должны разделить участь с нашими людьми.
Пошли садиться в шлюпку. Взаимные вежливости соблюдены. На душе скребут кошки. Надежда, как полагал Алексей, слаба…
Если до сих пор лично к офицерам неприятельского флота он не испытывал неприязни, то сейчас, когда сходил в шлюпку, они показались ему тюремщиками, которые втолкнули его обратно в камеру. Он почувствовал, что теряет самообладание и нервничает, ум его в тупике, сердце глохнет; он не в силах даже придумать что-то спасительное.
Среди чужих невольно рисуешься, но, оставшись в одиночестве, впадаешь в отчаяние. Тюрьмы построены ими по всему свету, всюду подавляют восстания и все ради торговли, как говорил Гончаров… Что еще можно обидного для них вспомнить?
Лейтенант Гибсон, производивший досмотр на «Грете», сопровождал пленных офицеров.
…Артур Стирлинг у себя в салоне обратился к старшему лейтенанту:
– Поезжайте на «Грету». Смените Гибсона. Возьмите с собой сорок матросов. Подайте на «Грету» два цепных каната. Возьмите ее на буксир. На ночь поставьте сильный караул к буксирам, к рубке и к люкам на палубе. Людей разделите на две вахты.
– Да, сэр!
Когда старший офицер принял «Грету», все предосторожности были взяты и цепные канаты закреплены, лейтенант Гибсон возвратился на «Барракуту».
– Благодарю вас, Роберт! – сказал Стирлинг. – Поздравляю вас. Ваш второй приз в эту кампанию.
– Благодарю вас, – почтительно ответил Гибсон. За несколько дней перед этим он догнал и захватил шлюпку русского брига в лимане Амура. А само русское судно было сожжено его же командой.
Гибсон – ирландец. Никто не присылал Артуру Стирлингу распоряжений предоставлять возможности отличиться офицерам-ирландцам. Он сам все понимает. Во всех случаях, где возможно, ирландцев поощряют, так как в Ирландии сильное недовольство зависимым положением, еще не забыты подавленные восстания. При таких обстоятельствах, возвышая честных ирландцев-офицеров и поощряя матросов, даешь понять, что они равны с нами вполне, такие же британцы.
– Что говорят ваши люди?
– Сержант Джонсон сказал, что все пленные вполне дисциплинированные, хорошего физического сложения, но голодны и многие нездоровы. Некоторые довольно серьезно. Доктор подал рапорт, что заразных нет.
– Сказали офицерам, что им предстоит в Аяне встреча с французским кораблем «Константин», который был в Симоде?
– Да, сэр.
– Как они приняли?
– Они устали и безразличны ко всему.
– Янки уверяют, что русские приняли их корабль «Поухаттан» за француза, напали, но поняли, что нарвались, и вовремя ушли.
Артур на месте Путятина и его офицеров, может быть, поступил бы так же, но постарался бы тщательно рассчитать и взвесить все, хотя, однако, времени у них не было, приходилось решать мгновенно. Их можно, можно понять.
«Отличные коллекции натуралистов, книги, множество японских прекрасных предметов рекомендовали умственные интересы пленников, как и вывезенный ими ученый молодой японец, как и знание ими языков, – думал Стирлинг. – Судить о людях, об их привычках и воспитании можно за столом. Также по умению обращаться с вещами и по отношению к животным».
Кампания этого года была не очень удачной. Отец командует флотом из двадцати семи вымпелов. Его консорт – французский адмирал – четырнадцатью…
Что же произошло с «Барракутой» до встречи с русскими, возвращавшимися из Японии?
Ранней весной соединенный флот из двух союзных эскадр под командованием адмирала Брюса вошел в Авачинскую бухту. Этот флот был усилен отрядом кораблей, откомандированных из Хакодате из эскадры адмирала Стирлинга. В составе отряда находилась «Барракута». В Петропавловске русского флота не оказалось: город эвакуирован.
«Барракута» и фрегат «Пик» под командованием капитана Никольсена 1 июня 1855 года были отряжены в Охотское море на поиски русского фрегата «Аврора». А сам адмирал Брюс ушел в погоню за исчезнувшей «Авророй» со своей эскадрой в Русскую Америку.
При тяжелых штормах и встречных ветрах «Пик» и «Барракута» достигли мыса Лопатки 15-го и на другой день под берегом острова Парамушир вошли в Курильский пролив. Разведя пары, «Барракута» проследовала в сплошном тумане в Охотское море. «Пик» открылся снова лишь 25-го, капитан Никольсен сообщил, что был у берега Сахалина, встретил американского китолова, у которого на борту якобы побывал офицер с русского фрегата «Аврора». Русский лейтенант впал в глубочайшую ярость, когда выяснил, что судно не английское. С досады разорвал в клочья американские судовые документы. Про эту «Аврору» все только и толковали, и всем слухам невозможно верить; кажется, шкипер мог приплести «Аврору» из-за того, что корабельные документы не были в порядке… Теперь все можно свалить на «Аврору»!
Китобой рассказывал басни про «Аврору». Как и все американцы! На прощание выложил:
– Well sir, I trust you don’t believe in all we say; if you do, sir, you have strong digestion, I do say[9].
Зная нрав Никольсена, можно представить, как он это выслушивал, скрывая свое бешенство.
Янки знали, над чем посмеяться. Давно нет свежей пищи. Матросы питаются солониной и сухарями, многие страдают запорами. Офицеры тем более: неподвижность и плохое настроение. Будь рабарбар[10], все поправились бы и ожили.
Встреча американца с «Авророй» якобы произошла в 70 милях от северной оконечности острова Сахалина у Мыса Елизаветы. Шкипер уверял, что в тумане сама «Аврора» не была видна.
15 июля «Пик» и «Барракута» ушли из Аяна, и на другой день в открытом море завиделась эскадра. Друзья или враги? К величайшей радости офицеров и «синих жакетов», оказался отряд из четырех кораблей под командованием коммодора Чарльза Эллиота.
Опять невероятные новости. Оказалось, что коммодор нашел «Аврору». Она совсем не в Америке! «Аврора» обнаружена была в заливе Де-Кастри, черт знает как далеко они успели уйти. Залив Де-Кастри напротив западного берега Сахалина, южнее устья Амура… Коммодор надеялся ее захватить, послал к адмиралу Стирлингу за подкреплением, но тем временем «Аврора» ушла. Залив Де-Кастри опустел.
Куда ушла «Аврора»? Единственно возможный путь – в Амур, через северный Амурский залив, где есть вход в реку. Ведь, как известно, с юга нет входа, там перешеек, точнее – обсыхающие мели, как доказал Крузенштерн.
Коммодор, обойдя Сахалин, намеревался войти в Амур с севера в поисках скрывшейся русской эскадры. Эллиот слышать не хотел о передвигающихся мелях, непроходимых лабиринтах и погибших судах.
– Мне нужна «Аврора»! – заявил он. Коммодор принял команду над соединенной эскадрой.
Матросы «Барракуты», кажется, неохотно возвращаются из-за пленных к берегам Сибири. В Гонконге давно отцвел миндаль. Уже есть молодая красная китайская картошка, очень вкусная, любимое кушанье «синих жакетов». Уже есть персики. Всюду в Южном Китае, в Кантоне, на Жемчужной и в колонии – абрикосы, ягоды. Все это должно быть и в Японии! А в Аяне? Старая, проросшая картошка в подпольях сладкая, как перезрелые бананы. Когда расклеивали прокламации к русскому населению, призывающие возвращаться, то в одном из домиков нашли глиняную корчагу с соленой черемшой…
«Барракута» вела захваченный бриг через дожди и туманы на север. У рубки вооруженные английские матросы. Лейтенант на мостике отдает распоряжения шкиперу Тауло. Иногда обращается к Шиллингу, просит отдать приказание, чтобы пленные помогли, и тогда русские матросы подымаются на мачты.
…Вокруг «Греты» английские корабли. На фрегате коммодорский флаг. Видно французское парусное судно. У берега целый флот американских китобойных судов.
Оставляя «Грету», английский лейтенант предупредил офицеров и Гошкевича, что здесь бриг «Константин», который, как известно в Гонконге и Шанхае, защитил в Японии и спас в бою гигантский китобойный корабль «Наполеон III».
– От кого? – спросил Сибирцев.
– Мы в жизни не видели в глаза «Константина», – добавил Гошкевич.
– Как изменился пейзаж: холмы и долины теперь, в середине лета, свободны от снега, – говорил за столом молодой лейтенант Тронсон, только что возвратившись на «Барракуту» с берега. – Деревья оделись густой листвой, и все лужайки сплошь покрыты прекрасными цветами.
– Здесь отличная порода камчатских собак, – заметил старший офицер с нафабренными усами.
– Порода совершенно не та, что на Камчатке. Это коммодорские собаки. С Коммодорских островов.
– Вы ошибаетесь!
– Как можно не отличить! Удивляюсь!
– Сразу заметно?
– Я поражен, господа, вашей совершенной неосведомленности! Как здесь оказаться могут коммодорские собаки! Здесь охотская порода собак. Это сибирский хантер.
Вся кают-компания вовлечена в горячий спор.
Вино придавало горячности. Раздавались голоса, что необходимо добросовестное научное исследование новых пород, открытых на сибирских побережьях океана.
– И справочники с рисунками. Это долг эскадры!
– Наши «синие жакеты» уже обогнали своих офицеров, в палубах есть собаки всех местных пород.
– И с Охотского побережья?
– Да!
– Но «синие жакеты» их портят! Они перекармливают своих любимцев и этим лишают их качества. Их собаки – прообраз будущей демократии пьянства и обжорства.
– При чем тут пьянство? Вы заговариваетесь…
– Нет, это доказательное сравнение, и я его рекомендую, – заявил штурманский офицер Френсис Мэй.
Глава 3. Бизнесмены
– Почему у вас часовой и всюду джеки? – спросил курчавый калифорниец.
Тауло пожал плечами, как будто сам не знал, почему такое недоразумение.
– Капитан, это мои клиенты. Они пили у меня в Японии на моем плавучем грогхаузе. Русские очень надежны в этом отношении… Алекс! Николас! А вот за мной идет мистер Рид. Наш консул в Японии! О-о! Мы все собрались здесь! Тут много наших судов. Вот видите, мы пришли торговать. Пожалуйте ко мне в грогхауз на берег!
– Ба-а, так это наши старые друзья по храму Гекусенди!
– Мистер Рид? Это вы? – удивился Сибирцев.
– Я! Да, я временно оккупировал Аян! Так вы думаете? Японцы не давали мне открыть кабак ни на суше, ни на море. Американское посольство в Японии избрало Аян резиденцией и как рынок для продажи виски.
Мистер Рид, который в Симоде выдавал себя за американского консула и безуспешно требовал от японцев признания, каким-то образом оказался тут. Он радушно тряс всем руки.
– Вот видите, – подвел офицеров к борту курчавый хозяин грогхауза, – тут собрался наш китобойный флот. А я это сразу учуял. Я был уже здесь вблизи, на море. Я привел в Аян мой плавучий ресторан… С виски, с винами! С пивом! Где это видано, чтобы пиво везли через океан! Эль! Наш общий друг – Джон – Ячменное зерно! Идемте… но я торгую теперь не на судне. Видите, видите, вон американский флаг над складом вашей компании! Это я. Это мой бар! У меня зал с музыкой; жаль, нет женщин. Если бы удалось заполучить хотя бы тунгусок!
– Где ваш бар? – переспросил Сибирцев.
– Смотрите, вот! Флаг Штатов развевается над пустым складом. Над соседним помещением также звездный флаг. Это торгует мистер Рид – наш уважаемый дипломат и мой коллега. У его превосходительства в Аяне американский магазин.
– Здесь также ваш старый друг мистер Шарпер, знакомый адмирала Завойко, адмирала Невельского и генерала Муравьева, – добавил дипломат.
– Сейчас рано, а в пять, после полудня, в моем грогхаузе будет полно моряков со всех китобоев и военных кораблей: английские и французские. Милости прошу и вас! Я рад, что нахожусь в вашей великой стране!
– Но мы, к сожалению, не можем к вам ехать, – сказал Шиллинг. – У нас нет денег! К тому же мы – пленные.
– Вы пленные? Кто вас взял в плен?
– Лейтенант Стирлинг. И пока нас не отпустят, мы не приедем к вам.
– Ну, в таком случае я с вами незнаком! – приподняв шляпу, шутливо ответил американец.
Сказал, что идет на «Сибилл», хочет нанести визит прибывшему английскому коммодору и пригласить его в бар. Любезно попрощался со шкипером и офицерами и удалился на вельботе.
Рид крикнул ему:
– Скажите коммодору, что сейчас к нему прибудет его превосходительство американский консул в Японии! – и, подмигнув Сибирцеву, добавил: – Не выдавайте, что самозваный!
Сказал, что со своей стороны при официальной беседе, как дипломат, сделает все возможное, чтобы его русским друзьям дозволено было сходить в бар и в магазины. Он консул в Японии и берет заботу о них на себя как о прибывших из Японии.
– Мистер Алекс, а вы?
– Ах, мистер Рид, вы знаете, что я не пью!
– Разве вы не русский? – удивился консул. – Что делается! Русский, а не пьет. Неужели вам разрешают не пить? Ведь царь спаивает народ?
– Ха-ха-ха, – расхохотался Сибирцев, и хотелось ему хлопнуть приятеля по плечу. Но «царь не разрешает».
– В бар приходят русские из русской армии, отступившей на десять миль в глубь джунглей. Сообщение с ними только на каноэ, но есть и индейские тропы. С ними и вам можно бы повидаться. Оттуда приходят к нам покупатели. Как и во всем мире, пьющих никто не задерживает. Зная это, генерал Кашеваров охотно отпускает своих людей. Ради дружбы я передам через них любые сведения, какие вам надо. Но мы не шпионы, мы – ваши друзья, хотя кто торгует, тот и шпионит, так приходится, это закон.
Говорилось при английском часовом, который слушал внимательно, кажется, думая не о том, чтобы донести, а как попасть самому в американский рай, объединявший у стойки все враждующие народы. Когда еще парня сменят и удастся ли побывать на берегу? Спешим в Хакодате. Кто же знал, что американцы развернут такое дело на этом жестком берегу и что мы увидим в бухте целый лес их китобойных и торговых шхун. Они сказали, что берут и фунты, франки, серебряные русские рубли и ассигнации, курс им известен, также доллары… Русские несут им из своего лагеря серебро, но не за секреты, какие там секреты! Чего они знают!
Рида спросили, где же судно «Каролайн», где его жена, где Сиомара, где Анна-Мария…
Жена родила сына. Она на Гаваях! Рид временно, до получения из Белого дома утверждения в должности, остался в Японии, хотел жить в Хакодате, но ему пока еще не дозволяют, и он ушел инспектировать американскую торговлю в Охотское море. Захватил при этом товар, перекупив его у потерпевшего крушение шкипера, зафрахтовал другую шхуну. Действовал как человек с адвокатским и дипломатическим опытом.
Подошел вельбот с «Барракуты». На борт поднялся молоденький лейтенант Тронсон.
– Доброе утро! Я прибыл за вами, господин Пушкин. Коммодор просит вас к себе.
– Правда ли, мистер Алекс, что Сиомара была вашей любовницей? – спросил Рид у Сибирцева.
– Боже спаси…
– Теперь дело прошлое, мы с вами могли бы крепко выпить за воспоминания…
Глава 4. Коммодор Чарльз Эллиот
На квартердеке, то есть на шканцах корабля «Сибилл», стоя перед коммодором и двумя капитанами, Пушкин все объяснил. Его густые усы, выпадавшие ниже выбритых щек двумя пышными клоками, правильная французская речь и манера держаться с достоинством обнаруживали человека света и вкуса. Коммодор видел – в плен попал серьезный офицер. Убежден в несправедливости ареста команды корабля, потерпевшего крушение. Вышедшего в плавание до объявления войны. Команды безоружной, исполнявшей свой долг – возвращение в свое отечество… Нельзя прерывать его доказательную речь. Переводчик едва поспевал.
Эллиот выслушал и ответил, что отпустить офицеров и команду не может. Готов на снисхождение. Согласен освободить больных и всех слабых, священника, доктора, Гошкевича, переводчика-японца. Разрешит отправить письма в Россию через Аян.
– Что же за снисхождение, господин Эллиот, – перевел Шиллинг по-английски. – Я не вижу ничего подобного…
– Я сказал.
– Но вы взяли нас незаконно и уклоняетесь признаться!
– Как незаконно? – ответил Эллиот, багровея. – Мой дорогой, – обратился он к Артуру Стирлингу, – зачем в таком случае вы их ко мне доставили? Мне не о чем говорить! Что вам еще тут надо? – грубо обратился он к Пушкину. – Я все сказал! Большего снисхождения не будет.
Пушкин сошел в вельбот. Шиллинг задержался.
Чарльз Эллиот – живая легенда. Старая морская собака!
Долгие годы Эллиот считался грозой Китая. Когда, командуя эскадрой, забрал в свои руки слишком большую власть, опиоторговцы Джордин и Матисон – создатели старейшей и самой большой фирмы, торговавшей индийским зельем, – стали добиваться отстранения Эллиота под предлогом, что он недостаточно гуманен. До того Эллиот вел необъявленную войну на Кантонской реке. Он захватил остров Гонконг, на котором теперь построен город Виктория.
Матисон и Джордин жаловались в Лондон до тех пор, пока Пальмерстон не убрал Эллиота и не объявил войну Китаю. Все закончилось бомбардировкой Кантона и укреплений и полным разгромом китайцев. Все успехи Эллиота сильные люди потом приписали своим ставленникам, захват острова и основание Гонконга были узаконены мирным договором с Китаем. Адмирала Эллиоту не дали. Как известно, чин коммодора равен генеральскому. Но он получил орден Бани. А Джордин и Матисон теперь фактические хозяева нового города на острове и колонии. Долго считалось неприличным в Кантоне и Гонконге упоминать имя Эллиота. Но он жив и снова явился. Прошло шестнадцать лет с его удаления, оказалось, что на Ост-Индской эскадре, а также на Виктории[11] его помнят.
За эти годы он был губернатором Тринидата, потом острова Святой Елены. С начала войны Чарльза Эллиота послали туда, где все было начато им, где его жизнь много раз висела на волоске. Он обрушился на Гонконг, как Зевс, и снова стал легендарной личностью. В Лондоне его недолюбливают до сих пор. Там люди высоких принципов. Чтобы получить адмирала, нужны новые заслуги.
Чарльзу Эллиоту за пятьдесят, он еще очень свеж и моложав. У него выхоленные усы, львиная грива, пышный галстук. В нем чувствуются большая физическая сила, храбрость и решительность. Он высок, грузен, ловок и подвижен. Видимо, отлично танцует, ездит верхом.
Шиллинг вспомнил японское изречение, которое ему очень нравилось: «Если старый человек хорошо танцует – это негодяй!»
– Какое мне дело до всего этого! – ответил, выслушав доводы пленных, коммодор и махнул рукой, не желая больше разговаривать. – Ступайте!
В глазах Шиллинга заискрились точки, словно в них закипало серебро. «Конюхи и рыбаки, возомнившие себя аристократами!»
– Вы позорите свой мундир бесчестным поступком!
– Что? – Эллиот, казалось, ополоумел. – Да я… я… Я вас велю повесить!
– Осмельтесь! Вы покроете себя еще большим позором. Я готов к любому вашему беззаконному действию, так как знаю, с кем говорю, в чьих руках нахожусь. Я не стал бы тратить слов, если бы не считал долгом морского офицера напомнить вам о порядочности… Весь мир заговорит о вашем бесчестном поступке!
Эллиот обомлел. На миг ему показалось, что пленник знает всю его подноготную. Эллиот сбит с толку. Но ненадолго.
– Где «Аврора»? – вдруг спросил он.
– Не знаю.
– Не лгите! Где «Аврора»? – закричал Эллиот. – Дайте мне «Аврору» и пойдете на берег… В противном случае – виселица! А берег рядом. Вот ваша страна…
Идите домой, но скажите! Или… – Эллиот поднял свою большую, тяжелую руку и торжественно показал на рею грот-мачты.
– Порядочный нахал! – сказал Пушкин, возвратясь на «Грету».
Лейтенант, доставивший на судно Пушкина и Шиллинга, подошел к Сибирцеву:
– Коммодор требует вас к себе!..
Оказалось, что Эллиот сам явился на «Грету», желая видеть пленных. Им приказали выстроиться. Коммодор обошел ряды, вглядываясь матросам в глаза, и велел их распустить.
– У меня есть сведения, что вы знаете английский язык? – спросил он Сибирцева в рубке.
– Да, сэр. Немного.
– Вы знаете хорошо! Почему вы знаете наш язык? За свою жизнь я не видел ни одного русского, который знал хотя бы один язык! Зачем знаете? Отвечайте, коммодор с вами говорит!
– Лейтенант Шиллинг предупредил вас о последствиях… Будьте осторожней!
– Что? Откуда вы знаете? Мы говорили один на один. Отвечайте, где «Аврора»?
Он как сумасшедший из-за этой «Авроры». Положение коммодора показалось Алексею смешным. Он почувствовал, что ярости, как Шиллинг, не испытывает, хотя предложение коммодора весьма недостойное.
– Я не знаю.
– Вы служили на «Авроре»?
– Я служил на «Диане».
– Вы знаете, что «Аврора» была на Камчатке?
– Да, знаю, что в прошлом году «Аврора» приняла участие в обороне Петропавловска и что английский адмирал…
– Не рассказывайте чудесные истории! Скажите мне, куда «Аврора» ушла с Камчатки?
– Что вы мне предлагаете?
– Адмирал Стирлинг вам покажет… Я отдаю приказ, чтобы всех матросов и офицеров распределить по английским кораблям. Вы распишитесь и передайте вашему командиру.
– Это не мое дело. Лейтенант Мусин-Пушкин здесь, и вы можете передать ему. У вас есть для этого офицеры.
– Не можете ли достать мне на берегу собак камчатской породы? Напишите записку вашему епископу, который приехал в Аян, чтобы он прислал собак.
– Здесь нет собак камчатской породы. Тут другая порода.
– Мне сказали, что епископ со своей свитой ехал в лодках, которые тащили, мчась по берегу, собаки такой же породы, как на Камчатке.
– Я не знаю никакого епископа. Я никогда не был на Камчатке.
– Жаль.
Эллиот уехал на «Сибилл».
Через некоторое время он приказал доставить шкипера Тауло.
– Кто хозяин «Греты»? – спросил Эллиот.
– Гамбургский купец Пустау.
– Кто? Где живет?
– В Гонконге.
– Все ясно! Зачем судно пошло в Японию? Кто подлинный хозяин судна?
– В Гонконге составилась шайка русских шпионов! – заявил Эллиот, собрав капитанов кораблей после допроса немца. – Там среди американцев обосновалась компания немецких дельцов, принявших американское подданство. Это агентура Зибольда. А Зибольд куплен Петербургом. Мне кажется, американцы забирают бизнес в свои руки. У них банки, суда, и они дотянулись к опиуму. Я уверен, что Пустау с компанией послал судно за русскими, чтобы потом получить от царя за фрахт и вознаграждение. Старайтесь узнавать, Артур, у русских офицеров в плавание все, что можете.
– Да, сэр, – ответил Стирлинг.
– Хирург, священник и больные, прибывшие на «Грете», освобождаются и свозятся на берег для передачи русским. Священника отправим не сразу, пусть отслужит своей команде и примет поручения. О больных надо снестись с берегом. Русского доктора отправьте на берег, и пусть он сам все подготовит. Вы, Артур, желали взять лейтенанта Пушкина, Шиллинга, Сибирцева. С вами пойдут советник посольства мистер Гошкевич и ученый японец, с которым он не расстается.
– Вы дали слово освободить Гошкевича.
– Гошкевича нельзя освободить. Я рассудил и передумал. Он – глава православного колледжа в Пекине. Я не могу отдать его противнику. Он будет нужен нам для точной информации. Также задерживаем японского переводчика. Я обязан всеми средствами наносить урон противнику.
– Мистер Гошкевич не служит в военном флоте. Он на цивильной службе.
– Он дипломат! Нельзя отпустить. У нас нет закона, позволяющего освобождать цивильных. Потом пусть решают адмирал и губернатор. Вы возьмете часть их людей, Стирлинг.
– Да, сэр. Я найду где поместить сто человек.
– Держите их строго, чтобы не подняли мятежа. – Младший офицер записывал под диктовку. Эллиот с трубкой сидел сбоку стола в кресле.
– Два офицера и сорок людей – на «Спартан». Еще двадцать передадим галантному союзнику. Остающиеся офицеры и люди идут на «Сибилл». Лейтенант Гибсон и матросы, взявшие приз под его командованием, назначаются на «Грету» для следования в Гонконг. С ними переводчик мистер Тулли. Для передачи губернатору собрать документы.
Эллиот отправился на берег осматривать обнаруженные следы батарей.
– Где орудия?
Сэр Фредерик – капитан «Эмфитрайта» – сказал:
– Французы высказали предположение, что из-за невозможности транспортировать пушки в джунгли они закопаны.
– Их не могли увезти на лодках?
– Нет таких лодок. Река непригодна для плавания. Есть тропы, но непригодные для перевозок артиллерии.
Офицеры несколько задержались на батарее. Обступили инженера Уиттингхэма с флагманского судна и выслушали его объяснения об устройстве срытых фортификаций Аяна. Потом все пошли следом за коммодором и капитаном Фредериком на док.
Вокруг обнаженного фундамента валялись остатки взорванного русского парохода. Рядом на стапеле готовая к спуску шхуна. Коммодор сказал, что надо и шхуну взорвать.
– Тут есть русский представитель от компании, он утверждает, что это частное владение, – сказал командир «Эмфитрайта» сэр Фредерик.
Известно, что Русско-Американская компания имеет обширные владения на Аляске и на побережье, всем командирам кораблей известно также, что эта компания находится как бы в самой тесной компании с Гудзонбайской компанией. Существует обязательство, которое умные и богатые люди в Лондоне и в Петербурге заключили, начиная войну: Англия и Россия воюют, но Гудзонбайская и Русско-Американская компании сохраняют мир, имущество той и другой остается неприкосновенным, территории и фактории на них не захватываются, как и города и селения, корабли не подвергаются нападению и не уничтожаются. Флаги компаний охраняют их имущество повсюду. На территориях компаний война не ведется. Казалось бы, все ясно. На Аляску не вторгаются англичане. Канаду не трогают русские.
Но во время войны оказалось, что небольшие военные порты России на побережье Сибири и ее военный флот снабжаются кораблями компании и повсюду имеются ее фактории, чьи запасы могут быть предоставлены войскам. В Аяне пароход, построенный в эту зиму, по всем признакам, как сказал взорвавший его Стирлинг, предназначался во время войны для плавания в реке и по морю. Служил бы военным целям и был ценным пособием противнику. Склады компании, когда англичане пришли сюда в первый раз, были полны мехов и товаров, и по возможности их не тронули, приставив караулы для охраны. Хотя теперь, может оказаться, все разграблено, если в них обосновались янки.
– Где этот представитель?
– Он здесь.
Коммодору был представлен инженер Гальшерт. Блондин, в шляпе, в куртке и сапогах, как и полагается инженеру.
Гальшерт сказал, что шхуна – частная собственность начальника фактории господина Кашеварова и строилась лично для него. Он является известным писателем и ученым.
Сэр Фредерик знал, что Кашеваров, который со своими казаками отступил и находится в десяти милях от Аяна, по совместительству является начальником правительственного порта в Аяне. Он командовал тремя батареями, следы которых только что видели. Как быть? Как тут разделить интересы враждебного правительства и почти союзной компании?
Эллиот не хотел входить в подробности.
– Напишите, что даете обещание, что эта шхуна не будет спущена, пока идет война, и не будет участвовать в военных действиях. Пошлите записку в джунгли на подпись капитану Кашеварову, которого американцы принимают за генерала, и пусть поставит печать компании.
Гальшерт согласился. Тут служащие все же несравненно сговорчивее, чем в Китае!
Эллиот сказал, что свезет больных пленных на берег для отправки в Россию, но попросит передать письмо якутскому губернатору. Непременное условие освобождения: никто в случае выздоровления не примет участия в военных действиях.
Эллиот попросил Гальшерта открыть главный склад – большое помещение с железными ставнями и навесами.
Над железной крышей соседнего здания полощется американский флаг. Американец Шарпер пригласил к себе, сказал, что платить можно наличными или чеками.
– Почему товар стал ваш? Это товар компании?
– Нет, это мой товар, ваше превосходительство! – заявил здоровенный, плечистый Шарпер с лицом цвета печеного яблока и с сединой в черных густых волосах. – Компания разрешила мне торговать в их помещении. Я составил договор на аренду. Вот он – висит на стене. Товары мои собственные, я доставил их на корабле для продажи китобоям в Охотском море.
– Я вижу здесь меха, висевшие в складе компании до вашего прихода, – сказал Артур Стирлинг.
– Очень дорогие меха, сэр, и не всем по карману, – отвечал американец.
– Вы знаете Кашеварова? – спросил Эллиот.
– Да, он мой друг. А вы знаете, ваше превосходительство, – американец вытащил из клетчатых штанов огромный красный носовой платок, громко высморкавшись, вытер нос, – вы знаете… Кашеваров наполовину алеут. И получил в Петербурге образование в морском корпусе… Как вам нравится эта русская система привлекать дружбой народов… Японцы написали в ученом труде, что все инородцы мелких племен льнут к русским, как муравьи на сахар. Я вам уступлю некоторые меха… Я выберу, коммодор.
В баре, отвечая на расспросы офицеров, инженер Гальшерт рассказывал, что климат страны суров, переносится с трудом, дети, несмотря на всю заботу об их здоровье, страдают золотухой в разных формах и почти все население весной болеет цингой. Он упомянул фатерлянд, откуда уехал пять лет назад. Где этот фатерлянд, коммодор не спрашивал. Возможно, не в Пруссии. Скорее всего, в Москве, в Риге или в Петербурге.
– Где остановился архиепископ? – спросил Эллиот.
– У его преосвященства квартира в доме сына священника, постоянно живущего в Аяне. Архиепископ Иннокентий – известный ученый, исследователь Аляски, знает языки народов Северной Америки и Сибири, издал в Петербурге словарь и учебники алеутского языка, изобрел письменность для колошей – индейского племени, обитающего в колониях компании. Английский путешественник Симпсон, познакомившись с ним, написал в своей книге, что епархия Иннокентия, в которую входит вся Восточная Сибирь, Камчатка, острова Тихого океана и вся Аляска и побережье Северной Америки до Калифорнии включительно, является самой обширной в мире… Симпсон сообщает про случай, когда на судне, шедшем из Америки, умер шкипер. Преосвященный заменил его и вел корабль через весь океан.
Четыре француза с «Константина», как четыре императора Наполеона III, с бородками и в усиках, копаются на огороде, и черные глаза их пылают. Длинными железными шестами они всюду тычут землю.
– Что ищете, галантные союзники? – спросил лейтенант Тронсон.
– Вражескую артиллерию, – ответил один из Наполеонов. – У них закопаны пушки трех батарей!
– Нет, сэр. Они сказали нам в баре, – заметил часовой у церкви, – что здесь закопан русскими железный ящик с золотом и серебром, и они перекопали весь Аян, как участок на собственной ферме. Мы шли вместе, и они признались, что найдут во что бы то ни стало и тогда пригласят нас в таверну.
Офицеры рассмеялись, Стирлинг открыл тяжелую дверь, и все вошли в церковь. Там шла служба и тускло горели свечи. Стихли и сняли фуражки.
Седой священник в облаченье стоял на коленях и, обращаясь к алтарю, с пафосом читал молитву, вздымая обе руки.
– Укрепи… силой своей… умножи славу победами над противоборствующими… сохрани воинство, пошли ангела своего, укрепляющего их… и избави от огня и меча…
– Аминь! – тихо и согласно пропели стоявшие у стены; выдавались детские и женские голоса.
Служился молебен о даровании победы над врагом. Гальшерт несколько раз перекрестился. Переводчик мистер Тулли пояснил, что служит архиепископ Иннокентий.
Коммодор и офицеры стояли твердо, как на вахте, решили ждать. Глаза после яркого солнца не сразу привыкали к потемкам, но уже могли рассмотреть молящихся.
С края две пожилые женщины, старик с детьми и худой белокурый подросток, стриженный в кружок, в длинной рубахе и ичигах, подальше видны лица и халаты тунгусов.
…Служба закончилась. Прихожане подходили к епископу, он крестил их. Гальшерт подошел под благословение и сказал, что в церкви находится командующий эскадрой и намерен говорить.
Епископ ушел переодеваться и появился без облачения в черной рясе. Он высок ростом, крепко сложен, в бороде, со свежим, энергичным лицом. Вид его приятен, тем более что Симпсон писал о нем как о храбром моряке.
Все поздоровались.
– Слушаю вас, – сказал Иннокентий.
– Мы рады видеть вас, ваше преосвященство, и познакомиться! – проговорил Эллиот. – Но по долгу службы я должен взять вас в плен.
Иннокентий засмеялся, улавливая солдатскую шутку.
– Зачем же я вам нужен, скажите мне на милость? Неужели у вас своих забот мало?
– Вы полагаете?
– В самом деле! К тому же я человек невоенный; следовательно, пользы вам от меня нет, а будут большие хлопоты…
Эллиот шутливо нахмурился.
– Ведь меня надо кормить!
Епископ попал не в бровь, а в глаз, и все рассмеялись. Продовольствия на эскадре мало, это больное место у всех командиров кораблей.
– Так вы отказываетесь сдаться в плен, ваше преосвященство? Но в таком случае будет хуже, вам придется заплатить за свое освобождение.
– Чем же я могу вам платить? – настороженно ответил епископ.
– Как же быть? Впрочем, я могу все взять на себя. Ваше преосвященство должны нам предоставить выкуп – выпить с нами бокал вина за обедом на моем корабле, и только тогда мы отпустим вас.
– Что же делать, – сказал Иннокентий, – раз я в плену, то приходится подчиняться.
Иннокентий знал, что на судах эскадры находятся русские из экспедиции Путятина. Видимо, его приглашали не зря, обращались вполне почтительно, называя «райт ревендер», то есть ваше преосвященство. Он понимал, но говорил через переводчика, полагая, что неприлично выказывать знание языка как бы лишь для того, чтобы расположить в свою пользу.
– Мы просили бы вас, ваше преосвященство, осмотреть вместе с нами госпиталь и встретить доставленных нами больных соотечественников.
– Пойдемте, – сказал Иннокентий, – я покажу вам госпиталь. Доктора там нет, но с больными, видимо, отпускается и наш корабельный врач?
– Да, доктор Ковалевский, – сказал Стирлинг.
– Я не могу понять, почему такое неудобное место выбрано для госпиталя! – рассуждал, расхаживая по болоту, как по площадке для крикета, лейтенант Тронсон. – Тут сыро, это нездоровая низина. Как можно было тут строить это нелепое двухэтажное здание, когда вокруг столько отличных участков на возвышенностях.
«У нас, – подумал преосвященный, – дома для начальства строили на сухом, здоровом месте, а больницы – где попало».
С недоумением осмотрели пришельцы двойные двери, обитые оленьими шкурами. Внутренние помещения бедны, стены оклеены газетами, кое-где заметна плесень.
Пошли на пригорок, в двухэтажную казарму для казаков, сложенную из кедровых бревен. В нижнем – сплошные нары у стен. Верхний этаж разделен на маленькие комнаты с простой, но удобной мебелью, видно, предназначенные для офицеров. Мнения сошлись, что больных лучше поместить здесь.
На берегах горного потока росли ели, березы в свежей зелени, высочайшие тополя с толстой глянцевитой листвой, на лужайках прекрасные фиалки, крупные синие колокольчики, желтые лютики.
– Азалии образуют пышные заросли по обе стороны потока, – говорил, зайдя в густую, цветущую зелень по горло, лейтенант Тронсон.
В домике епископа все обратили внимание на портрет. Иннокентий еще молод, зорко смотрит вдаль, держит в руках штурвал. Русую бороду треплет ветер. Чья это работа? Подпись по-английски. Кто? Эдвард Бельчер? Сэр Эдвард Бельчер? Англичане столпились у портрета, наклоняясь, читали собственноручную подпись известного моряка и путешественника.
Бельчер, Симпсон, Маккензи – достаточная рекомендация. Эллиот мрачно воодушевился. Он приглашал епископа из деловых соображений, но была и другая причина.
Он рад епископу. Эллиот сражался со всеми народами и всех бил. А Иннокентий проповедовал тем же народам на берегах того же Тихого океана. Какой прекрасный человек! Какое одновременное движение вперед!
– Дорогой мой! Едемте ко мне! – сказал Эллиот сердечно.
Иннокентий знал: не из маниловщины его приглашают.
– С командой корабля «Диана» мы поступаем сурово, – сказал коммодор на корабле, – но иначе нельзя. Мы не можем усиливать ваш гарнизон. Больных я отпускаю.
Эллиот засиделся в авантюристах лишний десяток лет. Он помнил старые добрые времена, когда умел брать за глотку и пристреливать врага, глядя ему в лицо.
Коммодор еще пропитан духом старой Ост-Индской компании. Он еще пригодится.
Эллиот сказал, что взяты в плен матросы с корабля «Охотск», один из них, немец Карл Лютер, сам назвался предателем.
– В Аяне они грабят, и мои матросы удивлены, что русские грабят русских.
Иннокентий знал, что не только грабят, но и показывают взявшим их в плен, где грабить. И американцы грабят.
Иннокентий озабочен и огорчен американцами еще более, чем противниками в войне. Сколько их нахлынуло в Аян на своих судах. Неужели наши когда-нибудь с них пример возьмут? Иннокентий многих детей воспитал. Учил, как стоять, как поздороваться, глядя в глаза, как сесть и встать, как поклониться взрослым. Неужели все напрасно? Все пойдет прахом?
Какие немцы могут быть на бриге «Охотск» и откуда? Шкипер Юзелиус из Риги, где в 1845 году судно снаряжено, не сдал англичанам «Охотска», сжег и сам ушел с большей частью команды на шлюпках. Финны, конечно, были и у него, как и на всех кораблях компании.
Лютеране – звери, как полагал Иннокентий. Он однажды так прямо и написал Фердинанду Петровичу Врангелю в Петербург, что в Аляску присылают служить лютеран, и в скобках добавил: «зверей».
На этот раз он сидел в компании протестантов-англикан. Это другой народ, и вера у них другая.
Иннокентий был среди алеутов не только законоучителем, но и слесарем, столяром, оружейником, лодочником, смолокуром, учил людей всему, чему сам научился, живя в семье в сибирской деревне.
Вот сын последний раз приезжал из Москвы и сказал, что преосвященного Иннокентия ждут там. Все лучшее должно быть в столице! И будто бы Иннокентия Вениаминова прочат со временем в московские митрополиты! Плох Филарет, долго не проживет… Сам говорит. Иной замены, мол, нет. Иннокентий известен подвижничеством и подвигами своими на Аляске и в Сибири. Не пора ли, мол, заканчивать свои скитания?
Чем возиться с какими-то вымирающими племенами да сочинять для них азбуки, давно пора в Москву!
А Иннокентий задумал в эту зиму объездить все заселения в новом краю. Амурским инородцам надо дать образование, составить для них азбуки, написать буквари, как для населения Аляски. Тем более что сын здесь трудится и должен со временем сменить Иннокентия как ученый.
– …За нашего гостя, господа, – приподнимаясь, сказал Эллиот, – о ком мы читали и слышали, кто провел свою жизнь в пустынях, обращая в христианство дикие племена, неся им слово божье! За вас, ваше преосвященство, за ваши подвиги, за ваше здоровье.
Артур Стирлинг никогда бы не подумал, что коммодор способен произносить речи, восхваляющие православного проповедника. Впрочем, известно, что англиканская церковь издревле ищет с православной добрых контактов.
«Положим, вряд ли они про мои труды читали, – полагал архиепископ. – Ну, да не во мне дело! Ни нам, ни нам…»
После обеда Иннокентий отправился на «Грету».
Тронсон спросил инженера Уиттингхэма, будет ли он писать в своей книге о встрече с архиепископом.
– Да, желал бы.
– В таком случае в моей книге я опущу этот эпизод, – сказал Тронсон.
Глава 5. Может быть, навсегда
Утром на «Грету» поднялись двое французских офицеров.
Увидя их усы и бородки, Сибирцев подумал, что подобострастие всем народам свойственно. У наших офицеров и матросов усы пущены, как у государя Николая, ныне усопшего. Многие осмеливаются, впрочем, носить одни усы без императорских бакенбард. Матросы постарше предпочитают бакенбарды. На то царская служба!
Китайский богдыхан женился на монгольской княжне, и сразу же все принцы крови и вельможи Срединной Империи стали жениться на монголках. Хорошо, что монголки спокойны по натуре и не интриганки. Скачка верхом и стрельба из лука вошли в распорядок светских забав женской половины двора. Как слышно от японцев, монгольский князь был назначен командующим императорской армией, сражающейся против тайпинов[12]. Китайское подхалимство в этом случае оказывается прогрессивней европейского, способствует спортивному развитию пекинских аристократок – своеобразной эмансипации.
А у нас наш покойный ныне император однажды получил в подарок от австрийского императора лошадь каурой масти. Сразу же весь Петербург поскакал и покатил на каурых.
Император Луи Наполеон III носил закрученные усы и бородку ловеласа и жуира – и все военное сословие империи этими же признаками выражало верность престолу.
– Вы говорите ли по-французски? – спросил старший из офицеров у Шиллинга.
– Oui[13].
– О-о!
Французы просияли. Беседа живо завязалась.
– Мой лейтенант! – обращаясь к Пушкину, сказал капитан Андре Руа, с легкой проседью в завитых усах. – Мы очень много слыхали о вас и восхищены вашими подвигами в Японии. Вы в плену! Ваше положение вызывает глубокое сочувствие. Если бы вы, лейтенант Пушкин, с вашими офицерами и людьми были задержаны нами, то уже сегодня находились бы на родной земле…
– Да! Да! – подтвердил юный лейтенант Жан Дени. – В этом отношении наши морские законы значительно более цивилизованные, чем установления островного союзника. Признались нам, что в случае захвата принадлежащего противнику судна у них нет права отпускать даже женщин и детей, не говоря уж о гражданских лицах.
– Господин Гошкевич! Юнкер принц Урусов! – представил Пушкин.
– Господин Гошкевич! Как рады!
– Принц…
Известно, что с военными моряками вместе взят в плен молодой дипломат, который, владея тремя европейскими языками, также знает китайский и японский. Он – глава православного колледжа в Пекине, естествоиспытатель, коллекционер, изобретатель летательной машины, главный советник посла Путятина на переговорах в Японии.
– Я уверяю вас, что у нас не было бы ничего подобного! – продолжал Дени. – Вы были бы сегодня же отпущены под честное слово.
– Да, в этом случае у французов более цивилизованные морские законы, – подтвердил Роберт Гибсон, приехавший проститься и присутствовавший при этом разговоре на палубе «Греты». – Вам надо было сдаться в плен их судну…
– Россия и Франция ведут тяжелую войну, – заговорил Андре Руа. – Наши империи обладают почти равными силами и оспаривают друг у друга подвиги и славу. Наши герои Севастополя с восхищением говорят о вашем солдате: это противник смелый, бесстрашный, быстро исправляющий все нанесенные ему тяжелые повреждения и с необычной энергией наносящий ответные удары… Борьба равных, и она делает честь обоим противникам! Это общее мнение армии и общества.
– Англичане пытаются найти в Аяне ваши закопанные орудия; французы никогда не посмеют унизить себя подобными действиями…
– Князь Александр Урусов, вы с двадцатью людьми назначены к нам на судно? – спросил Дени.
– Да.
– Мы очень рады, принц Александр! Приятно будет видеть вас нашим гостем.
– Вы в Японию, лейтенант? – спросил Андре Руа у Мусина-Пушкина.
– Да-а, – мрачно ответил Александр Сергеевич.
– Желаем весело провести время!
– На том и порешили! – сказал Пушкин, когда гости отбыли. – Кто их всех разберет!
…«Барракута» отошла от причала и бросила якорь на рейде. Готовились к отходу ночью. Солнце висело низко над поблекшим охотским побережьем.
Скрестив руки на груди, Алексей смотрел, слушая музыку, которая все с большей и большей силой звучала в его душе. Воспоминания мелькали, и угадывалось будущее, которое потребует бесконечных сил. «Есть ли они у меня для всех испытаний? Отвратительное самочувствие – видеть родную землю и не сметь ступить на нее».
Проходя по палубе, Стирлинг взглянул на офицера, стоящего у борта.
Заслышав шаги, Алексей невольно опустил руки. Стирлинг мог пройти, не замечая, как полагается капитану военного судна, но после обхода Аяна, встречи с епископом и передачи больных на берег он невольно слегка поклонился.
– Холодно ли здесь зимой? – спросил он.
– Я здесь впервые, – ответил Сибирцев.
– Как долго идет сюда почта?
Алексей сказал, что доходит с большим опозданием, особенно зимой. Хотел добавить: «Пойдет быстрей, когда поставим пароходы на реку», но удержался.
– По Амуру возникнет удобное сообщение? – сказал Стирлинг.
Баркасы с людьми ходили между «Гретой» и «Барракутой». Палуба парохода в этот сумрачный час заполнилась угрюмыми русскими матросами с сундучками, ранцами и японскими мешками.
Подошел баркас, нагруженный ящиками с посудой. Стирлинг приказал доставить со склада для пленных и для команды по две тарелки на каждого и по чашке.
– По остальным судам ваших людей уже развезли, – сказал Пушкину старший офицер парохода. – На «Константине» приняли принца Урусова как гостя.
Известно, что юнкер князь Урусов говорил по-французски лучше, чем по-русски.
– Понимает ли кто-нибудь из ваших людей по-английски? – спросил старший офицер.
Из рядов вызвали Маслова, Берзиня и Васильева.
Пушкин сказал, что выбранные люди являются старшими унтер-офицерами, команда разбита на вахты и будет находиться под их наблюдением.
– К ужину они опоздали.
– Они ужинали на бриге, – ответил Алексей.
Сержант, боцман, помощник стюарда и младший боцман явились по вызову старшего офицера.
Сержант повел русских унтер-офицеров в жилую палубу. Ужин только что закончился, и вечерняя молитва прочитана. Койки подвешены. Время отходить ко сну, но все бодрствовали. Английские моряки стеснились в носовой и кормовой части, огражденные часовыми. Вся середина жилой палубы очищена, как для танцев.
– Вот, пожалуйста. Здесь. Вам в ночное время, после отбоя, отводится вот от этого орудия… тридцать шагов…
Все же просторней, чем на «Грете»! Пленные получали у подшкипера подвесные койки, тюфяки и одеяла, некоторым досталась подушка. Все старое, но лучше и не надо: чистые, во всяком случае. Матросы развесили свои качающиеся постели. Наконец-то можно отдохнуть и хоть ночь выспаться, не то что на бриге, где лежали вповалку на нарах. На «Грете» многим приходилось спать на палубе. Сегодня с утра были баня, стирка и выварка белья, сушка, сборы, писались письма.
Маслов прочитал молитву, и в первую ночь все улеглись. В четыре утра пленных могут поднять.
В капитанской каюте Стирлинг объяснялся с Пушкиным, Шиллингом и Сибирцевым.
– Я доставлю вас в Хакодате. Буду говорить с адмиралом о вашем статуте. Надеюсь сделать все возможное, но в английских правилах и приказах не сказано о том, чтобы освобождать женщин, детей и лиц штатской службы, поэтому коммодор решил, что Гошкевич идет на корабле… Я прошу вас подтвердить данное вами честное слово, лейтенант Пушкин.
Пушкин ответил, что слово подтверждает и что уже объявил своим офицерам и команде перед отъездом на «Грете»; что же до решений коммодора, то тут ничего не поделаешь…
«У нас тоже часто бывает, – подумал Алексей, – чем выше должность у чиновника, тем он глупее. Еще в древности замечено, что власть портит. Даже самая справедливая, как в Афинах!»
– Я передаю часть моих людей и переводчика на «Грету» под командование лейтенанта Гибсона. Команда парохода остается в уменьшенном числе. Ваши моряки производят отличное впечатление, они опытны.
Пушкин сказал, что его люди могут помогать команде парохода. За исключением военных действий. Команда разбита для этого на вахты.
Еще говорили о людях, кто и чем может быть полезен, кто пойдет в помощь к мастеру-плотнику, кто к парусному подмастерью.
– But no one to the gunner mate![14] – сказал Шиллинг.
Все пленные будут иметь общую «мессу», отдельно от команды, должны выбрать артельщиков – утром получат завтрак у артельщиков команды.
Разошлись по отведенным каютам. Гошкевич с Прибыловым занимали отдельную. Пушкин поместился с лейтенантом Тронсоном; тот извинился, что плохо говорит по-французски. Он уже заметил, что Пушкин усмехается в свои усы, выслушивая его.
Тронсон записал в дневнике: «Во время осмотра батарей в Аяне инженер Уиттингхэм сказал, что русские вправе быть горды, что тех из них, кто посвятил себя профессии, война нашла готовыми к войне. Повсюду, куда бы мы ни пришли, от Кронштадта и Севастополя до крайних оконечностей их государства, мы неизменно видим одно и то же проявление соединенных усилий таланта и умения командовать. Все их гарнизоны готовы к сопротивлению. Осмелится ли кто-либо из наших офицеров высокой репутации сказать с уверенностью, что точно так же могут быть готовыми к сражению против сильнейшего врага гарнизоны Мальты и Гибралтара? „Неприятель дает урок“, – заключил Бернард Уиттингхэм. „Я убежден, что наше традиционное фанатическое изуверство не помешает нам воспользоваться уроком“. – „Как говорят американцы, ничего не выгадывается скрытием истины и унижением врага!“»
«Барракута», стуча машиной, уходила в глубь ночного моря. Сибирцев, стоявший на юте, смотрел, как Аян заслонялся сопкой… Некоторое время еще мерцали огни кораблей, стоящих на рейде.
Коммодор Эллиот проводил этот вечер в бильярдной в нижнем этаже губернаторского дома. Сэр Фредерик занял дом под комендатуру. Здание и все комнаты содержались в полном порядке. На бильярдном столе зеленое сукно нигде не прорвано.
…Сэр Фредерик, комендант Аяна, сидит на красном диване, держа брюхо на коленях, а в руке перед собой – кий, как жезл церемониймейстера.
Флот сжег бильярдные в Охотске и в Петропавловске. Но нельзя же уничтожить все бильярдные на побережье. Узнают в Лондоне, в «Тайме» появится карикатура, как после неудачи эскадры в Петропавловске идет война на Тихом океане…
Эллиот, взмахнув в воздухе огромными ногами, улегся на борт бильярдного стола, синие глаза округлились и впились в белый шар на зеленом сукне. Тяжелый кий нанес сильнейший удар, дуплет о борт: шар в лузе!
Глава 6. Митинг
Обуздывайте свои страсти, малыши, и не волнуйтесь при виде еды.
Чарльз Диккенс.Жизнь и приключения Николаса Никльби
Ночью стало покачивать. Проснувшемуся матросу Маточкину казалось, что вот-вот всех засвищут наверх. Судно чужое, матросы и порядки тут свои. Наверху на палубе заходили. Машину остановили, пары, кажется, еще поддерживали, но уже на мачтах ставили паруса. Слышались непрерывные крики в рупор и свистки.
Судно при полной парусности пошло «ин фулл свинг»[15].
Маточкин было заснул в своей зыбкой постели. Ветер еще закрепчал. Заревел шторм, и подбоцман, спустившись по трапу, стал будить Маслова, спавшего в соседней с Маточкиным подвесной койке, и сказал ему по-английски, что «все руки наверх»…
– У них людей мало, – сказал Маслов и приказал подыматься.
Русские матросы первой вахты, босые и в клеенчатых куртках, пошли наверх во тьму с фонарями. Время рассвета, но густые тучи и ни зги не видно. Накатывают на палубу волны в белой пене. Сразу же всех окатило. Вдоль палубы натянуты леера. Ходят, держась за них. Матросы возятся с кожухами над колесами у обоих бортов парохода. Наши офицеры здесь же.
Вчера нетрудно было заметить, что на чужом судне все не так, как у нас. Священник без бороды, крестятся по-другому – ладонью. Иная утварь, другие фонари.
Маслов и Маточкин работали на иностранных судах и на доках в Кейптауне. Те, кто никогда не ступал на палубу английского корабля, старались побыстрее приглядеться.
А паруса такие же, как у нас. И так же ими управляются. Так же все работают босые, лапы такие же. И унтера босые. Здоровенные ребята!
Послышался зычный голос Маслова, которому Сибирцев перевел отданную старшим офицером команду.
– Ну, брат, и хлещут у них, – сказал, вытирая лицо, Васильев, возвратившись после вахты в жилую палубу.
Все переоделись, надели обувь. Койки убрали. Запахло матросской солянкой.
Артельщики внесли баки с пищей. Бородатые и лохматые джеки в парусине составили раскладной стол и выстраивались с ложками и посудой. Матросы «Барракуты» иногда кивнут при встрече: вместе ночью работали на мачтах.
– Все команды у них другие, – говорил Янка Берзинь, позванивая пустым котелком и ложкой.
– Работа такая же, – щелкая зубами от холода, пробормотал промерзший до костей Собакин.
Пахло мясом. Известно, что в Аяне покупали скот, быков взяли живьем. Одного забили на корабле перед входом. Слыхали, что у них утром дают солянку или горячее мясо, резанное большими ломтями, по два или по три на брата, с соусом из соленых овощей. Джеки, получая порции, рассаживались за столом, выкладывали еду из мутовок на новенькие тарелки.
Дошла очередь до Маслова, и он протянул котелок.
– Ты что мне положил? – спросил он пожилого артельщика в сивых усах и бакенбардах.
На дне котелка небольшой кусок мяса, залитый овощным соусом.
Артельщик достал еще такой же кусок, но не дал Маслову, а кивнул головой следующему – Янке Берзиню.
– Гив ми… фул… Дай полный! – сказал Янка.
– Кам… кам!
– Как это «кам»? Я жрать хочу.
Но уж артельщик наливал Васильеву.
– Вот же сволочь, – сказал Берзинь, понимая, что больше не дадут. – Как же человек может наесться такой порцией?
Маслов обратился к сержанту, сказал, что порции слишком малы, люди останутся голодными.
– Prisoners of war[16], – отчетливо пояснил сержант.
Подошел переводчик.
– Вам так полагается, – объяснил он. Добавил, что это старые законы, может быть, времен войны с 13 штатами.
– Ребята, не сгружайтесь, – сказал Маслов, подходя к скопившимся матросам, которые горячо обсуждали свое положение.
Качка, холод, плен, неизвестность будущего, голодный паек!
– Они могут подумать, что мятеж, вырвут нескольких и посадят в карцер, – пояснил Васильев.
Маслов пошел наверх, попросил позволения подойти к двери каюты Сибирцева и постучал.
– Что ты?
– Нас кормят впроголодь.
Маслов все объяснил.
– Я немедленно поговорю с их капитаном, – сказал Пушкин, которому Алексей Николаевич передал жалобу матросов.
Стирлинг сказал, что сожалеет, но ничего не может сделать.
– У нас есть закон: пленный получает половину порции. Прошу вас это объяснить своим матросам.
– Но мы уж говорили с вами о том, что законы о пленных не могут распространяться на нашу команду, – возразил Сибирцев.
Стирлинг разговора не принимал. Ясно, что никакого толка не будет. Сказал только еще раз, что сожалеет.
За обедом Шиллинг с горячностью доказывал в кают-компании, что у государя России никогда не было намерения захватить Константинополь. Он решил, что его долг – объяснить все. Удобный случай: понимают и отлично слушают, отдавая предпочтение его знанию языка и произношению, а в этом случае и мысли доказательнее.
Матрос уже обносил всех третьим блюдом и остановился подле Николая в ожидании, можно ли положить ему еще. Но Шиллинг увлекся и не спешил либо делал вид, что не обращает внимания.
Лейтенант Тронсон полагал, что Шиллинг наиболее intellectual[17] из собеседников. «Пытается убедить нас в лучших намерениях царя. Все слушают, но, конечно, при этом никто не испытывает никакой симпатии к учреждениям и намерениям России».
Матросы собрались на баке вокруг Алексея Николаевича. Он объяснил, что таков закон, что пленному полагается полпорции матроса.
«Он сам сыт», – подумал Собакин.
– Как же они взяли честное слово, что не будет попытки бунта? – заговорил Васильев.
– Они умело разделили нас, Алексей Николаевич, – сказал Маточкин, – и держат голодом.
Через день завиделись берега Японии. Волны улеглись.
В команде раздавались голоса, что офицерам – каюты, удобства и питание. Нам нет мыла, нет табака и голодно. Уж что-то очень голодно, когда рядом едят сытно.
Матрос Рудаков простудился. Корабельный доктор нелюбезен. Придет, посмотрит, ничего не скажет и уйдет, а человека бьет в ознобе.
– …Я тебе, – объяснял рыжему матросу знаками Собакин, – постираю… За табачок, – он показал на табакерку.
– No… no… – ответил матрос.
– За один только листик, – пояснял Собакин.
Он постирал белье и рубаху соседу. Получил желанные листочки табаку, свернул, вложил в трубку, затянулся и дал товарищу затянуться.
Портной Иванов починил боцману брюки, выстирал и выгладил и тут же получил новые заказы.
Переводчик велел унтер-офицерам назначить своих артельщиков, чтобы получать еду на камбузе на всех и делить самим. За обедом оказалось, что и так не лучше, получается то же самое.
Матросов все время подымали наверх, приходилось мыть и чистить палубу, качать воду, тянуть снасти, перекидывать уголь лопатами. Дела на судне всегда много.
Маслов попытался все же объясниться.
– Ай сэй[18], – сказал он проходившему сержанту, с которым дружески разговаривал перед уходом из Аяна, когда получали койки и одеяла. Но тот прошел крупным шагом по палубе, не повернув головы.
Утром до подъема флага Васильев подошел к матросу Стивенсону, желая поговорить по-товарищески. Стивенсон славный, видный, вместе работали в шторм. Васильев положил ему руку на плечо: «Хау ду ю ду…» – Стивенсон обернулся и грубо сбросил руку Васильева.
– Уси начальники… у море… у води… – объяснял старый лысый плотник старому же подмастерью-ирландцу, с которым вместе пилили доску, – а кузницу узяли у Аяни и Янку поставили молотобойцем. А де силы?
– Туго, брат! Табаку не дают. Нечем отбить голод, – говорил Собакин, беря в починку сапоги.
Портной шил целыми днями. Жили в Японии за высоким частоколом, а вокруг чувствовался мир людской жизни. Там пение и пляски обретали смысл. Чем глуше и строже казался отгородивший забор, чем запретней были добрые чувства, тем зазывней, радушней и удалей раздавались песни. Слышался дерзкий топот и посвист. Древние песни с отзвуками великого страдания, так понятные повсюду во всем мире, где бы ни пели их матросы…
…Бывало, на фрегате вызывали песенников, выходили плясуны, вынимали деревянные ложки из-за голяшек. А здесь и петь не хотелось.
Толпа мокрых, бородатых, косматых, потных, измерзшихся моряков в клеенчатой и смоленой одежде ввалилась в жилую палубу, и тут невозможно отличить матросов экипажа от пленников, все одинаково измождены, тощи, бесцветны, с некрасивыми лицами. Чих, сип, кашель, мрачная тихая брань…
Англичане вообще довольно бесцветны, с незаметными лицами, волосы их серы, они походят на наших, и в их толпе также не угадываются корни, на которых стоит народ.
Когда стали брать еду у горячих баков с солянкой и порриджем[19], только по количеству ее в мутовках можно было угадать, кто служит королеве, а кто царю. Все изголодались, молодые силы требовали варева и подмоги. Никто не переодевался, и все сели в мокром за горячее. Видели товарищи по работе, что рядом обреченные на голод? Молчат; кажется, им нет дела до другого. Что же, так и во всем мире! Каждый думает только о себе! Тем более тот, кто сам наработался до изнеможения.
После завтрака матросы переоделись. Пришел Сибирцев.
– Боятся бунта, стараются ослабить, – объяснял офицеру Маточкин, зло покусывая русые жесткие усики.
Сибирцев исхудал от обиды и забот. Кусок не шел в горло за столом в кают-компании.
Матросы сказали, что Мартыньш встретил тут родственника.
– Да вот он сам скажет!
«Юс есет летон?»[20] – вдруг спросил латыша один из матросов. Оказался парень с соседнего хутора, когда-то ездил с дядей в город на базар. Пили пиво и слушали рассказы моряков. Потом поступил на судно к финну, потом перешел к шведу, и так пошло. Обошел все моря, выучил язык. По-русски уже не помнит, родную речь не забыл. Подтвердил, что на пароходе боятся бунта пленных. Если русские окажутся сильней, то побросают команду в море. Поэтому велено недокармливать. Строго запретили своим матросам делиться порцией.
– А их, Алексей Николаевич, кормят очень хорошо, – добавил Мартыньш, – мясом два раза в день.
– Все хорошо, и на пароходе во всем порядок, – рассказывал Васильев. – А на линейном корабле у адмирала, говорят, есть старик – пятьдесят три года, а все еще младший лейтенант. Они сами объясняют, что есть медленные, а есть быстрые по службе. Те – по протекции.
Подошел портной Иванов. Когда-то шил он на адмирала Евфимия Васильевича.
– А ты где выпил? – спросил Маточкин.
– Я шил джеку. Он дал мне глоток виски… Пусть увидят, что у нас силы еще есть, еще не заморили…
– Брат, а Рудакову плохо.
Высокий красивый матрос с белокурыми бакенбардами побагровел от негодования, когда Собакин что-то спросил у него.
– What is the matter for you?[21] – почти пропел босой рослый моряк, вскинув голову, как оперный тенор.
– Что ты у него спросил? – осведомились товарищи, когда смущенный Собакин отошел прочь.
– Ничего не спрашивал…
– Будто бы!
– Чего же он взъелся?
– Я хотел узнать, почем у них паунд брэда[22] в Портсмуте…
– Он, наверно, разъярился, думал, что просишь фунт хлеба, – сказал Маслов.
Все расхохотались. И у Алексея Николаевича стало легче на душе, и он подумал, что наш народ выживает за счет своих юмористических талантов.
– Все жохи, как ярославцы, – бормотал Собакин.
– Братцы, спляшем, – просил Иванов.
– Пляши сам, если хочешь.
– Чтобы спеть и сплясать, надо получить разрешение, – сказал Сибирцев.
– Как получишь, когда ни к одному подойти нельзя?
Пришел подбоцман и велел унтер-офицерам расписывать матросов. Качать воду – восемь человек. Третьей вахте обивать цепи и якоря. У помощника стюарда… У лотовых…
Под парами пароход шел проливом, приближаясь к Хакодате, где предстояла встреча с адмиралом Стирлингом и разговор о судьбе пленных. Вечерело. Лесистые сопки темнели по обе стороны Сангарского пролива. Съеден скудный ужин.
Скоро раздастся команда «трайс ап тсе хэммокс!» – подвешивать койки.
По трапу спустился улыбающийся матрос со многими нашивками на плече и на рукавах и сказал, что старший офицер разрешает сегодня по случаю праздника спеть пленным на палубе.
Латыш из английской команды стоял наверху с Берзинем и Мартыньшем и объяснял, что все козни произошли от коммодора Эллиота. Его никто не любит. Когда эскадру отправляли из Аяна, то коммодор сказал капитану, чтобы досыта не кормить.
– Ты потише, – заметил Берзинь, кивнув на стоявших рядом английских моряков.
– Нет, ничего, они сами просили меня сказать.
– Стыдно им, сво-ло-чам! – отчеканил Мартыньш.
Утром, поднявшись наверх, Алексей увидел знакомую гору с плоской вершиной. Слабо плещется широкий Сангарский пролив. Тучно стоят сопки на обоих берегах.
Пушкин и офицеры вместе с матросами на палубе. Все ждут, что-то будет.
– Столовая гора! – сказал Александр Сергеевич.
– Южная Африка! – сказал молоденький матрос.
– Нет. Япония. Хакодате, – ответил Пушкин.
– Какое-то наваждение, – молвил Шиллинг, – куда ни идем – попадаем опять в Японию.
– Здесь мы были в прошлом году на «Диане», – сказал Маслов.
– Уж лучше бы Южная Африка! – размышлял Сибирцев. – Здесь рандеву с остальными кораблями английской эскадры, решающая встреча с адмиралом.
Столовая гора стала отплывать от берега, потом поворачиваться, а из-за нее, по зеленому скату в садах и полях, опять, как из мешка, посыпались и запестрели домики под толстыми соломенными крышами.
– На Хэду похоже! – сказал кто-то из матросов.
Хэду действительно напоминает, так что у Алексея больно стало на сердце. И Симоду! Видны два английских корабля с острыми линиями обводов; крашенные белым порты – на черных бортах.
– У японцев солома на крышах крепкая, – с восхищением говорил, глядя на город, Мартыньш. – Как проволока!
– Адмиральских флагов нет, – заметил Шиллинг.
«Барракута» бросила якорь на рейде. Шлюпки заходили между кораблями. Вскоре стало известно, что оба адмирала, английский и французский, ушли из Хакодате в Нагасаки.
– Ушли, чтобы не встретиться с русскими, – объявил один из английских лейтенантов в кают-компании за ужином. Все сидевшие за столом откровенно рассмеялись.
Похоже, что офицеры недовольны бездействием.
Что же теперь? Длительное плавание в Нагасаки? Здесь «Сибилл». Коммодор Эллиот заходил с эскадрой в залив Анива и высадил десант морской пехоты на Сахалине, заявив японцам, что остров никогда им не принадлежал, что тут всегда были русские посты, находятся их углеломни. Морская пехота в красных мундирах маршировала по широким долинам у селения Анива.
Эллиот недоволен, что не застал своего адмирала в Хакодате. Уже известно из разговоров в кают-компании, что он намеревался склонить Стирлинга к решительным операциям на устьях Амура.
На другой день прибыл посыльный бриг с почтой. Привезли газеты за три месяца.
– Себастопол… Себастопол… – слышится среди английских офицеров.
Приходится вставать и уходить из кают-компании. Нельзя же подойти к неприятельскому офицеру и спросить: «Что же там?» Что наш Севастополь? Кажется, Севастополь держится. Один лишь отзвук его имени, услышанный здесь, заставляет с гордостью сносить униженное положение и помнить о тяжкой године войны.
Куда черт унес адмиралов? Где Стирлинг?
Хакодатские чиновники сообщили Гошкевичу под секретом, что посол Англии и генерал флота Стирлинг вместе с французским генералом отправились осматривать побережье России к югу от гавани императора Ни-ко-ра-и.
– К северу, – поправил Гошкевич.
– Нет… это… к югу…
В кают-компании офицеры «Барракуты», узнав про распоряжения, оставленные адмиралом Стирлингом, пожимали плечами от нескрываемого удивления.
…Пароход, спустив пары, тихо скользил под парусами по гладкому морю, под прибрежными утесами.
– Походит на остров Кунашир, – закидывая голову, говорил Сибирцев.
– Идем обратно в Нагасаки, – сетовал Гошкевич. – Как-то снесет все мой Точибан Коосай! Что-то он думает… Никак не можем увезти его из Японии.
– Куда же адмиралы ушли, что вам японцы сказали? – снова допытывался Мусин-Пушкин.
– Они говорят, ушли на опись наших берегов, но что Стирлинга постигнет неудача: мол, они с французом отправились на больших кораблях, а что на опись надо ходить на пароходах, как американцы.
– Странно, что они ушли на обзор наших берегов к югу от Императорской, это значит пойдут до корейской границы.
Вечером в море полный штиль. Машина заработала. Команда корабля и пленные готовились ко сну.
В жилой палубе на ночь выставляли караул. Дело обычное, «рутинное», как у них называется, но часовые с карабинами приставлены с обеих сторон около пленных, разместившихся в гамаках в середине палубы. Сержант о чем-то поговорил с Масловым.
– Извиняются за свое командование, пытаются как-то помочь нам, – пояснил Маслов товарищам. – Сказал, что их команда просит нас песни попеть.
– Чего же им споешь! – насмешливо ответил Мартыньш.
– Просили спеть, как вчера.
– Веселые песни не запоешь! – молвил кто-то из глубины темной палубы.
– Давайте споем, люди просят…
– Можно! Проголошную!
- Эх, помню, помню я… —
в одиночестве затянул Маточкин, покачиваясь в гамаке.
- Эх, как меня мать любила, —
тихо подхватили густые и согласные голоса.
- И не раз, и не два
- Она мне говорила…
Маточкин слез с гамака:
- Когда, Ваня, подрастешь,
- Не водись с ворами.
Хор продолжал в мрачном согласии, как бы матовыми или бархатными голосами, истосковавшимися по пению.
- В Сибирь-каторгу пойдешь,
- Скуют кандалами.
- Сбреют волос твой густой,
- Вплоть до самой шеи,
- Поведет тебя конвой
- По матушке-Расее…
- Не послушался я мать, —
жарко, с болью и жалобой ввысь поднял песню голос запевалы:
- Повелся с ворами,
- В Сибирь-каторгу пошел,
- Скован кандалами…
Вокруг Маслова столпились «их» матросы. На этот раз команда заинтересовалась, что за слова у такой печальной песни.
Маслов перевел. Британцы смолчали. Это касается и их. Тут даже у злодеев из морской пехоты могли бы выступить слезы.
– Братцы, а как с маршевыми песнями шли по Японии…
Всем вспомнилось, как заходили в деревню Хэда.
- Шел матрос с похода,
- Зашел матрос в кабак,
- Эх…
– Свистуны! – раздалась команда.
- Фьють, фьють…
- Сел матрос на бочку,
- Давай курить табак.
– Ложкари!
- Эй-эй-эй…
Песню прервали, слышно стало, как тяжело работает машина парохода. Не качнет. Идем, как по реке. Неужели в Китайских морях всегда так?
«Плывут в Гонконг, а поют, как гонят их в Сибирь на каторгу, – подумал Стивенсон, выслушав объяснения своего переводчика. – И как вернулся матрос со службы…»
- Здорово, брат служивый,
- Что, куришь табачок… —
продолжал хор.
«Когда все это слушаешь, то человеку с воображением представляется битва под Севастополем. Какое там ужасное побоище и как геройски сражаются славные британцы, если враги на них идут фронтом с такими песнями. По сути, и нам надо бы усилить вдвое караулы. Но офицеры беспечны».
Матросы палубы и солдаты морской пехоты вылезли из гамаков и выкладывали перед певцами свои фамильные табакерки и грязные кисеты. Угостить больше нечем.
– Они давно плавают вместе, много пережили и хорошо спелись.
– Если им разрешить высказывать свободу мнений, то перестанут слушаться. Откажутся воевать, и начнутся безобразия. Все же дети рабов.
– Я не верю этому. Не может быть, чтобы матросы набирались из рабов.
А на другой вечер пленных прямо попросили спеть про мать, которая страдает за сына-разбойника…
Собакин, молодой, неуклюжий и сутулый, как старик, сидя на краю скамейки, подозвал к себе собаку, отличавшуюся свирепостью и прожорливостью.
Пес подошел неохотно, поглядел презрительно и зарычал. Собакин что-то сказал ему. Кобель поджал хвост, наклонил голову и смущенно отошел. Собакин опять позвал его. Пес повиновался. Матрос сказал:
– Разве у тебя нет ума? Тебе не стыдно? – Пес раскорячился, склонил морду и, сильно и судорожно напрягшись всем телом, отрыгнул огромный кусок вареной говядины.
– Видишь, какое хорошее мясо, – сказал Собакин. – Как же она его сглотнула?
Матрос встал и у всех на глазах выбросил кусок мяса в открытый порт.
За столом играли картежники. Один из них вскочил и стал бить Собакина.
– За что? – отстранился пленный.
Маслов вырвал Собакина за руку из сбившейся толпы и сам несколько раз съездил ему по шее.
– Тебе самому не стыдно?
– За что ты-то? Они от нас просят песен, а мясом кормят собак, поэтому и взъелись. Эта собака хуже полицейского. В этом куске целая порция…
– Тебе какое дело?
После этого все стали замечать, что у Собакина особые отношения с псами. Собаки его слушают и понимают. При всей привязанности матросов к собакам никто такой силы влияния на них не имел. Все стали опасаться за своих любимцев. Показалось, что собаки стали чахнуть. В шторм одна из офицерских собак услыхала крик и ругань своего владельца, стоявшего на вахте. Молодая собака, видимо, решила, что ее зовут на помощь. А дверь не открывалась. Собака сидела и ждала, пока кто-то не вошел, и она выскользнула на палубу. Тут же волна смыла ее в море.
Вечером спросили Собакина, как он полагает, что случилось. Кто-то из пленных смеясь сказал, что по части собак Собакин собаку съел. Переводчик перевел буквально.
– Он съел собаку? – возмутились матросы экипажа.
– Это пословица, а не на самом деле, – перепугался Янка Берзинь. Он скорей пришел на помощь.
– Этого не было… Так только говорится.
Стали объясняться.
Но уже поздно! Как их теперь вразумишь?
– Что же ты, брат, наделал, – толковал Маслов обмолвившемуся товарищу. – Дернуло тебя за язык!
– За собаку теперь с ними ввек не разочтешься! – сказал Матыньш.
– Он ест собак? – спросили про Собакина.
– Собакин, иди сюда, – приказал Маслов. – Расстегни рубаху, покажи крест. Посмотри, джек, его руку. Вот видишь, какая у него кость.
Маслов не стал пояснять, что на собачине такую кость не выкормишь.
– А ты, Собакин, не срами товарищей… Оставь все свои фокусы. Я старший унтер-офицер и тебе приказываю.
– У них есть умелые марсовые! – говорили матросы «Барракуты» после очередного шторма. – Командование поступает несправедливо.
– Да, недостойное поведение коммодора!
– На мачтах они не заслужили упрека.
– Пети-офицеры у них старики, всем лет по тридцать – тридцать пять! У всех вискерс – бакенбарды. Все босые, как и рейтинг, – служивые, – излагал Собакин свои наблюдения. – Все боксеры!
Двое матросов экипажа подошли, достали из картузов глиняные трубки, угостили Собакина табаком, и все закурили.
– Платков у них нет, а как идут на берег, надевают черный шелк на шею, – продолжал Собакин. – Не матросы, а дамы!
– Европа нас удивляет и превосходит, братец, и это доказывает! – ответил Васильев.
– А что же мы?
– А мы как придется… По одежке протягивай ножки…
– Dog charmer! – проходя мимо и хлопнув Собакина по плечу, одобрительно сказал Стивенсон.
– Что они меня теперь так называют? Что такое дог чармер? – спросил Собакин у Маслова.
– А это то же самое, что и по-русски. Разве не понимаешь? Дог это и есть дог. А чары есть чары. Значит, у тебя для дога чары. Это они заметили, что ты очаровал всех собак!
– Собачьи Чары! – засмеялся Маточкин.
Матросам экипажа ясно теперь, что у пленных, как и у них, такие же босые, как железные, подошвы в смоле. Так же не боятся они холодного ветра, так же прячут свои odds and ends – мелочи – в шляпы и фуражки. Если удивляемся, что у них трубки не глиняные, то надо лишь вспомнить – они из страны лесов. Обжиг глины и выработка черепицы до совершенства доведена только на нашем острове. Глиняные трубки для рядового, бегающего по мачтам, удобней. Когда куришь в час отдыха, то греют озябшие руки.
– Красиво, а пустыня, – глядя на вершины прибрежных утесов, сказал Шиллинг.
Под скалой бил гейзер, угасал, потом опять белая струя воды и пара подымалась саженей на сто и, распадаясь, рассыпалась по черным обломкам скал, на которые, дыша, находил и отходил светло-зеленый после шторма океан.
Поток падает с обрыва – целая река рассыпается в воздухе и превращается в дождь.
Вахтенный лейтенант попросил всех уйти с палубы.
…Матрос Стивенсон, размахивая рукой, стоял на баке и, обращаясь к собравшемуся на палубе экипажу, кричал высоким голосом:
– Своим эгоизмом наш адмирал, фигурально, образно говоря, не может ли толкнуть христианский народ на путь людоедства? Как мы выглядим в этом случае? Кто же и в чем виноват? Если это так, то есть ли какие-нибудь сомнения?
– Слушайте! Слушайте! – раздались голоса.
– Я выражаю желание призвать всех товарищей выказать солидарность, подать петицию капитану парохода, коммодору и командующему эскадрой. Есть ли причины для унижения пленных матросов? Чем они воняют в ноздри его превосходительству? Они трудятся с нами наравне, и каждый заслуживает паек моряка.
Вахтенный офицер спокойно прохаживался мимо митингующих. Иногда он отдавал распоряжения вахтенным на палубе, не принимавшим участия в сборище. Стивенсон сошел с банки на крышку люка и на палубу. Он надел фуражку. Плотник поднялся наверх и заявил, что, прежде чем бороться за других, надо подумать о своих.
Матрос, гордо выпятив грудь, сжимая кулаки, закричал гулким басом:
– Я сам слышал, как в Хакодате они говорили по-японски! Люди возвращаются после научной деятельности на родину и в плену заслуживают вполне табака и мыла!
– И полной порции! – вперебой добавили голоса из толпы.
– Скажем слово против эксплуататоров в защиту рядового матроса. Против лавочников, переводчиков и газет, искажающих истину! За свободу слова!
Вышел матрос в бакенбардах, в лохматых шерстяных штанах и босой.
– Мы поем: «Вверх, Британия, и вниз, все остальные». Для русских за голодное терпение и за их железные лапы я призываю сделать исключение, и я готов отвергнуть ради них наши патриотические предрассудки. Фигурально выражаясь, пленные моряки – как полновесные стерлинги Соединенного Королевства!
– С ними война! – крикнули оратору. Митинг загудел, выражая недовольство этой репликой.
– Вы, Алби, вместе с мистером Дог Чармер сегодня обстенили парус и положили рей на мачту. После нашей неизбежной победы в Севастополе речь о войне прекратится. Долг моряка – бросить спасательную бочку! Я призываю: идти прямо в зубы ветру и подавать бумагу командующему!
– Тэд вырвал эти доводы и эту блестящую речь из моего рта! – заявил следующий оратор, рыжий матрос без всяких нашивок. – Дайте мне бумагу, я поставлю на ней свой крест!
Митинг закончился.
– All sails aback![23] – раздалась команда вахтенным.
На другой день при подъеме флага вышел капитан Артур Стирлинг. Как всегда по субботам, спросил, есть ли жалобы. Стивенсон выступил вперед и попросил позволения подать петицию.
Молодой капитан просмотрел длинную бумагу со множеством подписей. Сказал, что передаст петицию адмиралу, ушедшему в Нагасаки, и тогда ответ будет известен.
– У нас Степан Степанович первому же спикеру за такое дело отгрыз бы ухо, – почесываясь, говорил Собакин.
– У вас плохой капитан? – спросил Стивенсон.
– Нет, хороший, – ответил Маслов и подмигнул товарищам.
– Но мы привыкли, – молвил Маточкин, – а у вас хороший капитан?
Стивенсон ничего не ответил.
– Как у вас разрешают так рассуждать? Капитан не наказывает?
– Ему нет дела до этого.
– Ты же служишь у него?
– По службе я исполняю все приказания… Иду в бой и работаю. До остального ему нет никакого дела…
– Ай сэй! – желая приостановить уходившего Стивенсона, сказал Васильев. Но тот не обернулся, опять скинув руку с плеча, и ушел.
– Панибратства не любят! – предупредил Маслов.
– Но в тред-юнионы не каждого принимают, – объяснял плотник. – Надо быть хорошим мастером.
Молодой матрос сказал, что в военном флоте тред-юнионов нет, запрещены всякие объединения и стараются, чтобы католиков было меньше. Католики верят папе и подчиняются ему.
– Флот стоит дорого. Хотели ввести продажу капитанских и офицерских должностей, чтобы оправдать расходы. Парламент не утвердил. А у вас дорого стоит флот?
– А нам не говорят, сколько стоит.
– Почему же не требуете? Может быть, вас обманывают?
– Еще хотели военные корабли продавать капитанам в собственность.
– Как японские церкви бонзам! – догадался Васильев.
Матросы разговорились и рассказали, что у них все население разделяется на работающие классы и на думающие классы. Зашла речь, что думающие классы будто бы думают о том, как улучшить положение трудящихся. Чтобы эта задача решалась успешней, велено их хорошо кормить. Поэтому трудящимся приходится ради своего счастья во всем себе отказывать, и они живут впроголодь. И еще много есть хороших и благородных теорий. Но дело не меняется для тех, у кого силы нет. Толковали об устройстве тред-юнионов, зачем они составляются и можно ли говорить об этом на корабле, разрешается ли военному моряку или за это преследуют…
– Лучше говорить реже, – пояснил моряк, похожий на оперного певца.
– Королева царствует и управляет. Советуется с парламентом. В тронной речи объявляет, что должны потом подготовить тори или виги.
– Кто такие? – удивился Маточкин, выслушивая не совсем ясные переводы товарищей.
Пленные сгрудились и слушали с интересом. Добровольные переводчики задавали любой вопрос и переводили ответы.
– Ну что, понял, Собакин? – спросил Маточкин, когда беседа закончилась.
– Понял.
В воскресенье пели и танцевали; теперь веселилась команда корабля.
Некоторые напевы с четким, частым ритмом, в котором фразы теснились так, что певцы спешили произнести их почти речитативом. Подыгрывала итальянская гармоника, ритм подбивали гитары.
– Проголошные у них, может, и вовсе не поются, – говорил Васильев.
– Почем ты знаешь? У них разные есть песни. У них есть все.
– Слушаешь – и отдыхаешь. Слезы не льешь.
В танце замысловатые коленца не выкидывают, присядки у них нет. Стивенсон, ступая короткими шажками, затянул песню, многословную, как жалобу или рапорт. Потом он, гордо расправив плечи, грациозно и лихо расхаживал по палубе, высоко вздернув нос.
- I am beggar,
- But beggars are some gentlemen[24], —
под общий хохот закончил он.
Утром Собакин умывался в общем умывальнике, когда рядом встал Стивенсон.
– Джентельпуп, здорово! – сказал ему Собакин.
Стивенсону послышалась насмешка, но не следует обращать внимания. Этот пленный все же большой оригинал, а оригинальные люди редки.
– Подавать такую петицию адмиралу – это давить кровь из камня! – сказал Сибирцеву штурманский офицер Френсис Мэй. Они вместе чертили в рубке карты.
Кажется, следует понять в том смысле, что командующего не разжалобишь.
Скромный штурман Мэй обычно испытывал молчаливое благорасположение лично к Сибирцеву. Становясь разговорчивым, он жаловался на жару в китайских морях и что возвращается туда с неохотой.
Глава 7. Старообрядцы
Двойка врезалась килем в берег. Ульян перескочил борт, прошел несколько шагов по отмели в ракушках и звездах, упал ничком и лег лицом в сухие водоросли, как в ворох сена. Не ждал, что останется живой, готов был к уходу из мирской жизни. Сейчас силы покинули его. Сознание невыносимо тяжелых испытаний, предстоящих еще, не пришло к нему. Он, как малый ребенок, припал на грудь земли.
Боцман Шабалин вылез следом, разулся, пососал пустую трубку и подошел к Ульяну. Тот дышал ровно.
По названию «старообрядцы» – это значит старые, как старый хлам людской, бесы щуплые и верткие. Невельской выбрал из них трех братьев и парня – их племянника. Подобрались удалые, свежие – кровь с молоком. Ульян широк в костях, ладони большие, пальцы толстые, хваткие. Фал или шкот потянет в любой ветер легко. Какое дело ему ни поручалось – выполнял старательно, обучался с усердием. Староверы все делали на судне хорошо. Пропойц среди них незаметно. Чарку не ждали…
Все погибли, кроме Ульяна. Двух братьев сразу убило бомбой. Видно, Ульян не мог и сейчас опомниться. У них семьи крепкие, за своих стоят, а тут никого у него не осталось.
Шабалин сел на корточки. Курить хотелось до смерти. В мокрой одежде без работы зябнешь.
После того как вражескими ядрами бот был разбит и сразу стал тонуть, оставшиеся в живых кинулись в воду, и тут же волны разъединили всех. Страшно стало море, когда берег далеко. Шабалин успел ящик с инструментами забросить в шлюпку. Плавали вокруг нее с Ульяном долго, не могли перекинуться через борт из-за зыби.
Там, где кончался песок, смываемый волнами, росли хвощи. Дальше зеленел кустарник, а за ним здешний богатый, цветущий лес. Туда волна не достигала никогда.
За сопкой тут, неподалеку, бухты, живут удэ. У них остался погостить наш проводник Кя.
Из бухты Уня[25] вышли вчера, чтобы идти в бухту Посьета. Тунсянка Кя остался в стойбище Вайдя.
Вчера не могли выйти из пролива, заштилели и пристали к огромному острову в больших горах, который закрывал вход в бухту Уня. Сегодня боцман Шабалин решил продолжать плавание. Попутный ветер вынес бот из пролива и помчал через перемежавшиеся полосы тумана. Шабалин смело забирал мористей, чтобы пересечь большой залив. Сразу встретились, но не с китобоем, как бывало, а с неприятельским «конвертом».
Теперь нечего и думать возвращаться в Уня сушей.
В бухте Безымянной придется ночевать. Но как? Заедят комары и мокрец.
Сушились. Ловили рыбу, избивая ее в речке палками. Кремень и огниво Ульян сберег на груди в кожаном мешке. На суше Ульян – как Иван на море.
Ульян долго молился вечером о спасении душ братьев своих Андрея и Иоанна и племянника Иосифа.
Улеглись между костров из гнилушек.
Шабалин не уверен, что завтра по сухому пути удастся добраться до бухты Уня. Подумал: «А что, если погибнем? Крест можно заготовить самим, еще пока живые».
«Здесь погибли за Русь и царя смолоду
Военного флота моряк и товарищ его кержак с голоду.
Боцман с медалью Шабалин
и старообрядец Ульян Басаргин».
Он хотел бы мысленно продолжать надпись на кресте, думал, как вырезать, что по-разному верили в высшее божество, но примирились в ничтожестве… Шабалин решил, что надо спать и вообще лучше не умирать, чем сочинять стихи на свой памятник, тем более что рифма не подбиралась.
Мокрец кусает так, что спасу нет… Где моряк не пропадал! И чего только не слыхал! Моряка ничем не удивишь.
«Tell it to sailors!»[26] – говорят джеки.
У боцмана Ивана Шабалина кортик, а у Ульяна нож забайкальский, точен с обеих сторон, как кинжал, можно отрубить барану голову.
…К вечеру на другой день на плоту перебрались через залив и поднялись на гору. Внизу, как в пропасти, открылась между гор огромная бухта Уня, окруженная дубовыми лесами. Бухта с изгибом. Похожа на полусогнутый указательный палец… Но палец этот шириной с Амур. Удэгейцы так бухту и называют: Уня – значит «палец». Указывает в глубь гор, а корнем выходит из пролива между материком и становым островом в горах.
Навстречу по тропе шел Кя с собаками.
– Кирилл! – воскликнул боцман.
– Ты живой, Иван? – тихо спросил удэ.
На Шабалине и Басаргине одежда изорвана, а сапоги, видно, когда были мокрые, растоптались и разбухли, потом ссохлись, показали зубы и стали белы от соли. Сапоги – неудобные обутки, это знает каждый таежник. Нога в них преет и болеет.
– И ты живой, Улька?
Тунсянка Кя, он же Кирилл, позвал в фанзу. Там было много народу, но все поспешно расступились, и Ульян увидел, что на кане[27] сидит белокурый живой и здоровый племянник его, чистый и прекрасный, как ангел. Юное лицо Иосифа нежно зарделось при виде вошедшего Ульяна. Казалось, он смутился перед дядей, что так все случилось, что он посмел спастись и принял спасение от чужих людей и по их милости живет.
Иосиф грамотный, подростком ездил на ярмарки в Кяхту и Маймачен, там научился говорить по-китайски.
Еще сильнее смутился сам Ульян. Ему стыдно стало, что он в душе уже похоронил братьев и любимого племянника своего Иосифа, расстался с ними и смирился навсегда с их гибелью.
В Забайкалье старообрядцы живут, не зная притеснений, как всюду в Сибири. Муравьев считает их лучшими сынами России. «Пока я губернатор, волоса не упадет с вашей головы» – так в старообрядческом селе Тарбагатае говорил Николай Николаевич. Он призывал самых удалых крестьян переселяться на Зеленый клин в Приморье, обещал покровительство. Уверял, что там нечего бояться придирок от Святейшего Синода и попов-никониан. А на старых местах старообрядцев теснят, оскорбляют, называют раскольниками, попы у них отнимают детей, матери кончают из-за этого жизнь самоубийством.
При виде доброго, сильного и светлого лица живого, словно восставшего из мертвых, Иосифа душа Ульяна озарилась светом счастья, не закрытого и для старообрядцев. Иосифа спасли! Оказывается, что не только горе приносила чуждая жизнь и чужие люди. «Прости меня, Иосиф!» – подумал Ульян с потаенной горячей радостью, обнимая кровь свою, как спасенного родного сына.
Удэгеец Кя поставил на кан перед Иваном коробку с листьями табака, а жена его родича – хозяина фанзы – принесла огромный арбуз с огорода.
Тунсянка хотел бы рассказать, почему родня его живет в Вайдя, а сам он с большей частью рода – на речке Хоре, далеко отсюда.
Когда-то весь род Кя жил в бухтах вокруг Уня и в тайге. Но потом начались набеги маньчжур. Пришельцы никого не жалели. Удэгейцев рода Кя обращали в рабов. А удэгейцы рода Кя не желали порабощаться, убивали маньчжур. А те приводили с собой рабов – китайцев. «Китаец» по-гольдски «нека». «Раб» по-удэгейски и по-гольдски тоже «нека». Тогда впервые старики увидели китайцев. Они штаны подвязывали по-своему, не так, как маньчжуры. Тунсянке все это вспомнилось вчера, когда китайская шаланда ловцов трепангов подобрала молодого русского в море.
Вечером Тунсянка рассказывал ночевавшим в фанзе китайским ловцам трепангов и удэгейцам. Шабалин узнал, что не все жители здешних мест удэгейцы – вернее, все не настоящие удэгейцы, что китайцы зовут их да-дзы, то есть тазы, – смесь удэгейцев с китайцами. Сначала маньчжуры прогнали часть удэгейцев, а оставшихся притесняли. Удэгейцы в неволе мерли. Потом маньчжуры привозили рабов на промыслы. Рабы жили в фанзах с удэгейцами, отбирали у них жен. Рождались дети, похожие на китайцев, говорящие по-удэгейски и по-китайски, но презираемые и пренебреженные своими отцами. Теперь уже нет больше рабов, вымерли, а приходят китайские ловцы на добычу трепангов.
Предки Тунсянки рода Кя ушли из Вайдя на далекую речку Хор и стали называться Кялундзюга… Всего не запомнишь. Тунсянка сейчас говорил по-своему и несколько раз упомянул Муравьева. Что-то спрашивали, поминая Муравьева, ловцы трепангов и тазы.
«Далеко же слышно его имя! – подумал Иосиф. – Спасибо Муравьеву, – на него зла не было, – он хотел и себе и нам как лучше!»
Невельской доложил губернатору Муравьеву, что, снаряжая на юг края, в Приморье, бот с матросами под командованием грамотного боцмана Шабалина, узнал при этом, что старообрядцы, переселенцы из Забайкалья братья Басаргины и племянник их Иосиф Силин, знающий по-китайски, просятся в плавание, хотят видеть необитаемые бухты, узнать, правда ли все, что про те места толкуют.
Первая цель, как пояснил адмирал отплывающим, искать места, удобные для земледелия. «Землю будем давать бесплатно, кто сколько может обработать. Вторая цель: всем судам дружественных держав показывать объявления на иностранных языках, что край наш, всем побережьем владеет Россия, и не сметь никого трогать без позволения. Третье: врагам стараться доказать, что в тех водах плавают и на тех берегах живут русские, – показывать наше знамя. Не бояться врага, стараться погибнуть, если надо, как наши братья умирали и умирать нам завещали». Так складно сказал, не хуже стихов, что сочиняет Иван Шабалин. Мол, пусть враги увидят, и все такое… Велел погибнуть за родину. И присовокупил, что еще не может сказать по-другому, что еще не догадался никто приказывать: не умирать, а жить во славу родины-матушки и оградить детей и родню и доход, «чтобы ни один враг, видя нашу силу и твердость, не сунулся».
Невельской выдал боцману судовой журнал, четверых крестьян зачислил во флот матросами, дал документы, но в салоне дозволил повесить пудовые медные складни. Дал объявления на иностранных языках, что заливы Ольга, Посьет и Владивосток вечно принадлежали Российской империи.
Назначил шкипером своего лучшего моряка, боцмана, как бы в залог, что посылает не на гибель и что дело исполнимо. Выдал харчи: сухари, бочку солонины, уксус, ром и водку. Запасные паруса. Два якоря, канаты. Определил плату и выдал за год деньги вперед и еще двести рублей серебром боцману, чтобы купил быков, если останется на зимовку, и сам начертил карту…
Так старообрядцы сами попросились в плавание, когда узнали, что бот пойдет на юг, где на берегах раскинулся таинственный и благодатный Зеленый клин, о котором многие толкуют и по Сибири слухи идут…
Грести все умели, парусом управлялись, зверя и рыбу били, умели плавать, голодать, терпеть. Кроме Шабалина и Басаргиных с племянником на боте пошли двое штрафованных матросов, еще один герой-марсовый с медалью и украинский казак. Снаряжение и припасы даны были лучшие. Железные вещи и красное сукно на обмен. Мы цель достигли и приказание Невельского исполнили: все умерли за родину, кроме трех!
Глава 8. Таинственный полуостров
Адмирал Стирлинг долго стоял в Хакодате.
Хакодате и Нагасаки – порты, открытые для флота Англии по договору, который адмирал сэр Джеймс Стирлинг заключил в прошлом году. Теперь срок действия начался.
По договору, заключенному Путятиным, порт Хакодате открыт и для русских. «Посол и адмирал Путятин захочет в этом году проверить действие договора?» – «Да, да!» – отвечали японцы. Стирлинг все лето ждал, что адмирал Путятин прибудет в Хакодате. В северных морях кампания этого года подходила к концу. «Путятин прибудет в Японию?» – «Да, да!» – с улыбками отвечали почтительные японские чиновники, радуя гостей.
…Япония – идеальная страна для старых адмиралов. Их огромные парусные корабли нигде в мире не производят больше такого впечатления, как в Японии. Старомодная отделка адмиральских кают, в бархате и позолоте, вызывает восхищение японских чиновников. В Японии вся эта отсталая роскошь считается открытием, слывет новинкой из Европы.
Черный, тяжкий век! Отвратительная промышленная революция лезет на корабли, разрушает флотский аристократизм.
Адмирал Джеймс Стирлинг слывет взбалмошным. Он известен своими причудами. В Шанхае бывает в китайских кварталах и ест там палочками пельмени из свинины с чесноком, на корабле надевает штатский костюм, а вечером китайский халат. К подъему флага является во всей форме.
Ради оригинальности мог бы поднять свой флаг на быстроходном пароходе. Но на «Барракуту» назначен капитаном его сын Артур и делает на ней кампанию. Этим назначением сэр Джеймс отдает должное изобретениям и моде века. Свой флаг, как почти все адмиралы его возраста, держит на старом стопушечном корабле. Старосветские громадины, несущие облака парусины, сохраняют внешний белоснежный аристократизм без угольных бункеров, без труб и без кочегаров.
Да, он мог бы поднять флаг на коптилке, где нет роскоши, где машины требуют места и теснят комфорт аристократов, где меньше людей и услуг, а механикам и кочегарам надо предоставить удобный отдых и сытную пищу, иначе не смогут работать в жаре, без воздуха; это не служба «перед мачтами».
Стирлинг полагает, что он все же не так оригинален, чтобы поступиться ради скорости и престижа британской промышленности традиционными вековыми удобствами в угоду машине и дыму. А жилое помещение, как известно всем, оказывает сильное влияние на мышление и характер обитателей.
Внезапно Стирлинг ушел из Хакодате. Он переплыл моря и прибыл на своем линейном корабле, как в плавучем особняке, в цветущий порт Нагасаки, где в прошлом году подписывал договор. Очень долго шел из Хакодате в Нагасаки. Явился в порт назначения, когда там уже стоял вышедший после него из Хакодате отряд судов коммодора Эллиота с новостями о сожжении портов Сибири: Петропавловска, Охотска и Де-Кастри – и об уходе «Авроры» в Амур.
Артур Стирлинг желал бы знать, где отец был так долго. Почему французский адмирал на таком же старомодном линейном корабле сопровождал его в плавании? Подобные секреты долго не сохраняются. Сэр Джеймс пригласил сына к позднему завтраку.
– Я уверен, что пленные офицеры надоели вам, – сказал адмирал сыну. – Я освобожу от них пароход, они жили слишком хорошо.
– По прибытии на мой пароход… они…
– Кинулись? – вскричал отец. – На еду?
– Нет!.. На английский язык. Один из офицеров сразу же, как только вступил на палубу, стал записывать в карманный словарик выражения. Мы предоставили им каюты и стол в кают-компании. Пленные матросы – сто человек, все хорошего физического сложения и довольно рослые – походят на отборных солдат. Наша морская пехота ушла с коммодором на Сахалин. Часть команды с лейтенантом Гибсоном отрядил на «Грету». К подавлению мятежа мы были готовы все время. С их офицерами мы проводили время вместе. Пленную команду свои же офицеры держали в повиновении. Матросы помогали нам, исполняя все работы, и заслужили уважение экипажа.
Отец для Артура подобрал на «Барракуту» хороших молодых офицеров. У себя на корабле оставил пожилых лейтенантов. Старик капитан ходит с бородой, как Санта-Клаус, и в цилиндре, как швейцар. Один из офицеров, младший лейтенант, служит сорок лет в одном чине. Эти люди не удовлетворены своей карьерой и далеко не уйдут. Но им придется смириться.
Сын сказал, что пленные матросы голодны и что это всех заботит.
– Чего же они хотят?
– Они не получают табака и мыла.
– Тут я ничего не могу поделать!
– Они исполняют все работы наравне с нашими матросами и заслужили их расположение… Команда попросила позволения собрать митинг и подала петицию…
Ах, петиция матросов! Адмирал задумался. Это важно. Адмирал, как и король, все же зависел от своего народа, которым строго управлял.
– Какой их рацион?
– По уставу, половина порции матроса. Но без табака и без мыла, в чем пленные крайне нуждаются.
Артур спросил наконец о таинственном плавании адмиралов.
– Хотя это открытие французов, – оживившись, заговорил сэр Джеймс, – но…
Он сказал, что пришел с описи странного полуострова, который имеет характер горного Приморья.
…В эту кампанию корабли союзных эскадр бороздили Японское море в поисках противника, и адмирал Стирлинг не раз получал рапорты командиров своих судов о том, что побережье, которое тянется от устья Амура до корейской границы, изобилует гаванями. Некоторые из них, как Де-Кастри, заняты противником и известны нам. О других есть сведения от китобоев. Они якобы удобнее и чем дальше к югу, тем глубже, а климат мягче – возможно, там есть незамерзающие заливы!
– Мой консорт в Хакодате получил с посыльным бригом донесение капитана корвета «Кольбер». При осмотре побережья севернее корейской границы корвет обогнул скалистый мыс, у которого направление берега меняется. Неожиданно нашел густой туман, плотно закрывший берег. Убрали паруса и отдали якорь при полном безветрии. На другой день подуло от норда. Подняли якорь, чтобы уйти в море. Туман внезапно снесло, словно материк всасывал его. При ярком солнце открылся живописный берег в горах с цветущими лесами.
– Вы говорите о плаванье на линейном корабле «Президент»? – спросил Артур, зная, что отец иногда заговаривается. Его не увольняют. С войной, как известно, открылось так много новых вакансий, что адмиралов не хватает. Должности замещаются старыми, но известными преданностью моряками.
– Нет! Шел не я! Шли наши галантные союзники! Перед носом их корвета «Кольбер», следом за остатками быстро несущегося тумана, мчался по волнам палубный шлюп под русским флагом, вооруженный двумя пушками… Его косые паруса были наполнены, и гнулись мачты. Встреча лицом к лицу! – воскликнул адмирал Стирлинг. – Враг находился так близко, что галантные союзники рванулись к орудиям! Признаюсь тебе в величайшей тайне! Прозвучали выстрелы – и открылся целый мир! – выкатив глаза и выскакивая из-за стола, закричал сэр Джеймс. – Шлюп был разбит и пошел ко дну! Двое из команды спаслись в чудом уцелевшей шлюпке. Следуя за ней, два французских гребных судна увидели, как беглецы, имевшие преимущества в скорости, скрылись. Казалось, что они ударились в отвес берега и исчезли в нем. Конечно, это была игра теней, как на сеансах с волшебным фонарем! На самом деле шлюпка с погибшего бота вошла в пролив… Галантным союзникам показалось, что на входном мысу могут оказаться батареи. Французы не решились войти! «Там бухта!» – решил я, узнав обо всем этом. Отлично закрытая лесистыми горами от всех ветров! Осмотр потребовал бы подготовки и времени. Сведения, собранные французами: на потопленном боте шли русские квакеры под командой боцмана императорской службы.
…В Хакодате, получив эти сведения, оба адмирала осмотрели карты описей берегов к северу от Кореи. Стирлинг сам решил идти туда. Француз последовал за ним. Поэтому в Хакодате «Барракута» не застала адмирала. Пришлось идти в Нагасаки, куда ушел Стирлинг. Но в Нагасаки «Барракута» пришла раньше, чем корабли командующих.
Теперь Артур все понял. Ясно, чего хотел отец. На переходе в Нагасаки вместе с французским адмиралом он побывал у берегов загадочного Приморья, которое на картах изображено в виде гигантского выступа материка.
– На больших, неповоротливых кораблях, мой дорогой, нельзя приблизиться, чтобы искать входы в гавани. Баркасы и шлюпки, посылаемые на осмотр и описи, заливало при непрерывных свежих ветрах. Каменистые островки и рифы одевались туманами. Неисследованная полоса берега оказывалась слишком извилистой и протяженной. Ее меридиальное направление в самом деле сменялось на широтное: и вот тут-то начинается от поворота берега на вест. Там, видимо, гнездятся многочисленные бухты. Об этих берегах ходили легенды. Если судить по архитектонике, то прекрасные бухты и заливы, пока не виданные и не описанные, не могли не образоваться там, где параллельные хребты материка, тянущиеся в меридиальном направлении, были после сотворения мира обрублены и измыты океанскими волнами.
– С вами был паровой корвет?
– Нет!
– Небольшой пароход?
– У французов не было даже паровой шлюпки! Берег опять изменил направление! Оказалось, что чем дальше к югу, тем теплее и ярче море и тем больше рифов и скалистых островов. Страна показывала нам по временам прекрасные ландшафты в глубине гигантских заливов, которые мы увидели. Киты, морские звери и множество птиц, необычайное изобилие рыбы… Ах, мой дорогой, я долгом своим счел погасить проблески интереса у моего коллеги! Это было нетрудно. Даже при виде роскошных стран он целыми часами может говорить о парижских интригах. Люди будущего: интриганство – превыше всего! Никто не поверит, но мне кажется, что это было открытие нового мира! Там целый таинственный материк. Я видел его сам! Иногда казалось, что мой консорт о чем-то догадывается! Мы с ним, старые баловни и болтуны, привыкшие к собственной свирепости, стоя рядом, глядели и шамкали, как дикари при виде человеческого мяса: «Ньям-ньям!» Рыхлый, блудливый старичок с вишнево-черными глазками в туманах! «Какой гигантский полуостров!» – «Где же он, где же?» – «Дайте мне его!»
Артур знал, что его отец неуравновешенный человек.
– Карту! – закричал Стирлинг.
Сэр Джеймс признался, что сам возбужден не менее француза.
– Но что же это? – продолжал он, склоняясь над столом, над принесенной картой. – Что? Подайте мне, мой дорогой, сведения. Пока их нет! Масса камней, зверей, птиц, бухт… Бухт! Я сам все видел – бухт нет! Сплошной берег. Нужны исследования, мой дорогой! Не мог же я лезть в бухты на «Президенте». Большим кораблям не втиснуться! На таком гигантском парусном корабле не въедешь в рай грядущего! Величье плавучих особняков! Коллега был во власти парижских интриг и ничего не заметил у себя под носом! Все было бы терпимо, и дело могло бы ждать! Если бы не потопленный бот! Железный бот, железный берег! Маленькая посудина среди гор, бухт, островов. Чья? Чей этот материк будущего? Вам, мой дорогой, идти! Может быть, в будущем году? Но удастся ли? – Тут на память сэру Джеймсу приходили ужасные, отвратительные гонконгские интриги. Интриги гонконгских англичан.
– Придется посылать гидрографическую экспедицию! Описывать, мой дорогой сын! – заключил свой рассказ Стирлинг. – Но сначала я должен поразить своего злейшего врага – губернатора Гонконга.
Сэру Джеймсу нравилось все китайское. Стирлинг в восторге от китайцев, от их гармонической и яркой беспорядочности, пропитанной практицизмом, от множества их твердых и консервативных условностей и философских понятий, которые никогда не отомрут… При жизнеспособности, жизнедеятельности, плодовитости… При внешней нечистоте у черного народа большие силы… Изысканная опрятность аристократии. Стирлинг полагал, что его дружественность к китайскому обществу может служить образцом для консервативных англичан. Со временем, однако, Англия не подпадет под влияние Китая, так как находится на острове. Может быть, что в будущем китайцы в наказание заставят англичан курить свой опиум…
Артур вернулся на «Барракуту» поздно вечером. Русские офицеры ждали его, оставаясь в полутемной кают-компании.
– Адмирал затрудняется послать суда на север для вашего возвращения в столь позднее время года, – сказал капитан.
Глава 9. Подвешивай гамаки!
Коммодор Эллиот прибыл на пароход «Барракута» в сопровождении капитана Никольсена и командира корвета «Стикс» капитана Келлога. Русских офицеров опять пригласили на квартердек. Явились Мусин-Пушкин, Шиллинг, Сибирцев и Гошкевич.
Загорелые моряки в белых костюмах, белые паруса, увязанные на реях, и белые бухты канатов, добела выдраенная палуба, а вокруг на берегах дворцы и храмы Нагасаки и зонтичные сосны на холмах и островках – и все это сквозь ванты множества мачт. Красиво, ничего не скажешь! Славный денек!
– Адмирал Стирлинг из сочувствия к нам решает взять ответственность на себя, – торжественно объявляет Эллиот. – Его превосходительство готов освободить вас!
Коммодор и оба капитана взглянули на своих пленников с ободряющей добротой. Эллиот ждал отклика. Но объявленная новость была столь ошеломляющей и неожиданной, что пленные офицеры молчали, опасаясь подвоха.
– Я иду со своими кораблями к берегам Сибири и беру с собой всех вас, чтобы сдать на русские корабли, – продолжал Эллиот.
– Вот так бы и говорил! – вздрогнул Пушкин и свел свои густые брови.
– Согласны ли вы принять мое предложение?
– Но где вы найдете русские корабли? Вы все лето искали их и не нашли.
– Мы пойдем туда, где они есть. Мы прекрасно знаем, где находится фрегат «Аврора».
– Позвольте вас спросить, – заговорил Шиллинг, – при подобной встрече не произойдет ли сражения между вашими и нашими кораблями?..
Барон для Эллиота – как для быка красное.
– Да, произойдет! – заносчиво ответил усатый загорелый англичанин.
– Когда же вы сдадите нас на наши суда? До битвы или после?
– После.
– Кто же кого победит?
– Победим мы! – в запале коммодор как бы закусил удила.
– Кому же тогда нас сдадите?
– А черт их побери! – пробормотал Эллиот, отводя своих капитанов. – Я ведь так и говорил адмиралу, что это не довод и ничего не получится! – Эллиот тупел и терялся в таких случаях.
– Адмирал пошлет вас в шлюпках под парламентерским флагом мира, – поспешно объявил коммодор, не давая открыть рот Шиллингу. – Дайте расписку, что по флагу не будут стрелять!
– Мы готовы дать расписку, но не согласны вести вас в Амур, – ответил Пушкин, – просим высадить нас в известной вам гавани Де-Кастри.
– В Де-Кастри никого нет, и вы перемрете от голода. Я могу вас доставить только в Амур.
– Они хотят, чтобы мы показали им вход в реку, – сказал Пушкин по-русски.
– Дайте нам продовольствия на десять дней и высадите нас в Де-Кастри. Мы сами дойдем.
– Нет, я не могу подвергать вас риску голодной смерти!
– Мы отказываемся идти в Амур!
– В таком случае останетесь в плену.
– Объясните ему все сами, Николай Александрович, – сказал Пушкин.
– Я надеюсь, что вы не откажете, коммодор, в таком случае, – заговорил Шиллинг, – мне в личной просьбе.
– Да, пожалуйста!
– Передайте вашему адмиралу, что он далеко не джентльмен.
– Да как вы смеете? Вы… вы… Кто и чем обидел вас?
– Каждый честный офицер вашего флота обиделся бы, если б ему предложили за свободу стать изменником.
– Никто вам этого не предлагал!
– Неужели вы думаете, что мы из первых ваших слов не поняли, куда вы клоните?
– Вы надеялись, что мы укажем вам пребывание наших судов? – сказал Пушкин.
– Вы смеете предлагать нам освободиться в обмен на сведения о фарватере Амура!
– Не забывайтесь! – закричал Эллиот. – Могу отдать приказание заковать вас в кандалы!
– Заковать меня можете… Но вот ваш адмирал все-таки не джентльмен! Да и вам, господа, не следовало бы передавать такие унизительные предложения!
– Остаетесь в плену! – сказал Эллиот. – Вы будете переведены на другие суда! Порция не будет увеличена вашим матросам.
– Кто это решил?
– Приказание адмирала!
– Когда он отдал его?
– Это не ваше дело!
– Ах, вот как! Так не забудьте, пожалуйста…
Эллиот и капитан сошли по бронзовому парадному трапу в вельбот…
– Хорошо. Теперь мы имеем полное право держать их в плену, – сказал на флагманском корабле в своей каюте прибывшим офицерам адмирал Стирлинг. – Мы предлагали им освобождение – они сами отказались. Из страха перед своим правительством! Ну, так им и надо! Но только убрать их с парохода! Всех их разделить, не оставлять вместе. Офицерам не давать кают! Пусть ночуют в палубах. Днем могут проводить время в кают-компаниях… На ночь подвешивать койки в жилых палубах вместе с матросами. Не хотят стать изменниками? Так они заявили? Вы пообещали надеть на него кандалы? Они всего боятся! Приказываю порции их матросам не увеличивать… Табаку и мыла не давать!
– Ваше превосходительство! – заговорил Эллиот. – Их люди честно работают, и наши команды настоятельно просят… на кораблях петиции подписаны всеми, пленные заслужили уважение… «синих жакетов»!
Адмирал был так возмущен, что не хотел больше слушать.
– Петиция не имеет никакого значения, если пленные офицеры дерзят мне! Никому не будет снисхождения!
Коммодору Эллиоту предложено готовить отряд к плаванию обратно на север. Но без русских пленных. Их доставим в Гонконг. Искать вход в реку Амур, попытаться сделать все, что удастся! Бомбардировать Де-Кастри. Отряд Эллиота будет усилен винтовыми судами и фрегатами. Стараться войти в реку и проникнуть на рейд нового порта. Найти «Аврору». Потопить ее… Уничтожить город и порт!
– Взять «Аврору» и привести ее в Гонконг!
«Будет ли Эллиот адмиралом?» – закручивая ус, подумал боевой коммодор. Такой вопрос мог бы подразумеваться!
– Как и решили, пленных офицеров, знающих по-английски, переведите на мой корабль, – приказал командующий. – Я хочу видеть их сам! Держать их перед глазами. Пушкина оставить без переводчика. Натуралиста отделить от офицеров. Перетасовать пленных. Все время переводить их с судна на судно, чтобы больше они не заслуживали симпатий наших «синих жакетов». При первых же попытках неповиновения прибегнуть к наказаниям пленных.
– Я прошу вас, мой сын, – сказал сэр Джеймс, оставаясь в салоне с Артуром, – пренебрегите своими дружескими отношениями с офицерами посольства Путятина. Подайте списки пленных. Я приказываю убрать всех с «Барракуты» и перевести на другие суда! Я не рекомендую вам сохранять какие-либо отношения! Я уверен в вас! Они не джентльмены и более для вас не существуют!
– Может быть, необходимо освободить Гошкевича? В одном из китайских портов он мог бы сойти как лицо гражданское, мог бы отправиться в Центральную Европу на пакетботе…
– Гошкевича ни в коем случае! Он же был секретарем Путятина… Держать его дольше, чем военных! А то явится в Петербург, тогда будет считаться, что они заключили договор с Японией.
– Но Путятин уже в Петербурге!
– Путятин? Что он значит, если все его посольство в плену! Просто он бежал, бросил всех на произвол судьбы. Наши газеты напишут об этом! Никто не признает, что он, а не я заключил договор!
Алексей смотрел через порт, в который выставлено на Нагасаки дуло морского орудия, и думал об Оюки. Он надеялся, что в Нагасаки хоть что-нибудь узнает о ее судьбе. Поэтому возвращение в Японию не было для него таким ужасным и невыносимым путешествием, как для его товарищей. Но вот эскадра уходит. Уж вымпелы вьются… Напрасно ждал, что удастся побывать на берегу. Нас переводят, и сегодня уйдем!
В Хакодате встретился знакомый переводчик Сьоза, сказал Алексею, что в Нагасаки в этом году по совету посла Путятина открывается первая японская высшая военная морская школа голландского кораблестроения и плавания и что один из самых знатных молодых рыцарей уже отправился туда из окрестностей деревни Хэда и что он теперь в Нагасаки и, возможно, что-то знает о судьбе Оюки. Как всегда, у них ребусы! Понимай как хочешь! Мол, он знаком с красивой молодой японкой из деревни Хэда – дочерью банкира и купца.
Баркас с пленными готовился к отвалу. Стивенсон, тряся руку Васильева, объяснял ему, что на фрегате «Пик», на «Президенте», на «Винчестере» и на всех кораблях, куда переводят пленных, командами также будут приняты резолюции в защиту прав русских матросов курить табак и съедать полную порцию.
– На всех кораблях Ее Величества эскадры Китайского моря движение охватывает все экипажи.
– Мы об этом позаботились! В добрый путь! – подтвердил Тэд.
– See you again![28]
Алексей Сибирцев, японец Точибан Коосай и сорок матросов поднялись на парусный адмиральский корабль «Президент». Как для экзекуции, на палубе выстроены две длинные шеренги моряков. Адмирал Стирлинг в торжественной тишине прошел между рядов гулкими шагами и быстро кинулся к Сибирцеву.
– Пойдете в Австралию! – закричал он на остолбеневшего Алексея. – В колониях нужны рабочие. Объясните, кто этот офицер, который передал мне оскорбление? На рудники! Вы не сдержали честного слова! Вы не джентльмен! Будете спать у меня не в каюте, а в подвесной койке. Целый день слоняться без места и без дела! Я не позволю вашим людям помогать моим морякам! Пусть сидят и скучают, как пленным полагается! Всех вас я буду время от времени переводить в плаванье с судна на судно. Я вам покажу права погибших при кораблекрушении!
Японец Точибан удивился, слыша все, что говорил английский морской генерал. Не понимая его речи, он понимал смысл и обиделся за Сибирцева. Это очень невежливо и постыдно. В княжестве Какегава даже дети не простили бы отцу такую брань. Так не говорят с рыцарем. Его можно убить, но это надо сделать благородно, нельзя оскорблять. А тут крик, как на допросе воришек или мелких шпионов эдосской полицией у моста Симбаши…
…Кроме князя в школу западного кораблестроения из Хэда, рассказал Сьоза, посылаются для дальнейшего обучения несколько бывших плотников, возведенных еще во время пребывания посла Путятина в рыцарское достоинство… А деревня Хэда теперь закрыта как для иностранцев, так и для японцев, и ничего о жизни там никому узнать невозможно. Все переводчики оттуда отправлены в порты. Под страхом казни им запрещено рассказывать обо всем, что было в деревне Хэда. Голландцы начинают японцев всему снова обучать в новой морской школе в Нагасаки…
«Вот и я, офицер, сижу, как и все мои товарищи, в жилых палубах и жду команды: трайс хэммокс – подвешивай гамак! Что ж, поспим и в гамаке! Спят же матросы! И я спал. Как смею я предполагать, что чем-то отличаюсь от них! Устаревшие, глупые понятия! Не за горами реформы в России! Черт их побери! – подумал Алексей, дождавшись команды и прикрепляя свою койку к крюку. – Чем все закончилось! Впрочем, теперь на душе легче, не стыдно людям в глаза смотреть, вокруг все свои, койки Маслова и Берзиня подвешены рядом. Дальше Сидоров, Васильев, Мартыньш, Маточкин. Так же и на других судах вместе с матросами все наши господа офицеры».
Глава 10. Сюрприз
В плавании невыносимо скучно. Погода прекрасная, дует ровный попутный ветер, гонит корабль все дальше от России. Ветер не разводит волнения. Можно развлекаться мыслями, что где-то близко берега Китая. В чистом море видны, похожие на веера, красные, оранжевые и желтые паруса на лодках китайских рыбаков. Но самого Китая еще нет. А приближение к этой великой стране очень волнует. Уже идем водами, где плавают китайцы! Веками из Китая в Японию, как объясняет Гошкевич, доходили знания. Философские книги, религиозные учения, великие истины, манеры писать картины, сочинять стихи и думать. Японцы пишут китайскими иероглифами, хотя есть две своих слоговых азбуки. Китайцы полагают, по словам Осипа Антоновича, что японцы – легкомысленные люди. Но тут на ум Алексею невольно приходит, мол, если японцы легкомысленные, то какие же китайцы!
Тоскливо и Точибану. «Я не могу среди русских и англичан жить без Гошкевича! В моем положении Осип Гошкевич-сан нужней мне всего остального. Хотя я шпион и должен выведывать все в его стране, что может стать полезным для Японии, то есть я его противник! Но это совсем не так! Я теперь понял, что шпион может очень любить тех, против кого шпионит. Пока я японский шпион в России, у меня нет лучшего друга, чем Гошкевич-сан, он русский патриот и служитель своей веры! Поэтому я не могу не любить его и мне очень больно расстаться с ним. Англичане очень гордые, но я лучше умру на их виселице, чем подчинюсь им! Расстаться с Гошкевичем-сан вдали от княжества Какегава – это значит совсем расстаться с мыслями о родине, совсем засохнуть, не слыша японских слов: молчать невыносимо, когда вокруг все говорят на своих языках, и это их облегчает. Я лишен этого. Поэтому лучше идти на какой-то риск, чтобы убили».
Точибан наблюдал за всем, что делается на английском корабле. Когда морской генерал кричит, то его голова властно приподнята, глаза округлены и выкачены, глядят куда-то в пространство, не на окружающих.
Точибан заметил, что иногда офицеры бьют матросов по морде, совершенно как полицейские в Японии. Особо провинившихся наказывают веревками. Имеются также бамбуки. Когда матроса бьют по лицу, он не кланяется, соблюдает прямизну, принимает мордобой с достоинством.