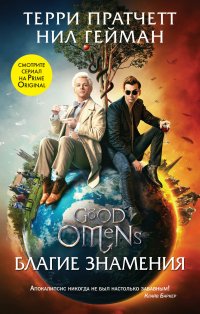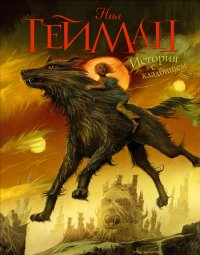Читать онлайн Лучшие рассказы бесплатно
- Все книги автора: Нил Гейман
Neil Gaiman
The Neil Gaiman Reader
The Neil Gaiman Reader: Selected Fiction – Copyright © Neil Gaiman, 2020
Foreword copyright © 2020 by Marlon James
Preface copyright © 2020 by Neil Gaiman
Jacket design and illustration by Patrick Insole
© А. Аракелов, А. Блейз, Н. Гордеева, Н. Иванов, А. Комаринец, А. Осипов, Т. Покидаева, Т. Ратькина, перевод на русский язык
© ООО «Издательство АСТ», 2021
* * *
Вступление
При виде паука я цепенею. Всё благодаря Нилу Гейману. Странная ситуация, вполне в духе его произведений: вместо того, чтобы отогнать или прихлопнуть насекомое, я замираю. И задаюсь вопросом: «Может, восьминогий брат пытается мне что-то поведать? Может, еще с тех пор, когда корабли работорговцев бороздили моря, пауки хотят рассказать нам какую-то историю?» Сейчас я готов ее услышать. Я бы с удовольствием углубился в эту тему, но тогда получится предисловие к одному произведению – «Сыновья Ананси», а не к целому сборнику.
И потом, меня привели сюда не пауки, а Тори Амос. Звучит как строчка из песни 1990-х годов. Вообще-то я имею в виду конкретную строчку из песни Амос 1992 года: «Если я тебе понадоблюсь, ищи нас с Нилом на тусовке у Короля Грез». Эти слова наверняка имели особое значение для Амос и Геймана. Они много значили и для молодого парня, который был буквально одержим обоими. Я был преданным читателем Нила Геймана долгие годы, но Амос пошла дальше: она с головой погрузилась в творчество Геймана и нашла там себя. Помню, услышав ее песню, я подумал: «Значит, не только мне мир Геймана кажется более реальным, чем мой собственный».
Кажется, я до сих пор провожу в мире Геймана больше времени, чем в своем. Всем нам, жалким неудачникам, только бегство в его фантастическую вселенную позволяет мириться с повседневностью. Я бы сказал, что истории Геймана превращаются в наваждение, если бы это объяснение не было слишком простым: в конце концов, ревностные приверженцы есть у всех великих произведений искусства. Важно то, что Гейман – независимо от жанра своих текстов – дает всем нам (прежде всего, чудакам и творцам) разрешение не покидать сказочный мир, о котором взрослому человеку полагается забыть. Конечно, хорошие писатели знают, что нас пытаются обмануть. Нет никакого фантастического мира, противостоящего реальности. Реально всё! То, что принято называть аллегориями, символами, вымыслом, на самом деле – тоже реальность.
Наверное, поэтому я буквально проглотил «Американских богов». Книга вышла в 2001 году, когда бегство в мир грез для многих стало жизненно необходимым. Но роман не помог мне сбежать. Он сделал нечто более радикальное: показал, что забытые боги до сих пор существуют, с трудом привыкая оставаться в тени. Да, мы больше в них не верим. Но это не значит, что они исчезли. Конечно, роман Геймана – не о бесконечных кознях богов, а о неизменной значимости мифа. В конце концов, когда-то миф был религией. А до этого – реальностью. Мифы до сих пор говорят о нас больше, чем религии. Так вот, Нил Гейман – мифотворец и реставратор мечты. Я не мог даже предположить, что меня заинтересует герой, спасенный от низведения в фольклор. Но Гейман обратился к полузабытым детским сказкам и вдохнул в их персонажей живые, трепещущие, воинственные души. А потом забросил этих странных героев в повседневность, к которой они явно не были приспособлены.
Сборник, который вы держите в руках, густо населен фантастическими существами, обычными людьми со сверхъестественными способностями, особенными людьми с обычными проблемами… Здесь вы найдете верхние миры, нижние миры и реальность, которая, как мы помним, не так реальна, как кажется. Некоторые истории зовут в невероятное путешествие, которое, впрочем, займет всего три страницы. Другие не столько заканчиваются, сколько останавливаются. Или не столько начинаются, сколько ждут, пока читатель с ними поравняется. Некоторые истории охватывают целый мир, а другие умещаются в спальне. Некоторые рассказывают о детстве, но подталкивают к недетским выводам. Другие показывают, что происходит со взрослыми, которые разучились быть детьми. Некоторые истории отпускают нас, предупредив о чем-то важном. Другие держат в плену не один день.
И еще кое-что. По словам Тони Моррисон, Лев Толстой даже не предполагал, что пишет для чернокожей девушки из города Лорейн, штат Огайо. Нил Гейман тоже не предполагал, что пишет для растерянного ямайского парнишки, который, сам того не зная, страдал от длившегося веками уничтожения богов и чудовищ. Конечно, мифы когда-то были религией; а значит, они составляли ядро личности и национальной идентичности. Когда я прочел о забытом, вычеркнутом из жизни Ананси и его переживаниях, то спросил себя: кто же, черт возьми, этот англичанин, который только что восстановил нашу историю? Я знал, что значит стирание мифов для меня. Но никогда не задумывался о том, что это значит для мифов.
Я фанат комиксов и графических романов Геймана. И я фанат его художественных произведений. Я люблю все, что он пишет; по-разному, но одинаково сильно. Я завидую тем, кто начнет знакомство с творчеством Нила с этой книги. С другой стороны, люди, знающие песни «Битлз» на зубок, все равно покупают их сборники. И это неслучайно. Тех, для кого этот томик станет первой книгой Геймана, ждет глубокое погружение: здесь вы найдете все, что позволило Нилу заслужить репутацию мастера фэнтези. Тем, кто уже прочел многие произведения Геймана, тоже не придется скучать: на этих страницах вы наверняка обнаружите что-то интересное. Возможно, новыми красками заиграют хорошо известные тексты. Как я уже говорил, есть фанаты, которые хранят все альбомы группы, но при этом охотятся за переизданиями ее хитов. Дело тут вовсе не в ностальгии.
Поместив рядом разные произведения Геймана, мы получаем еще одну историю – историю писателя. Отрывок из «Никогде» удивителен сам по себе. Но, когда он оказался по соседству с «Не спрашивай Джека» и «Дочерью сов», все три текста получили новое измерение. Тайная жизнь детей, мир ужаса и восторга, который вступает в свои права, стоит взрослым погасить свет и закрыть дверь спальни. Что творится за закрытой дверью? Что происходит, когда в одном мире время останавливается, а в другом течет как ни в чем не бывало? От внимательного читателя не ускользнет сходство между Никогде и Нетландией, еще одним чудесным местом, за пребывание в котором дети платят высокую цену: они не взрослеют. Но меняются. Попасть в один мир, не утратив связи с другим, перенести в новую реальность старый контекст, а в новую историю – волшебство и ужас предыдущей… Такое не проходит бесследно. Как и чтение этого сборника, перелистывая страницы которого вы поймете, почему Гейман не спит по ночам.
Вас ждет много загадок и сюрпризов. То, что мы узнаем из рассказа «Я – Ктулху», влияет на то, как мы реагируем на упоминание его персонажей в следующих историях. Сами герои в других рассказах так и не появятся, но это неважно. В нашем воображении они уже оставили неизгладимый след. В результате, сами того не замечая, мы привносим в последние произведения сборника смутную тревогу. Предчувствие беды исходит не от текста, а от читателя. Вот что делают великие антологии: помещают известные истории в неожиданный контекст и позволяют прочесть их по-новому. Подчеркивают то, что мы могли упустить, знакомясь с произведениями по отдельности. Например, искрящийся юмор Геймана. Смех и ужас всегда идут рука об руку: ужас делает шутки смешнее, смех делает страх сильнее. Вступительный аккорд рассказа «Для вас – оптовые скидки» уморителен не только из-за своей мрачной абсурдности, но и потому, что делает акцент на важнейшем качестве англичанина – бережливости. До чего мы можем дойти, сбивая цену? Спойлер: до апокалипсиса.
Этот сборник напоминает мне «Белый альбом» «Битлз». Большой объем и впечатляющий размах; блестящие произведения, которые только выигрывают от того, что оказались под одной обложкой. Здесь вы найдете смешные истории. Страшные истории. Фантастические истории. Загадочные истории. Истории с привидениями. Истории для детей. Истории, которые вы уже слышали, и те, с которыми познакомитесь впервые. Истории, подтверждающие то, что вы знаете о Ниле Геймане, и истории, ставящие в тупик. Меня так и тянет провозгласить, что самое прекрасное в Геймане (как и во многих других рассказчиках) – то, что он так и не повзрослел. Но это не совсем справедливо. В юности я обожал произведения Геймана за то, что они позволяли почувствовать себя взрослым.
Но со временем уловил изящную иронию в том, что Нил помогает нам взрослеть с помощью воображаемых миров. Его персонажи могут обладать сверхспособностями, прибывать из волшебных стран и совершать странные, прекрасные или чудовищные поступки. И при этом, как мы, терзаться внутренними противоречиями, вступать в конфликты, принимать решения, которые предопределяют их жизнь и смерть (а порой и воскресение). Оказывается, человеком быть куда сложнее, чем феей.
Есть что-то очень христианское, точнее, протестантское, в попытке игнорировать силу воображения, причислить его к побочным эффектам взросления. Как прилежный ученик писателей-соцреалистов, я долго следовал этому принципу. Но реализм – всего лишь фикция. Для чернокожего ботаника вроде меня история белой семьи, живущей в благоустроенном пригороде, изнывающей от скуки и коротающей время за бесконечными разговорами, не менее фантастична, чем приключения Супермена.
Я не фанат Г. Ф. Лавкрафта и, конечно, приберег его напоследок. Говорить о современном фэнтези, не упомянув автора «Хребтов безумия», невозможно. Хотя сам Лавкрафт наверняка пришел бы в ярость, узнав, что существует в одном контексте со столькими непохожими на него писателями. Впрочем, в текстах Геймана я не вижу Лавкрафта. Даже в «Я – Ктулху». В них мне мерещится Борхес. Как и Хорхе Луис, Нил ничего не выдумывает. Он настолько предан своим волшебным мирам, что давно перешел от размышлений о них к существованию в них. Как и Борхес, он описывает события так, будто они произошли на самом деле. Изображает фантастические вселенные так, будто мы давно в них живем. Рассказывает истории так, будто передает непреложные факты. Не думаю, что великая литература помогает нам познать себя. Зато она помогает понять, где бы мы хотели быть. Читая произведения Нила, начинаешь верить в то, что мы всегда жили в его мире. А реальность – всего лишь выдумка.
Марлон Джеймс
Предисловие
Не люблю разговоры с таксистами.
Они обычно спрашивают: «Чем вы занимаетесь?» И я отвечаю: «Я писатель».
– И что же вы пишете?
– О… Разное, – бормочу я, понимая, как невразумительно это звучит.
– Серьезно? То есть прям все подряд? Художку, нехудожку, книги, телевизионные сценарии?
– Да, так.
– Ну а все-таки… что конкретно вы пишете? Фэнтези? Детективы? Научную фантастику? Сказки? Романы? Стихи? Статьи? Что-нибудь юмористическое? Или страшилки? Что именно?
– В общем-то… всё.
После этого таксисты бросают мрачный взгляд в зеркало заднего вида. Они думают, что я просто издеваюсь, и, как правило, замолкают. Но не все. Те, кто хочет продолжить разговор, всегда спрашивают: «Вы что-нибудь известное написали?»
Я перечисляю свои книги, а таксисты кивают и говорят, что не слышали ни об одной из них. Да и обо мне тоже. Обещают погуглить; иногда уточняют, как пишется моя фамилия. Единственный таксист, нарушивший эту славную традицию, съехал на обочину, выскочил из машины, обнял меня и попросил автограф для жены. Это, конечно, была аномалия. Но она мне очень понравилась.
Мне часто становится не по себе от того, что я не пишу что-то определенное, конкретное, понятное (например, детективы или истории с привидениями). Что о моей работе трудно говорить с таксистами.
Этот сборник – для всех таксистов, которым я ничего не смог объяснить. Но не только для них. Этот сборник – для всех, кто спрашивал, чем я занимаюсь, что пишу, а потом интересовался, какую из моих книг лучше прочесть. Обычно в таких случаях я уточняю: «А какие книги вам нравятся?» И выбираю из своих произведений те, что придутся по вкусу собеседнику.
В этом сборнике вы найдете рассказы, повести и новеллы (но не найдете критических статей, эссе, комиксов, сценариев или стихов).
Рассказы, короткие и длинные, вошли в книгу потому, что я горжусь ими, и потому, что в них можно погрузиться с головой, а потом всплыть на поверхность. Они посвящены разным темам и вообще имеют мало общего – разве что автора. И еще то, что их выбрали читатели (мы проводили опрос в Интернете). Так что мне не пришлось ломать голову! Я полностью доверился мнению читателей и включил в сборник те тексты, которые понравились им больше всего. За одним исключением. Я контрабандой протащил в книгу сказку «Обезьян и дама». Она не входила ни в один из моих сборников и издавалась всего один раз – в антологии Дейва МакКина «Бремя слов», для которой и была написана. Я очень люблю эту историю, хоть и не могу объяснить почему.
Тексты в сборнике расположены в хронологическом порядке, начиная с самых ранних. Благодаря этому вы увидите, как я ищу себя. Примеряю шляпы и очки других авторов, размышляю, подходят ли они мне, и постепенно обретаю писательскую индивидуальность. Полистайте эту книгу! И начните чтение с того рассказа, который привлечет ваше внимание, с того места, на котором остановится взгляд.
Мне нравится быть писателем.
Мне нравится быть писателем, потому что я могу делать что угодно. Нет никаких правил. Нет даже ориентиров! Я могу сочинять веселые и грустные, короткие и длинные истории. Могу писать, чтобы обрадовать или повергнуть в ужас. Уверен, что был бы успешнее, если бы каждый год выпускал книгу, похожую на предыдущую. Но это было бы совсем не весело!
Скоро мне исполнится шестьдесят лет. Профессиональным писателем я стал в двадцать два года. Очень надеюсь, что смогу писать еще двадцать, а то и тридцать лет. Ведь у меня в голове так много историй! Иногда мне кажется, что если я продолжу их рассказывать, то рано или поздно смогу объяснить всем (даже таксистам!), какой я писатель.
Может, я и сам в этом разберусь.
Если все эти годы вы были со мной, читали мои рассказы и романы по мере того, как я их писал и публиковал, я благодарю вас от всей души. Если это наша первая встреча, надеюсь, на этих страницах вы найдете что-то, что вас рассмешит, развлечет, удивит или заставит задуматься. А главное, что вам захочется дочитать книгу до конца.
Спасибо, что заглянули на огонек, дорогой читатель.
Наслаждайтесь!
Нил Гейман
Список наград
Произведения, вошедшие в эту книгу, были номинированы на престижные литературные премии и удостоились множества наград. Полный список приведен ниже.
«Мост тролля» (1993) – номинирован на Всемирную премию фэнтези.
«Снег, зеркало, яблоко» (1994) – номинирован на премию Брэма Стокера и премию «Сеюн» (Япония).
«Никогде» (1996) – номинирован на Мифопоэтическую премию.
«Звездная пыль» (1999) – лауреат Мифопоэтической премии, премии «Алекс» (присуждается Американской библиотечной ассоциацией) и премии «Геффен» (Израиль). Финалист премии «Локус». Номинирован на Немецкую премию фэнтези.
«Американские боги» (2001) – лауреат премии «Хьюго», премии «Локус», премии Брэма Стокера, премии «Геффен» (Израиль). Номинирован на Всемирную премию фэнтези, Мифопоэтическую премию, Британскую премию фэнтези (премию Августа Дерлета), премию Британской ассоциации научной фантастики, премию Международной гильдии ужаса, Гран-при воображения (Франция), Немецкую премию фэнтези, Итальянскую книжную премию.
«Октябрь в председательском кресле» (2002) – лауреат премии «Локус». Номинирован на Всемирную премию фэнтези.
«После закрытия» (2002) – лауреат премии «Локус».
«Этюд в изумрудных тонах» (2003) – лауреат премии «Хьюго», премии «Локус», премии «Сеюн» (Япония).
«Горькие зерна» (2003) – финалист премии «Локус». Номинирован на премию Фонда фантастики «Исток» (США).
«Проблема Сьюзен» (2004) – номинирован на Британскую премию фэнтези.
«Запретные невесты безликих рабов в потайном доме ночи пугающей страсти» (2004) – лауреат премии «Локус».
«Король горной долины» (2004) – финалист премии «Локус».
«Сыновья Ананси» (2005) – лауреат премии «Локус», Мифопоэтической премии, премии «Геффен» (Израиль), Британской премии фэнтези (премии Августа Дерлета). Номинирован на премию «Алекс» (присуждается Американской библиотечной ассоциацией).
«Жар-птица» (2005) – лауреат премии «Локус».
«Как общаться с девушками на вечеринках» (2006) – лауреат премии «Локус». Номинирован на премию «Хьюго».
«Истина – это пещера в черных горах» (2010) – лауреат премии «Локус» и премии имени Ширли Джексон.
«Кое-что о Кассандре» (2010) – лауреат премии «Локус».
«Дело о смерти и меде» (2011) – лауреат премии «Локус».
«Океан в конце дороги» (2013) – лауреат премии «Локус», Британской национальной книжной премии (в номинации «Книга года»), премии «Геффен» (Израиль), Немецкой премии фэнтези. Номинирован на Всемирную премию фэнтези, премию «Небьюла», Британскую премию фэнтези, Мифопоэтическую премию.
«Дева и веретено» (2013) – лауреат премии «Локус».
«Черный пес» (2015) – лауреат премии «Локус».
Большинство рассказов, вошедших в эту книгу, ранее публиковались в составе сборников «Дым и зеркала», «Хрупкие вещи» и «Осторожно, триггеры». Эти сборники также были номинированы на престижные премии и удостоились литературных наград.
«Дым и зеркала: истории и миражи» (1998) – лауреат премии «Геффен» (Израиль). Финалист премии «Локус». Номинирован на премию Брэма Стокера и Гран-при воображения (Франция).
«Хрупкие вещи: истории и чудеса» (2006) – лауреат премии «Локус», Британской премии фэнтези, Гран-при воображения (Франция).
«Осторожно, триггеры: истории и потрясения» (2015) – лауреат премии «Локус» и премии за лучшую книгу в жанре фэнтези по версии сайта Goodreads.
Для вас – оптовые скидки
Пинтер никогда не слышал об Аристиппе Киренском, малоизвестном последователе Сократа, который утверждал, что избежать неприятности – это высочайшее из достижимых благ; тем не менее он проживал свою бедную событиями жизнь в соответствии с этим принципом. Во всех отношениях, кроме одного (азарт при распродажах, но кто из нас вполне от этого избавлен?), он был человеком очень умеренным. Он не впадал в крайности. Речь его была правильной и сдержанной; он редко переедал, а пил достаточно для того, чтобы поддерживать разговор, и не больше; он был далеко не богат и никоим образом не беден. Он любил людей, и люди его любили. Зная все это, могли бы вы себе представить, что встретите его в грязном пабе в самом отвратительном уголке лондонского Ист-Энда, занятого заключением так называемой сделки с человеком, которого едва знал? Нет, не могли бы. Вы бы даже не поверили, что он ходит в пабы.
И до вечера одной пятницы были бы правы. Но любовь к женщине может невесть что сделать с мужчиной, даже с таким бесцветным, как Питер Пинтер, а открытие, что мисс Гвендолин Торп, двадцати трех лет, проживавшая по адресу: Оуктри-террас 9, гуляет (говоря по-плебейски) с приятным молодым джентльменом из бухгалтерии, после того, заметьте, как согласилась надеть обручальное кольцо девятикаратного золота, украшенное натуральной рубиновой крошкой, и с камнем, который вполне может сойти за бриллиант (цена 37,50 фунтов), а на его выбор у Питера ушел почти весь обеденный перерыв, – может заставить мужчину совершать очень странные поступки.
Из-за своего шокирующего открытия Питер провел без сна ночь с пятницы на субботу, он метался и ворочался на кровати из-за неотвязных видений Гвендолин и Арчи Гиббонса (Дон Жуана из отдела учета), которые плыли и скакали у него перед глазами, совершая действия, которые сам Питер, если его припереть к стенке, вынужден был бы признать совершенно невозможными. Но от ревности в нем разлилась желчь, и к утру Питер решил, что с соперником следует покончить.
Утро субботы он провел в раздумьях, каким образом люди вступают в контакт с наемным убийцей, поскольку самое большее, что было ему известно, это то, что таковые не служат в торговых центрах (ибо все три участника вечного треугольника, а также, совершенно случайно, и обручальное кольцо, были оттуда), а спросить кого-либо напрямую он опасался, не желая привлекать к себе внимание.
Вот почему в субботу днем мы застаем его пролистывающим «Желтые страницы».
Он обнаружил, что НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ не значились между НАДЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ДЛЯ ПОХУДАНИЯ и НАЙМОМ НЯНИ; КИЛЛЕРОВ он не нашел между КАМУФЛЯЖНОЙ ОДЕЖДОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ и КРАСИВЫМИ ПОТОЛКАМИ ПО РАЗУМНЫМ ЦЕНАМ; а УБИЙЦ не было между ТУРЫ ДЕШЕВО и УМЕРЕННЫЕ ЦЕНЫ НА ПРОКАТ АВТОМОБИЛЕЙ. Раздел ПРОФИЛАКТИКА И БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ выглядел обнадеживающе; однако более близкое изучение рекламных объявлений показало, что речь шла о борьбе исключительно с «крысами, мышами, блохами, тараканами, молью, кротами и крысами» (из чего следовало, как заметил Питер, что здесь имеют особый зуб именно на крыс), а совсем не с тем, что он имел в виду. Несмотря на это, будучи по натуре аккуратным, он досконально изучил рекламные объявления в этой рубрике, пока не наткнулся внизу второй страницы на крошечное объявление, которое показалось ему многообещающим.
Полное и осторожное избавление от надоедливых и нежелательных млекопитающих и т. д. – говорилось в начале. Далее шла подпись «Кеч, Хар, Бёрк и Кеч[1]. Давно на рынке». Адрес указан не был, только телефон.
Питер набрал номер, удивляясь самому себе. Сердце подпрыгивало в груди, но он пытался выглядеть беспечным. Один, два, три гудка. Питер начал было надеяться, что никто не ответит и он сможет об этом забыть, как раздался щелчок и энергичный молодой женский голос произнес:
– Кеч Хар Берк Кеч. Чем могу служить?
Из осторожности не назвав себя, Питер сказал:
– Э, сколь велики, хотел бы я знать, млекопитающие, с которыми вы… имеете дело? От которых вы, э, избавляете?
– Ну, это зависит от того, с кем вы желаете покончить, сэр.
Он собрался с духом.
– А если это человек?
Ее голос остался столь же энергичным и невозмутимым:
– Без проблем, сэр. У вас под рукой бумага и ручка? Хорошо. Будьте в пабе «Грязный осел» на Литтл Кортни-стрит, Е 3, сегодня в восемь вечера. Держите в руках свернутую трубочкой газету «Файненшнл таймс», которая розовая, сэр, и наш сотрудник к вам подойдет, – и повесила трубку.
Питер ликовал. Все оказалось намного проще, чем он воображал. Он спустился, чтобы купить «Файненшнл таймс», нашел в «Гиде по Лондону» Литтл Кортни-стрит и остаток дня смотрел по телевизору футбол, представляя во всех подробностях похороны приятного молодого джентльмена из отдела учета.
Паб Питер нашел не сразу, но в конце концов заметил вывеску, на которой был изображен осел и которая была к тому же очень грязной.
«Грязный осел» оказался небольшим и не особенно грязным пабом, плохо освещенным, где, подозрительно поглядывая по сторонам, группки небритых завсегдатаев в пыльных спецовках ели чипсы и пили «Гиннесс», напиток, которым Питер никогда особо не увлекался. Он старался держать под мышкой свою газету так, чтобы ее было хорошо видно, но никто к нему не подошел, и тогда он взял полпинты шенди[2] и ретировался за столик в углу. Неспособный ни о чем больше думать в ожидании, он попытался читать газету, но, заплутав в лабиринте фьючерсов на зерно, сдался и уставился на дверь.
Он ждал уже почти десять минут, когда в паб ввалился небольшого роста суетливый человек, который, оглядевшись, подошел прямо к его столику и уселся напротив.
Садясь, он протянул руку:
– Кембл. Бертон Кембл из «Кеч, Хар, Берк и Кеч». Я слышал, у вас есть для нас работа.
Он не был похож на киллера. Питер так ему и сказал.
– О, помилуйте, конечно нет! Я не принадлежу к исполнителям. Я из отдела продаж.
Питер кивнул. В словах Кембла был свой резон.
– Можем мы, э, говорить без обиняков?
– Конечно. На нас никто не обращает внимания. Прежде всего, сколько человек вы хотели бы устранить?
– Только одного. Его зовут Арчибальд Гиббонс, и он работает в бухгалтерии «Клеймеджа». Его адрес…
Кембл его прервал.
– Мы поговорим о деталях позже, сэр, если не возражаете. Давайте сразу обсудим финансовые условия. Начнем с того, что контракт обойдется вам в пятьсот фунтов…
Питер кивнул. Он мог себе это позволить и на самом деле ожидал, что придется заплатить немного больше.
– Хотя… у нас всегда есть специальные предложения, – учтиво заметил Кембл.
Глаза у Питера загорелись. Как я заметил ранее, он любил скидки и часто покупал на распродажах или по спецпредложениям вещи, которым потом не мог найти употребления. Кроме этого недостатка (которым столь многие из нас обладают), повторюсь, во всем остальном он был чрезвычайно умеренным молодым человеком.
– Специальные предложения?
– Двое по цене одного, сэр.
М-м-м. Питер задумался. Выходило всего по 250 фунтов за каждого, что, как ни крути, не так уж плохо. Была лишь одна загвоздка.
– Боюсь, у меня нет другого человека, которого я хотел бы убить.
Кембл выглядел разочарованным.
– Как жаль, сэр! За двоих мы могли бы еще опустить цену, положим, до четырехсот пятидесяти фунтов.
– В самом деле?
– Видите ли, это обеспечивает занятость наших сотрудников. Если хотите знать, – и он понизил голос, – работы в этой сфере постоянно не хватает. Не то, что в прошлые времена. Неужели не найдется еще хотя бы один человек, которого вы предпочли бы видеть мертвым?
Питер призадумался. Он терпеть не мог упускать выгоду, но в голову ему больше никто не приходил. Он любил людей. Но при таких скидках…
– Послушайте, – сказал Питер. – Могу я подумать до завтрашнего вечера?
Продавец был доволен.
– Конечно, сэр, – сказал он. – Уверен, кто-нибудь да придет вам на ум.
Ответ, такой очевидный, нашелся в ту же ночь, когда Питер уже погружался в сон. Он сел на постели, включил настольную лампу и записал имя на обратной стороне конверта, чтобы не забыть. Сказать по правде, он вовсе не думал, что его забудет, поскольку все было мучительно очевидно, но ведь никогда не знаешь, чего ждать от этих ночных мыслей.
Имя, которое он записал, было Гвендолин Торп.
Он выключил свет, свернулся клубочком и вскоре уснул, и видел всю ночь мирные, замечательно безубийственные сны.
Когда он приехал воскресным вечером в «Грязного осла», Кембл его уже ждал. Питер заказал себе выпивку и сел рядом.
– Я согласен на ваше специальное предложение, – сказал он вместо приветствия.
Кембл энергично кивнул.
– Воистину мудрое решение, если позволите, сэр.
Питер Пинтер скромно улыбнулся, как читатель «Файненшнл таймс», решивший важную бизнес-проблему.
– Я так понимаю, это мне обойдется в четыреста пятьдесят фунтов.
– Неужели я назвал такую сумму, сэр? Простите ради бога. Должен извиниться, но я имел в виду нашу оптовую скидку. А так, за двоих, с вас четыреста семьдесят пять фунтов.
На пресном свежем лице Питера читались разочарование и жадность. Ему не хотелось платить лишних 25 фунтов. Однако что-то в словах Кембла привлекло его внимание.
– Оптовая скидка?
– О да, но я сомневаюсь, что вас может это заинтересовать.
– Нет, почему же. Мне интересно.
– Очень хорошо, сэр. Оптовую скидку делают за большую работу. Десять человек.
Питер подумал, уж не ослышался ли он.
– Десять человек? Получается всего 45 фунтов за каждого.
– Да, сэр. Но такой заказ для нас выгоден.
– Понятно, – сказал Питер. А еще он сказал: – Хм. Мы можем встретиться завтра вечером?
– Конечно, сэр.
Придя домой, Питер нашел клочок бумаги и ручку. Записал в столбик номера от одного до десяти и стал их заполнять:
1. Арчи Г.
2. Гвенни.
3.
Написав первые два имени, он замер, грызя ручку, вспоминая причиненные ему обиды и людей, без которых мир станет лучше.
Выкурил сигарету. Походил по комнате.
Ага! Учитель физики в школе получал удовольствие, отравляя ему существование. Как же его звали? И жив ли он еще? И хотя Питер не был в том уверен, под номером три он записал: учитель физики, средняя школа на Эббот-стрит. Следующее имя пришло на ум сразу, потому что начальник отдела пару месяцев назад отказался повысить ему зарплату; зарплату в конце концов повысили, но это уже не имело значения. Под номером четыре значился мистер Хантерсон.
Когда ему было пять, мальчик по имени Саймон Эллис вылил ему на голову краску, пока другой, Джеймс как-его-там Питера держал, а девочка по имени Шэрон Хартшарп смеялась. Соответственно, они значились под номерами от пятого по седьмой включительно.
Кто еще?
Он вспомнил о человеке из телевизора, который, читая новости, противно хихикал. Тот тоже попал в список. А соседка с маленькой собачкой, что гадит в холле? Соседка и ее собака стали номером девять. Самым трудным оказался десятый номер. Он поскреб затылок и пошел было на кухню за чашкой кофе, но примчался назад и рядом с цифрой 10 написал: мой двоюродный дедушка Мервин. Старик, по слухам, был при деньгах, и можно предположить (хотя и не наверняка), что тот ему кое-что оставит.
Довольный хорошо сделанной работой Питер отправился спать.
В понедельник все было как всегда; Питер работал старшим продавцом-консультантом в книжном отделе, и обязанностей у него было немного. Он крепко сжимал список, держа руку глубоко в кармане, упиваясь властью, которую тот ему давал. Он самым приятным образом провел обеденный перерыв в обществе Гвендолин (которая не знала, что он видел, как они с Арчи шли на склад) и даже улыбнулся приятному молодому человеку из отдела учета, встретив его в коридоре.
В тот вечер он торжественно выложил список перед Кемблом.
Лицо человека из отдела продаж вытянулось.
– Боюсь, у вас тут не десять человек, мистер Пинтер, – заметил он. – Вы посчитали соседку и ее собаку как одну персону. То есть всего получается одиннадцать, а это будет стоить дополнительно, – он быстро включил карманный калькулятор, – дополнительно семьдесят фунтов. Может, не будем включать собаку?
Питер помотал головой.
– Собака такая же противная, как и женщина. Может, даже еще противней.
– Тогда, боюсь, у нас возникла небольшая проблема. Если только не…
– Что?
– Если только вы не захотите воспользоваться нашими скидками на крупный опт. Но вы ведь не захотите…
Есть слова, которые меняют людей; слова, которые заставляют их краснеть от радости, волнения или страсти. Для одних таким словом является природный, для других – оккультный. Для Питера таким словом был опт. Он откинулся на спинку стула.
– А на каких условиях? – спросил он тоном искушенного покупателя.
– Видите ли, сэр, – Кембл позволил себе короткий смешок, – мы можем, хм, дать вам оптовую скидку, по которой каждый обойдется вам по семнадцать пятьдесят, если в вашем списке будет свыше пятидесяти человек, или даже десять фунтов, если их будет больше двухсот.
– Полагаю, вы спустились бы до пятерки, если бы мне потребовалось устранить тысячу человек, не так ли?
– Нет, сэр, – Кембл был потрясен. – Если вы закажете такое число, мы сможем их устранить за один фунт каждого.
– За один фунт?
– Совершенно верно, сэр. Маржа невелика, зато это оправдано высоким оборотом и производительностью.
Кембл встал.
– Завтра в то же время, сэр?
Питер кивнул.
Тысяча фунтов. Тысяча человек. У Питера Пинтера даже не было столько знакомых. Но в таком случае… у него есть палата общин и палата пэров. Он не любил политиков; они вечно спорили и ссорились и никак не могли остановиться.
А для такого случая…
Идея, потрясающая по своей смелости. Это круто. Дерзко. А идея засела в голове и никак не уходила. Его дальняя родственница вышла замуж за младшего брата то ли графа, то ли барона…
В тот вечер по дороге домой он остановился возле небольшого магазина, мимо которого проходил тысячу раз, ни разу не заглянув. На табличке в витрине говорилось, что здесь могут добросовестно проследить вашу родословную и даже нарисовать вам герб, если свой вы случайно утратили, а также впечатляющую геральдическую карту.
Они были очень внимательны и перезвонили сразу после семи, чтобы сообщить новости.
Если примерно четырнадцать миллионов семьдесят две тысячи восемьсот одиннадцать человек умрут, он, Питер Пинтер, станет английским королем.
У него не было четырнадцати миллионов семидесяти двух тысяч восьмисот одиннадцати фунтов: но он предполагал, что когда речь идет о таких цифрах, мистер Кембл сделает для него специальную скидку.
И он сделал.
И даже бровью не повел.
– На самом деле, – сказал он, – это обойдется довольно дешево; видите ли, мы не станем заниматься ими индивидуально. Небольшие ядерные бомбы, продуманная бомбардировка, отравление газами, эпидемия чумы, радиоактивная вода в бассейнах, низкие частоты, а потом можно будет просто провести зачистку. Что вы скажете о четырех тысячах фунтов?
– Четыре тысячи? Это невероятно!
Менеджер по продажам выглядел довольным.
– Наши сотрудники будут рады такой работе, сэр. – Он усмехнулся. – Мы особенно дорожим оптовыми заказчиками.
Когда Питер вышел из паба, подул холодный ветер, и старая вывеска здорово раскачивалась. Не слишком-то похоже на грязного осла, подумал Питер. Скорее конь бледный[3].
В ту ночь, засыпая, Питер мысленно репетировал коронационную речь, когда в голову пришла мысль и застряла. И никак не уходила. А вдруг есть возможность еще больше сэкономить и получить еще большую скидку?
Он выбрался из-под одеяла и подошел к телефону. Было почти три часа утра, но все-таки…
Открытые «Желтые страницы» лежали на том же месте, где он оставил их в прошлую субботу, и он набрал номер.
Никто не отвечал целую вечность. Наконец в трубке щелкнуло, и недовольный голос сказал:
– Берк Хар Кеч. Чем могу быть полезна?
– Простите, надеюсь, я не слишком рано… – начал он.
– Конечно нет, сэр.
– Я хотел бы поговорить с мистером Кемблом.
– Вы можете подождать? Сейчас узнаю.
Несколько минут Питер ждал, прислушиваясь к подозрительным потрескиваниям и шепоткам, которые всегда эхом отдаются в трубке на свободных линиях.
– Вы все еще здесь, сэр?
– Да, я здесь.
– Соединяю. – Раздался гудок, потом: – Кембл у телефона.
– А, мистер Кембл. Здравствуйте. Извините, если я поднял вас с постели или что-то в этом роде. Это, хм, Питер Пинтер.
– Да, мистер Пинтер.
– Вы уж извините, что так рано, просто я хотел узнать… А сколько будет стоить убить всех? Всех на свете?
– Всех? Абсолютно всех?
– Да. Сколько? Я хочу сказать, что для такого заказа у вас должны быть огромные скидки. Сколько это будет стоить? За всех сразу?
– Совсем ничего, мистер Пинтер.
– Вы хотите сказать, что не возьметесь за такую работу?
– Я хочу сказать, что мы сделаем ее бесплатно, мистер Пинтер. Надо только, чтобы нас об этом попросили. Нам всегда надо, чтобы нас попросили.
Питер был ошарашен.
– А когда же вы начнете?
– Начнем? Прямо сейчас. Немедленно. Мы давно к этому готовы. Но нам надо, чтобы нас попросили, мистер Пинтер. Спокойной ночи. Мне было очень приятно иметь с вами дело.
И он отключился.
Питер чувствовал себя странно. Все казалось ему каким-то нереальным. Ноги плохо держали, и захотелось присесть. Что же, спрашивается, тот человек имел в виду? «Нам всегда надо, чтобы нас попросили». Более чем странно. Никто в мире ничего не делает за просто так; ему захотелось перезвонить Кемблу и отказаться от своего заказа. Возможно, он все преувеличил, возможно, была совершенно невинная причина, почему Арчи и Гвендолин пошли вместе на склад. Он с ней поговорит, вот что следует сделать. Он первым делом поговорит с Гвенни, когда наступит день…
И в этот момент он услышал шум.
Странные крики доносились с улицы. Дерутся кошки? А может, лисы? Он понадеялся, что кто-нибудь запустит в них тапком. Но тут в коридоре его квартиры раздались приглушенные звуки, словно кто-то волок по полу что-то тяжелое. Потом звуки прекратились. Кто-то стукнул в его дверь, дважды, очень тихо.
Крики за окном становились все громче. Питер уселся в кресло, понимая, что где-то в чем-то ошибся. В чем-то важном. Стук возобновился. Он порадовался, что всегда запирает на ночь дверь на замок и на цепочку.
Они давно готовы, им только нужно было, чтобы кто-то попросил…
Когда дверь взломали, Питер принялся кричать, но, по правде сказать, это продолжалось совсем недолго.
Я – Ктулху
I
Меня называют Ктулху. Великий Ктулху. Все произносят мое имя неправильно.
Ты записываешь? Каждое слово? Хорошо. Так, с чего бы начать… Ну что ж. Начну с начала. Пиши, Уотли.
Я был зачат бессчетное количество эонов назад в темной мгле Кххаа’йнгаиих (нет, я не знаю, как это пишется; пиши, как слышится) безымянными родителями, жуткими, как ночной кошмар, под серповидной луной. Конечно, речь не о луне этой планеты! Я говорю о настоящей луне. Иногда она занимала полнеба. Когда она восходила, было видно, как алая кровь струится по ее опухшему лику, заставляя его краснеть. В зените луна заливала болота и башни мертвенным багровым светом.
То были дни!
Точнее, ночи. В моих родных краях существовало подобие солнца. Но уже тогда оно было слишком старым. Помню, в ту ночь, когда оно наконец взорвалось, мы все выползли на берег, чтобы насладиться зрелищем. Но я забегаю вперед.
Я не знал своих родителей.
Мать съела отца, как только он оплодотворил ее. А я, появившись на свет, сожрал мать. Так уж вышло, что это мое первое воспоминание. Извиваясь, я выбираюсь из материнской утробы; мои щупальца до сих пор хранят вкус ее плоти – чем-то напоминает дичь.
Не смотри на меня так, Уотли. Вы, люди, не менее отвратительны.
Да, кстати, шоггота покормили? Кажется, он что-то бормочет.
Первые тысячелетия своей жизни я провел в болотах. Разумеется, без особого удовольствия. Цветом я тогда напоминал молодую форель; в длину достигал четырех-пяти ваших футов. Мое основное занятие состояло в том, чтобы подкрадываться и поглощать. И следить, чтобы никто не застал врасплох и не проглотил меня.
Так прошла моя юность.
А потом в один прекрасный день – кажется, это был вторник – я понял, что в жизни есть не только еда. (Секс? Конечно, нет! Этой стадии я достигну только после следующей спячки; к тому времени ваша жалкая планета давно остынет.) В тот вторник дядя Хастур проскользнул в мою часть болота с плотно сжатыми челюстями.
Это означало, что он не собирается мной пообедать. И мы можем поговорить.
Что за идиотский вопрос! Не ожидал такого даже от тебя, Уотли. Я ведь общаюсь с тобой, не прибегая к помощи своих ртов, не так ли? Ну вот. Еще раз сморозишь такую глупость, и я найду кого-нибудь другого для записи своих воспоминаний. А ты пойдешь кормить шоггота.
– Мы хотим прогуляться, – сказал дядя Хастур. – Может, присоединишься?
– «Мы»? Кто это – «мы»?
– Я, Азатот, Йог-Сотот, Ньярлатотеп, Цатоггуа, Йа! Шуб-Ниггурат, молодой Йуггот и еще кое-кто. (Это очень вольный перевод, Уотли, ты же понимаешь… Большинство из них были бес-, дву- или трехполыми. А старая Йа! Шуб-Ниггурат, говорят, наплодила не меньше тысячи отпрысков. Эта ветвь нашей семьи всегда отличалась склонностью к излишествам.) Мы собираемся на прогулку, – повторил дядя. – Составишь нам компанию?
Я помедлил с ответом. По правде говоря, я недолюбливал своих родственников. К тому же сильное пространственное искажение мешало их как следует рассмотреть. Обычно силуэты расплывались по краям. А у некоторых – например, у Сабаота – краев было слишком много.
Но я был молод и жаждал приключений! «В жизни должно быть что-то еще!» – восклицал я, пока вокруг сгущалось восхитительное зловоние болот, а над головой ухали и скрежетали нгау-нгау и зитадоры. Как ты уже догадался, я согласился, и мы с дядей поползли к месту встречи.
Всю следующую луну мы обсуждали, куда отправимся. Азатот рвался на далекий Шаггай. Ньярлатотеп зациклился на Неописуемом месте (понятия не имею почему! Когда я был там в последний раз, все было закрыто). Мне было все равно, Уотли. В любом сыром и немного странном месте я чувствовал себя как дома. Последнее слово, как всегда, осталось за Йог-Сототом. Поэтому мы и очутились в этой вселенной.
Ты ведь знаком с Йог-Сототом, мой маленький двуногий зверек? Я так и думал.
Это он привел нас сюда.
Честно говоря, сначала мне здесь не очень понравилось. Да я и сейчас не в восторге. Если бы знал, какие неприятности нас ждут, ни за что бы сюда не сунулся. Но тогда я был моложе…
Нашей первой остановкой стала сумрачная Каркоза. Там я натерпелся страху! Сейчас я могу смотреть на таких, как ты, без содрогания, но тогда все эти людишки без чешуи или ложноножек повергали меня в ужас.
Первым, с кем я поладил, был Король в желтом.
Король оборванцев. Ты о нем не слышал? Он упоминается в «Некрономиконе» (с. 704 полного издания). Кажется, в «Тайнах Червя» о нем пишет этот идиот Принн. Ну и, конечно, Чэмберс.
Приятный парень. Нужно только к нему привыкнуть.
Он первый подал мне идею.
– Какого неназываемого черта тут делать? В этом тоскливом измерении! – спросил я.
Он рассмеялся.
– Когда я – в ту пору всего лишь жалкое пятно цвета – попал в эту дыру, то задавался тем же вопросом. А потом узнал, какое удовольствие получаешь, завоевывая странные миры, покоряя их обитателей, заставляя их бояться и поклоняться. Вот это потеха! Конечно, Древние такого не любят.
– Что за древние?
– Не древние, а Древние! С заглавной буквы. Забавные ребята. Напоминают пузатые бочонки с морскими звездами вместо голов. А еще у них огромные тонкие крылья – чтобы летать между мирами.
Летать между мирами? Летать?! Я был в шоке. Я-то думал, что в наши дни никто уже не летает. Зачем, если можно слугглить? Понятно, почему их называют древними. Простите, Древними.
– И чем эти Древние занимаются? – спросил я у Короля.
(Я потом объясню, что значит слугглить, Уотли. Хо-тя… это бесполезно. У тебя же нет внаиснгханга. Впрочем, можно попробовать и с бадминтонными ракетками. Вдруг они подойдут. Так, на чем я остановился? Ах да!)
– И чем эти Древние занимаются? – спросил я у Короля.
– Да в общем-то ничем. Но они не хотят, чтобы этим занимался кто-то еще.
В ответ я начал волнообразно извиваться, скручивая щупальца. Я имел в виду, что уже сталкивался с такими существами, но, боюсь, Король не уловил мою мысль.
– А ты знаешь миры, которые стоит покорить?
Он махнул рукой в сторону маленького унылого скопления звезд.
– Там есть одна планета… Может, тебе понравится. Называется Земля. Захолустье, конечно. Зато просторно.
Тупой мерзавец.
На сегодня все, Уотли.
Когда будешь уходить, попроси кого-нибудь покормить шоггота.
II
Уже пора, Уотли?
Не говори глупостей. Я знаю, что сам посылал за тобой. У меня прекрасная память. Ф’нглуи мгв’навх Ктулху Р’льех вгах’нагл фтагн.
Ты ведь знаешь, что это значит?
В своем доме в Р’льехе мертвый Ктулху ждет и видит сны.
Оправданное преувеличение; в последнее время я неважно себя чувствую.
Это была шутка, одноголовый! Шутка! Ты все записываешь? Хорошо. Пиши дальше. Я помню, на чем мы вчера остановились.
Р’льех.
Земля.
Как все-таки меняются значения слов… Неопределенность. Терпеть ее не могу! Когда-то Р’льех обозначал Землю. По крайней мере, ее подводную часть, где я был господином. Теперь Р’льех – всего лишь мой маленький дом. 47°9ʹ южной широты, 126°43ʹ западной долготы.
Или Древние. Теперь так называют нас! Великие Древние. Как будто нет никакой разницы между нами и теми бочкообразными парнями!
Неопределенность.
Итак, я прибыл на Землю. Тогда здесь было более влажно. Чудесное место с густыми как суп морями. Я быстро и легко сошелся с людьми, Дагоном и его парнями (сейчас я использую это слово в прямом значении). В ту пору мы все жили в воде. На то, чтобы заставить их строить, порабощать, готовить еду (и, конечно, становиться едой), у меня ушло меньше времени, чем понадобится тебе, чтобы произнести «Ктулху фтагн».
Да, кстати, я хотел рассказать еще кое-что. Правдивую историю.
Она произошла на корабле в тихоокеанском круизе. Там был иллюзионист, развлекавший пассажиров. И попугай.
Он портил иллюзионисту все выступления. Как? Да просто рассказывал зрителям, как тот делает фокусы. «Засунул в рукав!» – пронзительно кричал попугай. Или: «Он подтасовал карты! У ящика двойное дно!»
Конечно, иллюзионисту это не нравилось.
И вот пришло время главного фокуса.
Иллюзионист объявил его.
Засучил рукава.
Взмахнул руками.
И тут корабль подскочил и завалился на бок.
Под ним поднялся из глубины Р’льех! Полчища моих верных слуг, омерзительных рыболюдей, вскарабкались на судно, схватили пассажиров и экипаж и утащили на дно. Потом Р’льех снова ушел под воду, ожидая великого дня, когда ужасный Ктулху восстанет и воцарится вновь.
А иллюзионист, не замеченный моими маленькими земноводными олухами (за что они, конечно, жестоко поплатились!), один-одинешенек носился по грязным волнам, ухватившись за обломок мачты. Вдруг он увидел на небе зеленое пятнышко. Оно опускалось все ниже, пока не примостилось на ближайшем дрейфующем бревне. Это был попугай.
Он склонил голову набок и, прищурившись, посмотрел на иллюзиониста и спросил:
– Ладно, я сдаюсь! Как ты это сделал?
Разумеется, Уотли, это чистая правда!
Стал бы Великий Ктулху, явившийся из темных глубин вселенной в те далекие времена, когда ваши самые древние кошмары беспомощно лепетали в своих колыбелях… Ждущий благоприятного сочетания звезд, чтобы покинуть дворец-гробницу, вдохнуть силы в верных и вернуть безграничную власть… Жаждущий вновь изведать острые и сладостные наслаждения разврата и смерти… В общем, стал бы я лгать тебе?
Непременно!
Заткнись, Уотли! Не перебивай. Мне плевать, где ты уже слышал эту историю.
Как мы веселились тогда! Резня и разрушения, жертвоприношения и проклятия. Всюду гной, слизь, грязь. А эти отвратительные игры без названия! Еда, развлечения. Это была очень длинная вечеринка. И она нравилась всем, кроме тех, кого насадили на деревянные колья между кусочками сыра и ананаса.
О, в те дни на Земле жили гиганты.
Конечно, это не могло продолжаться вечно.
Они спустились с неба на тонких прозрачных крыльях и принесли с собой правила, предписания, распорядки и Дхо-Хна знает сколько бланков, которые нужно заполнить в пяти экземплярах. Жалкие маленькие бюрократы, вот кто они такие! Это было ясно с первого взгляда на их пятиконечные головы. На каждой башке по пять выростов, сучков или как это там у них называется (добавлю, что головы у всех были на одном и том же месте). Ни у кого не хватило фантазии отрастить три сучка, или шесть, или сто два. Нет, только пять!
Не хочу никого оскорбить.
Просто мы не поладили.
Им не понравилась моя вечеринка.
Они барабанили в стену (метафорически). Мы не обращали на это внимания. Они разозлились.
Начали спорить, пакостить, драться.
«Ладно! – сказали мы. – Вы хотите море? Получайте. Все, до последней морской звезды!»
Мы перебрались на сушу – тогда она была достаточно заболоченной. Там мы построили гигантские монолитные сооружения, которые затмевали горы.
Знаешь, Уотли, почему вымерли динозавры? Это мы их уничтожили. Устроили барбекю.
Но эти умничающие зануды так и не оставили нас в покое. Они хотели передвинуть Землю поближе к Солнцу. Или, наоборот, подальше от него… Я не уточнял. А потом мы снова очутились под водой.
Тут полагается смеяться.
Древним тоже досталось. Как и все их творения, они терпеть не могли сухость и холод. И вдруг оказались в Антарктиде, безжалостно сухой и холодной, как затерянные равнины трижды проклятого Лэнга.
На этом сегодняшний урок окончен, Уотли.
И, пожалуйста, попроси кого-нибудь покормить этого злосчастного шоггота!
III
(Проанализировав содержание и длину предыдущих глав, профессор Армитаж и профессор Уилмарт пришли к выводу, что в этой рукописи не хватает как минимум трех страниц. Я с ними согласен.)
Звезды изменились, Уотли.
Представь, что твою голову отделили от тела. И вот она – жалкий кусок плоти – лежит на холодной мраморной плите, задыхаясь и моргая. Вот как мы себя чувствовали. Вечеринка закончилась.
Это нас убило.
Теперь мы ждем здесь, внизу. Ужасно, да?
Да ничуть! Плевать мне на этот неназываемый ужас. Я умею ждать.
Сижу, объятый смертным сном, и наблюдаю, как возвышаются и рушатся муравьиные империи людей.
Однажды – может, пройдет один день, а может, больше времени, чем в силах вообразить твой жалкий умишко, – звезды сойдутся, и наступит эра разрушения: я восстану ото сна и буду вновь править этим миром.
Погромы и оргии, кровавые пиры и черные мессы, вечные сумерки и вездесущие кошмары, крики мертвых и не мертвых, песнопения верных.
А потом?
Когда эта планета превратится в ледяной булыжник, вращающийся вокруг погасшего Солнца, я покину ее. И вернусь домой, где кровь каждую ночь обагряет лик луны, разбухший, как труп утопленника. Я снова впаду в спячку…
А потом буду спариваться и, наконец, почувствую, как внутри что-то шевелится. Как малыш прогрызает в моей утробе путь к свету.
Хм.
Ты все записал, Уотли? Хорошо.
Ну, вот и все. Повествование окончено. Угадай, чем мы теперь займемся? Точно! Покормим шоггота.
Николас Был
…старше первородного греха, и голова у него была белее белого. Ему хотелось умереть.
Малорослые обитатели пещер Севера не знали его языка, они говорили на собственном наречии, напоминавшем птичий щебет, и совершали непонятные ритуалы, когда не были заняты повседневной работой.
Раз в год, несмотря на его протесты и рыдания, они изгоняли его в Бесконечную Ночь. За одну эту ночь он должен был проведать каждого в мире ребенка, оставив возле кроватки один из невидимых даров пославших его карликов, покуда детишки спали в ледяных объятиях времени.
Он завидовал Прометею и Локи, Сизифу и Иуде[4]. Его наказание было суровее.
Ох. Хо. Хо.
Когда животные ушли
Несколько лет назад все животные ушли. Однажды мы проснулись, и их нигде не было. Даже не оставили записки и не попрощались. И мы так и не выяснили, куда они подевались.
Нам их не хватало.
Некоторым из нас показалось, что наступил конец света, но ведь нет! Просто больше не стало животных. Ни кошек, ни кроликов, ни собак, ни китов, ни рыб в морях, ни птиц в небесах.
Мы остались одни.
И мы не знали, что нам делать.
Какое-то время мы бродили, потерянные, и тогда кто-то сказал: то, что у нас больше нет животных, еще не повод менять нашу жизнь. Не повод менять пристрастия в еде или не проверять больше продукты, что могут причинить нам вред.
В конце концов, у нас ведь есть младенцы.
Они не умеют говорить. Почти не двигаются. Младенцы – это отнюдь не разумное, не мыслящее существо.
Мы делали младенцев.
И мы их использовали.
Одних мы ели. Мясо младенцев нежное и сочное.
Мы сдирали с них кожу и шили из нее одежду. Кожа младенцев мягкая и приятная.
А на других мы ставили опыты.
Мы приклеивали им веки, чтобы глаза не закрывались, и капали в них моющие средства и шампуни, по одной капле за раз.
Мы наносили им раны и обливали кипятком. Мы их сжигали. Мы обездвиживали их и вживляли им в мозг электроды. Мы делали им прививки, замораживали и облучали.
Младенцы дышали нашим дымом, а в их венах текла смешанная с лекарствами и наркотиками кровь, пока дыхание у них не прерывалось, а кровь не переставала циркулировать.
Конечно, нам было нелегко, но это ведь необходимо.
Никто не может этого отрицать.
Раз животные исчезли, что нам оставалось делать?
Некоторые, конечно, возмущались. Но так всегда и бывает.
И все вернулось на круги своя.
Только…
Вчера исчезли все младенцы.
И мы не знаем, куда они подевались. Мы даже не видели, как они уходили.
Мы понятия не имеем, что будем без них делать.
Но что-нибудь придумаем. Люди изобретательны. Именно это ставит нас выше животных и выше младенцев.
Выход мы обязательно найдем.
Галантность
Миссис Уайтекер нашла Священный Грааль; он лежал внизу, под шубой.
Каждый четверг она отправлялась днем на почту, за пенсией, хоть ноги были уже не те, и на обратном пути ей приходилось заворачивать в «Оксфам» и заодно покупать себе разную ерунду.
В «Оксфаме» торговали поношенной одеждой, безделушками, необычными вещицами, всяким хламом, старыми книжками в мягких обложках, и все это были пожертвования: обломки чьей-то жизни, часто имущество покойников. А доход от торговли шел на благотворительность.
В магазине работали добровольцы. В тот день здесь дежурила Мэри, семнадцати лет, немного полная, одетая в мешковатый сиреневый джемпер, возможно, здесь же и купленный.
Мэри сидела за кассой с журналом «Современная женщина» и заполняла опросник «Открой свою потаенную сущность». Время от времени она заглядывала на последнюю страницу, проверяя, во сколько баллов оценен ответ А, В и С, прежде чем самой определиться с ответом.
Миссис Уайтекер слонялась по магазину.
Чучело кобры все еще не продано, отметила она. Оно тут пылилось уже полгода, и его стеклянные глаза злобно пялились на стойки с одеждой и витрину с оббитыми фарфоровыми и замызганными мягкими игрушками.
Проходя мимо, она потрепала чучело по голове.
Миссис Уайтекер прихватила с полки пару романов издательства «Милд энд Бун» «Ее громоподобная душа» и «Ее беспокойное сердце», по пять пенсов за штуку, – и призадумалась над пустой бутылкой из-под «Матеуша розе» с декоративным абажуром, но все же решила, что ей, в сущности, некуда ее поставить.
Отодвинув сильно ношенную шубу, которая противно пахла нафталиновыми шариками, она обнаружила трость и раскисший от влаги «Рыцарский роман, или Легенду о галантности» А. Р. Хоупа-Монкрифа[5], оцененный в пять пенсов. Рядом с книгой, на боку, лежал Святой Грааль. К его основанию был приклеен стикер, на нем перьевой ручкой выведено: «30 пенсов».
Миссис Уайтекер взяла пыльный серебряный кубок и оценивающе осмотрела его поверх очков.
– Симпатичный, – обратилась она к Мэри. Та пожала плечами. – Неплохо будет смотреться на каминной полке.
Мэри вновь пожала плечами.
Миссис Уайтекер дала Мэри пятьдесят пенсов и получила сдачу и коричневый бумажный пакет, чтобы сложить в него книги и Святой Грааль. По дороге домой она завернула к мяснику и купила себе немного отличной говяжьей печени.
Изнутри кубок был покрыт толстым слоем бурой пыли. Миссис Уайтекер осторожно его помыла и оставила на час отмокать в теплой воде с уксусом. Ей пришлось долго его полировать, пока он не заблестел, и тогда она поставила кубок в гостиной на каминную полку, между трогательной фарфоровой собачкой и фотографией покойного мужа, сделанной на фринтонском пляже в 1953 году.
Она оказалась права: получилось и впрямь симпатично.
В тот вечер миссис Уайтекер поужинала печенью, обжаренной с луком в панировке. Ужин удался на славу.
Следующим днем была пятница, а по пятницам миссис Уайтекер и миссис Гринберг ходили друг к другу в гости. В тот день была очередь миссис Гринберг. Они сидели в гостиной и угощались миндальными бисквитами и чаем. Миссис Уайтекер пила чай с одним кусочком сахара, а миссис Гринберг – с подсластителем, который всегда носила с собой.
– Очень мило, – сказала миссис Гринберг, указывая на кубок. – А что это?
– Святой Грааль, – ответила миссис Уайтекер. – Чаша, из которой пил Христос на Тайной вечере. Когда Христа распяли, в нее собрали Его драгоценную кровь, после того как центурион пронзил Его копьем.
Миссис Гринберг фыркнула. Это была маленькая еврейка, которая не выносила антисанитарии.
– Не знаю я всего этого, – сказала она. – И знать не хочу. Но смотрится очень неплохо. Нашему Майрону такой вручили, когда он победил на соревнованиях по плаванью, только там сбоку написано его имя.
– Он все еще встречается с той милашкой? Парикмахершей?
– С Бернис? Ну да. Они подумывают о помолвке.
– Как мило! – сказала миссис Уайтекер и взяла еще бисквит.
Миссис Гринберг сама их пекла и всегда приносила к чаю: маленькие сладкие румяные бисквиты, сверху посыпанные стружками миндаля.
Они поговорили о Майроне и Бернис, о Рональде, племяннике миссис Уайтекер (своих детей у нее не было), и об их приятельнице миссис Перкинс, которая лежала, бедняжка, в больнице с переломом шейки бедра.
В полдень миссис Гринберг отправилась домой, миссис Уайтекер приготовила себе на ланч тост с сыром, а после ланча приняла таблетки: белую, красную и две маленькие оранжевые.
В дверь позвонили.
Миссис Уайтекер пошла открывать. На пороге стоял молодой человек с волосами до плеч, очень светлыми, словно седыми, на нем были сверкающие серебряные доспехи и белый плащ.
– Здравствуйте, леди, – сказал он.
– Здравствуйте, – ответила миссис Уайтекер.
– Прибыл сюда на поиски.
– Очень интересно, – сдержанно ответила миссис Уайтекер.
– Не позволите ли войти? – спросил он.
Миссис Уайтекер покачала головой:
– Извините, боюсь, что нет.
– Разыскиваю Святой Грааль, – сказал молодой человек. – Ведь он у вас?
– А документы какие-нибудь у вас есть? – спросила миссис Уайтекер. Она понимала, что глупо пускать в дом незнакомца без документов, тем более когда ты в возрасте и живешь на пенсию. Запросто могут ограбить или еще что похуже.
Молодой человек спустился вниз по садовой тропинке. К ее калитке был привязан огромный серой масти боевой конь, смахивавший на тяжеловоза, с высоко поднятой головой и умными глазами. Порывшись в седельной сумке, рыцарь вернулся со свитком.
В свитке, подписанном Артуром, королем всех бриттов, доводилось до сведения всех лиц любого рода и звания, что податель сего, Галахад, рыцарь Круглого стола[6], находится в Воистину Праведном и Благородном Поиске. Ниже прилагался его рисованный портрет. Сходство вполне улавливалось.
Миссис Уайтекер кивнула. Вообще-то она ожидала увидеть удостоверение с фотокарточкой, но свиток был даже более красноречив.
– Пожалуй, вам лучше войти, – сказала она.
На кухне миссис Уайтекер налила рыцарю чаю и провела в гостиную.
Увидев на каминной полке Святой Грааль, Галахад преклонил перед ним колено. Чашку с чаем он аккуратно поставил на бурый ковер. Полоска света, пробившаяся через тюлевые занавески, озарила его благоговейное лицо золотистым светом, превратив волосы рыцаря в серебряный ореол.
– Воистину это Святой Грааль, – сказал он спокойно и трижды быстро моргнул, словно желая прогнать слезу, набежавшую на бледно-голубые глаза.
И склонил голову в безмолвной молитве.
Наконец Галахад встал и повернулся к миссис Уайтекер.
– Благородная леди, хранительница Святая Святых, позвольте мне теперь отбыть из этой обители с Благословенной Чашей, ибо мои странствия окончены, а мой священный долг исполнен.
– Простите? – не поняла миссис Уайтекер.
Галахад подошел к ней и взял ее старческие руки в свои.
– Поиски окончены, – сказал он. – Святой Грааль предо мной.
Миссис Уайтекер поджала губы:
– Вы не могли бы поднять с пола чашку с блюдцем?
Галахад, извинившись, исполнил ее просьбу.
– Нет. Я так не думаю, – сказала миссис Уайтекер. – Мне бы хотелось, чтобы он остался здесь. Ему здесь самое место, между собачкой и фотографией моего Генри.
– Возможно, мне следует заплатить вам золотом? Не так ли? Я готов принести вам золота, леди…
– Нет. Не нужно мне никакого золота, спасибо. Просто не хочу и все, – сказала миссис Уайтекер, выпроваживая рыцаря к входной двери. – Рада была познакомиться.
Конь, упершись головой в забор, щипал ее гладиолусы. Несколько соседских ребятишек замерли на тротуаре, наблюдая.
Галахад достал из седельной сумки пару кусочков сахара и предложил самому храброму из них угостить коня. Дети захихикали, и к нему потянулись сразу несколько раскрытых ладоней. А одна девочка постарше погладила коня по морде.
Галахад грациозно вскочил на коня, и тот зацокал копытами вниз по Хауторн Креснт.
Миссис Уайтекер провожала его взглядом, пока он не скрылся из виду, и, вздохнув, вернулась в дом.
Уик-энд прошел спокойно.
В субботу миссис Уайтекер поехала на автобусе в Мейрсфилд проведать племянника Рональда, его жену Юфонию и дочек, Клариссу и Диллиан. Она привезла им смородиновый пирог собственного приготовления.
В воскресенье утром миссис Уайтекер отправилась в церковь. Она ходила в церковь Святого Иакова Меньшего, которая была слишком большой («Это не просто церковь, но место, где радостно встречаются единомышленники») для того, чтобы миссис Уайтекер чувствовала себя в ней вполне комфортно, но ей нравился викарий, преподобный Варфоломей, правда, когда он не играл на гитаре.
После службы она хотела было сказать ему, что у нее в гостиной стоит Святой Грааль, но передумала.
В понедельник миссис Уайтекер была занята в саду за домом. У нее был небольшой травяной сад, которым она ужасно гордилась: укроп, вербена, мята, розмарин, тимьян и буйные заросли петрушки. Надев грубые зеленые перчатки для садовых работ и опустившись на колени, она полола свой садик и собирала в полиэтиленовый пакет слизняков.
К слизнякам миссис Уайтекер проявляла редкое добросердечие. Она относила их в дальний конец своего сада, который граничил в железной дорогой, и выбрасывала за забор.
Она срезала петрушку для салата, когда за ее спиной раздался кашель. Это был Галахад, высокий и прекрасный, в своих сверкающих на солнце доспехах. Он держал в руках что-то длинное, завернутое в промасленную кожу.
– Я вернулся, – сказал он.
– Здравствуйте, – сказала миссис Уайтекер. Она медленно выпрямилась и сняла свои перчатки. – Что ж, раз вы здесь, могли бы мне помочь.
Она протянула ему пакет со слизняками и велела выбросить их за забор.
И они пошли на кухню.
– Чаю или лимонаду? – спросила она.
– То же, что и вам, – ответил Галахад.
Миссис Уайтекер достала из холодильника кувшин с лимонадом собственного приготовления и послала Галахада сорвать веточку мяты. Еще она достала два высоких стакана, осторожно ополоснула мяту, положила в каждый стакан по нескольку листиков и налила лимонад.
– Ваш конь остался у калитки? – спросила она.
– О да. Его зовут Гриззел.
– И вы, кажется, долго сюда добирались.
– Да, очень долго.
– Понятно, – сказала миссис Уайтекер. Она достала из-под раковины синюю пластмассовую миску и наполовину наполнила водой. Галахад отнес ее Гриззелу, подождал, покуда конь напился, и вернул пустую миску хозяйке.
– Что ж, – сказала она, – как я понимаю, вы снова за Граалем.
– О да, ведь я все еще ищу его. – Он поднял с пола свой сверток, положил на скатерть и развернул. – За Грааль я предлагаю вам вот это.
Это был меч с клинком длиной почти четыре фута, сплошь испещренным изящно выгравированными словами и символами. Рукоять была отделана золотом и серебром, а в навершии сиял большой драгоценный камень.
– Очень красивый, – нерешительно заметила миссис Уайтекер.
– Это Бальмунг, изготовленный Велундом Смитом[7] в стародавние времена. Его брат-близнец зовется Фламберг[8]. Кто носит его, непобедим в войнах и неукротим в сражениях. Кто носит его, всегда храбр и благороден. Рукоять меча украшает сардоникс Биркон, он защитит своего хозяина от яда, подсыпанного в вино или эль, и от предательства друзей.
Миссис Уайтекер уставилась на меч.
– Он, должно быть, очень острый, – сказала она помолчав.
– Им можно разрубить надвое упавший с головы волос. И даже разрезать солнечный луч, – гордо сказал Галахад.
– Тогда, наверное, его лучше убрать, – сказала миссис Уайтекер.
– Он вам не понравился? – разочарованно спросил Галахад.
– Нет, благодарю, – сказала миссис Уайтекер.
Ей пришло в голову, что ее покойному мужу Генри меч бы наверняка понравился. Он повесил бы его на стену в кабинете, рядом с чучелом карпа, пойманного в Шотландии, и хвастал бы перед гостями.
Галахад завернул Бальмунг в промасленную кожу и перевязал веревкой.
Он был расстроен.
Миссис Уайтекер приготовила ему сэндвичей со сливочным сыром и огурцом на обратную дорогу, завернув их в плотную бумагу, и дала яблоко для коня. Кажется, Галахаду это было приятно.
А она помахала ему на прощанье.
В тот день она ездила на автобусе в больницу к миссис Перкинс, которую все не выписывали, бедняжку. Миссис Уайтекер испекла для нее кекс с цукатами, но без орехов, от которых пришлось отказаться, поскольку зубы у миссис Перкинс были уже не те.
Вечером она немного посмотрела телевизор и рано легла спать.
Во вторник в дверь позвонил почтальон. Миссис Уайтекер как раз была наверху в кладовке, где медленно и тщательно, шаг за шагом, наводила порядок, и подойти не успела. Почтальон оставил записку, в которой говорилось, что он принес посылку, но никого не оказалось дома.
Миссис Уайтекер вздохнула.
Она положила записку в сумочку и отправилась на почту.
Посылка была от племянницы Ширеллы из Сиднея, Австралия. Она прислала фотографии своего мужа Уолласа и двух дочерей, Дикси и Вайолет, а также ракушку, обернутую в вату.
Миссис Уайтекер хранила много таких ракушек в своей спальне. На самой любимой красовался выполненный эмалью вид на Багамы. Это был подарок сестры Этель, умершей в 1983 году.
Она положила ракушку и фотографии в сумку, с которой ходила за покупками, и заглянула в «Оксфам»: все равно по пути.
– Здравствуйте, миссис У, – сказала Мэри.
Миссис Уайтекер уставилась на нее. Губы накрашены (возможно, не совсем подходящим оттенком и не очень ровно, но это, решила миссис Уайтекер, со временем придет), и в элегантной юбке. Большое достижение.
– А, здравствуйте, милочка, – ответила миссис Уайтекер.
– На прошлой неделе заходил тут один, спрашивал о той вещи, что вы купили. О металлической чашке. Я сказала ему, как вас найти. Надеюсь, вы ничего не имеете против?
– Нет, дорогуша, – сказала миссис Уайтекер. – И он меня нашел.
– Он такой необыкновенный! В самом деле необыкновенный, – шумно вздохнула Мэри. – В такого я могла бы влюбиться. И он был на большой белой лошади и все такое.
Она и спину прямее держит, с одобрением заметила миссис Уайтекер.
С книжной полки она взяла новый роман «Ее величественная страсть», хоть и не прочла еще два предыдущих, купленных в прошлый раз.
Взяла она и «Рыцарский роман, или Легенду о галантности» и даже его открыла. На нее пахнуло плесенью. На самом верху первой страницы красными чернилами было аккуратно написано: «EX LIBRIS Фишера».
Она поставила книгу на место.
Когда миссис Уайтекер вернулась домой, Галахад ее уже дожидался. Он катал на своем Гриззеле детишек вдоль по улице.
– Я рада, что вы здесь, – сказала она. – Мне как раз нужно кое-что передвинуть.
Она отвела его в чулан, где он переставил ей старые чемоданы, и теперь она могла без труда добраться до дальнего буфета.
Там было очень пыльно.
Почти до вечера он двигал с места на место вещи, а она убиралась.
На щеке у Галахада был шрам, а одна рука плохо сгибалась.
Они немного поговорили, пока она мела и терла. Миссис Уайтекер рассказала ему о своем покойном муже Генри; и как благодаря страховке удалось уплатить за дом; и вон сколько у нее вещей, а оставить некому, разве что Рональду и его жене, но они-то любят все современное. Она рассказала, как познакомилась с Генри во время войны, когда он был в отряде противовоздушной обороны, а она неплотно закрыла на кухне шторы; и о дешевых танцплощадках, куда они ходили; и как, когда война закончилась, поехали в Лондон, где она впервые попробовала вино.
Галахад рассказал ей о своей матери Элейне[9], более взбалмошной, чем это вообще возможно и к тому же отчасти ведьме; о дедушке, короле Пелесе[10], благородном, но немного рассеянном; о юности в замке Блиант на острове Радости; о своем отце, в известном смысле полном безумце, которого он знал как Рыцаря Печального Образа и который на самом деле был Ланселотом Озерным, величайшим из рыцарей, но скрывавшимся и выжившим из ума; и о том, как, будучи молодым оруженосцем, проводил свои дни в Камелоте.
В пять часов миссис Уайтекер, обозрев дела рук своих, решила, что они достойны одобрения; она открыла окно, чтобы проветрить, и они спустились на кухню, где она поставила чайник.
Галахад сел за стол.
Из кожаного кошелька на поясе он достал круглый белый камень размером с шарик для крикета.
– Это вам, моя леди, – сказал он, – в обмен на Святой Грааль.
Миссис Уайтекер взяла камень, который с виду не казался таким тяжелым, и поднесла его к свету. Он был молочного цвета, полупрозрачным, а внутри, в лучах предзакатного солнца, поблескивали серебряные искорки. Камень был теплым.
И покуда она его держала, ее охватило странное чувство. В глубине души она вдруг ощутила мир и покой. Безмятежность, пришло в голову верное слово; она была безмятежной.
Неохотно она положила камень обратно на стол.
– Очень красивый, – сказала она.
– Это Философский камень, который наш предок Ной повесил в Ковчеге, чтобы был свет, когда не было света; он способен превращать в золото низкие металлы; но у него есть и другие свойства, – торжественно объяснил Галахад. – И это не все. Есть еще кое-что. Вот.
Из кожаной сумы он достал яйцо и протянул ей. Размером с гусиное, оно было блестящего черного цвета с алыми и белыми пятнами. Когда миссис Уайтекер его коснулась, волосы у нее на затылке встали дыбом.
В первый момент она ощутила непереносимый жар и свободу. Она слышала потрескивание далеких огней, и на долю секунды словно воспарила над миром, поднимаясь и опускаясь на огненных крыльях.
Она положила яйцо на стол, рядом с Философским камнем.
– Это яйцо птицы Феникс, – сказал Галахад, – из далекой Аравии. В один прекрасный день из него вылупится птица Феникс; а когда настанет срок, птица совьет огненное гнездо, отложит в него яйцо и умрет, чтобы возродиться из пламени в другие времена.
– Я почему-то так и подумала, – сказала миссис Уайтекер.
– А в довершение ко всему, леди, – сказал Галахад, – я принес вам вот это.
Он достал из сумы и отдал ей яблоко, вырезанное из цельного рубина, и на янтарной подставке.
Не без волнения она взяла его в руки. Яблоко оказалось неожиданно мягким: пальцы оставили вмятину, а по руке побежала струйка рубинового сока.
Кухня наполнилась почти неощутимым, волшебным запахом летних фруктов, малины, и персиков, и земляники, и красной смородины. И словно из далекой дали она смутно слышала поющие голоса и музыку эфира.
– Это яблоко из сада Гесперид, – тихо сказал Галахад. – Вкусив от него, можно исцелиться от любой болезни или раны, сколь бы глубокой она ни была; снова вкусив, можно вернуть молодость и красоту; вкусив в третий раз, по слухам, можно обрести бессмертие.
Миссис Уайтекер слизнула с руки липкий сок. На вкус он был как тонкое вино.
На одно мгновение ей вдруг вспомнилось, каково это, быть молодой: когда у тебя упругое, стройное тело, которое тебе подвластно, и ты можешь неприлично скоро просто так мчаться по переулку, и когда при виде твоей радости и непосредственности тебе улыбаются встречные мужчины.
Миссис Уайтекер взглянула на сэра Галахада, самого красивого из рыцарей, который сидел на ее кухне, такой прекрасный и благородный.
Она перевела дух.
– Это все, что я вам принес, – сказал Галахад. – И мне не просто было их раздобыть.
Миссис Уайтекер положила на свой кухонный стол наливное яблоко. Она посмотрела на Философский камень, на Яйцо птицы Феникс, и на Яблоко Жизни.
Потом пошла к себе в гостиную и взглянула на каминную полку: на фарфоровую собачку, и на Святой Грааль, и на черно-белую фотографию покойного Генри, без рубахи, улыбающегося, с мороженым в руке, почти сорок лет тому назад.
И вернулась на кухню. Чайник уже засвистел. Ополоснув кипятком заварочный чайник, она положила в него две и еще одну чайную ложку заварки и залила водой. И все это не проронив ни слова.
Наконец повернулась к Галахаду.
– Заберите это яблоко, – твердо сказала она. – Вам не следует предлагать подобные вещи старым дамам. Так не годится. – Она немного помолчала. – Остальное я возьму. Они неплохо будут смотреться на каминной полке. Две вещи за одну, иначе я не согласна.
Галахад просиял. Он убрал рубиновое яблоко в суму, опустился на колено и поцеловал ей руку.
– Довольно, – сказала миссис Уайтекер.
Она налила им чаю в чашки из своего лучшего сервиза, который доставала по особым случаям.
Чай они пили в молчании.
А когда с ним было покончено, перешли в гостиную.
Галахад перекрестился и забрал Святой Грааль.
Миссис Уайтекер поставила на его место Яйцо и Камень. Яйцо немного кренилось на одну сторону, и его пришлось прислонить к фарфоровой собачке.
– Смотрятся очень мило, – сказала миссис Уайтекер.
– Да, – согласился Галахад. – Очень мило.
– Может, возьмете с собой чего-нибудь? – спросила она.
Он покачал головой.
– Хотите кекса? – предложила она. – Может статься, сейчас вы решите, что вам его совсем не хочется, а через несколько часов будете ему рады. И возможно, вам следует зайти в одно место. Давайте-ка, я вам его заверну.
Она проводила его до крохотной туалетной комнаты в конце коридора, а сама пошла на кухню со Святым Граалем в руках. В кладовке у нее осталось с Рождества немного оберточной бумаги, она завернула в нее Чашу и перевязала бечевкой. Потом отрезала большой кусок кекса с цукатами и орехами и положила его в коричневый бумажный пакет, вместе с бананом и ломтиком сыра в серебряной фольге.
Когда Галахад вышел, она передала ему бумажный пакет и Святой Грааль, а потом поднялась на цыпочки и поцеловала в щеку.
– Ты хороший мальчик, – сказала она. – Будь осторожен.
Он обнял ее, и она выпроводила его из дома и захлопнула дверь. Налила себе еще чашечку чая и тихо плакала в бумажный платочек, слушая цоканье копыт по Хоуторн Креснт.
В среду миссис Уайтекер никуда не выходила.
А в четверг отправилась на почту за пенсией. И на обратном пути зашла в «Оксфам».
Женщина за кассой была ей незнакома.
– А где Мэри? – спросила миссис Уайтекер.
Женщина с подкрашенными в синеву седыми волосами и в синих очках, на оправе которых посверкивали звездочки, покачала головой и пожала плечами.
– Сбежала с молодым человеком, на лошади. Хм. Я вас спрашиваю. Мне сегодня нужно быть в центре, в «Хасфилде». Меня сменит мой Джонни, пока мы найдем кого-нибудь еще.
– Ну, – сказала миссис Уайтекер, – это хорошо, что она нашла себе молодого человека.
– Ей-то, может, и хорошо, – сказала дама на кассе, – а кое-кому сегодня нужно быть в «Хасфилде».
На полке у задней стены миссис Уайтекер обнаружила старый, весь в пятнах, серебряный сосуд с длинным носиком. Приклеенный сбоку ценник свидетельствовал, что он оценен в шестьдесят пенсов. Сосуд был похож на гладкий, удлиненный заварочный чайник.
Она взяла еще один роман из серии издательства «Миллс энд Бун», который прежде не читала. Он назывался «Ее одинокая любовь». С книгой и серебряным сосудом подошла к кассе.
– Шестьдесят пять пенни, дорогуша, – сказала кассирша, взяв у нее из рук сосуд и разглядывая его. – Забавная старая вещица, не правда ли? Этим утром поступила. – На боку сосуда и ручке изящной вязью были выгравированы иероглифы. – Это, должно быть, соусник.
– Нет, не соусник, – сказала миссис Уайтекер, которая точно знала, что это такое. – Это лампа.
Коричневой бечевкой к ручке было привязано маленькое, ничем не примечательное медное колечко.
– Вообще-то, – сказала миссис Уайтекер, – я, пожалуй, возьму только книгу.
Она заплатила пять пенсов за роман и отнесла лампу на место, туда, где ее нашла. В конце концов, сказала себе миссис Уайтекер по дороге домой, мне было бы некуда ее поставить.
Убийственные тайны
Честерские мистерии, Сотворение Адама и Евы, 1461. Пер. Н. Эристави
- В ответ на то, о чем спросил,
- Четвертый ангел возгласил:
- «Я создан был, чтоб охранять
- Сей край от дерзости людей.
- Ведь человек Виной своей
- Презрел Господню Благодать.
- Итак, страшитесь! Или вас
- Сразит мой Меч в недобрый час».
То, что я сейчас расскажу, правда.
Десять лет назад, а может, годом раньше или позже, я вынужден был остановиться в Лос-Анджелесе на моем долгом пути домой. Дело было в декабре, а погода в Калифорнии была теплой и приятной. Зато Англия оказалась во власти туманов и метелей, и самолеты там не приземлялись. Каждый день я названивал в аэропорт, и каждый день мне предлагали еще денек подождать.
И так продолжалось почти неделю.
Мне только что перевалило за двадцать. Оглядываясь сегодня на всю мою жизнь, прошедшую с тех пор, я испытываю неловкость, как если бы получил от кого-то непрошеный подарок: дом, жену, детей, призвание. И честно говоря, все это не имеет ко мне никакого отношения. Если правда то, что каждые семь лет каждая клетка нашего тела умирает и замещается новой, значит, я и в самом деле унаследовал свою жизнь от другого, мертвого человека; а прегрешения тех дней прощены и похоронены вместе с ним.
Итак, я оставался в Лос-Анджелесе.
На шестой день я получил сообщение от давней как-бы-подружки из Сэттла: она тоже в Л. А. и узнала о том, что я в городе, по цепочке, от знакомых знакомых. Может, нам встретиться?
Я оставил сообщение на ее автоответчик. Конечно, буду рад.
В тот вечер, когда я вышел из отеля, ко мне подошла маленькая блондинка. Было уже темно.
Она уставилась на меня, словно мысленно сверяясь с чем-то, и наконец, неуверенно, произнесла мое имя.
– Да, это я. А вы подруга Тинк?
– Ну. Машина за углом, пшли. Она правда очень хочет вас видеть.
Это был огромный старый, похожий на лодку драндулет, какие можно встретить только в Калифорнии. В нем пахло потрескавшейся и осыпающейся кожаной обивкой. И мы выехали оттуда, где находились, туда, куда направлялись.
В те времена Лос-Анджелес был для меня совершенной загадкой; но и теперь я не могу сказать, что намного лучше его знаю. Я знаю Лондон, и Нью-Йорк, и Париж: по ним можно бродить, ощущая, чем они живут в этот день и час, можно проехаться на метро. Лос-Анджелес – город автомобилей. Тогда я вообще не водил машину; даже теперь я бы на машине по Америке не поехал. Воспоминания о Лос-Анджелесе связаны для меня с поездками в чьих-то машинах, без всякого представления об облике города, об отношениях между людьми и самим местом. Ровные дороги, постоянное повторение форм и объемов, а потому, когда пытаюсь вспомнить город в целом, мне вспоминается лишь бесконечное пространство маленьких огоньков, которое однажды ночью простерлось передо мной с холма в Гриффит-парке, во время моего первого пребывания в городе. Один из самых прекрасных видов, открывшихся мне с такого расстояния.
– Видите то здание? – спросила меня блондинка, подруга Тинк.
Это был дом в стиле арт-деко из красного кирпича, симпатичный и довольно уродливый.
– Да.
– Построен в тридцатые годы, – с уважением и гордостью сообщила она.
Я вежливо ответил, стараясь постичь город, для которого пятьдесят лет – это давняя история.
– Тинк как разволновалась. Когда узнала, что вы в городе. Так разволновалась.
– Я буду рад снова с ней повидаться.
Полное имя Тинк было Тинкербелл Ричмонд. Честно.
Она вместе с друзьями остановилась в небольшом местечке примерно в часе езды от центра Лос-Анджелеса.
Вот что вам следует знать о Тинк: она была на десять лет меня старше, то есть ей было чуть больше тридцати; у нее были блестящие черные волосы, красные пухлые губы и очень белая кожа, прямо как у Белоснежки; когда впервые ее увидел, я решил, что она самая прекрасная женщина на свете.
В какой-то момент Тинк ненадолго выскочила замуж, и у нее имелась пятилетняя дочь по имени Сьюзан. Я не видел Сьюзан, когда Тинк была в Англии, потому что та осталась в Сиэттле, у своего отца.
Как получилось, что женщина по имени Тинкербелл назвала свою дочь Сьюзан?..
Память – великая обманщица. Возможно, есть люди, чьи воспоминания словно записаны на магнитную ленту, где ежедневно фиксируется их жизнь во всех деталях, – я к таким не отношусь. Моя память – путаное нагромождение отрывочных фрагментов, сшитых на живую нитку: то, что я помню, я помню без изъятий, в то время как иные события и обстоятельства совершенно выпали из моей памяти.
Я не помню, как мы приехали к Тинк и куда исчезла ее подружка.
Зато помню, как сидел в гостиной с приглушенным светом рядом с ней на диване.
Мы о чем-то говорили. Прошел, должно быть, год с тех пор, как мы виделись. Но у мальчишки в двадцать один немного тем для разговора с тридцатидвухлетней женщиной, и вскоре, не придумав ничего лучшего, я притянул ее к себе.
Она с готовностью ко мне прижалась, коротко вздохнув и подставив губы для поцелуя. В полумраке они казались черными. Мы недолго целовались на диване, я гладил через блузку ее грудь, а потом она сказала:
– Мы не можем трахаться. У меня дела.
– Ну и ладно.
– Могу сделать минет, если хочешь.
Я согласно кивнул, она расстегнула мне джинсы и опустила голову на мое колено.
Когда я кончил, она вскочила и побежала на кухню. Я слышал, как она сплевывает в раковину и как шумит вода. Помню, я удивился: зачем делать минет, если так противен вкус спермы?
Потом она вернулась, и мы снова сели рядом.
– Сьюзан спит наверху, – сказала Тинк. – Она – все, что у меня есть. Хочешь на нее посмотреть?
– Я бы не возражал.
Мы поднялись наверх. Тинк провела меня в темную спальню. Все стены были увешены детскими рисунками, на которых восковыми мелками были изображены крылатые феи и крошечные дворцы, а в кроватке спала маленькая светловолосая девочка.
– Она очень красивая, – сказала Тинк и поцеловала меня. Ее губы были все еще немного липкими. – Она похожа на своего отца.
Мы спустились вниз. Нам больше не о чем было говорить и нечего было делать. Тинк зажгла верхний свет. И я впервые заметил «лапки» в уголках ее глаз, столь неподобающие для прекрасного личика куклы Барби.
– Я люблю тебя, – сказала она.
– Спасибо.
– Хочешь, отвезу тебя назад?
– Если ты не боишься оставить Сьюзан одну…
Она пожала плечами, и я притянул ее к себе в последний раз.
Ночью Лос-Анджелес – это сплошные огни. И тени.
Дальше в моей памяти пробел. Я совершенно не помню, как было дело. Очевидно, она довезла меня до отеля, в котором я остановился: как еще я мог до него добраться? Я даже не помню, поцеловал ли ее на прощанье. Не исключено, что просто стоял на тротуаре и смотрел ей вслед.
Не исключено.
Однако я точно помню, что когда добрался до отеля, я стоял там, будучи не в силах войти, принять душ и лечь спать, вообще не желая что бы то ни было делать.
Я не был голоден. Я не хотел выпить. Мне не хотелось ни почитать, ни поговорить. Я боялся уйти слишком далеко и потеряться, я путался в бесконечно повторяющихся темах города, раскинутых вокруг, как паутина, и вбирающих в себя так основательно, что я никогда не мог без посторонней помощи найти путь к своему отелю. Центр Лос-Анджелеса иногда представляется мне не чем иным, как шаблоном, составленным из одинаковых блоков: бензоколонка, несколько домов, мини-молл (пончики, изготовление фото, прачечная-автомат, фаст-фуд), и все это повторяется, как в гипнозе; а мелкие отличия в мини-моллах и домах лишь подчеркивают неизменность конструкции.
Вспомнив губы Тинк, я пошарил в кармане пиджака и достал пачку сигарет.
Прикурив, выпустил синее облачко в теплый ночной воздух.
Неподалеку от отеля росла чахлая пальма, и я решился, держа ее в поле зрения, немного пройтись, выкурить сигарету, может, даже поразмышлять; но для последнего я был слишком опустошен. Я чувствовал себя совсем бесполым и одиноким.
Примерно в квартале от пальмы была скамейка, и дойдя до нее, я сел. Швырнув окурок на асфальт, смотрел, как он вспыхивал оранжевыми искорками.
Кто-то сказал:
– Я бы купил у тебя сигарету, приятель. Держи.
Перед моим лицом появилась рука с монетой в двадцать пять центов. Я поднял голову.
Он не выглядел старым, хотя я не смог бы сказать, сколько ему лет. Возможно, около сорока. Или лет сорок пять. На нем было долгополое потертое пальто, цвет которого растворился в желтом свете уличного фонаря, а глаза у него были темными.
– Держи. Четвертак. Хорошая цена.
Я покачал головой, достал из кармана пачку «Мальборо» и предложил ему сигарету:
– Уберите свои деньги. Это бесплатно. Угощайтесь.
Он взял сигарету. Я передал ему коробок спичек (с рекламой секса по телефону, мне это запомнилось), и он прикурил. Протянул мне спички, но я покачал головой:
– Оставьте себе. У меня здесь, в Америке, скапливаются целые груды спичечных коробков.
– Угу.
Он сел рядом и затянулся. Когда докурил до середины, сбил огонек о бетон, затушил, а бычок заложил за ухо.
– Я много не курю, – сказал он. – Но жаль выбрасывать.
По улице пронесся автомобиль, виляя из стороны в сторону. В нем сидели четверо молодых людей; те, что впереди, оба крутили баранку и смеялись. Стекла на окнах были опущены, и я мог слышать смех и выкрики тех, кто сидел сзади («Га-а-ари, ну ты, жопа! Какого ххххрена… о-о-о… твою…)», – и пульсирующий ритм рока. Я не смог определить, что это была за песня. Машина, сделав петлю, исчезла за поворотом.
Вместе с ними пропали и звуки.
– Я твой должник, – сказал человек на скамейке.
– Простите?
– Я должен тебе. За сигарету. И за спички. И денег ты не взял. Я твой должник.
Я смущенно пожал плечами.
– Но это же просто сигарета. Мне кажется, если угощать людей сигаретой, то когда вдруг у самого не будет, может, кто-то тоже угостит. – И я засмеялся, чтобы показать, что это почти шутка, хоть я и не шутил. – Так что не беспокойтесь.
– М-м-м. Хочешь, расскажу историю? Правдивую историю. Прежде истории были хорошей платой. Но в наше время… – Он слегка пожал плечами.
Откинувшись, я сидел на скамейке, ночь была теплой; я посмотрел на часы: было около часа ночи. В Англии уже занимался холодный новый день, будний день для тех, кто, утрамбовывая снег, торопится на работу; еще несколько стариков и бездомных, должно быть, умерли этой ночью от холода.
– Конечно, – ответил я. – Расскажите.
Он покашлял, показал в улыбке белые зубы, сверкнувшие в темноте, и начал:
– Первое, что я помню, было Слово. И Слово было Богом. Иногда, когда мне действительно очень плохо, я вспоминаю, как Слово звучало в моей голове, наделяя меня образом, придавая мне форму, даруя жизнь.
Слово дало мне и тело, и глаза. А когда открыл глаза, я увидел огни Серебряного города.
Это случилось в комнате, серебряной комнате, в которой никого не было, кроме меня. Передо мной было окно, от пола до потолка, открытое в небо, и в окно я мог видеть башни Города, а на его окраине – Тьму.
Не знаю, как долго я там ждал. Но нетерпения вовсе не испытывал. Я это помню. Я как будто ждал, что меня призовут; и знал, что однажды так и случится. А если бы до конца времен меня так и не призвали, что ж, это тоже было бы хорошо. Но меня должны были призвать, я был в том уверен. И тогда я узнал бы свои имя и предназначение.
В окно я видел серебряные башни, и во многих из них были окна; а в тех окнах я мог видеть таких же, как я. Так я узнал, как я выгляжу.
Вы никогда не подумаете, глядя на меня, но я был тогда прекрасен. С тех пор как я спустился в мир, прошло очень много времени.
А тогда я был выше, и у меня были крылья.
Огромные мощные крылья с перьями цвета перламутра. Они росли у меня меж лопаток. Они были так хороши, мои крылья!
Порой я видел, как такие же, как я, покидали кельи и отправлялись по своим делам. Я видел, как они парили в небе, перелетали от башни к башне, выполняя задания, какие я едва мог себе представить.
Небо над Городом было прекрасным. Оно было светлым, хотя и без солнца, возможно, свет исходил от самого Города; и свет этот постоянно менялся. То он был цвета олова, то латуни, то мягким золотистым, то спокойным аметистовым…
Он замолчал. Посмотрел на меня, наклонив голову. В его глазах что-то мелькнуло, и я вдруг почувствовал страх.
– Вы знаете, что такое аметист? Такой фиолетовый камень?
Я кивнул.
Под ложечкой у меня засосало.
Мне вдруг пришло в голову, что человек этот вовсе не сумасшедший; и это встревожило меня гораздо сильнее.
Между тем он вновь заговорил.
– Не знаю, как долго я ждал в моей келье. Но время ничего не значило. Во всяком случае тогда. Мы обладали всем временем этого мира.
Следующее важное событие – это когда мне явился ангел Люцифер. Он был выше меня ростом, крылья у него были огромными, а оперение безупречным. У него была кожа цвета морского тумана, волнистые серебряные волосы и прекрасные серые глаза…
Я называю его «он», но вы должны понимать, что никто из нас не обладал полом в буквальном смысле слова. – Он указал на свой пах. – Там гладко и пусто. Ничего. Сами понимаете.
Люцифер светился. То есть излучал свет, как все ангелы. Они все светятся изнутри, а в моей келье ангел Люцифер сиял, как разряд молнии.
Он взглянул на меня. И дал мне имя.
«Ты Рагуил, – сказал он. – Возмездие Господа»[11].
Я склонил голову, потому что знал, что это правда. Так меня звали. И таково было мое предназначение.
«Случилась… несправедливость, – сказал он. – Нечто из ряда вон. Ты призван».
Он повернулся и взмыл в пустоту, а я последовал за ним, и так мы летели через весь Серебряный город до его окраин, где пролегают границы Города и начинается Тьма; и там, у большой серебряной башни, опустились на улицу, и я увидел мертвого ангела.
На серебряном тротуаре, расплющенное и переломанное, лежало тело. Было видно, что крылья у мертвого ангела тоже изломаны, а несколько перьев уже отнесло ветром в серебряную сточную канаву.
Тело было почти черным. Время от времени в нем еще вспыхивал свет: случайные всполохи холодного огня в груди, глазах или бесполом паху – как последние вспышки навсегда уходящей жизни.
Кровь рубинами сверкала на его груди, а белое оперение крыльев стало алым. Даже в смерти он был прекрасен.
Это зрелище разбило бы любое сердце.
Люцифер заговорил со мной:
«Тебе предстоит определить, кто и как должен за это ответить; и обрушить Возмездие Имени на голову того, из-за кого это случилось, кто бы то ни был».
Но ему не было необходимости это говорить. Я все это знал. Поиск и возмездие: для того я был создан от Начала времен; всем этим я и был.
«Меня ждет работа», – сказал ангел Люцифер.
Он с усилием взмахнул крыльями и поднялся ввысь; порыв ветра подхватил упавшие с мертвого ангела перья и разметал по улице.
Я наклонился, чтобы осмотреть тело. Свечение от него уже не исходило. Теперь это была лишь темная плоть, пародия на ангела. У него было совершенное, бесполое лицо, обрамленное серебряными волосами. Одно веко не было опущено, и я увидел безмятежный серый глаз; другой был закрыт. На груди у него не было сосков, а меж ног все было гладко.
Я поднял тело.
Спина – кровавое месиво. Крылья изломаны и перебиты, затылок разможжен; тело оказалось неожиданно гибким, из чего я заключил, что позвоночник тоже сломан. И вся спина была в крови.
А спереди кровь была только на груди. Я тронул ее указательным пальцем, и он беспрепятственно вошел в тело.
«Да, он упал, – подумал я. – Но умер-то он раньше, чем упал».
И посмотрел вверх, на окна, выходившие на улицу. И на весь Серебряный город. «Кто-то из них это сделал, – думал я. – Я найду его, кто бы он ни был. И направлю на него Господню кару».
Человек достал из-за уха окурок, чиркнул спичкой. На меня едко и остро пахнуло запахом мертвой сигареты; потом огонек дошел до табака, и в ночной воздух выплыло облачко синего дыма.
– Ангела, который первым обнаружил тело, звали Фануэл[12]. Я говорил с ним в Зале Бытия. Это башня, возле которой лежал мертвый ангел. В зале висели… висели планы, очевидно, того, каким могло быть… это все. – Рукой с окурком он сделал жест, вобравший в себя ночное небо, и припаркованные автомобили, и вообще весь мир. – Короче, вселенная.
Фануэл был главным проектировщиком, под его началом множество ангелов прорабатывали детали Творения. Я наблюдал за ним снизу. Он висел в воздухе под Планом, а ангелы слетались к нему и терпеливо ожидали своей очереди задать вопрос, кое-что сверить, получить оценку своей работе. Наконец он оставил ангелов и опустился на пол.
«Ты Рагуил, – сказал он. Голос у него был высокий и беспокойный. – Что привело тебя ко мне?»
«Это ведь ты нашел тело?»
«Бедняги Каразэла? Так и есть. Я как раз покидал Зал, где мы теперь осуществляем целый ряд проектов, и мне захотелось поразмышлять над одним из них под названием Сожаление. Я собирался немного удалиться от Города, то есть подняться над ним, не залетая во внешнюю Тьму, я ни за что бы этого не сделал, хотя такие разговоры и ходят… то есть да. Я собирался подняться и посозерцать.
Я вылетел из Зала и… – Он замолчал. Он был мелковат для ангела. И свет его был приглушенным, зато глаза живыми и яркими. На самом деле яркими. – Бедный Каразэл. Как мог он так с собой поступить? Как?»
«Ты полагаешь, он сам себя уничтожил?»
Казалось, его удивило, что может быть иное объяснение.
«Ну конечно. Каразэл работал под моим началом, он отвечал за целый ряд понятий, которые должны быть присущи вселенной, когда ее Имя будет Названо. Его группа замечательно поработала над некоторыми базовыми представлениями, над Пространством и Сном, например. Но были и другие.
Прекрасная работа! Некоторые его предположения относительно использования личных точек зрения для описания пространств воистину оригинальны.
Во всяком случае, он начал работу над новым проектом. Это одно из основных понятий, которые всегда были интересны не только мне, но, кажется, даже Зефкиэлу. – Он указал глазами вверх. – Но Каразэл безукоризненно делал свою работу. А его последний проект был так хорош! В этом есть что-то тривиальное – в том, что они с Саракаэлом поднялись в… – Он пожал плечами. – Но это неважно. Именно эта работа сподвигла его на несуществование. Правда, ни один из нас не смог бы предвидеть…»
«Так над чем он работал в последнее время?»
Фануэл посмотрел на меня в упор.
«Не уверен, что могу об этом говорить. Все новые разработки считаются чувственными, пока мы не находим для них окончательную форму, в которой они станут Изреченными».
Я ощутил, что со мной что-то происходит. Не знаю, как вам объяснить, но внезапно я перестал быть собой, а стал чем-то бо́льшим. Я изменился: я стал своим предназначением.
Фануэл не мог смотреть мне в глаза.
«Я Рагуил, Возмездие Господне, – сказал я. – Я служу непосредственно Имени. Мне поручено раскрыть причину этого происшествия и возложить кару Господню на ответственных. На мои вопросы надлежит отвечать».
Маленький ангел задрожал и быстро заговорил:
«Каразэл и его напарник исследовали Смерть. Прекращение жизни. Окончание физического, одушевленного существования. Они пытались все это соединить. Но Каразэл в своей работе всегда заходил слишком далеко, у нас были ужасные времена, когда он разрабатывал Беспокойство. Он тогда занимался Эмоциями…
«Ты полагаешь, Каразэл умер потому, что хотел исследовать этот феномен?»
«Или потому, что был заинтригован. А может, потому, что просто зашел слишком далеко. Да. – Фануэл, ломая пальцы, вперил в меня свой яркий светящийся взгляд. – Я не сомневаюсь, что ничего из сказанного ты не сообщишь тем, кому не надлежит это знать, Рагуил».
«Что ты сделал, когда обнаружил тело?»
«Я уже говорил, я вышел из Зала и увидел, что на тротуаре лежит Каразэл, глядя вверх. Я спросил его, что он делает, но он не ответил. Тогда я заметил внутреннюю жидкость и понял, что Каразэл скорее не может, чем не хочет со мной говорить.
Я испугался. Не знал, что делать.
Сзади ко мне подошел ангел Люцифер. Он спросил, не возникло ли каких проблем. Я обо всем ему рассказал. И показал тело. И тогда… тогда он принял свой Образ и причастился Имени. Он так ярко горел!
А потом он сказал, что должен отправиться за тем, чье предназначение разбираться в подобных вещах, и улетел, как я понимаю, за тобой.
Поскольку смертью Каразэла теперь занимались, и я уже не имел отношения к его судьбе, я вернулся к работе, обнаружив новый и, как я подозреваю, довольно ценный подход к механизму Сожаления.
Я собираюсь забрать Смерть у тех, кто работал с Каразэлом и Саракаэлом. И могу передать ее Зефкиэлу, моему старшему партнеру, если он захочет этим заняться. Он особенно хорош в умозрительных проектах».
К тому моменту собралась уже целая очередь ангелов, желавших говорить с Фануэлом. Я чувствовал, что узнал у него почти все.
«С кем работал Каразэл? Кто мог быть последним, видевшим его в живых?»
«Мне кажется, тебе следует поговорить с Саракаэлом, в конце концов он был его партнером. Ну а теперь прошу меня извинить…»
Он вернулся к рою своих помощников: советовать, исправлять, предлагать, запрещать.
Человек помолчал.
Теперь улица была тиха; я помню его негромкий шепот и стрекот сверчка. Небольшое животное, возможно, кошка, а может, более экзотический енот или даже шакал, перебегало из тени в тень среди припаркованных автомобилей на другой стороне улицы.
– Саракаэл был в самой высокой галерее, опоясывавшей Зал Бытия. Как я сказал, вселенная располагалась посередине зала, и она мерцала, и искрилась, и сияла. Добраться до галереи было не так-то просто…
– Вселенная, о которой вы упомянули, это что, диаграмма? – спросил я, впервые его прервав.
– Не совсем. В каком-то смысле. Вроде того. Это макет в полную величину, и он висел в Зале; и все эти ангелы сновали вокруг и что-то с ним делали. Всякие вещи, связанные с Гравитацией, и Музыкой, и Ясностью, и прочим. Это еще была не вселенная, нет. Но она станет ею, когда будет закончена работа и придет время дать ей истинное Имя.
– Но… – Мне не хватало слов, чтобы выразить мое смущение.
Мой собеседник прервал меня:
– Об этом не беспокойтесь. Думайте о ней как о модели, если вам так проще. Или о карте. Или – как это? – опытном образце. Ну да. Модель «Т-Форд»-универсал. – Он усмехнулся. – Вы должны понять, многое из того, что я рассказываю, я уже перевел, облек в форму, которая для вас доступна. В противном случае я вообще не смог бы ничего рассказать. Хотите, чтобы я продолжил?
– Да. – Для меня не имело значения, правдива она или нет; мне необходимо было дослушать историю до конца.
– Хорошо. Тогда молчите и слушайте.
Итак, я встретился с Саракаэлом в верхней галерее. Вокруг не было больше никого, только он, какие-то бумаги и несколько маленьких светящихся моделей.
«Я насчет Каразэла», – сказал я.
Он взглянул на меня.
«Каразэла сейчас здесь нет, но он должен вскоре возвратиться».
Я покачал головой.
«Каразэл не вернется. Он прекратил свое существование как духовная сущность», – сказал я.
Его свет побледнел, а глаза широко раскрылись:
«Он мертв?»
«Именно это я и сказал. Есть ли у тебя предположения относительно того, как это случилось?»
«Я… это так неожиданно. Я хочу сказать, он говорил о… но мне и в голову не приходило, что…»
«Тогда давай по порядку».
Саракаэл кивнул.
Он встал и подошел к окну. Из этого окна не открывался вид на Серебряный город, но был виден лишь его отраженный свет и парившее в воздухе небо, а под ним – Тьма. Ветер, прилетавший из Тьмы, мягко ласкал волосы Саракаэла, когда он говорил. Я уперся взглядом в его спину.
«Каразэл… был… Так теперь следует говорить? Был. Он всегда был таким увлекающимся. И таким креативным. Но ему всего было мало. Он вечно стремился все понять, испытать то, над чем работал. Он никогда не довольствовался простым созданием и чисто интеллектуальным пониманием. Он все хотел объять.
Прежде в том не было проблемы, когда мы работали над свойствами материи. Но когда мы начали разрабатывать некоторые из Именованных эмоций… он чересчур увлекся этой работой.
Самым последним нашим проектом была Смерть. Одна из сложнейших и, как я полагаю, крупнейших разработок. Она даже могла стать неотъемлемым признаком, с помощью которого можно определять Творение для Тварных: если бы не Смерть, они довольствовались бы просто существованием, но со Смертью, ну, в общем, их жизням обозначен предел, помимо которого существование оказывается невозможным…»
«Так ты думаешь, он сам себя убил?»
«Я не думаю, я знаю», – сказал Саракаэл.
Я подошел к окну и выглянул наружу. Далеко внизу, очень далеко, я различил крошечное белое пятнышко. Это было тело Каразэла. Мне следовало поручить кому-то позаботиться о нем. Я подумал, что с ним надо бы что-то сделать; но должен быть кто-то, кому это известно, чье назначение – устранение нежелательных объектов. Ко мне это отношения не имело. Я это знал.
«Откуда?»
Он пожал плечами.
«Просто знаю. В последнее время он много задавал вопросов… вопросов о Смерти. Как можем мы быть уверены, что следует делать, как можем устанавливать правила, если не собираемся испытать это на себе. Он постоянно об этом говорил».
«А у тебя таких вопросов не возникало?»
Саракаэл впервые обернулся и посмотрел на меня.
«Нет. Это наше назначение, обсуждать, импровизировать, помогать Творению и Тварным. Мы тщательно вникаем во все детали, чтобы с самого Начала все работало как часы. В данный момент мы занимаемся Смертью. И ничего удивительного, что мы сосредоточились на ней. Физический аспект, эмоциональный, философский…
А еще образцы. Каразэл считал: от того, что мы делаем в Зале Бытия, остаются образцы. Существуют структуры и формы, соответствующие существам и событиям, которые, однажды начавшись, должны продолжаться до тех пор, пока не достигнут завершения. Возможно, для нас это так же непреложно, как и для них. Очевидно, он ощущал это как одну из своих структур».
«Ты хорошо его знал?»
«Так же хорошо, как каждый из нас знает другого. Мы виделись здесь, работали бок о бок. Время от времени я удалялся в свою келью на другом конце Города. Иногда он делал то же самое».
«Расскажи мне о Фануэле».
Его губы скривились в улыбке.
«Он чинуша. Не особо заморачивается, раздает задания и присваивает себе результат. – Он понизил голос, хотя в галерее больше не было ни души. – Если его послушать, можно подумать, что Любовь – целиком его заслуга. Но надо отдать ему должное, он умеет сделать так, чтобы работа спорилась. Из двух старших проектировщиков все идеи принадлежат Зефкиэлу, истинному мыслителю, но он здесь не бывает. Он сидит в своей келье в Городе и созерцает; решает проблемы на расстоянии. Если тебе нужно поговорить с Зефкиэлом, обратись к Фануэлу, и Фануэл передаст ему твои вопросы…»
Я его прервал.
«А что Люцифер? Расскажи мне о нем».
«Люцифер? Глава Воинства? Здесь он не работает… Пару раз посещал Зал, в ходе инспекции Творения. Говорят, он докладывает непосредственно Имени. Я никогда с ним не беседовал».
«Он был знаком с Каразэлом?»
«Сомневаюсь. Как я говорил, он был здесь лишь дважды. Правда, я видел его не только здесь. В окно. – Кончиком крыла он указал на мир за окном. – Он пролетал мимо».
«И куда он направлялся?»
Саракаэл как будто собирался что-то сказать, но передумал.
«Я не знаю».
Я поглядел в окно на Тьму за пределами Серебряного города.
«Возможно, мне захочется поговорить с тобой позднее», – сказал я Саракаэлу.
«Очень хорошо. – Я повернулся, чтобы уйти. – Господин! Ты не знаешь, дадут мне другого партнера? Для Смерти».
«Нет, – ответил я. – Боюсь, что нет».
В центре Серебряного города был парк, место для рекреации и отдыха. Там, у реки, я нашел ангела Люцифера. Он просто стоял и смотрел, как бежит вода.
«Люцифер!»
Он наклонил голову.
«Рагуил. Есть новости?»
«Не знаю. Возможно. Мне необходимо задать тебе несколько вопросов. Не возражаешь?»
«Ничуть».
«Как ты обнаружил тело?»
«Я его не обнаруживал. То есть обнаружил не я. Я увидел Фануэла, застывшего посреди улицы. Он выглядел расстроенным. Я спросил, не случилось ли чего, и он указал мне на мертвого ангела. И я отправился за тобой».
«Ясно».
Он наклонился, опустил руку в холодный поток. Вода бурлила и плескалась вокруг его руки.
«Это все?»
«Не совсем. Что ты делал в этой части города?»
«Не понимаю, какое тебе до этого дело».
«Мне есть до этого дело, Люцифер. Так почему ты здесь находился?»
«Я… я гулял. Иногда я прогуливаюсь. Просто хожу и думаю. И пытаюсь понять». – Он пожал плечами.
«Ты гуляешь вдоль пределов Города?»
Пауза, затем:
«Да».
«Это все, что я хотел спросить. На данный момент».
«С кем еще ты говорил?»
«С начальником Каразэла и его партнером. Им обоим кажется, что он убил себя, покончил с собственной жизнью».
«А с кем еще собираешься говорить?»
Я взглянул наверх. Нас окружали башни Серебряного города.
«Возможно, с каждым».
«Со всеми ангелами?»
«Если понадобится. Это мое предназначение. Я не успокоюсь, пока не пойму, что случилось, и пока Кара Имени не падет на того, кто за это ответствен. Но могу сказать тебе то, что знаю наверняка».
«И что же?»
Капли воды, сверкая как бриллианты, падали с совершенных пальцев ангела Люцифера.
«Каразэл себя не убивал».
«Откуда тебе известно?»
«Я есть Возмездие. Если бы Каразэл умер от собственной руки, – пояснил я начальнику Небесного Воинства, – меня бы не призвали. Разве не так?»
Он не ответил.
И я вознесся вверх, к свету вечного утра.
У вас не будет еще сигаретки?
Я вынул из кармана красно-белую пачку, протянул ему.
– Благодарю.
Келья у Зефкиэла была больше, чем моя.
Это не было место ожидания. Это было место для жизни и работы, для существования. Там были полки с книгами, и свитки, и бумаги, а стены были увешены образами и презентациями: картинами. Никогда прежде я не видел картин.
В центре комнаты был большой стул, и Зефкиэл сидел на нем с закрытыми глазами и откинутой назад головой.
Когда я приблизился, он открыл глаза.
Светились они не ярче, чем глаза других ангелов, которых я встречал, и все же они словно больше повидали. Это заметно было по тому, как он смотрел. Не уверен, что смогу это объяснить. И у него не было крыльев.
«Добро пожаловать, Рагуил», – сказал он. Голос его звучал устало.
«Ты Зефкиэл?»
Не знаю, почему задал этот вопрос. Ведь я и так все знал. Должно быть, отчасти в этом мое предназначение. Знать. Я ведь знаю, кто вы.
«Ну да. Что ты так смотришь, Рагуил? Да, у меня нет крыльев, но ведь и мое предназначение не предусматривает того, чтобы я покидал свою келью. Я сижу здесь и размышляю. Фануэл отчитывается передо мной, приносит на мой суд новые разработки. Он посвящает меня в проблемы, а я их обдумываю, и в конце концов приношу пользу, высказывая некоторые незначительные предположения. В этом мое предназначение. Как твое – в возмездии».
«Да».
«Ты здесь в связи со смертью ангела Каразэла?»
«Да».
«Я его не убивал».
Когда он так сказал, я знал, что это правда.
«Тебе известно, кто это сделал?»
«Это ведь твое предназначение, не так ли? Найти, кто убил беднягу, и подвергнуть его Каре Имени».
«Да».
Он кивнул.
«Что ты хочешь знать?»
Я помолчал, обдумывая все то, что в тот день услышал.
«Тебе известно, что делал Люцифер в этой части Города, прежде чем было обнаружено тело?»
Старый ангел смотрел на меня в упор.
«Могу лишь догадываться».
«И что же?»
«Он прогуливался во Тьме».
Я кивнул. Теперь в моей голове что-то сложилось. Что-то, что я вот-вот мог ухватить. Я задал последний вопрос:
«Что ты можешь сказать мне о Любви?»
И он сказал. И я понял, что у меня все это было.
Я вернулся к месту, где лежал Каразэл. Останки были убраны, следы крови смыты, а разметанные ветром перья собраны. На серебряном тротуаре не осталось никаких следов, которые бы указывали, что здесь было его тело. Но я знал, где оно лежало.
Я расправил крылья и полетел вверх, пока не добрался до вершины башни Зала Бытия. Там было окно, в которое я и вошел.
Саракаэл работал, он поместил в маленькую коробочку бескрылого пигмея. На одной стороне коробки была картинка крошечного коричневого существа с восемью ногами. На другой – бутон белого цветка.
«Саракаэл!»
«Мм? А, это ты. Привет. Посмотри-ка. Если ты должен умирать и жить, скажем так, запертый на земле как в коробке, что бы ты хотел, чтобы лежало сверху, вот здесь, паук или лилия?»
«Наверное, лилия».
«Да, я тоже так думаю. Но почему? Я хочу… – Он поднял руку к подбородку, уставясь на две модели, положил одну из них на коробку, потом другую, экспериментируя. – Так много нужно сделать, Рагуил. Столь во многом разобраться. А у нас всего один шанс, как ты знаешь. И будет лишь одна вселенная, которую мы не можем использовать, пока все в ней не наладим. Мне хочется понять, почему все это было так важно для Него…»
«Известно ли тебе, где находится келья Зефкиэла?» – спросил я.
«Да. То есть я никогда там не был. Но я знаю, где она».
«Хорошо. Лети туда. Тебя он тоже ждет. Встретимся у него».
Он покачал головой.
«У меня работа. Я не могу просто…»
На меня вновь снизошло мое предназначение. Я посмотрел на него сверху вниз и сказал:
«Ты летишь туда. Прямо сейчас».
Он ничего не ответил. Отступил к окну, не сводя с меня глаз; потом повернулся, взмахнул крыльями, и я остался один.
Я направился к главному колодцу Зала и, упав в него, кувыркаясь, полетел через модель вселенной; она поблескивала вокруг, неизвестные мне цвета и формы бурлили и корчились без всякого смысла.
Достигнув самого низа, я расправил крылья, замедляя снижение, и мягко приземлился на серебряный пол. Фануэл стоял между двух ангелов, а те наперебой задавали ему вопросы.
«Меня не заботит, насколько это эстетически оправданно, – объяснял он одному ангелу. – Мы просто не можем поместить это в центре. Фоновое излучение воспрепятствует даже зарождению любых форм жизни; к тому же оно слишком нестабильно».
Он повернулся к другому ангелу.
«Ладно, давай посмотрим. Хм. Значит, оно Зеленое, не так ли? Однако получилось не совсем то, что я себе представлял. Мм. Оставь это мне. Я к тебе подойду. – Он взял у ангела бумагу, решительно свернул ее и повернулся ко мне. Вид у него был бесцеремонный и пренебрежительный. – Да?»
«Мне нужно с тобой поговорить».
«Мм? Ладно, только в темпе. Очень много работы. Если по поводу смерти Каразэла, то я тебе уже сказал все, что знал».
«Да, по поводу его смерти. Но сейчас я не стану с тобой говорить. Не здесь. Отправляйся к Зефкиэлу: он ждет. Там и встретимся».
Он, кажется, хотел что-то сказать, но только кивнул и направился к двери.
Я собирался было уходить, но кое-что пришло мне в голову. Я остановил ангела с Зеленым.
«Скажи-ка мне одну вещь».
«Если смогу, господин».
«Вот это. – Я указал на вселенную. – Для чего это предназначено?»
«Для чего? Ну как, это же вселенная».
«Я знаю, как это называют. Но какой цели она служит?»
Он нахмурился.
«Это часть плана. Так пожелало Имя; Оно требует, чтобы вселенная была такой-то и такой-то, таких-то размеров и обладала такими-то свойствами и составляющими. Нашим предназначением является довести проект до бытия, согласно Его пожеланиям. Я уверен, Ему известно предназначение вселенной, но этого Он мне не открыл», – в его голосе слышался нежный упрек.
Я кивнул и покинул это место.
Высоко над городом группа ангелов вертелась и кружилась и пикировала. Каждый держал огненный меч, от которого исходил яркий пылающий луч, слепивший глаза. Они двигались синхронно в лососево-розовом небе. Они были так прекрасны. Вы наверняка наблюдали, как летними вечерами в небе танцуют стаи птиц. Когда они сплетаются и кружат, и собираются в группки, и снова распадаются, и вам вдруг кажется, вы понимаете, что это значит, но нет, это не так, вы не понимаете и никогда не поймете. Здесь было так же, только еще прекраснее.
Надо мной было небо. Подо мной сияющий Город. Мой дом. А за Городом была Тьма.
Чуть ниже Воинства парил Люцифер, наблюдая за их маневрами.
«Люцифер!»
«Да, Рагуил! Нашел ты преступника?»
«Думаю, да. Не проводишь меня до кельи Зефкиэла? Остальные собрались там и ждут нас, а я как раз все объясню».
После паузы он ответил:
«Конечно».
Он поднял свое совершенное лицо к ангелам, выполнявшим медленное вращение, при этом каждый в движении сохранял совершенное расстояние от другого, так что никто никого не касался.
«Азазел!»
Ангел вылетел из круга; другие выровнялись, так что его исчезновение было почти незаметно, и так быстро заполнили образовавшуюся пустоту, что уже невозможно было определить, где он только что был.
«Мне придется удалиться. Командование оставляю на тебя, Азазел. Продолжайте тренировку. Им есть еще в чем совершенствоваться».
«Да, господин».
И Азазел занял место Люцифера, наблюдая за группой ангелов, а мы с Люцифером спустились в Город.
«Мой заместитель, – сказал Люцифер. – Яркий. Увлеченный. Готов следовать за тобой куда угодно».
«Для чего вы проводите эти учения?»
«На случай войны».
«С кем?»
«О чем ты?»
«С кем они собираются воевать? Кто, кроме нас, тут есть?»
Он взглянул на меня; глаза его были чисты и честны.
«Я не знаю. Но Он Именовал нас Своей армией. И мы будем совершенны. Для Него. Имя безошибочно, все-праведно и все-мудро, Рагуил. Иначе и быть не может, независимо от…» – Он прервался и отвел взгляд.
«Что ты хотел сказать?»
«Это не имеет значения».
«А-а».
Мы больше не говорили до самой кельи Зефкиэла.
Я глянул на часы, было почти три. По улице пронесся порыв холодного ветра, и я задрожал. Незнакомец заметил это и прервался.
– С вами все в порядке? – спросил он.
– Все хорошо. Прошу вас, продолжайте. Я захвачен рассказом.
Он кивнул.
– Они ждали нас в келье все трое: Фануэл, Саракаэл и Зефкиэл. Зефкиэл сидел на своем стуле. Люцифер занял место у окна.
Я вышел на середину кельи и начал:
«Благодарю всех вас, что пришли. Вам известно, кто я; известно мое предназначение. Я Возмездие Имени, орудие Господа. Я Рагуил.
Ангел Каразэл мертв. Мне поручено расследовать, почему он умер, кто его убил. Я это сделал. Итак, ангел Каразэл был проектировщиком в Зале Бытия. Очень хорошим проектировщиком, во всяком случае мне так сказали…
Люцифер. Скажи мне, что ты делал, прежде чем наткнулся на Фануэла и мертвое тело».
«Я говорил тебе вчера. Я прогуливался».
«Где ты прогуливался?»
«Не понимаю, какое это имеет отношение к твоему расследованию».
«Говори!»
Он замялся. Он был выше любого из нас, он был высок и горд.
«Что ж, хорошо. Я прогуливался во Тьме. Я так делаю уже некоторое время, прогуливаюсь во Тьме. Это позволяет мне получить представление о Городе со стороны. Я вижу, как он прекрасен и совершенен. Нет ничего более восхитительного, чем наш дом. Более законченного. Ничего иного, где бы кому-либо захотелось пребывать».
«И что ты делал во Тьме, Люцифер?»
Он вперил в меня взгляд.
«Гулял. И… Там, во Тьме, есть голоса. Я слышал голоса. Они обещали мне что-то, задавали вопросы, о чем-то шептали и умоляли. Но я их не слушал. Я закаляю себя и смотрю на Город. Это – единственная возможность мне себя проверить, подвергнуть себя испытанию. Я – Глава Воинства, первый среди ангелов, и я должен это чем-то подтверждать».
Я кивнул.
«Почему же ты не сказал мне это раньше?»
Он опустил глаза.
«Потому что я единственный ангел, который прогуливается во Тьме. И я не хочу, чтобы это делали другие: я достаточно силен, чтобы бросить вызов голосам и проверить себя. Другие же не столь сильны. Они могут оступиться и даже пасть».
«Благодарю, Люцифер. Это пока все. – Я повернулся к следующему ангелу. – Фануэл. Как долго ты присваивал себе труды Каразэла?»
Рот его раскрылся, но он не издал ни звука.
«Ну же?»
«Я… я никогда не присвою себе чужие заслуги».
«Но ты воспользовался его трудами по Любви?»
Он моргнул.
«Да. Это было».
«Не сочти за труд и объясни нам, что есть Любовь», – велел я.
Он неуверенно огляделся.
«Это есть чувство влечения и глубокой привязанности к другому существу, часто смешанное со страстью и желанием, потребность быть все время вместе. – Он говорил сухо, назидательно, словно доказывал математическую формулу. – Чувство, которое мы испытываем к Имени, к нашему Создателю… помимо прочего, есть Любовь. Любовь – это импульс, который может в равной мере воодушевить и разрушить. Мы… – Он помолчал и продолжил: – Мы очень этим гордимся».
Он говорил невнятно. Похоже, у него не было надежды, что мы ему поверим.
«Кто сделал большую часть работы по Любви? Нет, не отвечай. Прежде я спрошу об этом остальных. Зефкиэл! Когда Фануэл передал разработки по Любви на твое одобрение, кто, по его словам, отвечал за проект?»
Бескрылый ангел мягко улыбнулся:
«Он сказал мне, что это его проект».
«Благодарю тебя, господин. Итак, Саракаэл, чьим проектом была Любовь?»
«Моим. Моим и Каразэла. Скорее, больше его, чем моим, но мы работали вместе».
«Вы знали, что Фануэл претендовал на авторство?»
«…Да».
«И ничего не имели против?»
«Он… он обещал нам, что даст еще один хороший проект, и он целиком будет наш. Он обещал, что если мы никому не скажем, нам будут переданы более значимые проекты, и он сдержал слово. Он дал нам Смерть».
Я обернулся к Фануэлу.
«Итак?»
«Да, это правда, я утверждал, что Любовь – это моя разработка».
«А она была разработкой Каразэла и Саракаэла».
«Да».
«И это был их последний проект перед Смертью?»
«Да».
«У меня все».
Я подошел к окну, посмотрел на серебряные башни, на Тьму за Городом. И начал говорить.
«Каразэл был замечательным проектировщиком. И единственным его недостатком было то, что он слишком глубоко уходил в работу. – Я повернулся к ним лицом. Ангел Саракаэл дрожал, и под его кожей вспыхивали огоньки. – Саракаэл! Кого любил Каразэл? Кто был его возлюбленным?»
Он уперся взглядом в пол. Потом поднял глаза, вид у него был гордый и воинственный. И он улыбался.
«Я».
«Не хочешь об этом рассказать?»
«Нет. – Он пожал плечами. – Но, похоже, должен. Прекрасно, тогда слушайте.
Мы работали вместе. И когда начали работать над Любовью… мы стали любовниками. Это была его идея. Всякий раз, когда выдавалось время, мы удалялись в его келью. И там касались друг друга, обнимались, шептали всякие нежности и клятвы в вечной любви. Его настроение значило для меня больше, чем мое собственное. Я существовал ради него. Когда оставался один, я повторял его имя и мог думать лишь о нем. Когда же был с ним… – он запнулся и опустил глаза, – остальное не имело значения».
Я подошел к Саракаэлу, поднял его подбородок и заглянул в его серые глаза.
«Тогда почему ты убил его?»
«Потому что он меня разлюбил. Когда мы начали работать над Смертью, он… он утратил ко мне интерес. Он больше мне не принадлежал. Он принадлежал Смерти. И раз его уже не было со мной, почему ему было не отдаться своей новой любви. Я не мог выносить его присутствия, мне было нестерпимо видеть его рядом и знать, что он ничего ко мне не испытывает. Это ранило больнее всего. Я думал… я надеялся… что если он умрет, он станет мне безразличен, и боль уйдет вместе с ним.
Вот почему я убил. Я его ударил и выбросил тело из нашего окна в башне Зала Бытия. Но боль не прошла! – Саракаэл почти кричал. Он шагнул ко мне и убрал мою руку с подбородка. – И что теперь?»
Я почувствовал, как на меня нисходит мое предназначение, как оно овладевает мною. Я не был просто ангелом, я был Возмездием Господа.
Я тоже сделал шаг к Саракаэлу и обнял его. Я прижал мои губы к его губам, просунул язык к нему в рот. Мы поцеловались, и он закрыл глаза.
Я чувствовал, как во мне разгорается яркий огонь. Краем глаза я видел, как Люцифер и Фануэл заслонились от моего света; и еще я видел, как смотрел на меня Зефкиэл. А огонь мой становился все ярче и ярче, пока не прорвался из моих глаз, из моей груди, из моих пальцев, из моих губ: белый опаляющий огонь.
Белое пламя медленно поглотило Саракаэла, который, воспламенившись, цеплялся за меня.
Скоро от него ничего не осталось. Совсем ничего.
И огонь во мне угас. Я вновь стал самим собой.
Фануэл рыдал. Люцифер был бледен. Зефкиэл сидел на своем стуле и спокойно смотрел на меня.
Я повернулся к Фануэлу и Люциферу.
«Вы видели Возмездие Господне, – сказал я им. – Пусть это будет предостережением для вас обоих».
Фануэл кивнул.
«Да, конечно. O, я понимаю. Я… я вернулся бы к работе, господин. К своим основным обязанностям. Если ты не возражаешь».
«Иди».
Шатаясь, он подошел к окну и погрузился в свет, неистово махая крыльями.
Люцифер приблизился к тому месту на серебряном полу, где совсем недавно стоял Саракаэл. Он опустился на колени, печально глядя перед собой, словно пытался обнаружить останки ангела, которого я уничтожил, щепотку пепла, или частицу кости, или опаленное перо, но там совсем ничего не было. Тогда он поднял на меня глаза.
«Это неправильно, – сказал он. – И несправедливо».
Он плакал; слезы ручьями бежали по лицу. Возможно, Саракаэл первым из ангелов полюбил, зато Люцифер первым проливал слезы. Никогда этого не забуду.
Я бесстрастно смотрел на него.
«Это было справедливо. Он убийца. И потому тоже убит. Ты призвал меня исполнить мое предназначение, и я это сделал».
«Но… он ведь любил. Его нужно было простить. Ему нужно было помочь. Его не следовало вот так уничтожать. Это неправильно».
«На то была Его воля».
Люцифер замер.
«Тогда, наверное, Его воля неправедна. А голоса во Тьме говорят правду. Как может быть праведным такое?»
«Это правильно. На то Его воля. Я в точности исполнил мое предназначение».
Тыльной стороной ладони он вытер слезы.
«Нет, – спокойно сказал он. И медленно покачал головой. А потом добавил: – Я должен над этим подумать. И теперь я ухожу».
Он подошел к окну, шагнул в небо и исчез.
Мы с Зефкиэлом остались в келье одни. Я подошел к его стулу. Он кивнул.
«Ты исполнил свое предназначение, Рагуил. Не хочешь ли ты вернуться в свою келью и ждать, когда в тебе снова появится нужда?»
Человек на скамейке повернулся ко мне: глаза его искали мой взгляд. До той минуты мне казалось, что на протяжении своего рассказа он едва ли помнил обо мне; он смотрел прямо перед собой и не говорил, а шептал, почти без интонаций. И теперь было похоже, что он меня обнаружил и заговорил именно со мной, а не с ночным эфиром и не с Городом ангелов. И он сказал:
– Я знал, что он прав. Но я не мог тогда вернуться в келью, даже если бы захотел. Мой образ еще не вполне меня покинул, а мое предназначение было исполнено не до конца. И тут все встало на свои места; я увидел всю картину целиком. Как Люцифер, я встал на колени и коснулся лбом серебряного пола.
«Нет, Господи, – сказал я. – Не сейчас».
Зефкиэл поднялся со своего стула.
«Встань. Не годится одному ангелу так вести себя по отношению к другому. Это неправильно. Встань!»
Я покачал головой.
«Отец, ты ведь не ангел», – прошептал я.
Зефкиэл ничего не ответил. На мгновение сердце замерло у меня в груди. Я испугался.
«Отец, мне было поручено узнать, кто ответствен за смерть Каразэла. И я это знаю».
«Ты совершил свое Возмездие, Рагуил».
«Твое Возмездие, Господи».
И тогда он вздохнул и снова сел.
«Ах, мой маленький Рагуил. Проблема с творением заключается в том, что оно оказывается намного лучше, чем предполагалось. Следует ли мне спросить, как ты понял, что это я?»
«Я… даже не знаю, Господи. У тебя нет крыльев. Ты живешь в центре Города и непосредственно надзираешь за Творением. Когда я уничтожил Саракаэла, ты не отвел взгляд. Ты знаешь слишком много вещей. Ты… – Я помолчал, размышляя. – Нет, мне неведомо, как я тебя узнал. Ты сам говоришь, что хорошо меня создал. Только я понял, кто Ты, и понял значение разыгравшейся здесь драмы, когда увидел, как улетал Люцифер».
«И что же ты понял, дитя?»
«Кто убил Каразэла. То есть, по крайней мере, кто дергал за ниточки. Например, кто устроил так, что Каразэл и Саракаэл вместе работали над Любовью, зная, что Каразэл имеет обыкновение слишком глубоко погружаться в работу».
Он обратился ко мне нежно, словно полушутя, как взрослый стал бы говорить с маленьким ребенком:
«Зачем кому-то “дергать за ниточки”, Рагуил?»
«Но ничто ведь не случается безо всяких причин; и причины все в Тебе. Ты подставил Саракаэла. Да, он убил Каразэла, но он это сделал так, чтобы я мог уничтожить его».
«Но разве это было неправильно?»
Я заглянул в его старые-престарые глаза.
«Это было мое предназначение. Но я не думаю, что это было справедливо. Я думаю, возможно, так было необходимо: уничтожить Саракаэла, чтобы продемонстрировать Люциферу Несправедливость Господню».
И тогда он улыбнулся.
«И для чего же мне это потребовалось?»
«Я… я не знаю. Я понимаю это не больше, чем то, для чего Ты создал Тьму и голоса в ней. Но Ты ведь это сделал. Ты устроил так, что это произошло».
Он кивнул.
«Да. Это так. Люцифер должен тяготиться мыслью о неправедном уничтожении Саракаэла. И это, помимо прочего, ускорит некоторые его поступки. Бедный милый Люцифер. Из всех моих чад его путь будет самым тяжким; ибо он призван сыграть некую роль в предстоящей драме, и эта роль будет грандиозной».
Я все еще стоял на коленях перед Творцом Всего Сущего.
«Что ты теперь будешь делать, Рагуил?» – спросил он.
«Я должен вернуться в свою келью. Мое предназначение исполнено. Я осуществил Возмездие и обнаружил злоумышленника. Этого достаточно. Но, Господи…»
«Да, дитя мое».
«Я чувствую себя нечистым. Запятнанным. Оскверненным. Вероятно, действительно все, что случается, случается согласно Твоей воле, и это хорошо. Но Ты порой оставляешь кровавые следы на Твоих инструментах».
Он кивнул, словно согласившись.
«Если хочешь, Рагуил, ты можешь забыть об этом. Обо всем, что случилось. – А потом Он сказал: – Однако ты не сможешь говорить об этом с другими ангелами, независимо от того, что решишь: помнить или забыть».
«Я буду помнить».
«Это твое право. Но временами тебе будет определенно проще не помнить. Забвение порой дает некую свободу. А теперь, если не возражаешь, – он наклонился, вытащил файл из стопки на полу и открыл его: – у меня есть работа, и мне следует ее продолжить».
Я встал и подошел к окну. Я надеялся, Он меня окликнет, объяснит детали Своего плана, чтобы все изменилось к лучшему. Но Он ничего не сказал, и я оставил Его, ни разу не оглянувшись.
Он замолчал. И молчал так долго – мне даже показалось, он и не дышит, – и я занервничал, предположив, что он уснул или вообще умер.
Но тут он поднялся.
– Ну вот, приятель. Это вся история. Как ты думаешь, стоит она двух сигарет и коробка спичек? – Он спросил без тени иронии, словно это было важно для него.
– Да, – ответил я, – стоит. Но что случилось дальше? Как вы… я хочу сказать, если… – Я умолк.
Теперь на улице было темно, как бывает в предрассветный час. Один за другим гасли уличные фонари, и его силуэт вырисовывался на фоне светлеющего неба. Он сунул руки в карманы.
– Что случилось дальше? Я отправился домой, заблудился и вот теперь нахожусь здесь, очень далеко от дома. Порой совершаешь поступки, о которых сожалеешь, но с этим уже ничего нельзя поделать. Времена меняются. За тобой захлопываются двери. А ты идешь дальше. Тебе это знакомо?
В конце концов я оказался здесь. Обычно говорят, нет таких, кто был бы родом из Лос-Анджелеса, Города ангелов. Если взять меня, то это чертовски верно.
И прежде чем я успел понять, что он делает, он наклонился и нежно поцеловал меня в щеку. Щетина у него была грубой и колючей, а дыхание неожиданно сладким. На ухо он прошептал:
– Вовсе я не падший. Мне плевать, что обо мне говорят. Я все еще делаю мою работу, как я ее понимаю.
Моя щека горела в том месте, где ее коснулись его губы.
Он выпрямился:
– И все же мне очень хочется домой.
И он пошел вниз по темнеющей улице, а я сидел на скамейке и смотрел, как он уходит. У меня было ощущение, будто он что-то забрал с собой, просто я не мог вспомнить, что именно. И еще я чувствовал, будто взамен мне оставили нечто, возможно, отпущение грехов или безвинность, хотя каких грехов и в чем может быть моя безвинность, я сказать не мог.
Откуда-то пришел образ: небрежный рисунок двух ангелов, летящих над прекрасным городом; а поверх рисунка отчетливый отпечаток детской руки, окрасивший белую бумагу в кроваво-красный цвет. Образ явился пред моим мысленным взором внезапно, и я и теперь не знаю, что он означал.
Я встал.
Было слишком темно, чтобы разглядеть циферблат моих часов, но я знал, что в тот день не засну. Я вернулся в отель, в дом возле чахлой пальмы, помылся и принялся ждать. Я думал об ангелах и о Тинк; и не мог поверить, что любовь и смерть идут рука об руку.
На следующий день возобновились полеты в Англию.
Я чувствовал себя странно, бессонная ночь погрузила меня в то неприятное состояние, в котором все кажется плоским и не особенно важным; когда ничто не имеет значения и когда реальность представляется уязвимо тонкой и изношенной. Поездка на такси до аэропорта была кошмарной. Мне было жарко, я устал и нервы были на пределе. В эту ужасную жару я был в футболке; мое пальто пролежало на самом дне чемодана на протяжении всей поездки.
Самолет был забит битком, но меня это не беспокоило.
Стюардесса продефилировала по проходу со стопкой газет: «Геральд трибюн», «ЮэСЭй тудей» «Лос-Анджелес таймс». Я взял номер последней, но слова вылетали из моей головы, едва я успевал их распознать. Ничто из прочитанного мне не запомнилось. Нет, лгу. Где-то на последних страницах я прочел о тройном убийстве: двух женщин и маленького ребенка. Имен указано не было, и я так и не понял, почему эта заметка мне запомнилась.
Вскоре я уснул. Мне снилось, как я трахаюсь с Тинк, а из-под ее закрытых глаз и сомкнутых губ сочится кровь. Кровь была холодной, вязкой и липкой, и я проснулся продрогшим от кондиционера и с неприятным ощущением во рту: там было сухо как в пустыне. Я выглянул в поцарапанный иллюминатор и стал смотреть на облака, и мне пришло в голову (не в первый раз), что облака – это некая другая земля, где все точно знают, чего ищут и как вернуться к началу.
Смотреть на облака – это то, что мне всегда больше всего нравилось во время полета. И еще близость собственной смерти.
Завернувшись в тонкое одеяло, я снова ненадолго уснул, но если что и видел во сне, то мне это не запомнилось.
Вскоре после приземления в Англии разыгралась снежная буря, выведя из строя систему электроснабжения аэропорта. В тот момент я один поднимался в лифте, освещение погасло, и лифт застрял между этажами. Замерцала тусклая аварийная лампа. Я жал на красную кнопку тревоги, пока не сели батарейки и сигнал не прекратился; зажавшись в углу в моей крошечной серебряной комнатке, я дрожал от холода в одной футболке. От моего дыхания шел пар, и я сам себя обнимал, чтобы согреться. Кроме меня, там не было ни души, но несмотря на это я чувствовал себя в полной безопасности. Вскоре кто-то сумел открыть двери лифта. А еще кто-то помог мне наконец выбраться из него; теперь я знал, что очень скоро буду дома.
Мост тролля
Большую часть железнодорожных путей разобрали в начале шестидесятых, когда мне было три или четыре. А услуги, оказываемые в поезде, свели к минимуму. И ехать теперь можно было лишь до Лондона, а городок, в котором я жил, стал конечной станцией.
Мои самые первые яркие воспоминания: мне полтора года, мама в больнице, рожает сестру, и бабушка ведет меня в центр города на мост, и поднимает на ручки, чтобы я увидел внизу паровоз, который, пыхтя, ползет по дороге, похожий на железного черного дракона.
В течение следующих нескольких лет пыхтящих паровозов совсем не осталось, а вместе с ними исчезли и сети железных дорог, соединявших деревню с деревней и городок с городком.
Мне было неведомо, что паровозы отслужили свой век. Но к тому времени, когда мне исполнилось семь, они были уже в прошлом.
Мы жили в старом доме на окраине города. Напротив было пустое поле под паром. Обычно я карабкался на забор, где читал, укрывшись в тени какого-то деревца; а когда тянуло на приключения, исследовал окрестности нежилой усадьбы за полем. Там, над покрытым ряской искусственным прудом, был низко перекинут деревянный мост.
Во время моих набегов я никогда не встречал там ни сторожей, ни смотрителей и никогда не пытался войти в дом. Это могло навлечь неприятности, а кроме того, я свято верил, что во всех старых домах водятся привидения.
Я был не то что легковерен, просто мне верилось во все темное и опасное. В моем детском воображении ночи были населены одетыми в черное голодными призраками и ведьмами, которых сбивает с ног ветер.
Вера в обратное успокаивала: днем безопасно. Днем всегда безопасно.
У меня был ритуал: в последний день занятий перед летними каникулами, по дороге домой, я снимал ботинки и носки и, держа их в руках, вышагивал по каменистой тропинке своими нежными розовыми ступнями. После, все лето, я надевал ботинки только если заставляли. И упивался своей босоногой свободой, пока в сентябре вновь не начинались занятия в школе.
Когда мне было семь, я нашел в лесу тропинку. Был жаркий и солнечный летний день, и меня занесло довольно далеко от дома.
Я чувствовал себя открывателем новых земель. Пройдя мимо усадьбы, с ее заколоченными слепыми окнами, миновал незнакомый лес. Спускаясь по крутому склону, я оказался в тени, в густых зарослях, на тропинке, по которой прежде не ходил; сквозь листву пробивались зеленые и золотые пятна света, и мне показалось, что я очутился в волшебной стране.
Вдоль тропинки пролегало русло тоненького ручейка, который кишмя кишел крошечными прозрачными головастиками. Я выловил одного, долго смотрел, как он дергался и извивался на моей ладони, и бросил обратно в ручей.
Я шел вниз по течению. Совершенно прямая тропинка заросла невысокой травой. Время от времени я находил отличные камешки: ноздреватые, оплавленные – коричневые, и пурпурные, и черные. Если посмотреть через них на свет, можно было увидеть все цвета радуги. Решив, что они невероятно ценные, я набил ими карманы.
Так я все шел по золотисто-зеленому коридору, и никто мне не повстречался на пути.
Я не был голоден и не испытывал жажды. Мне просто хотелось узнать, куда ведет тропинка. Она все еще была прямая как стрела, и совершенно ровная. На всем пути тропинка оставалась прежней, в отличие от местности окрест. Вначале я шел по дну оврага, крутые склоны которого густо заросли травой. Затем – по гребню, и, глядя вниз, мог видеть верхушки деревьев и редкие крыши далеких домов. Тропинка оставалась плоской и прямой, а я шел по ней через долины и плато, долины и плато. В конце концов, в одной из долин, я вышел к мосту.
Мост был построен из ярко-красного кирпича, и висел надо мной огромной аркой. С одной стороны к нему вели вырубленные в камне ступеньки, а на самом верху я увидел маленькие деревянные ворота.
Я был удивлен, увидев здесь следы присутствия человека, ведь я не сомневался, что тропинка имеет природное происхождение, как вулкан. Скорее из любопытства, чем по какой-то иной причине (в конце концов, как мне представлялось, я прошел уже сотни миль и мог оказаться где угодно), я поднялся по ступенькам и прошел в ворота.
Я был незнамо где.
Вверху мост был вымощен глиной. По обеим его сторонам простирались поля. С одной стороны – пшеничное, с другой – поросшее травой. В засохшей глине виднелись следы огромных тракторных колес. Я пересек мост, чтобы удостовериться, что здесь и вправду никого. Мои босые ноги беззвучно ступали по земле.
На мили вокруг я ничего не увидел, кроме поля с пшеницей, травы и деревьев.
Я сорвал колосок, высыпал сладкие зерна, покатал на ладони и принялся задумчиво жевать.
И тут я понял, как проголодался, и спустился по ступенькам на заброшенный железнодорожный путь. Пора было возвращаться. Я не заблудился; мне следовало вернуться по той же тропинке, вот и все.
Под мостом меня ждал тролль.
– Я тролль, – сказал он. И немного помолчав, добавил, будто поясняя: – Тролль, кроль, профитроль.
Он был огромен: его макушка доставала до свода моста. Он был почти прозрачным: хоть и смутно, я мог видеть сквозь него кирпичи и деревья.
Он был плотью и кровью моих ночных кошмаров. У него были огромные крепкие зубы, и ужасные когти, и сильные волосатые руки. Волосы длинные, как у одной из пластиковых кукол моей сестры, и глаза навыкате. Он был гол, и его член свисал из кустистых зарослей между ног.
– Я тебя слышал, Джек, – прошептал он голосом ветра. – Я слышал, как ты топал по моему мосту. А теперь я съем твою жизнь.
Мне было всего семь, и это было днем, и я не помню, чтобы я испугался. Детям не страшно сталкиваться лицом к лицу с героями сказок, они знают, как с ними обходиться.
– Не ешь меня, – сказал я троллю. На мне были коричневая полосатая футболка и коричневые вельветовые штаны. Волосы у меня тоже были коричневыми, а одного из передних зубов не хватало. Я как раз учился свистеть через эту дырку, но пока не преуспел.
– Я съем твою жизнь, Джек, – повторил тролль.
Я смотрел ему прямо в лицо.
– Скоро сюда придет моя старшая сестра, – соврал я, – она намного вкуснее меня. Лучше съешь ее.
Тролль понюхал воздух и улыбнулся.
– Ты совсем один, – сказал он. – На тропинке больше ничего нет. Совсем ничего. – Он наклонился, и его пальцы пробежали по мне: так прикасаются слепые – точно бабочки порхают у лица. Он понюхал свои пальцы и покачал огромной головой.
– У тебя нет старшей сестры. Только младшая, а она сегодня гостит у подружки.
– И все это ты узнал по запаху? – поразился я.
– Тролли могут чуять радугу, и звезды, – прошептал он печально. – Тролли могут чуять сны, которые ты видел, когда еще не родился. Подойди ближе, и я съем твою жизнь.
– У меня в кармане очень ценные камни, – сказал я. – Возьми их вместо меня. Смотри. – И я показал ему чудесные оплавленные камни, что нашел по дороге.
– Шлак, – сказал тролль. – Мусор, который остался от паровоза. Для меня они ценности не представляют. – Он широко раскрыл рот. У него были острые зубы. А его дыхание пахло перегноем и изнанкой всех вещей. – Хочу есть. Сейчас.
Он становился все крепче и реальнее, а внешний мир сделался тусклым и призрачным.
– Подожди. – Я чувствовал под ногами влажную землю, шевелил пальцами, цепляясь за реальную жизнь. Я смотрел в его огромные глаза. – Ты не хочешь съесть мою жизнь. Не сейчас. Мне всего семь. Я еще и не жил. Не все прочел книги. Не летал на самолете. Не научился как следует свистеть. Почему бы тебе не отпустить меня? А когда стану старше и вырасту, и тебе будет что есть, я вернусь.
Тролль посмотрел на меня глазами, похожими на паровозные фары, и кивнул.
– Вот тогда и возвращайся, – сказал он. И улыбнулся.
Я повернулся и пошел обратно по прямой тропинке, оставшейся там, где была железная дорога.
А потом побежал.
Я несся по тенистой тропинке, пыхтя и отдуваясь, пока не почувствовал острую боль в боку, и так, держась за бок, побрел домой.
Пока я рос, полей оставалось все меньше. Один за другим, ряд за рядом, вырастали дома и дороги, названные в честь полевых цветов и популярных писателей. Наш дом, старинный обшарпанный викторианский дом, был продан, и его снесли, а на месте сада появились новые дома.
Дома возводили повсюду.
Однажды я даже заблудился в новом квартале, выросшем на месте пустыря, где я знал каждую травинку. Правда, я не особенно огорчался оттого, что поля застроили. Старую усадьбу купила транскорпорация, и повсюду вокруг усадьбы тоже выросли дома.
Через восемь лет я вновь оказался на заброшенной железной дороге, и не один.
Мне было пятнадцать; к тому времени я сменил две школы. Ее звали Луиза, и она была моей первой любовью.
Я любил ее серые глаза, пушистые каштановые волосы и неуверенную походку (как у олененка, который учится ходить, – звучит банально, за что прошу извинить). Когда мне было тринадцать, я увидел, как она жует резинку, и запал на нее как падает с моста самоубийца.
Главная неприятность заключалась в том, что мы были лучшими друзьями и оба ходили на свидания к другим.
Я никогда не говорил ей о любви, я даже не говорил, что она мне нравится. Ведь мы были приятелями, только и всего.
В тот вечер я был у нее: мы сидели в ее комнате и слушали первый диск группы «Stranglers», который назывался «Rattus Norvegicus»[13]. Панк тогда только начинался, и все было таким волнующим: возможности в музыке и во всем остальном казались бесконечными. И вот, когда мне пора было возвращаться домой, она решила меня проводить. Держась за руки, невинно, как добрые друзья, мы неторопливо шли к моему дому.
Луна светила ярко, и мир был видимым и бесцветным, а ночь – теплой.
Дойдя до дома, мы увидели в моих окнах свет и остановились. Мы говорили о группе, которую я сколотил, но в дом так и не вошли.
А потом решили, что теперь я ее провожу. И пошли обратно.
Она рассказывала о ссорах с младшей сестрой, которая таскала у нее косметику и духи. Луиза подозревала, что сестра уже занимается сексом с мальчиками. Сама она была девственницей. Оба мы были девственны.
Мы стояли на дороге у ее дома, под желтым уличным фонарем, и с улыбкой смотрели друг на друга, на черные губы и бледно-желтые лица.
А потом снова куда-то шли, выбирая тихие улицы и безлюдные тропинки.
Тропинка в одном из новых кварталов вывела нас к лесу, и мы не стали сворачивать.
Тропинка была прямая и очень темная, и только огни далеких домов светили нам, как звезды, а луна освещала путь. Мы вздрогнули, когда перед нами что-то засопело и фыркнуло, и прижались друг к другу, а когда увидели, что это барсук, засмеялись и продолжили путь.
Мы несли всякий вздор о том, что нам снится, и чего мы хотим, и о чем мечтаем.
И все это время я хотел ее поцеловать, и коснуться ее груди, а может, даже раздвинуть ей ноги.
Это был мой шанс. Мы как раз дошли до старого кирпичного моста и остановились. Я прижался к ней, и ее губы раскрылись навстречу моим.
Но она вдруг застыла, словно окаменев.
– Привет, – сказал тролль.
Я отпустил Луизу. Под мостом было темно, и всю темноту заполнила его тень.
– Я ее заморозил, – сказал тролль, – так что мы можем поговорить. И я готов съесть твою жизнь.
Мое сердце подпрыгнуло, и я задрожал.
– Нет.
– Ты обещал вернуться. И вернулся. Ты научился свистеть?
– Да.
– Хорошо. Я вот совсем не умею. – Он принюхался и кивнул. – Я доволен. Ты вырос, набрался опыта. Больше еды. Больше меня.
Я сгреб в охапку Луизу, послушную, как зомби, и подтолкнул к нему.
– Не ешь меня. Я не хочу умирать. Возьми ее. Бьюсь об заклад, она вкуснее. И на два месяца старше. Почему бы тебе не съесть ее?
Тролль молчал.
Он обнюхал Луизу с головы до ног, втягивая носом воздух возле ее ступней, и внизу живота, возле груди и волос.
Потом посмотрел на меня.
– Она невинна, – сказал он. – А ты нет. Я ее не хочу. Я хочу тебя.
Я вышел из тени и взглянул на звезды.
– Но на свете еще много такого, чего я никогда не делал, – сказал я отчасти самому себе. – Вообще никогда. Я никогда не занимался сексом. Никогда не был в Америке. Я… – Я помолчал. – Я не успел ничего совершить. Еще не успел.
Тролль не ответил.
– Я мог бы еще раз вернуться. Когда стану старше.
Тролль все молчал.
– Я точно вернусь. Обещаю.
– Вернешься ко мне? – спросила Луиза. – Почему? Разве ты уезжаешь?
Я обернулся. Тролль исчез, и со мной под мостом стояла девушка, которую, как мне казалось, я любил.
– Нам пора домой, – сказал я. – Пойдем.
Всю обратную дорогу мы молчали.
Она стала встречаться с ударником из моей группы, а много позже вышла за кого-то замуж. Однажды мы встретились, в поезде, когда она уже была замужем, и она спросила, помню ли я ту ночь.
Я сказал, что помню.
– Ты тогда мне очень нравился, Джек, – сказала она. – Мне казалось, ты собираешься меня поцеловать. И предложишь встречаться. Я бы согласилась. Если бы ты предложил.
– Но я не предложил.
– Да, – сказала она, – ты не предложил.
Волосы у нее были очень коротко подстрижены, и это ей не шло.
Больше мы с ней не встречались. Стриженая женщина с натянутой улыбкой ничем не напоминала девушку, которую я любил, и разговор с ней был мне неприятен.
Я переехал в Лондон, а потом, через несколько лет, вернулся назад, но город, в который вернулся, не был похож на тот, что я помнил: там не осталось ни полей, ни ферм, ни каменистых тропинок; и как только смог, я уехал оттуда в крохотную деревушку в десяти милях от города.
Я переехал вместе со своей семьей, так как был уже женат и у меня был маленький сын, в старый дом, который когда-то, в прежние времена, был железнодорожной станцией. Шпалы выкопали, и супружеская пара, жившая напротив, выращивала на том месте овощи.
Я старел. Однажды я обнаружил у себя седые волосы; в другой раз, слушая запись своего голоса, понял, что он стал таким же, как у моего отца.
Работал я в Лондоне, в крупной звукозаписывающей компании. Обычно ездил в Лондон поездом, а вечером возвращался назад.
Мне пришлось снять там крошечную квартирку; трудно было всякий раз возвращаться домой, поскольку группы, которых мы записывали, выбирались на сцену не раньше полуночи. Это также означало, что если хотел, я легко мог заняться случайным сексом, а я хотел.
Я думал, что Элеонора, так звали мою жену, мне следовало сказать об этом раньше, ничего не знает о других женщинах; но однажды зимним днем, вернувшись домой после двухнедельной увеселительной поездки в Нью-Йорк, я обнаружил свой дом пустым и холодным.
Она оставила мне письмо, не записку. Пятнадцать страниц, аккуратно отпечатанных, и каждое слово в нем было правдой. Включая приписку: «Ты ведь совсем меня не любишь. И никогда не любил».
Надев теплое пальто, я вышел из дома, ошеломленный и оцепенелый.
Снега не было, но земля смерзлась, и листья хрустели под ногами. Деревья черными скелетами смотрелись на фоне хмурого зимнего неба.
Я шел вдоль шоссе. Мимо проезжали машины, в Лондон и из Лондона. Один раз я споткнулся о ветку, не заметив ее в груде замерзших листьев, порвал брюки и оцарапал ногу.
Так я дошел до соседней деревни. Дорога под прямым углом пересекала реку и тропинку, которую я никогда прежде не видел, и я пошел по тропинке, глядя на наполовину замерзшую речку. Вода в ней журчала, плескалась и пела.
Заросшая травой тропинка вела через поля; она была прямой как стрела.
В одном месте я нашел присыпанный землей камень. Я взял его, очистил от грязи. Это был кусок оплавленной породы красноватого цвета со странным радужным блеском. Я положил камень в карман пальто и держал в руке все время, пока шел, ощущая его надежное тепло.
Река сильно петляла, а я все продолжал идти.
Я шел примерно час, когда наконец увидел новые маленькие квадраты домов вверху на набережной.
И тут я обнаружил мост и понял, где я: снова на старой тропинке, просто вышел к мосту с другой стороны.
Сбоку на мосту были граффити: БЛИН; БЕРРИ ЛЮБИТ СЬЮЗАН и даже пресловутое НФ – Народный фронт.
Я стоял под мостом красного кирпича, где валялись обертки от мороженого, хрусткие пакеты и одинокий использованный презерватив, стоял и смотрел на свое дыхание, на холодном воздухе превращавшееся в облачко.
Кровь на ранке уже подсохла.
По мосту над моей головой проезжали автомобили; я даже слышал, как в одном громко играло радио.
– Привет! – сказал я спокойно, немного смущенный тем, как глупо звучу. – Привет!
Ответа не было. Только ветер шуршал мусором и листвой.
– Я вернулся. Я ведь обещал. И вернулся. Привет!
Молчание.
И я заплакал, нелепо и беззвучно.
Чья-то лапа коснулась моего лица.
– Я не думал, что ты вернешься, – сказал тролль.
Теперь он был моего роста, а все остальное осталось прежним. Спутанные длинные волосы с застрявшими листьями, огромные печальные глаза.
Я пожал плечами и вытер рукавом лицо.
– Но я вернулся.
Над нами, весело крича, пробежали трое мальчишек.
– Я тролль, – сказал тролль очень тихо и испуганно. – Тролль, кроль, профитроль.
Его трясло.
Я протянул руку и взял его за огромную когтистую лапу.
– Все нормально, – сказал я. – Правда. Все хорошо.
Он кивнул.
Тролль повалил меня на землю, на листья, на обертки и использованный презерватив, придавив своим телом. А потом поднял голову, открыл рот и съел мою жизнь, жуя ее своими крепкими острыми зубами.
Когда закончил, он встал и отряхнулся. Сунул руку в карман своего пальто и достал ноздреватый оплавленный камешек. Шлак.
И протянул мне.
– Это твой, – сказал тролль.
Я посмотрел на него: моя жизнь ему прекрасно подошла, словно он носил ее многие годы. Я взял у него камешек и понюхал. Почуял запах паровоза, с которого он выпал когда-то очень давно. И крепко зажал в своей волосатой лапе.
– Спасибо, – сказал я.
– Удачи, – ответил тролль.
– Ну да. Конечно. Тебе тоже.
Тролль усмехнулся мне в лицо.
А потом повернулся ко мне спиной и двинулся по тропинке, по которой я пришел, к деревне, к пустому дому, из которого я вышел в то утро; он шагал и насвистывал на ходу.
И с тех самых пор я здесь. Прячусь. Жду. Я – часть этого моста.
Из тени смотрю, как мимо проходят люди: как они выгуливают собак, говорят, в общем, живут своей жизнью. Порой люди заходят под мост, постоять, пописать, заняться любовью. Я на них смотрю, но молчу; и они меня не видят.
Тролль, кроль, профитроль.
Я намерен остаться тут, где всегда темно. Я слышу, как все вы ходите, как топаете и громыхаете по моему мосту.
О да, я все слышу.
Но я вам не покажусь.
Снег, зеркало, яблоки
Я понятия не имею, что она собой представляет. И остальные тоже. Она убила при рождении свою мать, но это еще ничего не объясняет.
Меня называли мудрой, но я вовсе не такова, ведь я предвидела отнюдь не все, лишь отдельные эпизоды, ледяные осколки, плавающие в бассейне или в холодном стекле моего зеркала. Была бы я мудрой, я не стала бы пытаться изменить то, что видела. Была бы я мудрой, я убила бы себя прежде, чем столкнуться с ней, и прежде, чем встретилась с ним взглядом.
Мудрая, а еще ведьма, так они говорили, а его лицо я видела в своих снах, и оно отражалось в воде, и так было всю мою жизнь: шестнадцать лет я о нем мечтала, прежде чем, держа под уздцы лошадь, он перешел через мост и спросил, как меня зовут. Он подсадил меня на свою статную лошадь, и мы поехали вместе к моему маленькому домику, и я прятала лицо в золоте его волос. Он попросил лучшее из того, что у меня было: и это ведь право короля.
Борода его была бронзово-красной в утреннем свете, и я признала его не как короля, ведь о королях я тогда совсем не имела представления, но как свою любовь. Он взял у меня все, что хотел, по праву королей, но на следующий день вернулся, и на следующую ночь тоже; и борода его была такой красной, волосы такими золотыми, глаза цвета летнего неба, а загорелая кожа цвета спелой пшеницы.
Его дочь была еще ребенком: ей было не больше пяти, когда я появилась во дворце. В башне принцессы висел портрет ее умершей матери: высокая женщина с волосами цвета темного дерева и орехово-карими глазами. И кровь в ней текла не такая, как в ее белокожей дочери.
Девочка не пожелала с нами есть.
Не знаю, где ей накрывали на стол.
У меня были свои покои. Как и у моего мужа короля. Когда он хотел меня, он за мной посылал, и я к нему приходила, и услаждала его, и сама услаждалась.
Однажды ночью, через несколько месяцев после того как меня привезли во дворец, она вошла в мои покои. Ей было шесть. Я вышивала под лампой, щурясь от дыма и мерцания пламени. А когда подняла глаза, увидела ее.
– Принцесса!
Она ничего не сказала. Глаза ее были черны, как уголь и как ее волосы, а губы краснее крови. Она подняла на меня глаза и улыбнулась. И в полумраке сверкнули острые зубы.
– Почему ты покинула свои покои?
– Я голодна, – ответила она, как всегда говорят дети.
Была зима, когда свежие продукты – такая же мечта, как тепло и свет; но у меня в покоях были развешены связки яблок, высушенных без сердцевины, и я сняла ей одно.
– Возьми.
Осень – время сушки и заготовок, время сбора яблок и вытапливания гусиного жира. Зима же – время голода, снега и смерти; время праздника середины зимы, когда мы натираем гусиным жиром свинью, начиненную осенними яблоками, запекаем ее или жарим и готовимся пировать.
Она взяла у меня сушеное яблоко и принялась кусать его своими острыми желтыми зубами.
– Вкусно?
Она кивнула. Я всегда боялась маленьких принцесс, но в тот момент я прониклась к ней теплотой и нежно провела пальцами по ее щеке. Она посмотрела на меня и улыбнулась – она редко улыбалась, – а потом впилась зубами в основание моего большого пальца, в холмик Венеры, так что выступила кровь.
От боли и удивления я закричала, но она взглянула на меня, и я затихла.
Маленькая принцесса припадала ртом к моей руке, и лизала, и сосала, и пила. Когда закончила, она покинула мои покои. А укус у меня на глазах начал затягиваться, покрылся коркой и зажил. На следующий день он был похож на старый шрам, словно в детстве я поранилась перочинным ножом.
Она заморозила меня, присвоила и поработила. Это испугало меня больше, чем то, что она питалась моей кровью. После той ночи, едва наступали сумерки, я запирала дверь на засов, а на мои окна кузнец выковал мне железные решетки.
Мой муж, моя любовь, мой король, посылал за мной все реже и реже, а когда я к нему приходила, он был слаб, апатичен и чем-то смущен. Он больше не мог заниматься любовью, как это делают мужчины, и не позволял мне доставить ему удовольствие ртом: однажды я попыталась, но он возбудился до исступления и начал плакать навзрыд. Я перестала его услаждать и просто обняла, пока рыдания не прекратились и он не уснул, тихо, как дитя.
Когда же он уснул, я потрогала его подбородок, весь покрытый старыми шрамами. Я не могла припомнить, чтобы у него были шрамы, когда мы начали встречаться, кроме одного, на боку, от кабана, оставшегося со времен его юности.
А вскоре он превратился в тень человека, которого я встретила на мосту и полюбила. Из-под кожи стали просвечивать сине-белые кости. Я была с ним до самого конца: руки были холодны, как камень, глаза мутно-сини, а поредевшие волосы и борода стали тусклыми и истончились. Он умер без отпущения грехов, а кожа его, сморщенная и рябая, всюду, с головы до пят была покрыта старыми шрамами.
Он почти ничего не весил. Земля так смерзлась, что мы не смогли выкопать для него могилу, и тогда мы заложили его тело камнями, сложив пирамиду вместо памятника, от него так мало осталось, можно было не опасаться, что могилу осквернят звери или птицы.
Так я стала королевой.
Я была глупа тогда, ведь с тех пор как я появилась на свет, прошли и ушли всего восемнадцать весен, и я не сделала того, что сделала бы теперь.
Если бы это было теперь, я бы не только велела вырвать ей сердце, я приказала бы после отрезать ей голову, руки и ноги. И выпотрошить. И смотрела бы на городской площади, как палач раздувает мехами огонь и доводит до белого каления, смотрела бы не мигая, как он предал бы все это огню. Я расставила бы вокруг площади стрельцов, которые бы стреляли во всякую птицу или зверя, который приблизился бы к пламени, во всякую ворону, или собаку, или крысу. И не сомкнула бы глаз, покуда принцесса не превратилась бы в горстку пепла, и нежный ветер не подхватил бы ее и не рассеял как снег.
Я этого не сделала, а нам приходится платить за наши ошибки. Говорят, меня одурачили; мол, это было не ее сердце, но сердце животного, оленя или кабана. Так говорят, и те, кто так говорит, ошибаются.
А некоторые говорят (но это ее ложь, не моя), что когда мне принесли ее сердце, я его съела. Ложь и полуправда падают, как снег, засыпая то, что я помню, то, что я видела. Пейзаж, который невозможно узнать после снегопада; вот во что она превратила мою жизнь.
Остались лишь шрамы на моей любви, на бедрах ее отца, на его мошонке, его члене.
Я не пошла с ними. Ее взяли днем, когда она спала, когда была совсем без сил. И отвели в чащу леса, и там разорвали на ней блузку и вырезали ей сердце, и оставили мертвое тело в овраге, чтобы лес мог поглотить ее.
Лес – темное место, граница многих королевств; нет таких глупцов, кто отважился бы в нем распоряжаться. В лесу живут преступники, грабители, а еще волки. Невозможно ехать по лесу больше десяти дней и не встретить ни души; там за тобой неотступно кто-то наблюдает.
Мне принесли ее сердце. Я знаю, что это было именно ее сердце, ни у свиньи, ни у голубя сердце не может биться после того, как его вырезали из груди, а это билось.
Я взяла его в свои покои.
Я его не ела: я повесила его над своей кроватью, на ту же бечевку, на которой висели гроздья рябины, оранжево-красные, как грудка у малиновки, и головки чеснока.
А снег за окном падал, скрывая следы моих охотников, засыпая маленькое тело в лесу в овраге.
Я велела кузнецу снять с моих окон решетки, и все те короткие зимние дни проводила в своей комнате, глядя на лес, пока не наступит темнота.
Как я уже говорила, в лесу жили люди. И они выходили, некоторые из них, на Весеннюю ярмарку: жадные, дикие, опасные люди; одни были низкорослыми карликами и лилипутами, и горбунами; у других были огромные зубы и бессмысленный взгляд идиота; пальцы третьих напоминали плавники или клешни. Волоча ноги, каждый год они выходили из леса на Весеннюю ярмарку, которая проходила, когда таял снег.
Юной девушкой я участвовала в ярмарке и боялась их, этот лесной народец. Я предсказывала судьбу по неподвижной воде в пруду; а позднее, став старше – по зеркалу с серебряной амальгамой, подарку торговца, чью лошадь я помогла найти, увидев ее в разлитых чернилах.
Торговцы на ярмарке тоже боялись лесного народца; они прибивали гвоздями свой товар к прилавку, огромными железными гвоздями они прибивали имбирные пряники и кожаные пояса. Они говорили, если товар не прибить, лесной народец схватит его и убежит, жуя на ходу имбирный пряник, опоясываясь кожаным поясом.
А ведь у лесного народца были деньги: монета там, другая тут, порой позеленевшая от времени или от земли, и изображения на тех монетах не узнавали даже древние старики. А еще им было чем торговать, и так проходила ярмарка, служа изгоям и карликам, разбойникам (если они были осмотрительны), охотившимся на одиноких путников из лежавших за лесом земель, и на цыган, и на оленей. (Что было грабежом в глазах закона. Олени принадлежали королеве.)
Медленно шли годы, и мой народ утверждал, что я – мудрая правительница. Сердце все висело над моей кроватью и слабо пульсировало по ночам. Если кто и оплакивал то дитя, я о таком не слышала: тогда она еще наводила ужас, и все верили, что избавились от нее.
Весенние ярмарки сменяли друг друга: их было пять, и каждая следующая была печальнее, беднее и скуднее предыдущей. Все меньше людей выходили из леса за покупками. А те, кто выходил, казались подавленными и вялыми. Торговцы перестали прибивать гвоздями к прилавку свой товар. И на пятый год из леса вышла жалкая горстка лесного народца, несколько испуганных волосатых карликов, и больше никого.
Когда ярмарка закрылась, ко мне пришел ее хозяин со своим пажом. Я немного знала его прежде, когда еще не была королевой.
– Я пришел к тебе не как к королеве, – сказал он.
Я ничего не ответила. Я слушала.
– Я пришел к тебе потому, что ты мудра, – продолжил он. – Когда ты была ребенком, ты нашла заблудшую лошадь, глядя в лужицу чернил; когда была девушкой, глядя в свое зеркало, ты нашла потерявшегося ребенка, далеко отставшего от матери. Тебе ведомы тайны, и ты умеешь находить сокрытое. Моя королева, что происходит с лесным народцем? – спросил он. – В следующем году Весенней ярмарки не будет. Путников из других королевств стало совсем мало, и лесной народец почти повывелся. Еще один такой год, и нам придется голодать.
Я велела служанке принести мое зеркало. Оно было совсем обычное, стеклянный круг с серебряной амальгамой, и я хранила его обернутым в замшу, в сундуке, в моих покоях.
Мне принесли его, я взглянула и увидела.
Ей было двенадцать – уже не ребенок. Ее кожа была все такой же бледной, глаза и волосы угольно-черными, а губы – кроваво-красными. На ней по-прежнему была та одежда, в которой она покинула замок: блузка и юбка, хотя они и были ей малы и сплошь штопаны. Сверху на ней был кожаный плащ, а вместо обуви на крошечных ногах – кожаные мешки, подвязанные бечевкой.
Она была в лесу и стояла за деревом.
Пока смотрела, мысленным взором я видела, как она крадется, и ступает, и проскальзывает и прыгает, как зверь, как летучая мышь или волк. Она кого-то преследовала.
Это был монах. На нем была хламида, он был бос, ноги в струпьях и ссадинах, а борода и тонзура заросшие и неухоженные.
Она наблюдала за ним из-за деревьев. Наконец он остановился на ночлег и стал разводить огонь, собрав прутья и разбив для растопки гнездо малиновки. С собой у него был кремень, и он бил им до тех пор, пока не добыл искры и не поджег трут, и пламя не занялось. В гнезде он нашел два яйца и тут же съел их, хотя вряд ли они могли насытить такого крупного человека.
Так сидел он при свете костра, и тогда она вышла к нему из укрытия. Она присела к огню, глядя на него не мигая. Он улыбнулся, видимо, давно уже не видел людей, и жестом подозвал ее к себе.
Она встала и приблизилась, и ждала, вытянув руку. А он порылся в своем одеянии, пока не нашел монетку, крошечный медный пенс, и бросил ей. Она поймала, кивнула и подошла. Он дернул за веревку, которой был подпоясан, и обнажилось его тело, поросшее шерстью, как у медведя. Она подтолкнула его, чтобы он лег на мох, и стала шарить рукой в густых волосах, пока не нашла член; другой рукой она теребила его левый сосок. Он закрыл глаза и сунул свою огромную руку ей под юбку. Она наклонилась к соску, который ласкала, ее гладкая белая кожа ярко выделялась на его волосатом загорелом теле.
И глубоко вонзила зубы в его грудь. Он открыл глаза, потом вновь закрыл, и она пила.
Она уселась на него и пила его кровь. А когда напилась, между ног у нее потекла прозрачная черноватая жидкость…
– Известно ли вам, почему путники обходят стороной наш город? И что происходит с лесным народцем? – спросил меня хозяин ярмарки.
Я убрала зеркало в футляр и сказала, что самолично займусь тем, чтобы лес снова стал безопасным.
Я должна была это сделать, хоть и боялась ее. Ведь я была королевой.
Будь я совсем глупой, я тут же пошла бы в лес и попыталась захватить это существо; но я уже однажды совершила глупость, и мне не хотелось снова оказаться в дураках.
Я целыми днями просиживала над старинными книгами. И целыми днями говорила с цыганками (которые проходили через нашу страну через горы на юг, вместо того чтобы идти через лес на север и запад).
Я подготовилась и узнала о том, какие мне потребуются предметы, и когда начал падать первый снег, я была готова.
Голая, я была одна в самой высокой башне дворца, на ее вершине. Ветры обдували меня; мои руки, и бедра, и груди покрылись гусиной кожей. Со мной были серебряная миска и корзина, куда я положила серебряный нож, серебряную булавку, щипцы, серый плащ и три зеленых яблока.
И так я стояла, раздетая, на башне, смиренная перед ночным небом и ветром. Если бы хоть один человек увидел меня там, я вырвала б ему глаза; но некому было шпионить за мной. По небу неслись облака, и сквозь них то проглядывала, то снова скрывалась убывавшая луна.
Я взяла серебряный нож и полоснула им по левой руке, один раз, другой, третий. Кровь, капавшая в миску, казалась черной в лунном свете.
Я добавила порошок из пузырька, что висел на веревке у меня на шее. Это была коричневая пыль, приготовленная из сухих трав и кожи редкой жабы, и из некоторых других вещей. Он смешался с кровью, не давая ей свернуться.
Я взяла три аблока, одно за другим, и легонько проколола на них кожуру моей серебряной булавкой. Потом я положила яблоки в серебряную миску и оставила там, а первые в том году снежинки медленно падали на мою кожу, и на яблоки, и на кровь.
Когда занялась заря, я закуталась в серый плащ, взяла из серебряной миски красные яблоки, одно за другим, серебряными щипцами, стараясь их не касаться. В серебряной миске ничего не осталось от моей крови и коричневого порошка, почти ничего, кроме черного осадка, похожего на ярь-медянку.
Я закопала миску в землю. И заколдовала яблоки (как когда-то, на мосту, заколдовала саму себя), и теперь они были, без всяких сомнений, самыми замечательными яблоками на свете, а темно-красный румянец на их кожуре был теплого цвета свежей крови.
Я надвинула капюшон низко на лицо, и положила в корзину, поверх яблок, ленты и украшения для волос, и пошла одна в лес, пока не нашла ее жилье: высокий песчаный утес, испещренный глубокими норами, что вели в скальную породу.
Вокруг утеса были деревья и валуны, и я шла спокойно и плавно от дерева к дереву, не хрустнув веткой и даже упавшими листьями не шурша. И наконец нашла, где мне спрятаться, и там я ждала, и наблюдала.
Через несколько часов из главного входа в пещеру выбрались на свет несколько карликов, уродливых, кособоких, волосатых маленьких мужчин, старых обитателей этой страны. Теперь их редко встретишь.
Они исчезли в лесу, и никто меня не заметил, хотя один из них остановился помочиться возле скалы, за которой я пряталась.
Я ждала. Больше никто не вышел.
Я подошла ко входу в пещеру и покричала в нее, старым надтреснутым голосом.
Шрам на холме Венеры зудел и пульсировал, и наконец она вышла ко мне из темноты, совсем голая.
Ей было тринадцать, моей падчерице, и ничто не портило совершенную белизну ее кожи, кроме мертвенно бледного шрама на левой груди, откуда было вынуто ее сердце много лет назад.
А на внутренней поверхности бедер были какие-то грязно-черные пятна.
Она уставилась на меня, но из-под моего плаща меня было почти не видно. Она же смотрела с жадностью.
– Ленты, хозяюшка, – я прохрипела. – Красивые ленты для ваших волос…
Она улыбнулась и поклонилась. Я напряглась; шрам на руке словно притягивал меня к ней. Я сделала, что собиралась сделать, но у меня это получилось чересчур проворно: я бросила корзинку, завизжала, как не может визжать бессильная старая торговка, какой я притворялась, и побежала.
Мой серый плащ не выделялся на фоне леса, и бежала я быстро, и она меня не поймала.
Я вернулась во дворец.
Я не видела, как это было. Можно лишь представить, как девочка, расстроенная и голодная, вернувшись обратно к пещере, нашла мою корзинку валяющейся на земле.
Что она сделала?
Мне приятно думать, что вначале она поиграла с лентами, вплела их в свои иссиня-черные волосы, обернула вокруг своей бледной шеи или тоненькой талии.
А потом, из любопытства, сдвинула салфетку, посмотреть, что еще есть в корзинке, и увидела красные-красные яблоки.
Естественно, они пахли свежими яблоками – и еще они пахли кровью. А она была голодна. Я представляю себе, как она взяла яблоко, прижала его к щеке, кожей чувствуя холодную гладкость его кожуры.
А потом открыла рот и глубоко вонзила в него зубы…
К тому времени, когда я добралась до моих покоев, сердце, что висело на веревке вместе с яблоками, и окороком, и вялеными колбасами, уже не билось. Оно висело спокойно, без движения, без жизни, и я снова почувствовала себя в безопасности.
В ту зиму снега были высоки и глубоки, а сошли они поздно. Когда пришла весна, все мы были голодны.
Весенняя ярмарка в том году была немного более успешной. Лесной народец был немногочислен, но зато их было видно, и путников из земель, что за лесом, также.
Я видела, как маленькие волосатые люди из лесной пещеры покупали, торгуясь, стекло, и хрусталь, и кварц. Я не сомневалась, что за все это они платили серебряными монетами из награбленного падчерицей. Когда горожане сообразили, что именно у них покупают, они помчались домой и вернулись со своим хрусталем на счастье, а некоторые даже принесли большие стекла.
Я было хотела приказать перебить лесной народец, но не сделала этого. Пока сердце висело, тихое, неподвижное и холодное, в моих покоях, я была в безопасности, а потому и лесной народец, да и городской, – все были в безопасности.
Мне исполнилось двадцать пять, и моя падчерица съела отравленное яблоко две зимы назад, когда ко мне во дворец приехал принц. Он был высок, очень высок, с холодными зелеными глазами и смуглой кожей, и приехал он из-за гор.
Он прибыл со свитой: достаточно многочисленной, чтобы защитить его, и в то же время не настолько большой, чтобы другой монарх, например я, мог рассматривать его отряд как потенциальную угрозу.
Я была расчетлива: я подумала о союзе наших земель, подумала о королевстве, простершемся от лесов на юг до самого моря; я подумала о моем златоволосом возлюбленном, умершем уже восемь лет назад; и тогда, ночью, я пошла к принцу в опочивальню.
Я не невинна, хотя мой покойный супруг, который был когда-то моим королем, в самом деле был моим первым мужчиной, что бы кто ни говорил.
Вначале принц как будто возбудился. Он предложил мне снять рубашку и заставил стоять перед открытым окном, далеко от огня, пока моя кожа не стала холодна как лед. Потом он попросил меня лечь на спину, руки скрестить на груди, а глаза держать открытыми и смотреть только вверх, на свет. Он велел мне не двигаться, а дышать как можно реже. И умолял не произносить ни звука. А потом раздвинул мне ноги.
И только тогда вошел в меня.
Когда он начал двигаться во мне, я почувствовала, как двигаются мои бедра, в ритме его движений, толчок за толчком, толчок за толчком. Я застонала. Я не смогла сдержаться.
Его достоинство выскользнуло из меня. Я протянула руку и прикоснулась к этой крошечной, скользкой вещице.
«Прошу вас, – сказал он мягко. – Вы не должны ни двигаться, ни говорить. Просто лежите на камнях, такая холодная и такая прекрасная».
Я пыталась, но он потерял всю силу, которая делала его мужественным; и очень скоро я покинула его комнату, и в моих ушах все звучали его проклятья, а перед глазами стояли его слезы.
На следующий день рано утром он уехал, со всей своей челядью, и они направили коней через лес.
Я представляю себе его чресла, теперь, когда он скачет в лес, и напряжение в его достоинстве, так и не получившее разрядки. Я представляю себе его крепко сжатые бледные губы. А потом – его маленький отряд, как он едет через лес и натыкается на пирамиду из стекла и хрусталя, под которой покоится моя падчерица. Такая бледная. Такая холодная. Обнаженная, под стеклом, почти дитя, мертвое дитя.
В моем воображении я явственно ощущаю, как внезапно отвердело его достоинство, и как его охватила похоть, и слышу молитвы, которые он бормочет себе под нос, благодаря небо за счастливый случай. Я представляю, как он договаривается с маленькими волосатыми людьми, предлагая им золото и пряности за красивое тело под хрустальным могильным холмом.
Охотно ли они взяли его золото? Или вначале посмотрели на всадников с обнаженными мечами и копьями и поняли, что выбора у них нет?
Не знаю. Меня там не было; и в зеркало я не смотрела. Я могу лишь вообразить…
Руки, поднимающие из-под глыб стекла и кварца ее холодное тело. Руки, нежно ласкающие ее холодную щеку, гладящие ее холодное плечо; радость при виде тела, такого свежего и гибкого. Взял ли он ее сразу, на глазах у всех? Или велел отнести в укромный уголок и только потом обладал ею?
Не могу сказать.
Вытряс ли он яблоко у нее из горла? Или ее глаза медленно открылись, когда он входил в ее холодное тело; и раздвинулись ли ее губы, ее красные губы, обнажив острые желтые зубы, которые вонзились в его смуглую шею, и кровь, то есть жизнь, потекла в ее горло, смывая и вымывая кусок яблока, мою, мою отраву?
Я могу лишь вообразить; точно я того не знаю.
Зато знаю другое: ночью меня разбудило ее сердце, которое снова пульсировало и стучало. Соленая кровь капнула с него мне прямо на лицо. Я села. Рука у меня горела и зудела так, словно я ударила камнем по основанию большого пальца.
В дверь колотили. Я испугалась, но ведь я королева, и я никогда не выкажу страха. Я открыла.
Вначале вошли его люди и окружили меня, с обнаженными мечами и длинными копьями.
Потом вошел он и плюнул мне в лицо.
Наконец в мои покои вошла она, как когда-то, когда я была королевой, а она шестилетней девочкой. Она не изменилась. Почти не изменилась.
Оборвав бечеву, на которой висело сердце, она сбросила с нее одну за другой кисти рябины, сбросила высохшую за все эти годы головку чеснока; наконец она взяла свое собственное, свое пульсирующее маленькое сердце, размером не больше, чем сердце козы или медведицы, и оно набухло кровью, и кровь эта перетекла в ее руку.
Ее ногти были остры, как стекло: она разодрала ими грудь, прямо вдоль побагровевшего шрама. И теперь ее грудь зияла, пустая и бескровная. Она облизала сердце, и кровь потекла по ее рукам, и засунула сердце в самую глубину грудной клетки.
Я смотрела, как она это делала. Я видела, как плоть на ее груди сомкнулась. И как шрам начал бледнеть.
Ее принц, кажется, немного обеспокоился, но все же обнял ее, и они стояли бок о бок и ждали.
Она оставалась холодной, и дыхание смерти слетало с ее губ, и потому его похоть нисколько не уменьшилась.
Они сказали мне, что поженятся и королевства в самом деле объединятся. И еще они сказали, что в день их свадьбы я буду с ними.
Здесь уже становится жарко.
Людям они рассказывали обо мне всякие гадости; немного правды в качестве приправы, совсем немного правды, смешанной со многими неправдами.
Меня связали и отвели в крошечную каменную клетку в подвалах дворца, и там продержали всю осень. Сегодня же вытащили из клетки; они содрали с меня тряпье, смыли грязь, обрили мне голову и лоно и натерли мою кожу гусиным жиром.
Падал снег, когда меня выволокли четверо, за руки и за ноги, на глазах у всех, распластанную и холодную, через толпу, и принесли к этой печи.
Моя падчерица стояла там со своим принцем. Она смотрела на меня и мое унижение, не произнося ни слова.
И когда они заталкивали меня в печь, под свист и улюлюканье, когда они это делали, я увидела снежинку, которая опустилась на ее белую щеку и так и не растаяла.
Они заперли за мной дверцу. И здесь становится все жарче, а там, снаружи, поют и веселятся, и барабанят по моей печи.
Она не смеялась, не свистела и ничего не говорила. Она не улюлюкала и не отворачивалась. Она просто смотрела, и на краткий миг я увидела в ее глазах свое отражение.
Я не стану кричать. Я не доставлю им такого удовольствия. Они получат мое тело, но моя душа и моя жизнь останутся со мной и со мной умрут.
Гусиный жир начал плавиться и растекаться по коже. Я не пророню ни звука. Я больше не стану об этом думать.
А стану я думать о снежинке на ее щеке.
И об угольно-черных волосах. О губах, что краснее крови, и о коже, что белее снега.
Просто еще один конец света
День начался ужасно: я лежал голый в постели, живот сводило судорогой; должно быть, так чувствуешь себя в аду. Ощущение от света, тягуче-металлическое, цвета мигрени, подсказывало, что уже день.
В комнате все по-настоящему смерзлось: окна изнутри покрылись тонкой коркой льда. На разметанных простынях, ветхих и изодранных, звериная шерсть. Кожа зудела.
Я намеревался оставаться в постели всю неделю, я всегда чувствую усталость после трансформации, но приступ тошноты заставил меня выпростаться из простыней и, спотыкаясь, поспешить в крошечную ванную.
Новый спазм настиг меня на пороге. Ухватившись за дверной косяк, я покрылся липким потом. Предположив, что у меня температура, я понадеялся, что не подцепил инфекцию.
Живот пронзила судорога. Голова закружилась. Я рухнул на пол и, прежде чем смог найти глазами унитаз, начал блевать.
Вместе с вонючей желтой жижей из меня исторглись: лапа собаки, кажется, добермана, правда, я в собаках не разбираюсь; кожура помидора; немного порезанной кубиками моркови и сладкой кукурузы; несколько кусочков непрожеванного мяса; и несколько пальцев. Это были бледные маленькие пальчики, очевидно, детские.
– Блин.
Спазмы ослабели, и тошнота отступила. Я лежал на полу, изо рта и носа вытекала липкая зловонная слизь, а из глаз – слезы, как всегда в таких случаях, которые тут же высыхали на щеках.
Когда стало немного легче, я достал из блевотины лапу и пальцы и, бросив в унитаз, нажал на слив.
Открыв кран, прополоскал рот соленой иннсмутской водой и сплюнул. Оставшуюся блевотину вытер, как было сподручнее, губкой для мытья посуды и туалетной бумагой. Потом включил душ и стоял в ванне как зомби, подставляя тело потокам горячей воды.
Я намылился с головы до ног. Скудная пена сделалась серой; должно быть, я запачкался. Волосы слиплись, словно были вымазаны в запекшейся крови, и я намыливал их мылом до тех пор, пока все не смылось. А после стоял под душем, пока вода не стала ледяной.
Под дверью я нашел записку от хозяйки. В ней говорилось, что я задолжал за квартиру за две недели. Еще говорилось, что все ответы я найду в Откровении. И что я слишком шумно возвращаюсь домой под утро, и она будет признательна, если впредь я буду вести себя тише. Еще там говорилось, что когда Старшие Боги восстанут из океана, вся пена Земли, все неверующие, весь людской сор, все прожигатели жизни и бездельники будут сметены, а мир очистится льдом и водой из пучины. И что, как ей кажется, мне необходимо напомнить, что в холодильнике она выделила мне полку и будет признательна, если впредь я буду занимать только ее.
Я смял записку и бросил на пол, где уже валялись упаковки из-под биг-мака и пиццы и засохшие куски самой пиццы.
Пора было на работу.
Я жил в Иннсмуте уже две недели, и мне здесь не нравилось. Здесь пахло рыбой. Это был крошечный, вызывающий клаустрофобию городок: на востоке болото, на западе скалы, а в центре – гавань с несколькими полусгнившими рыбачьими лодками, которая не радовала взгляд даже на закате. Тем не менее в восьмидесятых сюда приехали яппи и купили здесь колоритные рыбацкие домики с видом на гавань. Яппи давно уехали, а оставленные ими домики обветшали.
Обитатели Иннсмута жили тут и там вокруг города в трейлерах, на стоянках, забитых этими отсыревшими домиками на колесах, никогда никуда не ехавшими.
Я оделся, надел ботинки, пальто и вышел из комнаты. Хозяйку я не встретил. Это была коротышка с выпученными глазами, которая мало говорила, но зато оставляла мне многословные записки, прикрепляя к дверям в тех местах, где я наверняка должен был их заметить; ее дом был пропитан запахом морепродуктов: на плите вечно булькали огромные кастрюли, заполненные существами со множеством ног или вообще безногими.
В доме сдавались и другие комнаты, но, кроме меня, здесь никто не жил. Ни один человек в здравом уме не приехал бы зимой в Иннсмут.
Но и снаружи запах был не намного лучше. Зато было холодно, и морской воздух превращал мое дыхание в пар. Грязный снег на улицах покрылся коркой, а в небе нависли свинцовые тучи.
Холодный соленый ветер дул с залива. Печально кричали чайки. Мне было гнусно. В офисе тоже задубеешь. На углу Марш-стрит и Ленг-авеню был бар «Первая встреча», приземистое строение с темными оконцами, мимо которого я каждый день проходил последние две недели. Прежде я туда не заглядывал, но теперь нуждался в выпивке, и потом, там могло быть теплее. Я толкнул дверь и вошел.
Там и в самом деле было тепло. Потопав, чтобы стряхнуть с ботинок снег, я прошел в зал. Бар был почти пуст, и в нем пахло несвежими пепельницами и несвежим пивом. Двое пожилых мужчин играли у стойки в шахматы. Бармен читал потрепанный, в зеленой коже с золотым тиснением, томик стихотворений Альфреда, лорда Теннисона.
– Эй, как насчет «Джека Дэниэлса» без льда?
– Сию минуту. Вы здесь недавно, – сказал он, положив книгу на стойку лицом вниз и наливая мне выпить.
– Это заметно?
Он улыбнулся и передал мне «Джека Дэниэлса». Стакан был замызганный, с сальным следом большого пальца; пожав плечами, я все-таки выпил. И почти не почувствовал вкуса.
– Клин клином? – спросил он.
– В некотором смысле.
– Существует поверье, – сказал бармен, чьи рыжие, как лисья шерсть, волосы были гладко зализаны назад, – что оборотень принимает нормальный облик, если его поблагодарить, когда он в зверином обличье, или окликнуть по имени.
– Да? Ну спасибо!
Он налил мне еще, хоть я и не просил. Он немного походил на Петера Лорре[14], правда, и большинство обитателей Иннсмута тоже походили на Петера Лорре, включая мою хозяйку.
Я опрокинул «Джека Дэниэлса», и на этот раз, как и положено, он прожег мне желудок.
– Так говорят. Я ведь не сказал, что в это верю.
– А во что вы верите?
– Надо сжечь ремень.
– Простите?
– У оборотней ремень из человечьей кожи, который дают им после первой трансформации хозяева ада. Надо сжечь ремень.
Тут один из игроков в шахматы обратил ко мне свои огромные слепые навыкате глаза.
– Если выпьешь дождевой воды из следа вервольфа, сам станешь вервольфом в полнолуние, – сказал он. – Единственно верное средство – выследить волка, что оставил этот след, и отрезать ему голову ножом из самородного серебра.
– Ах вот как? – Я улыбнулся.
Его партнер по игре, лысый и морщинистый, покачал головой и коротко, печально крякнул. Пошел ферзем и снова крякнул.
Таких, как он, в Иннсмуте полно.
Я заплатил за выпивку и оставил доллар на чай. Бармен вновь вернулся к своей книге и не обратил на это внимания.
На улице падали большие липкие хлопья, оседая в волосах и на ресницах. Ненавижу снег. Ненавижу Новую Англию. Ненавижу Иннсмут: здесь нет места, где стоит быть одному, а если и есть, я его еще не нашел. Однако бизнес задерживал меня здесь на столько лун, что мне и думать об этом не хотелось. Бизнес и еще кое-что.
Я прошел несколько кварталов по Марш-стрит в сторону центра, таких же, как весь Иннсмут: нелепая смесь американской готики восемнадцатого столетия, низеньких коричневых домиков конца девятнадцатого и сборных серо-кирпичных коробок конца двадцатого, – прежде чем добрался до закрытой закусочной «Куры гриль», и отпер ржавую металлическую дверь.
Через дорогу был винный магазин; на втором этаже практиковал хиромант.
На металлической поверхности – черным маркером – небрежное граффити: ПРОСТО УМРИ. Легко сказать.
Лестница была деревянной; штукатурка потрескалась и осыпалась. Мой офис, состоявший из одной комнаты, находился наверху.
Я нигде не задерживаюсь так надолго, чтобы вывешивать на двери солидную табличку. Моя была написана от руки печатными буквами на куске картона, который я приладил к двери.
ЛОРЕНС ТАЛБОТ
РЕШАЮ ВОПРОСЫ
Я отпер дверь офиса и вошел.
Какое-то время осматривался, а в моей голове проносились прилагательные типа «убогий», «мерзкий» и «запущенный», и наконец сдался, не сумев подобрать подходящее. Там стояли удивительно непотребные стол, офисный стул, шкаф для хранения документов; а из окна открывался жуткий вид на винный магазин и пустую приемную хироманта. Запах старого пригоревшего жира от закусочной на первом этаже. Мне стало интересно, как давно закрылись «Куры гриль», и я представил себе полчища черных тараканов, шныряющих подо мной, в темноте нижнего этажа.
– Таков образ мира, каким вы сейчас его представляете, – произнес низкий темный голос, столь низкий, что его вибрации отдались у меня в животе.
В углу стояло старое кресло. Сквозь патину и потертости проступал прежний узор обивки цвета пыли.
В кресле сидел толстяк, глаза его были плотно закрыты, а между тем он говорил:
– В замешательстве глядим мы на наш мир, с чувством неловкости и тревоги. Мы считаем себя учеными, оказавшимися в плену у ритуалов, одинокими людьми, не по собственной воле попавшими в ловушку мироздания. Правда много проще: внизу, во тьме земной, есть силы, которые желают нам зла.
Его голова откинулась, а из уголка рта показался язык.
– Вы читаете мои мысли?
Человек в кресле медленно, глубоко вздохнул, и в его горле что-то пророкотало. Он действительно был чрезвычайно толст, с короткими бесцветными пальцами, похожими на колбаски. На нем было грубое старое пальто, некогда черное, а теперь неопределенно серого цвета. Снег на его ботинках еще не растаял.
– Возможно. Конец света – странная идея. Мир вечно заканчивается, и его конец вечно переносится, то из-за любви, то из-за глупости, то благодаря старой тупой удаче. Ну что ж. Уже слишком поздно: Старшие Боги выбрали себе суда. Когда взойдет луна…
Из уголка его рта тонкой струйкой вытекла слюна, истончаясь до похожей на серебряную нити, упавшей на воротник. Что-то поспешно убежало с воротника и укрылось в складках его пальто.
– Да? И что же случится, когда взойдет луна?
Человек в кресле дернулся, открыл свои маленькие глазки, красные и выпученные, и моргнул, словно пробудившись.
– Мне снилось, что у меня много ртов, – сказал он, и его новый голос оказался странно тихим и хриплым для такого огромного тела. – И каждый рот открывается и закрывается независимо от других. Некоторые рты говорили, другие шептали, третьи ели, а иные молча ждали.
Он осмотрелся, вытер слюнку в уголке рта, выпрямился в кресле, озадаченно мигая.
– Кто вы?
– Тот парень, что арендует этот офис, – ответил я.
Он внезапно громко рыгнул.
– Простите, – сказал он хриплым голосом и тяжело поднялся из кресла. А когда поднялся, оказалось, он ниже меня ростом. Он стоял и потерянно оглядывал меня с ног до головы и с головы до ног.
– Серебряные пули, – наконец произнес он после короткой паузы. – Старинное средство.
– М-да, – ответил я. – Это настолько очевидно, что, возможно, поэтому я о нем и не вспомнил. Ну и дела, я ведь мог бы сам в себя пальнуть! В самом деле!
– Вы смеетесь над стариком, – сказал он.
– Вовсе нет. Извините. Ну а теперь вам пора. Кое-кого ждет работа.
Он вышел, с трудом волоча ноги. Я сел за стоявший у окна стол и очень скоро, крутясь и вращаясь, обнаружил, что когда поворачиваюсь налево, стул теряет опору и я могу упасть.
Присмирев, я ждал, когда зазвонит пыльный черный телефон на моем столе, покуда свет на зимнем небе окончательно не померк.
Звонок.
Мужской голос: Как насчет алюминиевого сайдинга? Я повесил трубку.
В офисе не было отопления. Мне стало интересно, сколько времени толстяк спал в кресле.
Через двадцать минут телефон зазвонил снова. Плачущая женщина умоляла меня отыскать ее пятилетнюю дочь, накануне ночью похищенную прямо из кроватки. Живший у них пес тоже исчез.
Я не разыскиваю пропавших детей, ответил я. Простите: тяжелые воспоминания. Я повесил трубку, и меня вновь затошнило.
Становилось темно, и впервые с тех пор, как я оказался в Иннсмуте, через дорогу вдруг замигала неоновая вывеска. Она сообщила, что МАДАМ ИЕЗЕКИИЛЬ[15] гадает на КАРТАХ ТАРО И С ПОМОЩЬЮ ХИРОМАНТИИ.
Красный неоновый свет окрасил падающий снег в цвет свежей крови.
Армагеддон можно предотвратить самыми простыми действиями. Только так. Только так и может быть.
Телефон зазвонил в третий раз. Я узнал голос: снова алюминиевый сайдинг.
– Знаете, – сказал он развязно, – поскольку трансформация человека в зверя и обратно по определению невозможна, нам следует поискать иные решения. Очевидно, деперсонализация, и возможно, какие-то виды перепрограммирования. Ушиб головного мозга? Может быть. Псевдоневротическая шизофрения? Не смешите меня! Правда, некоторые случаи поддаются лечению тиоридазина гидрохлоридом, внутривенно.
– И каков результат?
Он тихо рассмеялся:
– Вот это я люблю! Человек с чувством юмора. Уверен, мы сможем вместе работать.
– Я уже сказал. Мне не нужен алюминиевый сайдинг.
– Наш бизнес много серьезнее и существеннее. Вы в городе новичок, мистер Талбот. Будет жаль, если мы вдруг обнаружим, что, как бы получше выразиться, у нас возникли резкие разногласия, не так ли?
– Можете говорить, что вам вздумается, приятель. В моей книге вы просто еще одно отступление, которое предстоит написать.
– Мы занимаемся концом света, мистер Талбот. Живущие в Пучине поднимутся из своих океанских могил и сожрут луну как зрелую сливу.
– Так значит, мне не следует больше волноваться насчет полнолуний, не так ли?
– Не вздумайте перебегать нам дорогу, – начал он, но я зарычал, и он умолк.
А за моим окном все еще падал снег.
На другой стороне Марш-стрит, в окне напротив моего, стояла самая прекрасная женщина из всех, что я встречал, и в рубиновом свете неоновой вывески смотрела прямо на меня.
И манила меня пальцем.
Я прервал разговор с алюминиевым сайдингом во второй раз за этот день, спустился по лестнице, почти бегом пересек улицу – но перед тем посмотрел налево и направо.
Она была вся в шелках. А комнату освещали лишь свечи, и в ней воняло ладаном и маслом пачулей.
Она улыбнулась, когда я вошел, и подозвала к столику у окна, где она раскладывала пасьянс на картах Таро. Когда я подошел, изящная рука смешала карты и завернула их в шелковый шарф, а потом аккуратно положила в деревянную шкатулку.
От ароматов комнаты у меня зашумело в голове. Я вдруг вспомнил, что целый день ничего не ел; возможно, из-за этого в голове было так смутно. Я сел напротив нее за стол, при мерцающем свете свечи.
Она потянулась и взяла мою руку в свои.
Уставилась в мою ладонь, мягко потрогала указательным пальцем.
– Шерсть? – Она была озадачена.
– Ну да. Просто подолгу сижу дома. – Я усмехнулся, надеясь ее смягчить. Но она подняла бровь.
– Когда смотрю на вас, – сказала мадам Иезекииль, – вижу я вот что. Я вижу глаз человека. И еще глаз волка. В глазу человека я вижу честность, почтительность, простодушие. Я вижу надежного человека, который живет по правилам. А в волчьем глазе я вижу стон и рычание, ночной вой и крики, и чудовище с окровавленной пастью, что рыщет во тьме вокруг города.
– Как вам удается видеть рычание и крик?
Она улыбнулась.
– Это нетрудно. – Акцент у нее был не американский. Русский, или мальтийский, а может, египетский. – Мысленным взором можно увидеть многие вещи.
Мадам Иезекииль прикрыла свои зеленые глаза. У нее были удивительно длинные ресницы; кожа была бледной, а волосы черными, и они непрерывно колыхались вокруг головы, струились по шелкам, словно уносимые течением.
– Есть обычный путь, – сказала она. – Дурной образ можно смыть. Стоять в проточной воде, чистой, родниковой, и есть лепестки белых роз.
– А потом?
– Темный образ смоется, его больше не будет.
– Он вернется, – сказал я, – в следующее полнолуние.
– Тогда, – сказала мадам Иезекииль, – после того как образ смоется, нужно вскрыть вены в проточной воде. Конечно, будет очень больно. Зато кровь унесет вода.
Она была вся в шелках, и шелка эти переливались сотнями различных цветов, и каждый был ярким и живым, даже в тусклом свете свечей.
Ее глаза открылись.
– Теперь, – сказала она, – карты Таро. – Она развернула черный шелковый шарф, в котором держала свою колоду, и передала мне карты, чтобы я их перетасовал. Я тасовал их и так и эдак.
– Медленнее, медленнее, – приговаривала она. – Дайте им узнать вас. Дайте вас полюбить, как… как станет любить женщина.
Я аккуратно сложил колоду и вернул ей.
Она перевернула первую карту. Карта называлась «Вервольф». На темном фоне видны были янтарные глаза и красно-белая улыбка.
В ее зеленых глазах читалась растерянность. Они были зелены как изумруды.
– Такой карты нет в моей колоде, – сказала она и перевернула следующую. – Что вы с ними сделали?
– Ничего, мэм. Просто подержал, и все.
Карта, которую она открыла, называлась «Пучина». На ней было изображено нечто зеленое вроде осьминога. Рты существа, если то были рты, а не щупальца, дергались и корчились, когда я на них смотрел.
Она покрыла ее еще одной картой, и еще одной, и еще. Все остальные карты оказались просто белыми картонками.
– Ваша работа? – Она была готова заплакать.
– Нет.
– Уходите немедленно!
– Но…
– Уходите. – Она смотрела куда-то вниз, словно пытаясь убедить себя, что меня уже нет.
Я встал в этой благоухающей ладаном и маслом пачулей комнате и посмотрел из ее окна на окно моего офиса. Там ненадолго вспыхнул свет. И я увидел двоих с фонариками, рыскавших по комнате. Они распахнули пустой шкаф для хранения документов, осмотрелись, а потом затаились, один в кресле, а другой – за дверью, ожидая моего возвращения. Я улыбнулся про себя. В моем офисе холодно и неуютно, а они там будут тщетно ждать меня несколько часов, пока наконец не догадаются, что я не вернусь.
И я оставил мадам Иезекииль, которая переворачивала свои карты одну за другой, пристально на них глядя, словно ожидая, что картинки появятся вновь; а сам спустился по лестнице и, оказавшись на улице, добрел до бара.
Там было совсем пусто; бармен курил сигарету, которую, завидев меня, погасил.
– А где же фанаты шахмат?
– Сегодня у них праздник. Они будут на пирсе. Ну что ж. Вам ведь «Джека Дэниэлса», не так ли?
– Звучит неплохо.
Он налил мне выпить. Я узнал свой стакан по отпечатку большого пальца. На барной стойке все еще лежал Теннисон, и я взял в руки книгу.
– Хорошая книга?
Рыжий как лисица бармен забрал у меня томик, раскрыл и прочел:
- Внизу, под громом верхней глубины,
- Там, далеко, под пропастями моря,
- Издревле, чуждым снов, безбурным сном
- Спит Кракен…[16]
Я прикончил выпивку.
– Ну и? Что это значит?
Он вышел из-за барной стойки и подвел меня к окну.
– Видите? Вон там.
Он указывал в западном направлении, в сторону скал. И когда я посмотрел, на одной из вершин вдруг зажегся костер; он вначале вспыхнул, а потом загорелся и горел медно-зеленым пламенем.
– Они хотят пробудить богов Пучины, – сказал бармен. – Звезды, и планеты, и луна – все сейчас там, где надо. Время пришло. Суша опустится на дно морское, а вода поглотит сушу…
– Ибо мир очистится льдом и водой из пучины, а я буду признательна, если вы впредь будете занимать только выделенную вам в холодильнике полку, – сказал я.
– Простите?
– Это я так. А каков кратчайший путь до этих скал?
– Подняться по Марш-стрит. Повернуть налево у церкви Дагона и до Менуксет-вэй, а там все время прямо. – Он снял пальто, висевшее за дверью, и надел его. – Идемте. Я вас провожу. Не хотелось бы пропустить забаву.
– Вы уверены?
– Все равно сегодня ко мне за выпивкой никто не придет.
Мы вышли, и он запер дверь бара на замок.
На улице было промозгло, а белый снег стлался по земле словно дымка. С улицы невозможно было разглядеть, сидит ли мадам Иезекииль в своем гнездышке над неоновой вывеской, а также ждут ли меня по-прежнему в моем офисе незваные гости.
Низко нагнув головы, мы двинулись в путь навстречу ветру.
Сквозь его шум я слышал, как бармен говорил сам с собой:
– Веялка с гигантскими лопастями зеленый сон, – донеслось до меня.
- Там он века покоился и будет
- Он там лежать, питаяся во сне
- Громадными червями океана,
- Пока огонь последний бездны моря
- Не раскалит дыханьем, и тогда,
- Чтоб человек и ангелы однажды
- Увидели его, он с громким воплем…
Тут он замолчал, и дальше мы шли молча, а снег обжигал наши лица.
Всплывет, и на поверхности умрет, продолжил я про себя, но вслух ничего не сказал.
Через двадцать минут мы уже вышли из Иннсмута. И здесь же закончился Менуксет-вэй, превратившись в узкую грязную тропинку, местами покрытую снегом и льдом, на которой мы скользили и подскальзывались, продвигаясь вперед.
Луна еще не взошла, но звезды уже начали появляться. Их было очень много. Они сверкали по всему небу, как алмазная пыль и осколки сафпиров. Только на побережье можно увидеть столько звезд, много больше, чем вам когда-либо доводилось видеть в городе.
На вершине утеса, у костра стояли двое, один – огромный и толстый, другой много меньше. Опередив меня, бармен подошел к ним и встал рядом, лицом ко мне.
– Вот, смотрите, – сказал он, – я привел жертвенного волка.
Теперь в его голосе мне слышалось что-то странно знакомое.
Я ничего не сказал. Зеленые языки пламени освещали их снизу: так всегда бывает у призраков.
– Знаете, зачем я вас сюда привел? – спросил бармен, и я понял, почему его голос показался мне знакомым: это был голос человека, который пытался мне продать алюминиевый сайдинг.
– Чтобы предотвратить конец света?
Он засмеялся.
Вторым оказался толстяк, что спал у меня в кресле.
– Ну, если говорить с точки зрения эсхатологии, – прошептал он голосом таким низким, что стены бы задрожали. Глаза его были закрыты. Он крепко спал.
Третья фигура была вся укутана шелками, и от нее пахло маслом пачулей. Она держала нож и ничего не говорила.
– Этой ночью, – сказал бармен, – луна принадлежит богам Пучины. Этой ночью звезды расположены так же, как это было в древние темные времена. Этой ночью, если мы их призовем, они придут. Если примут нашу жертву. И если услышат наши призывные крики.
В небе, на той стороне залива, взошла луна, огромная, янтарная и тяжелая, и снизу, из океана, до нас донесся хор низких квакающих голосов.
Лунный свет среди льда и снега не столь ярок, как дневной, но и при нем все неплохо видно. А мое зрение становилось острее в лунном свете: я увидел, как мужчины и женщины, похожие на лягушек, погружались и выныривали из холодной воды, словно в медленном танце. Все они были как лягушки, и мужчины и женщины; мне казалось, я увидел там и мою хозяйку, которая раздувалась и квакала вместе с другими.
Слишком рано для следующей трансформации; я был изможден после предыдущей ночи, но под этой янтарной луной чувствовал себя странно.
– Бедный человеко-волк, – донесся шепот из шелков. – Все его сны вели к этому: к одинокой смерти на отдаленном утесе.
Я буду видеть сны, если захочу, – ответил я, – а моя смерть – это мое личное дело. Но я не был уверен, что сказал это вслух.
Чувства обостряются в лунном свете; я все еще слышал шум океана, но теперь, поверх него, я мог слышать, как набегает и разбивается о берег каждая волна; я слышал, как плещутся люди-лягушки; со дна залива до меня доносился шепот утопленников; я слышал, как поскрипывают заросшие водорослями мачты давно затонувших кораблей.
Обоняние тоже обостряется. Алюминиевый сайдинг был человеком, а в толстяке текла нечеловеческая кровь.
Что до фигуры в шелках…
Когда я был в человеческом обличье, я слышал только запах ее духов. Теперь поверх этого запаха я чуял какой-то другой, более легкий. Запах распада, разлагающегося мяса и гниющей плоти.
Шелка затрепетали. Она приближалась ко мне. И в руке у нее был нож.
– Мадам Иезекииль! – Мой голос звучал хрипло и грубо. Скоро я и такого лишусь. Я не понимал, что происходит, но луна поднималась все выше и выше, теряя свой янтарный цвет и заполняя мой мозг своим бледным светом.
– Мадам Иезекииль!
– Ты заслужил смерть, – сказала она голосом холодным и низким. – Хотя бы за одно то, что ты сделал с моими картами. С моей старой колодой.
– Я не умру, – сказал я. – «Даже тот, кто сердцем чист и ночь проводит за чтеньем молитв». Помните?
– Дерьмо собачье, – сказала она. – Тебе известен самый старый способ снять проклятие оборотня?
– Нет.
Огонь в костре сделался ярче; он горел зеленым пламенем подводного мира, зеленым пламенем медленно колышущихся водорослей; зеленым пламенем изумрудов.
– Нужно дождаться, пока оборотень примет человеческий облик, через месяц после трансформации; потом взять жертвенный нож и убить его. Вот и все.
Я попытался бежать, но стоявший сзади бармен схватил меня за руки и вывернул запястья. Серебристое лезвие сверкнуло в лунном свете. Мадам Иезекииль улыбнулась.
И чиркнула мне по горлу.
Кровь брызнула и потекла. А потом замедлилась и остановилась…
Пульсирующая боль в лобной части головы, и что-то давит на позвоночник. На меня, как нечего делать, накатывает трансформация, а из ночи надвигается красная стена.
Я чувствую, как звезды растворяются в океане, далеком, пузырящемся и соленом, мои пальцы покалывает иголками, кожу обжигают языки пламени, глаза мои светятся, как топазы, а во рту я ощущаю вкус ночи.
В ледяном воздухе мое дыхание клубами поднималось вверх.
Я вдруг зарычал, глубоким, низким рыком, ощущая снег под передними лапами.
Потом, попятившись, замер – и прыгнул.
В окружавшем меня воздухе, как туман, повис запах гнили. Высоко в прыжке я словно помедлил, и что-то лопнуло, как мыльный пузырь…
Я оказался глубоко на дне, во тьме моря, стоя на четырех лапах на скользкой скале у входа в крепость, высеченную из огромных камней. Камни отсвечивали бледным, мерцающим во тьме светом; легкая люминесценция, словно на стрелках часов.
Облачко черной крови вырвалось из моей шеи.
Она стояла передо мной, у входа. Теперь она была шести или, может, семи футов роста. На костях ее скелета были остатки плоти, рваной и обглоданной, а шелка оказались водорослями, колыхавшимися в холодной воде, в этой дремлющей без снов пучине. Они скрывали ее лицо, как многослойная зеленая вуаль.
Лицевая поверхность ее рук и плоть, что свисала с ребер, были покрыты моллюсками.
Я чувствовал себя словно раздавленным. Я не мог больше думать.
Она двинулась ко мне. Водоросли, окружавшие ее голову, сильнее заколыхались. Лицо у нее было похоже на еду из суши-бара, которую не хочется есть: присоски, и шипы, и колышущиеся стебли актинии; но отчего-то я знал, что она улыбается.
Я оттолкнулся задними лапами. Мы сошлись там, в пучине, и мы боролись. Было очень холодно и очень темно. Я сомкнул челюсти на ее лице и почувствовал, как что-то хрустнуло и порвалось.
Это был почти поцелуй, там, в бездонной глубине…
Я мягко приземлился на снег, а в зубах у меня был шелковый шарф. Над землей кружили другие шарфы, но мадам Иезекииль не было видно.
Серебряный нож лежал в снегу на земле. Я стоял на четырех лапах и ждал, мокрый до костей. Отряхнулся, и далеко от меня разлетелись брызги морской воды. Я слышал, как она шипела и пузырилась, попав в огонь.
Голова кружилась, и не было сил. Я глубоко-глубоко вздохнул.
Внизу, очень далеко, в заливе, я увидел людей-лягушек, качавшихся на волнах, словно мертвые; это длилось несколько секунд, а потом они закружились и прыгнули, и один за другим исчезли под водой.
Кто-то завопил. Это был бармен с лисьими волосами, пучеглазый торговец алюминиевым сайдингом. Он смотрел в ночное небо, на проплывавшие по нему и закрывавшие звезды тучи, и вопил. В его крике были гнев и разочарование, и это меня напугало.
Он поднял нож, пальцами стряхнул с рукоятки снег и вытер с лезвия кровь о свое пальто. И посмотрел на меня. Он плакал.
– Скотина, что ты с ней сделал?
Я мог бы сказать ему, что ничего ей не сделал и она все еще там, на страже, в глубинах океана, но я не мог говорить, а мог лишь рычать, и скулить, и выть.
Он продолжал плакать. От него разило безумием и тоской. Он поднял нож и бросился на меня, а я отступил в сторону.
Некоторые не могут приспособиться даже к незначительным переменам. Бармен пронесся мимо – и упал с утеса, в ничто, в пустоту.
В лунном свете кровь кажется черной, не красной, а следы, что он оставил в том месте, откуда упал, и ударился, и покатился, были черными и темно-серыми. Когда наконец он замер на льду у изножья утеса, из моря появилась рука и утянула его, с мучительной медлительностью, во тьму глубин.
Кто-то поскреб мне затылок. Это было приятно.
– Чем она была? Просто картинкой, олицетворением богов Пучины, сэр. Фантом, призрак, если хотите, присланный из бесконечных глубин, чтобы ускорить конец мира.
Я ощетинился.
– Нет, теперь все закончилось – на время. Вы ее растерзали, сэр. А ритуал – особая вещь. Трое из нас должны стоять вместе и произносить священные имена, в то время как будет литься невинная кровь, орошая землю у наших ног.
Я посмотрел на толстяка и протяжно завыл. Он сонно похлопал меня по загривку.
– Понятно, что она не любит вас, мой мальчик. В материальном смысле слова она едва ли существует в этом измерении.
Снег снова пошел. Костер начал затухать.
– Ваша сегодняшняя трансформация, должен признать, неожиданная – прямой результат того же небесного расклада и лунных сил, превративших сегодняшнюю ночь в чудесную ночь, в ночь, что вернула из Пучины моих старых друзей…
Он продолжал говорить своим низким голосом, и, возможно, рассказывал важные вещи. Но я никогда о том не узнаю, потому что во мне взыграл аппетит, и от сказанного остались лишь тени смыслов; меня больше не интересовали ни море, ни скалы, ни этот толстяк.
В лесу за лугом я заприметил оленей: я чуял их запах в зимнем ночном воздухе.
А я ведь очень проголодался.
Когда пришел в себя ранним утром следующего дня, я был гол, а возле, на снегу, лежал наполовину съеденный олень. По его глазу ползла муха, а язык вывалился из мертвого рта, и вид был забавный и жалостный, как на карикатуре в газете.
В том месте, где у него вспорот живот, снег окрасился во флюоресцентно-красный цвет.
Мои лицо и грудь были в липком кровавом месиве. А расцарапанное горло саднило и жгло; но к следующему полнолунию это пройдет.
Откуда-то издалека светило солнце, маленькое и желтое, зато небо было синим и безоблачным, а ветра не было совсем. До меня доносился рокот моря.
Мне было холодно, и я был гол, окровавлен и одинок. Как хорошо, подумал я, что такое случается в самом начале со всеми. А у меня бывает только раз в месяц.
Я смертельно устал, но должен был держаться, пока не найду пустой сарай или пещеру, где мог бы пару недель отлежаться.
Низко пролетел ястреб, и что-то свисало из его когтей. На мгновение он завис надо мной, и к моим ногам упал маленький серый кальмар. Ястреб улетел, а кальмар лежал неподвижно, со всеми своими присосками.
Я воспринял его как предзнаменование, но хорошее или дурное – не знал, да мне это было и не важно; я повернулся спиной к морю и призрачному Иннсмуту и двинулся вперед, к огням большого города.
Не спрашивай Джека
Никто не знал, откуда игрушка взялась, кому из предков или дальних родичей принадлежала, прежде чем ее отдали в детскую.
Это была резная шкатулка, расписанная красным и золотым. Нет сомнений, она привлекала внимание и, во всяком случае так считали взрослые, возможно, представляла ценность как предмет старины. К сожалению, замок проржавел, а ключ потерялся, и выпустить Джека не представлялось возможным. И все же шкатулка была замечательная, тяжелая, резная и с позолотой.
Дети с ней не играли. Она лежала на самом дне старого деревянного ящика с игрушками, такого же старого и огромного, как пиратский сундук с сокровищами. Джек-в-табакерке был погребен под куклами и паровозиками, клоунами и бумажными звездами, и магическими фокусами, и сломанными марионетками с безнадежно запутанными нитями, в нарядных платьях (вот обрывки старинного подвенечного платья, а вот сплющенный временем черный цилиндр), украшенных бижутерией; с треснувшими обручами и елочными макушками, с лошадками на палочке. Подо всем этим и лежала шкатулка.
Дети с ней не играли. Оставшись наверху одни, они перешептывались. В пасмурную погоду, когда ветер завывал в трубе, а дождь барабанил по крыше и по карнизам с шумом бежала вода, они рассказывали друг другу истории о Джеке, хоть никогда его и не видели. Один утверждал, что Джек – злой волшебник, помещенный в коробку в наказание за преступления, слишком ужасные, чтобы о них рассказывать; другой (я уверен, это была одна из девочек) склонялся к мысли, что шкатулка на самом деле – ящик Пандоры, и Джек сидит там для того, чтобы не дать плохим вещам снова выйти наружу. Они даже не прикасались к шкатулке, но время от времени кому-то из взрослых вдруг случалось вспомнить старого доброго Джека-в-табакерке и, достав из ящика, водрузить шкатулку на каминную полку, вот тогда, набравшись храбрости и выждав немного, дети снова прятали ее на самое дно.
Дети не играли с Джеком-в-табакерке. А когда они выросли и разъехались из большого дома, старую детскую заперли, и о ней почти позабыли.
Хотя на самом деле было не так. Дети всю жизнь помнили, как поодиночке, в синем лунном свете, босиком поднимались в детскую. Это было сродни лунатизму: беззвучные шаги по деревянным ступеням и затертому ковру. Они вспоминали, как открывали драгоценный ящик, как, перерыв кукол и одежду, доставали из него шкатулку.
Когда мальчик или девочка касался замочка, крышка откидывалась, медленно, как восходит солнце, и тогда начинала играть музыка и появлялся Джек. Он не выскакивал из табакерки, потому что у него не было пружинки, но медленно и неотвратимо поднимался и манил ребенка, чтобы тот наклонился к нему, и улыбался.
И тогда, в лунном сиянии, он говорил им вещи, которые они не могли ни запомнить, ни позабыть.
Старший мальчик погиб на войне. Младший, когда родители умерли, унаследовал дом, однако тот у него отобрали, так как однажды ночью его нашли в подвале с тряпьем, парафином и спичками: он собирался сжечь большой дом до тла. Его отвезли в дурку, и возможно, он все еще там.
Другие дети, то есть когда-то девочки, а теперь женщины, все как одна отказались вернуться в дом, в котором выросли; окна в доме закрыли ставнями, а на двери повесили огромные замки, и сестры приезжали сюда так же редко, как навещали могилу старшего брата и то существо, что некогда было их младшим братом, а точнее сказать, никогда.
Шли годы, девочки стали старухами, а в их детской свили гнезда совы и летучие мыши, и среди забытых игрушек обосновались крысы. Звери без интереса смотрят на поблекшие картинки на стенах, оставляя помет на том, что некогда было ковром. А глубоко в ящике, в шкатулке, все еще сидит Джек. Он улыбается и ждет, и свято хранит свою тайну. Он ждет, когда придут дети. И может так ждать целую вечность.
Дочь сов
Из книги Джона Обри «Реликвии язычества и иудаизма» (1686–1687; с. 262–263)
Я услышал эту историю от моего друга Эдмунда Уайлда эсквайра, которому рассказал ее мистер Фаррингдон, утверждавший, будто она очень давняя. Однажды ночью в городе Димтоне новорожденную девочку подбросили на паперть церкви, где и нашел ее наутро церковный сторож, а в руке она держала странную вещицу, совиный катышек, в котором, когда раскрошился, обнаружилось все то, что обычно содержат совиные катышки, а именно: частички кожи, и зубы, и мелкие косточки.
Старые жены города сказывали так: девочка эта – дочь сов, и гореть ей до тла, ибо родила ее не женщина. Однако мудрые головы и седые бороды тому воспротивились, и малышку отнесли в монастырь (было это вскоре после папистских времен, и монастырь стоял заброшенный, ибо горожане считали, что там обитают бесы и прочая нечисть, а также совы, и сычи, и тьмы летучих мышей, которые свили в башнях гнезда) и там ее и оставили, и одна из жен города каждый день ходила туда, кормила дитя и пеленала.
Ей предрекали смерть, однако она не умерла: напротив, росла год от года, а когда ей исполнилось четырнадцать, стала девушкой. Была она раскрасавицей, каких и не встретишь, чудесная девушка, проводившая дни и ночи за высокими каменными стенами, и никто-то ее никогда не видел, одна только женщина, что приходила каждое утро. Однажды в воскресный день добрая женщина слишком громко стала нахваливать ее красоту, а еще рассказывать, что та совсем не умеет говорить, ведь ее тому не учили.
Мужчины Димтона, и седобородые старцы, и безусые юнцы, собрались и сказали: что если пойти на нее взглянуть, кто о том узнает? (Под «взглянуть» они имели в виду надругаться.)
На том и порешили: мужчины, мол, пойдут на охоту при полной луне, и так они и сделали, вышли из домов поодиночке и повстречались уже возле монастыря. И тогда главный судья Димтона отпер ворота, они и вошли один за другим. Нашли же ее в подвале, куда она спряталась, напуганная шумом.
Девушка была еще краше, чем им говорили: волосы рыжие, большая редкость, а надета на ней лишь белая рубаха. И когда она их увидела, еще больше перепугалась, ведь прежде мужчин не видала, лишь ту одну женщину, что приносила поесть; и она уставилась на них своими огромными глазищами, и стала тихонько вскрикивать, словно умоляя ее пощадить.
Горожане лишь посмеялись, они задумали злое и были подлыми жестокими людьми; и подошли они к ней в лунном свете.
Девушка закричала уже громко, но и это их не остановило. И тогда зарешеченное окно потемнело, лунный свет пропал, словно кто-то его застил, и раздалось хлопанье мощных крыльев; но мужчины того не видели, собираясь учинить ей бесчестье.
Во сне в ту ночь слышали жители Димтона, как кричали, выли и ухали огромные птицы; и во сне они видели, как те птицы превратились в мышей и крыс.
Наутро, когда солнце было высоко, жены исходили город вдоль и поперек в поисках мужей и сыновей; когда же догадались заглянуть в монастырь, там нашли они в подвале совиные катышки: и были в тех катышках волосы, и пряжки, и монеты, и мелкие косточки, и валялись на полу пучки соломы.
С тех пор никто больше не видел мужчин Димтона. Зато девушку ту, годы спустя, по слухам, видели высоко, то на вершине дуба, то на колокольне, и всегда это было в сумерках или ночью, и никто не мог бы поклясться, она то была или нет.
(Говорили о белой фигуре: а мистер Э. Уайлд не смог в точности припомнить, как ее видели, одетой или нагой.)
Сам не знаю, правда то или нет, но история занятная, вот я и решил ее рассказать.
Пруд с золотыми рыбками и другие истории
Шел дождь, когда я прилетел в Лос-Анджелес, и я вдруг почувствовал, что оказался в мире черно-белого кино.
В аэропорту меня ждал водитель в черной униформе, в руке он держал белую картонку, хоть и с ошибкой, но с аккуратно выведенной моей фамилией.
– Я отвезу вас прямо в отель, сэр, – сказал водитель. Кажется, он был слегка разочарован тем, что у меня не оказалось багажа, и ему нечего было поднести до машины, кроме видавшей виды дорожной сумки с футболками, бельем и носками.
– Это далеко?
Он покачал головой.
– Минут двадцать пять – тридцать. Бывать здесь доводилось?
– Нет.
– Ну так я вам скажу, в Лос-Анджелесе все в тридцати минутах. Куда бы вы ни отправились. Тридцать минут, не больше. – Он засунул мою сумку в багажник лимузина, который назвал рыдваном, и открыл мне дверцу.
– И откуда вы приехали? – спросил он, когда мы вырулили на скользкие, мокрые, в неоновых пятнах улицы.
– Из Англии.
– Из Англии?
– Ну да. Вы там бывали?
– Не-сэр. В кино видел. Вы артист?
– Писатель.
Он потерял ко мне интерес, лишь время от времени вполголоса костерил встречных водителей.
Крутанув руль, перестроился в другой ряд, и мы обогнали четыре машины, застрявшие в нашем прежнем ряду.
– Когда в этом городе вдруг начинает накрапывать дождь, все тут же забывают, как водить машину, – сказал он. Я вжался в спинку сиденья. – У вас в Англии все время дожди, я слышал. – Это было утверждение, не вопрос.
– Иногда.
– Что значит иногда! В Англии дожди идут каждый день, – засмеялся он. – И еще густой туман. Очень, очень густой.
– Я бы не сказал.
– Чегой-то вы бы не сказали? – Он был озадачен. – Я в кино видел.
Мы помолчали, пробираясь сквозь голливудский дождь; но очень скоро он не выдержал:
– Просите номер, где умер Белуши[17].
– Что вы сказали?
– Белуши. Джон Белуши. Как раз в этом отеле. Передоз. Слыхали?
– А, ну да.
– О его смерти сняли кино. В главной роли какой-то толстяк, ничуть не похож. Но никто правду так и не сказал. Короче, он был не один. С ним еще двое. Кинокомпаниям не захотелось копаться во всем этом дерьме. Но когда водишь лимузин, много чего услышишь.
– Правда?
– Робин Уильямс и Роберт Де Ниро. Они с ним были. Унюхались в хлам.
Возле здания отеля – белого шато в псевдоготическом стиле – я попрощался с водителем; регистрируясь, я не стал просить номер, в котором умер Белуши.
Я добрался к моему шале под дождем, с сумкой и связкой ключей, которыми, как объяснил портье, мне придется открывать множество дверей и ворот. В воздухе пахло мокрой пылью и, как ни странно, микстурой от кашля. Было сумрачно, почти темно.
Вода текла отовсюду. Она сбегала ручьями через внутренний двор, с шумом заполняя небольной пруд, примыкавший к задней стене ограды.
Я поднялся в небольшую сырую комнатку. Слишком убогое место для звездной смерти.
Постель была слегка влажной, а дождь все выбивал свой сумасшедший ритм по коробу кондиционера.
Я немного посмотрел по телевизору повтор сериала «Будем здоровы!», незаметно перешедшего в «Такси», которое, став черно-белым, превратилось в «Я люблю Люси»[18], и наконец отправился спать.
Мне снились безостановочно бьющие в ударные ударники в тридцати минутах езды.
А разбудил меня телефон.
– Э-ге-гей! Как устроился, неплохо?
– Кто это?
– Джейкоб со студии. Мы ведь завтракаем вместе, э-гей?
– Завтракаем?
– Ну и ладно. Я к тебе заеду через тридцать минут. Столик уже заказан. Ну и ладно. Ты получил мои сообщения?
– Я…
– Вчера вечером отправил по факсу. До скорого.
Дождь кончился. Солнце светило ярко и горячо: настоящим голливудским светом. Я дошел до главного здания, ступая по ковру листьев эвкалипта, излучавших тот самый запах микстуры от кашля.
На стойке администратора мне передали конверт с присланными по факсу моим графиком на ближайшие несколько дней и приветственными посланиями с накарябанным на полях «Это будет блокбастер!» и «Что-что, но это будет круто!». Факс был подписан Джейкобом Клейном, человеком из телефона. Никогда не имел никаких дел с человеком по имени Джейкоб Клейн.
К отелю подъехала небольшая спортивная красная машина. Из нее вышел человек и помахал мне рукой. Я подошел. У него была аккуратная пегая бородка, вполне переводимая в денежный эквивалент улыбка и золотая цепь на шее. Он показал мне экземпляр «Сынов человеческих».
Это был Джейкоб. Мы пожали друг другу руки.
– А Дэвид тоже будет? Дэвид Гэмбол?
Дэвидом Гэмболом звали человека, с которым я обсуждал по телефону мою поездку. Он не был продюсером. Я вообще точно не знал, кем он был. Он представился как «участник проекта».
– Дэвид больше не имеет отношения к студии. Можно сказать, теперь курирую проект я. Хочу, чтобы ты знал, после твоей книги я на взводе. Э-гей.
– А это хорошо? – Мы сели в машину. – И где будет проходить встреча?
Он покачал головой.
– Это не встреча, – сказал он. – Это завтрак. – Я был озадачен, и ему стало меня жаль. – Это как бы предваряющая встречу встреча, – пояснил он.
Мы отправились в молл примерно в получасе езды от отеля, и Джейкоб по дороге поведал, как ему понравилась моя книга и как он счастлив, что я принимаю теперь участие в проекте. Он сказал, это была его идея поселить меня в этом отеле.
– Это добавит тебе ощущений от Голливуда, каких ни за что не получишь во «Временах года» и «Ма мэзон», не так ли? – и поинтересовался, дали ли мне шале, в котором умер Джон Белуши. Я ответил, что не знаю; скорее всего, нет.
– А тебе известно, с кем он был в тот вечер? Они скрывают это на своих студиях.
– Нет. С кем же?
– С Мерил и Дастином.
– Мы говорим о Мерил Стрип и Дастине Хоффмане?
– Ну да.
– А откуда тебе это известно?
– Люди говорят. Это ж Голливуд. Понимаешь?
Я кивнул, как будто понимаю, но на самом деле ничего не понял.
Люди говорят, что книги пишутся сами по себе, и это ложь. Сами по себе книги не пишутся. Для этого требуются и мысли, и поиски, и ломота в спине, и заметки в блокноте, а времени и работы – вообще немерено.
Правда, к «Сынам человеческим» это не относится; эта книга была написана сама по себе.
Нам, писателям, непрестанно задают вопрос: «Откуда вы берете ваши идеи?»
Ответ на него таков: из всего сразу. Вещи находят друг друга. И внезапно, когда соединяются верные компоненты, получается – абракадабра!
Началось с того, что практически случайно я посмотрел документальный фильм о Чарльзе Мэнсоне[19] (он был записан на видеокассету, которую мне передал друг, где, помимо него, были вещи, которые я действительно хотел посмотреть): там была запись первого ареста Мэнсона, когда все думали, что он невиновен и что правительство просто придирается к хиппи. И там, на экране, был человек с харизмой, красивый оратор-мессия. Ради такого не то что в ад босиком побежишь – ради такого убьешь.
Начался судебный процесс, и через несколько недель красавец превратился в еле волочащего ноги, с бессвязной речью, похожего на обезьяну человека с вырезанным на лбу крестом. Как бы то ни было, гениальная личность исчезла, ее не стало. Но ведь прежде была.
Далее было показано, как бывший сокамерник с тяжелым взглядом говорил: «Чарли Мэнсон? Послушайте, да это же посмешище. Ничто. Мы над ним потешались. Понимаете? Он ничто!»
И я согласился. А ведь было время, когда Мэнсон еще не был харизматичным лидером. Я подумал о благодати, о чем-то данном свыше, чего он вдруг лишился.
Я жадно досмотрел документальный фильм. И тогда, комментируя черно-белые кадры, человек за кадром что-то сказал. Я перемотал, и он сказал это снова.
Так пришла идея. Так появилась книга, которая возникла сама по себе.
А сказал он следующее: младенцы, рожденные женщинами «Семьи» от Мэнсона, были разосланы по детским домам, и по суду каждому дали имя, конечно же, совсем другое, не Мэнсон.
И я подумал о дюжине двадцатипятилетних сыновей Мэнсона. О даре свыше, полученном ими, всеми одновременно. Двенадцать юных Мэнсонов, во всем своем великолепии, со всего мира направляющихся в Лос-Анджелес. И одной дочери, тщетно пытающейся помешать им объединиться и, как будет сказано на четвертой стороне обложки, «осознать их ужасающее предназначение».
Я писал «Сынов человеческих» как одержимый: через месяц я закончил книгу и отправил своему агенту, которую здорово удивил («Ну, это не совсем то, что вы обычно пишете, дорогой мой», – ободряюще сказала она), и которая впервые продала мою книгу с аукциона много дороже, чем я предполагал. (Гонорара, вырученного за остальные книги, три сборника изящных, полных аллюзий странных историй о призраках, едва хватило, чтобы оплатить компьютер, на котором они были написаны.)
А затем, вновь на аукционе, права на ее экранизацию были куплены Голливудом. Книгой заинтересовались три или четыре студии: я заключил договор со студией, которая предложила мне написать сценарий. Я чувствовал, что фильма не будет, что они с этим не справятся. Но тут из моего аппарата стали извергаться факсы, это было поздно вечером, и большинство были подписаны неким Дэйвом Гэмболом; наконец однажды утром я подписал контракт в пяти экземплярах, увесистый, как кирпич; а несколько недель спустя мой агент сообщила, что пришел первый чек и билеты в Голливуд, на «предварительные переговоры». Это было похоже на сон.
Билеты были в бизнес-класс. И в тот момент, когда их увидел, я понял, что это не сон.
Так что в Голливуд я оправился в первом салоне аэробуса, жуя копченую лососину и имея при себе еще тепленьких «Сынов человеческих» в твердом переплете.
Итак, завтрак.
Мне сказали, как понравилась моя книга. Имен этих людей я не уловил. У всех мужчин либо борода, либо бейсболка, либо и то и другое; женщины на удивление привлекательны, но в каком-то абстрактном смысле.
Заказ делал Джейкоб, он же и платил. Он объяснил мне, что предстоящая встреча – простая формальность.
– От твоей книги мы без ума, – сказал он. – А зачем было покупать права, если бы мы не хотели снять по ней фильм? Зачем заказывать тебе сценарий, если не ради того своеобразия, какое ты можешь привнести в проект? Твоей самости.
Я очень серьезно кивнул, словно литературная самость была результатом моих целенаправленных длительных усилий.
– Такое придумать. Такую книгу написать. Ты просто уникум.
– Один из самых-самых, – сказала то ли Дайна, то ли Тайна, а возможно, Динна.
Я поднял бровь.
– И что от меня потребуется?
– Восприимчивость, – сказал Джейкоб. – И позитивность.
Дорога на студию заняла примерно полчаса. На маленькой красной машине Джейкоба мы въехали в ворота, и Джейкоб принялся выяснять отношения с охраной. Я решил, что он тут недавно, и у него еще нет постоянного пропуска.
А когда мы въехали на территорию, выяснилось, что у него нет и парковочного места. Я и сейчас не понимаю, почему: судя по его же словам, место для парковки так же непреложно свидетельствует о статусе на студии, как подарки от императора определяли статус придворного в древнем Китае.
Мы проехали по улицам странно плоского Нью-Йорка и припарковались перед огромным старым банком.
Еще десять минут пешком, и я оказался в конференц-зале, где Джейкоб и все, с кем мы завтракали, ждали кого-то еще. В суматохе я не уловил, кто это был и чем он или она интересен. Достав экземпляр своей книги, я положил ее перед собой, как оберег.
Кто-то вошел. Это был высокий, остроносый, с острым подбородком человек со слишком длинными волосами, словно, похитив кого-то много моложе себя, он стащил у него волосы. Как ни странно, родом он был из Австралии.
Он сел.
Посмотрел на меня.
– Давай, – сказал он.
Я глянул на своих новых знакомых, но ни с кем не встретился взглядом, они отводили глаза. И тогда я начал говорить: о книге, о сюжете, о концовке – взрыве в ночном клубе, где хорошая дочка Мэнсона подорвала всех остальных. Или думает, что подорвала. О том, что всех сыновей Мэнсона мог бы сыграть один актер.
– И вы в это верите? – это был его первый вопрос.
На него было легко ответить. На этот вопрос мне уже приходилось отвечать по меньшей мере двум дюжинам британских журналистов.
– Верю ли я, что Чарльз Мэнсон одержим некоей сверхъестественной силой, и эта одержимость теперь передалась его многочисленным детям? Нет. Верю ли я, что произошло нечто странное? Думаю, мне ничего другого не остается. Если коротко, возможно, дело было в том, что его безумие оказалось в шаге от безумия внешнего мира. Не знаю.
– М-м-м. Этого парнишку Мэнсона. Может его сыграть Киану Ривз?
Господи, нет, подумал я. Джейкоб перехватил мой взгляд и отчаянно кивнул.
– Почему бы нет? – ответил я. Все это мне только мнилось и не имело отношения к реальности.
– Мы ведем переговоры с его командой, – задумчиво кивнул Некто.
И меня отправили писать для них сценарный план. Под ними, как я понял, имелся в виду тот австралиец, впрочем, я не вполне уверен.
Прежде чем я ушел, мне вручили 700 долларов, за которые я расписался: суточные, за две недели.
Два дня я писал сценарный план. Я старался позабыть о книге, представив себе историю как кино. Работа спорилась. Я сидел в своей маленькой комнате с ноутбуком, присланным со студии, и распечатывал страницу за страницей на струйном принтере оттуда же. Ел я прямо в номере.
После полудня я прогуливался по бульвару Сансет и доходил до «почти круглосуточного» книжного, где покупал газету. Потом на полчаса садился во дворике отеля и читал. А получив свою дозу солнца и свежего воздуха, шел обратно в сумерки, переделывать свою книгу в нечто совсем другое.
Очень старый афроамериканец, служащий отеля, мучительно медленно каждый день проходил в это время через двор, поливал растения и кормил рыбок. Проходя, он всегда улыбался, а я кивал в ответ.
На третий день, когда, стоя у пруда, он рукой доставал из него мусор: несколько монет и пачку из-под сигарет – я встал и подошел.
– Привет! – сказал я.
– Сэ… – ответил он.
Я хотел было попросить его не называть меня сэром, но не смог придумать, как это сделать, чтобы он не обиделся.
– Красивые рыбки.
Он кивнул и заулыбался.
– Декоративный карп. Привезли сюда прямо из Китая.
Мы смотрели, как они плавают в маленьком пруду.
– Интересно, не скучно им?
Он покачал головой.
– Мой внук, он ихтиолог, знаете?
– Рыб изучает?
– Угу. Он говорит, у них памяти хватает примерно на тридцать секунд. Вот они плавают в пруду, и им все тут внове, типа, ой, я тут и не был никогда. А встретив рыбку, которую сто лет знают, они спрашивают: «Кто ты, чужак?»
– Вы не могли бы попросить вашего внука сделать кое-что для меня? – Старик кивнул. – Я где-то читал, что продолжительность жизни карпов неизвестна. Они якобы не старятся, как мы. Умирают, когда их убивают люди, или хищники, или болезни, но не старятся и не умирают сами по себе. То есть могут жить вечно.
Он кивнул:
– Я спрошу. В самом деле интересно. Что до этих трех, вот этого я назвал Призрак, ему года четыре-пять. Но два других, они-то приехали прямо из Китая, когда я начал здесь работать.
– И когда же это было?
– Кажется, в одна тысяча девятьсот двадцать четвертом году от Рождества Господа нашего. Ну, сколько бы вы мне дали?
Я не мог ответить. Его словно вырезали из старого дерева. Больше пятидесяти, но моложе Мафусаила. Так я и сказал.
– Я родился в 1906-м. Богом клянусь.
– И где же, в Лос-Анджелесе?
Он покачал головой.
– Когда я родился, на этом месте была апельсиновая роща, очень далеко от цивилизации.
Он рассыпал корм по поверхности воды. Ловя его, все три серебристо-белые рыбины выскакивали и смотрели на нас – или так казалось, – а их круглые рты все открывались и закрывались, словно они говорили с нами на своем бессловесном, тайном языке.
Я указал на того, о котором он говорил:
– Это Призрак, да?
– Призрак, верно. А тот, под кувшинкой, вон, хвост торчит, видите? Его зовут Бастер, в честь Бастера Китона[20]. Китон как раз останавливался здесь, когда привезли этих двух, постарше. А это наша Принцесса.
Принцессу легко было отличить от остальных. Она была нежно-кремового цвета, с ярким темно-красным пятном вдоль спины, что очень ее выделяло.
– Красотка.
– Да, в самом деле. Все при ней.
Он глубоко вздохнул и принялся кашлять, и хриплый кашель сотрясал все его хрупкое тело. В тот момент я впервые распознал в нем девяностолетнего старика.
– С вами все в порядке?
Он кивнул.
– Да все, все хорошо. Старые кости, – сказал он. – Старые кости.
Мы пожали друг другу руки, и я вернулся в свой сумрак, к сценарному плану.
Я распечатал дописанный текст и отправил его факсом на студию, Джейкобу.
На следующий день он приехал ко мне в шале. Вид у него был расстроенный.
– У вас все в порядке? Проблемы со сценарным планом?
– Просто черт знает что. Мы сняли кино с… – и он назвал имя известной актрисы, которая пару лет назад сыграла сразу в нескольких успешных фильмах. – Не прогадали, а? Только она уже не молода, как прежде, а настаивает, чтобы ее сняли обнаженной, и там просто не на что смотреть, поверь. Ну а сюжет такой: один фотограф умеет уговаривать женщин обнажиться для него. И тогда он их трахает. Только никто не верит, что он это делает. И вот шеф полиции, которого играет миссис Дайте-Я-Покажу-Вам-Голый-Зад, приходит к заключению, что она сможет его арестовать, только если прикинется одной из этих женщин. Короче, она с ним спит. И получается такое дело…
– Она в него влюбляется?
– Ну да. И понимает, что женщины всегда будут зависеть от мужского взгляда на женщин, а чтобы доказать свою любовь, когда полиция приходит его арестовывать, она поджигает фотографии и погибает вместе с ними. Но сначала на ней сгорает одежда. Как тебе?
– Никак.
– Мы тоже так подумали, когда посмотрели. Уволили режиссера, сократили фильм и сделали досъемку. Теперь у нее под одеждой спрятан микрофон. А когда она начинает в него влюбляться, выясняется, что он убил ее брата. Ей снится сон, что на ней сгорает одежда, а проснувшись, она едет с группой на задержание. Но в это время его убивает ее младшая сестра, с которой он тоже трахался.
– Ну и чем это лучше?
Он качает головой.
– Да, барахло. Если бы она дала нам снять в обнаженке дублершу, возможно, результат был бы иной.
– А что вы думаете о моем сценарном плане?
– О чем?
– О сценарном плане, который я вам послал.
– Ах да. Сценарный план. Очень понравился. Нам всем. Он классный. Просто потрясающий. Мы в шоке.
– И что дальше?
– Ну, когда все успеют его пролистать, мы соберемся и обсудим.
Он похлопал меня по спине и ушел, оставив меня скучать в Голливуде.
Я решил написать рассказ. Мысль мне пришла еще в Англии, до отъезда. История о маленьком театре на пирсе. Когда идет дождь, там показывают волшебные фокусы. Но публика не в состоянии отличить волшебство от иллюзии, и для нее не имеют никакого значения иллюзии, становящиеся реальностью.
В тот день, во время прогулки, я купил несколько книг о волшебных фокусах и викторианских иллюзиях в «почти круглосуточном» книжном. История, точнее, сама суть истории так или иначе уже жила в моей голове, и я хотел кое-что уточнить. Я присел на скамейку во внутреннем дворике и просмотрел книги, решив попытаться создать в рассказе особую атмосферу.
Я читал про фокусников, карманы которых были набиты всякими мелкими вещицами, какие только можно себе представить, и которые могли достать из них все, что попросите. Никакой иллюзии, просто достойная восхищения организованность и прекрасная память. На страницу упала тень. Я поднял голову.
– Привет еще раз, – сказал я старому афроамериканцу.
– Сэ, – ответил он.
– Прошу, не называйте меня так. Я спохватываюсь, что не надел костюм и все такое, – и я назвал ему мое имя.
А он в ответ:
– Праведник Дундас.
– Праведник? – Я не был уверен, что верно расслышал.
Он гордо кивнул.
– Иногда да, а иногда – нет. Так меня мама назвала, хорошее имя.
– Да.
– И что вы здесь делаете, сэ?
– Сам толком не знаю. Кажется, от меня ждут сценарий. Во всяком случае, я жду, когда мне скажут, что пора начинать его писать.
Он почесал нос.
– Тут все киношники останавливаются, если бы я прямо сейчас начал называть имена, до следующей среды перечислил бы лишь половину.
– А кто вам больше нравился?
– Гарри Лэнгдон. Он был джентльмен. Джордж Сандерс. Англичанин, как и вы. Скажет бывало: «А, Праведник. Помолись за мою душу». А я ему: «Ваша душа на вашем попечении, мистер Сандерс», – и все-таки я за него молился. А еще Джун Линкольн[21].
– Джун Линкольн?
В его глазах вспыхнули искры, и он улыбнулся.
– Она была королевой экрана. Она была лучше, чем любая из них: Мэри Пикфорд или Лилиан Гиш, или Теда Бара, или Луиза Брукс… Она была самой лучшей. У нее это было. Знаете, что я имею в виду?
– Сексапильность.
– Не только. В ней было все, о чем можно мечтать. Когда вы видели ее фото, вам хотелось… – Он замолчал, рисуя рукой маленькие круги, точно пытаясь поймать ускользающие слова. – Даже не знаю. Может, встать на колено, как встает перед своей королевой рыцарь в сверкающих доспехах. Джун Линкольн, она была лучше всех. Я рассказывал о ней моему внуку, он пытался найти что-нибудь посмотреть, но не вышло. Ничего не осталось. Она живет только в памяти стариков, таких, как я, – постучал он себе по лбу.
– Должно быть, она была необыкновенной.
Он кивнул.
– А что с ней сталось?
– Повесилась. Говорили, все потому, что для звукового кино она бы не подошла, но это не так: голос у нее был такой, что вы бы запомнили, если б хоть раз услыхали. Гладким и темным был ее голос, как ирландский кофе. Некоторые утверждают, что ее сердце было разбито мужчиной – или женщиной, – а еще что она играла на деньги, или связалась с гангстерами, или пила. Кто знает? Времена были такие.
– Я так понял, что вы-то ее голос слышали.
Он усмехнулся.
– Она сказала: «Мальчик, ты не посмотришь, куда подевалась моя пелерина?» – а когда я ее принес: «Ты хороший мальчик». А мужчина, что был с ней, сказал: «Не дразни прислугу, Джун», – и тогда она мне улыбнулась, дала пять долларов и сказала: «Он не против, правда, мальчик?» – и я только затряс головой. А она сделала так губами, знаете?
– Муа?
– Типа того. И я почувствовал это вот здесь, – он похлопал себя по груди. – Эти губы. Из-за них все на свете позабудешь.
Он прикусил нижнюю губу и сосредоточился на вечности. Я не знал, где он сейчас, в какой эпохе. Наконец он снова посмотрел на меня.
– Хотите видеть ее губы?
– В каком смысле?
– Идемте за мной.
– И что это будет? – Я уже представил себе отпечатки губ, застывшие в бетоне, как отпечатки ладоней перед Китайским театром Граумана[22].
Он покачал головой и поднес свой корявый палец к губам. Молчи.
Я закрыл свои книги. Мы пересекли двор, а когда добрались до маленького пруда, он остановился.
– Посмотрите на Принцессу, – сказал он.
– На ту, что с красным пятном, да?
Он кивнул. Рыба напомнила мне китайского дракона, такого же мудрого и бледного. Рыба-призрак, белая, как старая кость, если не считать алого пятна на спине, длинного и изогнутого. Она затаилась в пруду, слегка покачиваясь и как будто размышляя.
– Вот, смотрите, на спине, – сказал он. – Видите?
– Я не совсем понимаю.
Он помедлил, глядя на рыбу.
– Может, вам лучше присесть? – Я сам не ожидал, что так проникнусь возрастом мистера Дундаса.
– Мне платят не за то, чтобы я сидел, – сказал он очень серьезно. А потом добавил, словно объясняя малому ребенку: – В те времена, казалось, все это были боги. А теперь сплошь телевизор: мелкие герои. Мелкие людишки в ящике. Я кое-кого из них здесь вижу. Мелкие людишки.
Звезды в былые времена – это были гиганты в серебристом свечении, огромные, как дома… а если вы их видели живьем, они все равно были как дома́. Люди в них верили.
Здесь устраивали вечеринки. Если ты тут работал, ты не мог все это не видеть. Подавали и спиртное, и травку, и такое там творилось – вы не поверите. Как-то была тут вечеринка… фильм назывался «Сердца пустыни». Слыхали о таком?
Я покачал головой.
– Один из лучших фильмов 1926 года, наряду с «Чего стоит слава» с Виктором МакЛагленом и Долорес дель Рио и «Эллой Синдерс» с Коллин Мур[23]. О них-то вы слышали?
Я снова покачал головой.
– Ну а о Вагнере Бакстере? Белле Беннетт?
– А кто они?
– О, это были настоящие звезды в 1926-м. – Он минутку помолчал. – «Сердца пустыни». Они устроили вечеринку здесь, в отеле, когда закончились съемки. Подавали вино, и пиво, и виски, и джин, – это были времена сухого закона, но студии полицию, можно сказать, купили, и те смотрели сквозь пальцы; и еда была всякая, и развлечения; в вечеринке участвовали Рональд Кольман и Дуглас Фербенкс отец, не сын, и все занятые артисты и съемочная группа; им играл джаз-банд, они расположились вон там, где сейчас шале.
В тот вечер Джун Линкольн была в центре всеобщего внимания. Она играла в фильме арабскую принцессу. Арабов тогда принято было считать страстными и похотливыми. А теперь… ну, жизнь не стоит на месте.
Я не знаю, с чего все началось. Говорили, будто это был спор или пари, а может, просто она была пьяна. Я тогда подумал, что она пьяна. В общем, она встала, а джаз-банд в это время играл что-то медленное и нежное. Она подошла сюда, где я сейчас стою, и опустила руки прямо в пруд. Она смеялась, смеялась, как заводная…
Мисс Линкольн поймала подплывшую к ней рыбку и зажала в обеих руках; а когда вынула руки из воды, она держала рыбку прямо перед собой.
И тут я разволновался, потому что рыбок этих только что привезли из Китая, и каждая стоила двести долларов. Ну и мне, конечно, поручили за ними приглядывать. Правда, у меня из зарплаты за них бы не вычли. Но все же двести долларов – это была куча денег в те времена.
А потом она всем нам улыбнулась, и, наклонившись, медленно так поцеловала рыбу, прямо в спину. А та даже не дернулась, просто лежала в ее руке, а она целовала ее своими губами, красными, как коралл, а все, кто там был, засмеялись и одобрительно закричали.
Она пустила рыбку обратно в пруд, и какое-то мгновение та как будто не хотела от нее уплывать, застыла на месте, тычась ртом в ее пальцы. Но тут начался фейерверк, и она уплыла.
Ее помада была красно-красно-алой, и на спине у рыбки остался след ее губ. Вон, видите?
Принцесса, белый карп с ярко-красной отметиной на спине, шевельнула плавником и двинулась в очередное тридцатисекундное путешествие вокруг пруда. Красная отметина в самом деле напоминала отпечаток губ.
Он бросил щепотку рыбьего корма в воду, и все три рыбины, выпрыгивая из воды, кинулись его пожирать.
Я отправился обратно в свое шале, со своими книгами о давних иллюзиях. Телефон звонил: кто-то со студии. Со мной хотят поговорить о сценарной заявке. Машина приедет через тридцать минут.
– А Джейкоб тоже будет?
Но линия уже была мертва.
Встречался со мной Некто с помощником, очкариком в костюме. Это был первый здесь для меня человек в костюме, а очки у него были ярко-синие. Кажется, он волновался.
– Где вы остановились? – спросил Некто.
Я сказал.
– Это не там, где Белуши?
– Кажется, там.
Он кивнул.
– Он был не один, когда умер.
– Неужели?
Он потер пальцем свой острый нос.
– На вечеринке были еще двое. Оба режиссеры, из самых на тот момент известных. Имена вам ни к чему. Я узнал об этом, когда занимался последним фильмом про Индиану Джонса.
Повисло неловкое молчание. Мы сидели за огромным круглым столом, нас было только трое, и перед каждым лежал экземпляр написанного мной сценарного плана. Наконец я спросил:
– И что вы об этом думаете?
В ответ оба кивнули, почти синхронно.
А после попытались, приложив немало усилий, объяснить мне, насколько он им не по нраву, стараясь при этом не произносить слов, которые могли бы меня огорчить. Это был очень странный разговор.
– У нас проблема с третьим актом, – сообщили они, неопределенно намекая, что ни я, ни мой сценарный план, ни даже третий акт здесь ни при чем, и все дело только в них.
Им хотелось, чтобы люди были посимпатичнее. Чтобы свет был ярче, а тень темнее, и никаких оттенков серого. Они хотели, чтобы героиня была героической. Я кивал и делал пометки.
В конце нашей встречи я за руку попрощался с Австралийцем, а его помощник в синих очках проводил меня через путаницу коридоров, чтобы я вновь обрел внешний мир, и мою машину, и моего водителя.
Пока мы шли, я спросил, нет ли на студии фото Джун Линкольн.
– Кого?
Как выяснилось, его звали Грег. Он достал маленький блокнот и что-то в нем черкнул карандашом.
– Звезды немого кино. Знаменитости 1926 года.
– Она снималась у нас?
– Понятия не имею, – признался я. – Но она была знаменитой. Более знаменитой, чем Мари Провост[24].
– Кто?
– «Победитель, которого съела собака». Одна из самых ярких звезд немого кино. Умерла в нищете, когда появился звук, и ее объела собственная такса. Ник Лоу написал о ней песню[25].
– Кто?
Я процитировал первую строчку, а потом сказал:
– В общем, Джун Линкольн. Может кто-нибудь найти для меня ее фото?
Он еще что-то записал в блокноте. И кивнул.
Мы уже вышли на солнечный свет, где меня ждала машина.
– Кстати, – сказал он, – вам следует знать, это все полное дерьмо.
– Простите?
– То, что он говорит. С Белуши были вовсе не Спилберг с Лукасом, а Бетт Мидлер и Линда Ронштадт. У них была кокаиновая оргия. Об этом все знают. Он говорит полное дерьмо. А его просто из милости взяли младшим ассистентом продюсера на фильм про Индиану Джонса. Будто это его фильм. Придурок.
Мы пожали друг другу руки, я сел в машину и вернулся в отель.
В ту ночь меня настигла разница во времени, и я проснулся, окончательно и бесповоротно, в четыре утра.
Я встал, помочился, натянул джинсы (а спал я в футболке) и вышел на улицу.
Я хотел видеть звезды, но огни города были слишком яркими, а воздух – слишком грязным. Небо было грязно-желтым и беззвездным, и я вспомнил все созвездия, какие можно видеть над небом Англии, и впервые вдруг глубоко, глупо затосковал по дому.
Мне не хватало звезд.
Я собирался поработать над рассказом или продолжить писать сценарий. А вместо этого засел за второй вариант сценарного плана.
Я сократил число младших Мэнсонов с двенадцати до пяти и сделал более очевидным с самого начала, что один из них, в этом варианте мужского пола, – неплохой парень, а вот остальные четверо – определенно негодяи.
Со студии мне прислали журнал. От него исходил запах старой дешевой бумаги, а на обложке стоял фиолетовый штамп с названием студии и словом «АРХИВ» внизу. На обложке красовался Джон Берримор в лодке.
Одна из статей была посвящена смерти Джун Линкольн. Оказалось, что мне трудно ее читать и еще труднее понять: насколько я могу судить, статья содержала намеки на греховные пристрастия, приведшие ее к гибели, но написана была так, словно содержала шифр, ключ к которому уже неизвестен современному читателю. А может статься, подумалось мне, автор некролога вовсе ничего не знал и его намеки не имели под собой оснований.
Зато много более интересными и понятными были фотографии. Целую страницу занимал обведенный траурной рамкой снимок женщины с огромными глазами и нежной улыбкой, курившей сигарету (дым был пририсован с помощью ретуши, на мой взгляд, очень неумело: неужели люди когда-то покупались на столь неудачные подделки?); на другом снимке она была запечатлена в театральных объятиях Дугласа Фербенкса; еще небольшой снимок, где она стоит на подножке машины, с двумя крохотными собачками на руках.
Судя по фото, ее красота была несовременной. Ей не хватало отстраненности Луизы Брукс, сексапильности Мэрилин Монро, распутной элегантности Риты Хейуорт. Она была звездочкой двадцатых, столь же тусклой, как и остальные. Я не ощутил тайны в этих огромных глазах и коротко стриженных волосах. У нее были превосходно накрашенные пухлые губки. И я не мог себе представить, как бы она выглядела, доживи до наших дней.
Но Джун Линкольн была реальна; она жила на свете. Перед ней преклонялись, ее обожали зрители в кинотеатрах. Она поцеловала рыбку и бродила по территории моего отеля семьдесят лет назад: для Англии это не срок, для Голливуда – вечность.
Когда я приехал снова обсуждать мой сценарный план, на студии не было никого из тех, с кем мы встречались прежде. Меня провели к очень молодому человеку в крошечном офисе, который, ни разу не улыбнувшись, сообщил, как ему понравился мой сценарный план и как он рад, что студия владеет правами на экранизацию.
Он сказал, что, по его мнению, особенно мне удался образ Чарльза Мэнсона, и что, возможно, «как только его удастся полностью отмасштабировать», это будет еще один Ганнибал Лектор.
– Но. Хм. Мэнсон. Это реальный человек. Сейчас сидит в тюрьме. Это его люди убили Шэрон Тейт.
– Шэрон Тейт?
– Актрису. Звезду. Она была беременна, а ее убили. Она была женой Полански.
– Романа Полански?
– Да, режиссера.
Он нахмурился.
– Мы готовимся заключить с ним контракт.
– Это хорошо. Он хороший режиссер.
– Он об этом знает?
– О чем? О книге? О фильме? О смерти Шэрон Тейт?
Он покачал головой: я не угадал.
– Мы ведем переговоры о трех картинах. Там фигурирует и Джулия Робертс. Так вы говорите, Полански не знает о вашем сценарии?
– Нет, я хотел сказать…
Он посмотрел на часы.
– Где вы остановились? Надеюсь, вас разместили в хорошем отеле?
– Да, спасибо, – сказал я. – Я в паре шале от номера, в котором умер Белуши.
Я ожидал, что услышу еще парочку звездных имен и что Джон Белуши в тот вечер приказал долго жить Джули Эндрюс и мисс Пигги Маппет. Но я ошибся.
– Как это умер? – спросил он, наморщив юный лоб. – Белуши не умер. Мы снимаем фильм с его участием.
– Это был его брат, – объяснил я, – который умер много лет назад.
Он пожал плечами.
– Похоже, что дыра, – сказал он. – В следующий раз скажите им, что хотите остановиться в «Бель Эр». Может, перевезти вас в другой отель?
– Нет, спасибо, – ответил я. – Я к этому уже привык. Так что насчет сценарного плана?
– Пусть пока полежит.
Я увлекся двумя старыми театральными иллюзиями, которые нашел в своих книгах: «Мечта художника» и «Заколдованная створка окна». Это были метафоры, которые не вызывали у меня сомнений; но историю, которая их проиллюстрирует, я еще не придумал. Я написал несколько предложений, из которых никак не составлялись начальные абзацы, и несколько абзацев, из которых никак не складывались первые страницы. Поскольку писал на компьютере, я вышел из программы, ничего не сохранив.
Я стоял во дворе отеля и смотрел на карпов, двух белых и одного белого с красным пятном. Они были похожи на тех рыб, что рисует Эшер[26], и это меня удивило: мне никогда не приходило в голову, что в его рисунках есть что-то хотя бы отдаленно похожее на реальность.
Праведник Дундас протирал листья растений. У него была бутылка со специальным средством и тряпка.
– Привет, Праведник.
– Сэ.
– Прекрасный денек.
Он кивнул, и закашлялся, и постучал кулаком в грудь, и снова кивнул.
Отвлекшись от рыб, я уселся на скамейку.
– Почему вас не отправили на пенсию? – спросил я. – Разве вы не должны были выйти на пенсию много лет назад?
Он продолжал свое занятие.
– Да нет же, я – местная достопримечательность. Они ведь просто утверждают, что в этом отеле останавливались все мировые звезды, зато я рассказываю про них всякие небылицы, что, мол, заказывал на завтрак Гари Грант.
– Вы и это помните?
– Черт, нет же. Да кто ж это проверит! – Он снова закашлялся. – А что вы пишете?
– Ну, на прошлой неделе я писал сценарный план для одного фильма. Потом переделывал. А теперь… мне чего-то не хватает.
– А теперь-то что пишете?
– Рассказ, который никак не получается. Про магический фокус викторианских времен, который назывался «Греза художника». На сцену выходит художник с большим холстом, который он устанавливает на мольберт. На холсте изображена женщина. Он смотрит на свою работу и страдает, что у него нет таланта истинного художника. Наконец он засыпает, полотно оживает, женщина сходит с него и велит ему не сдаваться. Не оставлять усилий. И предрекает, что однажды он станет великим художником. А потом возвращается обратно. Свет гаснет. Он просыпается и видит просто картину…
– …а другая иллюзия, – рассказывал я женщине на студии, которая в начале встречи поступила недальновидно, изобразив ко мне интерес, – называлась «Заколдованная створка». Над сценой висит окно, и в нем возникают лица, хотя никого кругом нет. Мне кажется, я могу установить странную параллель между этим окном и, положим, телевизором: в конце концов, сходство очевидно.
– Я люблю смотреть «Сайнфелд»[27], – сказала она. – Вы смотрите этот сериал? Вообще ни о чем. То есть прямо целые выпуски совершенно пустые. А еще мне нравился Гарри Шендлинг до того, как он стал вести новое шоу и сделался противным.
– Иллюзии, – продолжал я, – как все великие иллюзии, заставляют нас задуматься о природе реальности. Но они также обозначают игру слов, а еще выводят на мировой уровень проблему того, чем обернутся развлечения. Фильмы существовали до кино, а телек – до телевидения.
Она нахмурилась.
– Это что, кино?
– Надеюсь, что нет. Это рассказ, если у меня получится его написать.
– Тогда давайте поговорим о кино. – Она пролистала стопку заметок. Ей было лет двадцать пять, и она была одновременно привлекательной и бесполой. Я предположил, что это одна из женщин, которые были тогда на завтраке, то ли Динна, то ли Тайна.
Вдруг она на чем-то споткнулась и прочла:
– «Я знал невесту, когда она танцевала рок-н-ролл»?
– Кто это написал? Эта фраза из другого фильма.
Она кивнула.
– Короче, должна вам сказать, что ваш сценарный план… можно назвать спорным. Эта история про Мэнсона – мы не уверены, что она прокатит. Мы можем обойтись без него?
– Но в этом-то вся суть. Я хочу сказать, что книга называется «Сыны человеческие», и она посвящена его детям. Если выбросить Мэнсона, мало что останется, не так ли? Ведь вы купили права на экранизацию именно этой книги. – Я протянул ей книгу, свой талисман. – Отказаться от образа Мэнсона, не знаю, это все равно что заказать пиццу, а когда ее привезут, сетовать на то, что она плоская, круглая и покрыта сыром и томатным соусом.
По ней нельзя было определить, слышала ли она хоть что-то из того, что я сказал.
Она спросила:
– Как вам название «Головорезы»?
– Не знаю. Речь о фильме по моей книге?
– Мы бы не хотели, чтобы люди решили, что речь пойдет о религии. Сыны человеческие. Звучит так, словно фильм антихристианский.
– Ну, можно сказать, я действительно подразумеваю, что сила, которой обладают дети Мэнсона, в известном смысле от дьявола.
– Ах вот как?
– Я говорю об этом в книге.
Ей удалось изобразить жалостный взгляд, из разряда тех, каким смотрят только люди, знающие, что книги – в лучшем случае права на вольную экранизацию, которой можно одарить остальное человечество.
– Ну, я не думаю, что студия сочтет это приемлемым, – сказала она.
– Вы знаете, кто такая Джун Линкольн? – спросил я.
Она покачала головой.
– А Дэвид Гэмбол? Джейкоб Клейн?
Она снова покачала головой, на этот раз немного нетерпеливо. И протянула мне список, по ее мнению, необходимых исправлений, из которого следовало, что я должен переделать практически все. На страничке было указано «кому»: мне и еще нескольким человекам, чьих имен я не сумел распознать, а еще на ней значилось «от кого»: от Донны Лири.
Я сказал:
– Спасибо, Донна, – и направился обратно в отель.
Целый день я был не в духе. А потом придумал способ переделать сценарный план, чтобы учесть все замечания, приведенные в списке.
Еще день я размышлял, несколько дней писал и наконец факсом отправил третий вариант на студию.
Праведник Дундас, убедившись в моем искреннем интересе к Джун Линкольн, принес мне свой альбом, и я обнаружил, что это псевдоним родившейся в 1903 году Рут Баумгартен, назвавшейся так в честь месяца июня и президента Америки. Это был старый альбом в кожаном переплете, размером и весом напоминавший фамильную Библию. Когда она умерла, ей было двадцать четыре года.
– Жаль, вы ее не видели, – сказал Праведник Дундас. – А фильмов с ее участием почти не сохранилось. Она была такой талантливой. Она была самой большой из всех звезд.
– Она была хорошей актрисой?
Он решительно покачал головой:
– Неа.
– Или необыкновенной красавицей? Если это так, значит, я чего-то не заметил.
Он снова покачал головой.
– Камера ее любила, это точно. Но дело не в этом. Среди девочек на подпевке многие были красивее ее.
– Тогда что же?
– Она была звездой, – пожал он плечами, – и этим все сказано.
Я перелистывал страницы: вырезки с отзывами о фильмах, о которых я никогда не слышал, и оригиналы и копии которых утрачены много лет назад, потеряны или уничтожены огнем: нитратная пленка отличалась повышенной пожароопасностью; вырезки из иллюстрированных журналов: Джун Линкольн, занятая в роли, Джун Линкольн на отдыхе, Джун Линкольн на съемках «Рубахи ростовщика», Джун Линкольн в огромном меховом манто, позволяющем датировать снимок точнее, чем странная прическа и неизменная сигарета.
– Вы ее любили?
– Не так, как любят женщин…
Мы помолчали, и он перелистнул страницу.
– Моя жена убила бы меня, если бы сейчас услышала.
Снова молчание.
– Ну да. Тощая мертвая белая женщина. Возможно, что и любил. – Он закрыл альбом.
– Но ведь для вас она не умерла, не так ли?
Он покачал головой. И ушел. А альбом остался у меня.
Секрет иллюзии «Греза художника» заключался в следующем: женщину плотно привязывали к обратной стороне полотна. Полотно было дополнительно укреплено проволокой, и когда художник легко и небрежно вносил на сцену холст и ставил его на мольберт, женщина там уже была. А само полотно было устроено как штора и могло подниматься и опускаться.
А иллюзия «Заколдованная створка» выполнялась с помощью зеркал: зеркало, поставленное под определенным углом, отражало лица людей, стоявших за кулисами.
И сегодня многие иллюзионисты используют на своих представлениях зеркала, чтобы заставить зрителей думать, будто они видят то, чего нет.
Это просто, если вы знаете, как это делать.
– Прежде чем мы начнем, – сказал он, – я должен вам сказать, что никогда не читаю сценарий. Я пришел к мысли, что это сковывает мое творческое воображение. Не беспокойтесь, мой помощник составляет конспект, чтобы быстро войти в курс дела.
У него были борода и длинные волосы, и он немного походил на Иисуса, правда, я сомневался, что у Иисуса могли быть такие безупречные зубы. Он представлялся мне самой важной персоной из тех, с кем я говорил до сих пор. Звали его Джон Рей, и даже я о нем слышал, хоть и не вполне понимал, чем он занимался: кажется, его имя обычно значилось в начале фильма, сразу после слов ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДЮСЕР. Голос со студии, назначивший встречу, сообщил, что они, то есть студия, очень воодушевлены тем, что он «присоединился к проекту».
– А разве конспект не сковывает ваше воображение?
Он усмехнулся.
– Что ж, мы все считаем, что вы проделали впечатляющую работу. Даже очень впечатляющую. Осталось лишь несколько нерешенных вопросов.
– Например?
– Ну, этот Мэнсон. И идея с его выросшими детьми. Мы тут в офисе набросали кое-что: попробуйте взять за основу. Один парень, скажем, Джек Головорез – это идея Донны…
Донна скромно наклонила голову.
– Его сажают за сатанизм и поджаривают на электрическом стуле, а он, умирая, обещает вернуться и всех уничтожить. Дальше действие уже в наши дни, и мы видим молодых парней, подсевших на игру «Головорез», у героя которой его лицо. И поскольку они играют в его игру, они становятся им одержимы. Может, у него что-то странное в лице, на манер Джейсона или Фредди[28].
Он замолчал, словно ожидая моего одобрения.
Тогда я сказал:
– И кто же придумал эту компьютерную игру?
Он указал на меня пальцем:
– Вы ведь у нас писатель, душа моя. Хотите, чтобы мы сделали за вас всю работу?
«Надо думать о кино, – решил я. – Они ничего другого не понимают». И сказал:
– Но ведь то, что вы предлагаете, это как «Мальчики из Бразилии»[29], только без Гитлера.
Он выглядел озадаченным.
– Был такой фильм Айры Левина, – сказал я. Но в его глазах не промелькнуло и тени узнавания. «Ребенок Розмари». – Никакой реакции. – «Щепка»[30].
Он кивнул; монетка провалилась в автомат.
– Принято, – сказал он. – Вы пишете роль для Шэрон Стоун, а мы сделаем все возможное, чтобы ее заполучить. У меня есть выход на ее команду.
На этом я ушел.
Той ночью было холодно, а в Лос-Анджелесе такого быть не должно, и воздух еще сильнее пах микстурой от кашля.
Недалеко от Лос-Анджелеса жила моя давняя подруга, и я решил встретиться с ней. Я позвонил по номеру, который был у меня записан, начав поиски, растянувшиеся почти на весь вечер. Мне давали новый номер, я по нему звонил, там мне снова давали номер, и я снова звонил.
Наконец, набрав очередной номер, я узнал ее голос.
– А ты знаешь, где я? – спросила она.
– Нет, – ответил я. – Просто мне дали этот номер.
– Это телефон больничной палаты, – сказала она. – Здесь лежит моя мама. С кровоизлиянием в мозг.
– Прости. У нее все в порядке?
– Нет.
– Прости.
Мы неловко помолчали.
– Как ты? – спросила она.
– Довольно плохо, – ответил я.
И рассказал ей все, что со мной случилось. И что я при этом испытываю.
– Почему все так получается? – спросил я.
– Просто они боятся.
– Почему боятся? Чего?
– Потому что ты им нужен, пока с твоим именем связаны только успешные проекты.
– В смысле?
– Если ты дашь добро, студия снимет фильм, который обойдется им в двадцать – тридцать миллионов долларов, и если фильм провалится, твое имя навсегда будет связано с этим провалом, и ты потеряешь свой статус. Если же ты откажешься, ты ничем не рискуешь.
– В самом деле?
– Типа того.
– А откуда ты все это знаешь? Ты музыкант и не имеешь отношения к кино.
Она устало засмеялась.
– Я здесь живу. Все, кто здесь живет, это знают. Ты не пробовал поспрашивать людей про сценарии?
– Нет.
– Так попробуй. Спроси. Парня на автозаправке. Кого угодно. У всех есть сценарии. – Тут кто-то к ней обратился, и она ответила, а мне сказала: – Извини, нужно идти, – и повесила трубку.
Я не нашел обогреватель, если он там был, и замерзал в своем крошечном шале, точно таком, в каком умер Белуши, с бездарной картинкой на стене и промозглой сыростью в воздухе.
Я приготовил себе ванну, чтобы согреться, но когда из нее выбрался, мне стало еще холоднее.
Белые золотые рыбки сновали взад-вперед, то прячась, то появляясь из-под листьев кувшинок. У одной из них была темно-красная отметина, в принципе похожая на отпечаток губ: странное клеймо, оставленное полузабытой богиней. В воде отражалось серое утреннее небо.
Я мрачно смотрел на воду.
– У вас все в порядке?
Обернувшись, я увидел стоящего рядом Праведника Дундаса.
– Рано вы встаете.
– Плохо спал. Страшно холодно.
– Надо было сказать администратору. Вам бы принесли обогреватель и еще одеял.
– Мне это даже в голову не пришло.
Дышал он с огромным трудом.
– А у вас все в порядке?
– Нет, черт побери. Стар я. Вот доживешь до моих лет, парень, у тебя тоже будет не все в порядке. Но когда ты помрешь, я буду еще тут. Как работа?
– Не знаю. Я больше не пишу сценарий, а «Греза художника», рассказ о волшебных фокусах викторианских времен, не двигается с места. Действие происходит на морском побережье в Англии, в дождь. На сцене фокусник показывает свое искусство, и публика неуловимо меняется. Это их глубоко трогает.
Он медленно кивнул.
– «Греза художника». Ну-ну. А себя вы кем представляете, художником или иллюзионистом?
– Не знаю. Мне кажется, ни то, ни другое.
Собравшись было уходить, я вдруг вспомнил одну вещь.
– Мистер Дундас, – спросил я, – а у вас есть сценарий? Написанный вами?
Он покачал головой.
– И вы никогда не писали сценариев?
– Только не я.
– Честно?
Он ухмыльнулся:
– Честно.
Я вернулся к себе. Пролистал английское издание своих «Сынов человеческих», спрашивая себя, как получилось, что была издана такая нелепая писанина, зачем Голливуд купил на нее права, и почему теперь они не хотят снимать по книге фильм.
Вновь принявшись за «Грезу художника», я потерпел прискорбную неудачу. Герои были как неживые. Они не могли ни дышать, ни двигаться, ни говорить.
Я пошел в туалет и пустил в унитаз ярко-желтую струю. По зеркалу пробежал таракан.
Вернувшись в гостиную, я создал новый файл и написал:
- Я вспоминаю Англию. Шел дождь.
- Театр на пирсе, странной тени след…
- Смешались страх, и магия, и ложь.
- Страх слыть безумцем вечно вводит в дрожь.
- Как в сказке, магия спасет от бед.
- Я вспоминаю Англию. Шел дождь.
- В моей душе лишь пустоту найдешь,
- Над одиночеством не одержать побед.
- Смешались страх, и магия, и ложь.
- Клубок из правд всем видится как ложь.
- Лицо скрывая, не увидишь свет.
- Я вспоминаю Англию. Шел дождь…
- Маг палочкой взмахнет – и даст ответ,
- Всю правду скажет – только толку нет.
- Я вспоминаю Англию. Шел дождь.
- Смешались страх, и магия, и ложь.
Я не знал, хорошее ли вышло стихотворение, но это не имело значения. Я написал нечто для себя новое и неожиданное, и это было чудесно.
Заказав завтрак в номер, я попросил принести обогреватель и парочку одеял.
На следующий день я написал шестистраничный сценарный план к фильму под названием «Головорез», где Джека Головореза, серийного убийцу, с вырезанным на лбу огромным крестом, казнят на электрическом стуле, но он возвращается в видеоигре и овладевает сознанием четырех парней. Пятый его побеждает, предав огню электрический стул, который был выставлен в качестве экспоната в Музее восковых фигур, где днем работала его девушка, которая ночью исполняла экзотические танцы.
Я по факсу отправил на студию свой план, а сам отправился спать.
Отходя ко сну, я искренне надеялся, что студия официально отвергнет мой сценарий и я наконец смогу вернуться домой.
* * *
Во сне я увидел иллюзион, в котором человек с бородой и в бейсболке затащил на сцену экран и ушел. Серебристый экран завис в воздухе без всякой видимой опоры.
Но вскоре замерцал, и началось немое кино: я увидел женщину, которая смотрела прямо на меня. Это была Джун Линкольн, это она мерцала на экране, и это она из него вышла и уселась на краешке моей кровати.
– Ты пытаешься сказать мне, чтобы я не сдавался? – предположил я.
В душе я понимал, что это сон. Я смутно помнил: мне известно, что эта женщина – звезда, и сожалел о том, что ни один из ее фильмов не сохранился.
В моем сне она была воистину прекрасна, несмотря на белый след вокруг шеи.
– С чего бы мне это делать? – удивилась она.
В моем сне от нее пахло джином и старым целлулоидом, хотя я и не помню, чтобы в моих снах от кого-нибудь чем-нибудь пахло. Она улыбнулась мне безупречной черно-белой улыбкой:
– Я ведь вышла из игры, не так ли? – и прошлась по комнате. – Не могу поверить, что этот отель все еще существует, – добавила она. – Я здесь трахалась. – Ее голос трудно было различить сквозь потрескивание и шипение.
Вернувшись к кровати, она уставилась на меня, как кошка смотрит на мышиную нору. Спросила:
– Ты мой поклонник?
Я покачал головой. Она подсела ближе и взяла мою теплую руку своей серебристой рукой.
– Никто уже никого не помнит, – сказала она. – В этом городе в тридцати минутах.
Мне хотелось спросить ее кое о чем.
– Куда подевались звезды? – решился я. – Я все гляжу на небо, их там нет.
Она указала на пол:
– Ты смотрел не туда.
Оказалось, что пол в моем шале – это тротуар, и на каждой его плитке изображена звезда, а рядом значится имя, из тех, которые ни о чем мне не говорят: Клара Кимбол Янг, Линда Арвидсон, Вивиан Мартин, Норма Телмеддж, Олайв Томас, Мэри Майлз Минтер, Сина Оуэн…
Джун указала на окно:
– И еще там.
Окно было открыто, и из него я мог видеть весь простиравшийся подо мной Голливуд: бесконечное пространство мерцающих разноцветных огней.
– Разве это не лучше, чем звезды? – спросила она.
И она была права. Я даже видел созвездия уличных фонарей и автомобильных фар. Я кивнул.
Ее губы коснулись моих.
– Не забывай меня, – прошептала она, но так печально, словно заранее знала, что ее просьба напрасна.
Я проснулся от телефонного звонка. Сняв трубку, сипло что-то пробормотал.
– Это Джерри Квойнт, со студии. Нам необходимо встретиться на ланче.
Снова нечто нечленораздельное.
– Мы высылаем машину, – сказал он. – Ресторан от вас в получасе езды.
Они ждали меня на открытом воздухе, где было светло и зелено.
На этот раз я бы очень удивился, если бы хоть кого-то узнал. Под закуску мне сообщили, что Джон Рей «свалил из-за разногласий по контракту», а Донна, «видимо», ушла вместе с ним.
Оба мои собеседника были бородаты, а у одного из них была плохая кожа. Худая женщина показалась мне приятной.
Они спросили, где я остановился, а когда я ответил, один из бородачей сообщил (взяв с нас слово, что дальше это не пойдет), что в тот день Белуши принимал наркоту вместе с политиком по имени Гари Харт[31] и одним из «Eagles».
После чего они заверили, что с нетерпением ждут от меня истории.
И тогда я спросил:
– Мы о чем сейчас говорим? О «Сынах человеческих» или о «Головорезе»? Дело в том, – пояснил я, – что с последним у меня проблема.
Они выглядели озадаченными.
Да нет же, сказали они, речь идет о «Я знал невесту, когда она танцевала рок-н-ролл». Здесь есть, сообщили мне, и Высокий Замысел, и Добрый Посыл. К тому же, добавили они, это Очень Своевременно, что важно для города, в котором все, что происходило час назад, уже Древняя История.
Они признались, что подумали, как было бы здорово, если бы наш герой мог спасти юную леди от замужества без любви, а в конце они вместе танцевали бы рок-н-ролл.
Я указал им, что для этого им следует купить права у Ника Лоу, написавшего песню, и сообщил, что нет, я не знаю имя его агента.
Они, усмехнувшись, ответили, что с этим проблемы не будет.
И предложили, чтобы я поразмыслил как следует над проектом, прежде чем начну писать сценарный план, и каждый из них назвал пару имен начинающих звезд, которых мне при этом следует иметь в виду.
Я пожал каждому руку и сказал, что непременно так и сделаю. А еще я заметил, что мне удастся лучше с этим справиться по возвращении в Англию.
И они со мной согласились.
За несколько дней до того я спросил Праведника Дундаса, был ли кто-нибудь с Белуши в его шале в ту ночь, когда он умер.
Ведь если кто об этом знал, так это он.
– Один он был, – не моргнув ответил Праведник Дундас, старый, как Мельхиседек. – Какое кому, к чертям собачьим, дело, был с ним кто-нибудь или нет. Один он умер.
Мне странно было покидать отель.
– Сегодня днем я уезжаю, – сообщил я администратору.
– Очень хорошо, сэр.
– Вам не трудно будет… дело в том… служащий отеля, мистер Дундас. Пожилой джентльмен. Даже не знаю. Я не видел его дня два. А мне хотелось бы с ним попрощаться.
– С одним из уборщиков?
– Да.
Она озадаченно уставилась на меня. Она была очень красивой, а ее губная помада была цвета раздавленной ежевики. Она явно ожидала, что кто-то наконец откроет ее для кино.
Сняв трубку, она с кем-то поговорила, потом повернулась ко мне:
– Мне очень жаль, сэр, но мистера Дундаса уже несколько дней не было на работе.
– Вы не могли бы дать мне номер его телефона?
– Мне очень жаль, сэр, но по нашим правилам это запрещено. – Говоря все это, она смотрела прямо на меня, чтобы я видел, что ей действительно очень жаль.
– А как ваш сценарий? – спросил я.
– Как же вы узнали?
– Ну…
– Он сейчас у Джоэля Силвера[32], – сказала она. – Мой приятель Арни, мой соавтор, работает курьером. Он занес сценарий в офис Джоэля, словно тот прислан откуда-то из агентства.
– Удачи! – пожелал я.
– Спасибо, – сказала она, улыбнувшись ежевичными губами.
В справочнике было два Дундаса Пэ, что показалось мне невероятным даже для Америки, не говоря уж о Лос-Анджелесе.
Первый оказался мисс Персефоной Дундас.
Когда, набрав второй номер, я спросил Праведника Дундаса, мужской голос поинтересовался:
– Кто говорит?
Я назвал себя, объяснил, что уезжаю из отеля, а у меня осталась вещь, принадлежащая мистеру Дундасу.
– Слушайте, мистер. Мой дедушка умер. Прошлой ночью.
Шок возвращает жизнь избитым фразам: у меня реально кровь отхлынула от лица и перехватило дыхание.
– Мне очень жаль. Он был мне симпатичен.
– Угу.
– Это, должно быть, случилось совсем неожиданно.
– Он был стар. И все время кашлял. – Кто-то спросил, с кем он говорит, он ответил: ни с кем, а мне сказал: – Спасибо что позвонили.
Я растерялся.
– Вы, возможно, не поняли: у меня остался его альбом.
– Эта фигня со старыми вырезками?
– Да.
Пауза.
– Оставьте у себя. Это уже никому не нужно. Слушайте, мистер, мне надо бежать. – Щелчок, и в трубке тишина.
Когда я засовывал альбом в сумку, на выцветший переплет упала слеза, и только тогда я понял, что плачу.
Во дворе я остановился, прощаясь с Праведником Дундасом и Голливудом.
Три призрачных белых карпа дрейфовали, покачивая плавниками, сквозь свое вечное сегодня.
Я помнил их имена: Бастер, Призрак и Принцесса; но никто на свете уже не смог бы их различить.
У выхода из отеля меня ждала машина. До аэропорта было тридцать минут езды, ровно столько, сколько нужно, чтобы все забыть.
Цена
У бродяг и бездомных принято оставлять знаки на воротах и деревьях и дверях, благодаря которым такие, как они, могут понять, кто живет в домах и фермах, попадающихся им на пути. Мне представляется, что кошки тоже оставляют подобные знаки; иначе чем объяснить, что именно под нашими дверьми весь год напролет появляются голодные, блохастые, бездомные кошки?
Мы даем им приют. Избавляем от блох и клещей, кормим и отвозим к ветеринару. Платим за прививки и – что, конечно, возмутительно – кастрируем и стерилизуем.
И они остаются с нами: на несколько месяцев, на год или навсегда.
Чаще всего они появляются летом. Мы живем как раз на таком удалении от города, куда городские жители выбрасывают их, выживать.
Больше восьми кошек кряду у нас, кажется, не живет, и редко случается, чтобы их было меньше трех. В настоящий момент кошачье население моего дома состоит из: Гермионы и Поды, соответственно полосатой и черной, бешеных сестричек, которые живут наверху, в моем кабинете, и не общаются с другими; Снежинки, голубоглазой белой длинношерстой кошечки, которая много лет жила в лесу, прежде чем отказалась от своих диких повадок в пользу мягких диванов; и последней, но самой крупной – Фербол, длинношерстой черно-бело-оранжевой, похожей на подушку дочери Снежинки, которую крошечным котенком я обнаружил однажды в нашем гараже, придушенную и почти мертвую, так как ее голова запуталась в старой сетке для бадминтона, и которая, к нашему удивлению, не умерла, но выросла и превратилась в самую покладистую кошку, какую я когда-либо встречал.
И наконец еще Черный Кот. Другого имени у него нет, просто Черный Кот, а появился он почти месяц назад. Вначале мы не поняли, что он собирается остаться здесь жить: он выглядел слишком упитанным, чтобы быть беспризорным, слишком взрослым и бойким, чтобы считаться брошенным. Он был похож на маленькую пантеру, а в ночи казался огромным темным пятном.
Однажды я обнаружил его на нашей старой веранде: примерно восьми или девяти лет от роду, самец, с желто-зелеными глазами, очень дружелюбный и невозмутимый. Я решил, что он живет где-то по соседству.
На несколько недель я уехал, чтобы закончить работу над книгой, а когда вернулся, он все еще жил на веранде и спал в старой кошачьей корзинке, которую принесли ему дети. И при этом он изменился до неузнаваемости. У него было несколько залысин и глубокие царапины на шкурке. Кончик одного уха был оборван. Под глазом – глубокая рана и порвана губа. Он похудел и выглядел измученным.
Мы отвезли Черного Кота к врачу, где нам дали антибиотики, которые мы скармливали ему вместе с кошачьими консервами.
Нам было любопытно, с кем он сражался. С нашей прекрасной белой полудикой Снежинкой? С енотами? С клыкастым крысохвостым опоссумом?
После каждой ночи шрамов становилось все больше, и однажды у него оказался прокушен бок; в другой раз живот был располосован глубокими царапинами, которые при прикосновении кровоточили.
Когда дошло до такого, я отнес его в подвал, чтобы он мог оправиться у печи, среди груды коробок. Он оказался на удивление тяжелым, этот Черный Кот, и в подвал я отнес его в корзинке, вместе с лотком, едой и водой. Я плотно закрыл за собой дверь. А когда поднялся наверх, мне пришлось помыть руки, так как они были в крови.
Он оставался в подвале четыре дня. Вначале он был так слаб, что не мог даже есть: раненый глаз заплыл, когда ходил, он прихрамывал, и его шатало от слабости, а из рваной губы сочился желтый гной.
Я приходил к нему утром и вечером, кормил, давал антибиотики, которые смешивал с едой, обрабатывал гноящиеся раны и говорил с ним. В довершение ко всему у него был понос, и хоть я менял содержимое лотка ежедневно, от лотка ужасно воняло.
Четыре дня, которые Черный Кот провел у меня в подвале, были ужасными для моей семьи: крошечная дочка поскользнулась в ванне, ударилась головой и едва не утонула; я узнал, что от проекта, в который я вложил душу (переработка для Би-би-си романа Хоуп Миррлиз «Луд в тумане»[33]), компания отказалась, и у меня не было сил начинать с нуля, предлагая его другим каналам или другим СМИ; дочь, уехавшая в летний лагерь, стала забрасывать нас душераздирающими письмами и открытками, по пять-шесть на дню, умоляя забрать ее оттуда; сын чуть не подрался с лучшим другом, и они больше не общались; а жена, возвращаясь вечером домой, сбила оленя, который выбежал на дорогу прямо перед автомобилем. Олень погиб, машина была разбита, а у жены оказалась рассечена бровь.
На четвертый день кот, прихрамывая, бродил по подвалу, в нетерпении изучая стопки книг и комиксов, коробки с письмами и кассетами, картинами, и подарками, и прочим имуществом. Он принялся мяукать, чтобы я выпустил его, и хоть и неохотно, я это сделал.
Он вернулся на веранду, где проспал остаток дня.
На следующее утро у него на боках появились новые глубокие царапины, а пол веранды был усеян клочьями черной шерсти.
В письмах, которые пришли от дочери в тот день, говорилось, что в лагере не так уж плохо и она продержится там еще несколько дней; сын и его друг разрешили свои разногласия, и я так никогда и не узнал, что послужило причиной ссоры, коллекционные карты, компьютерные игры, «Звездные войны» или Девочка. Оказалось, что продюсер Би-би-си, наложивший вето на «Луда в тумане», брал взятки (или «сомнительные кредиты») у независимой кинокомпании, за что был отправлен в бессрочный отпуск, а его преемница, о чем я с радостью узнал из ее факса, как раз и предложила мою кандидатуру на этот проект, перед своим уходом из Би-би-си.
Я подумывал было вернуть Черного Кота обратно в подвал, но не стал этого не делать. Взамен я решил выяснить, что за животное каждую ночь приходит в наш дом, и разработать план его возможной поимки.
На дни рождения и Рождество моя семья дарила мне гаджеты и прочие дорогие игрушки, возбуждающие мое воображение, но в конечном счете редко покидающие свои коробки. У меня есть дегидратор, электрический разделочный нож и хлебопечка, а в прошлом году мне подарили бинокль ночного видения. На Рождество я зарядил в него батарейки и обошел с ним подвал – так как не мог дождаться сумерек, – выслеживая стаю воображаемых скворцов. (В бинокль не рекомендовалось смотреть при свете, чтобы не повредить его, а возможно, и глаза в придачу.) После я убрал его в коробку, и он так и лежал теперь в моем кабинете, среди компьютерных проводов и ненужных вещей.
Возможно, подумал я, если это животное, собака или кошка, или енот, или кто-там-еще, увидит меня на веранде, оно и не явится, а потому я поставил себе стул в кладовке величиной чуть больше туалета, из которой была видна веранда, и когда все в доме уснули, зашел на веранду пожелать Черному Коту доброй ночи.
Этот кот, сказала моя жена, когда он появился у нас впервые, – почти человек. В самом деле, его огромная львиная мордочка очень смахивала на лицо: широкий черный нос, желто-зеленые глаза, клыкастый, но дружелюбный рот (со все еще гноящейся раной на нижней губе).
Я погладил его по голове, почесал под подбородком и пожелал удачи. После чего ушел в свою кладовку, погасив на веранде свет.
Там я сидел в темноте с биноклем ночного видения в руке. Я включил бинокль, и его окуляры излучали зеленоватый свет.
Время шло, было темно.
Я развлекался тем, что смотрел в бинокль, учась наводить фокус, видеть мир зеленых теней. И ужаснулся, увидев, сколько насекомых роится в ночном воздухе: ночной мир напоминал кошмарный суп, в котором кишмя кишит жизнь. Тогда, немного опустив бинокль, я стал смотреть в черно-синюю ночь, пустую, мирную и спокойную.
Время шло. Я старался не заснуть, тяжко страдая от отсутствия сигарет и кофе, насильно избавленный от этих вредных привычек, которые наверняка помогли бы не сомкнуть глаз. Но не успел я слишком погрузиться в мир грез и снов, как в саду раздался вой, который сразу стряхнул с меня оцепенение. Схватив бинокль, я поднес его к глазам и увидел всего-навсего Снежинку, белую кошку, пронесшуюся по палисаднику пятном зеленовато-белого света. Она пропала среди деревьев слева от дома. Я был разочарован.
И собирался вновь принять расслабленную позу, но мне пришло в голову поинтересоваться, что же так напугало Снежинку, и я принялся внимательно осматривать окрестности, выискивая огромного енота, собаку или злобного опоссума. И вдруг увидел, как по подъездной дорожке к дому движется нечто. В бинокль я видел все так ясно, словно днем.
Это был дьявол.
Я никогда прежде не видел дьявола, и хотя когда-то писал о нем, если бы меня приперли к стенке, я признался бы, что не верю в его существование; он был для меня воображаемой фигурой, по-мильтоновки трагической. Однако то, что теперь двигалось по дорожке к дому, не было мильтоновским Люцифером[34]. Это был дьявол.
Сердце так забилось в груди, что мне стало больно. Я надеялся, что он меня не видит, что, сидя в доме и глядя в окно, я надежно спрятан.
А приближавшаяся фигура мерцала и менялась. Одно мгновение она была темной, похожей на Минотавра[35], в следующее – изящной и женственной; потом превращалась в кота, огромного, покрытого шрамами серо-зеленого дикого кота с перекошенной от ненависти мордой.
На мою веранду ведут ступени, четыре некрашенных деревянных ступени (я знал, что они белые, хотя в бинокле они были серыми, как и все остальное). На нижней ступени дьявол остановился и что-то крикнул, я не разобрал, три-четыре слова на скулящем, воющем языке, архаичном и позабытом, должно быть, еще в древнем Вавилоне; и хотя не понял ни слова, я почувствовал, как, когда он их произносил, у меня на затылке волосы встали дыбом.
И тут я услышал приглушенное стеклом низкое рычание: это был вызов, и, медленно и нетвердо ступая, стала спускаться навстречу дьяволу черная фигура. Это был Черный Кот, который уже не напоминал пантеру и шатался и спотыкался при ходьбе, как только что сошедший на берег моряк.
Тем временем дьявол превратился в женщину. Она сказала коту что-то нежное и успокаивающее, на языке, похожем на французский, и протянула к нему руку. Он впился в руку зубами, и тогда ее губы искривились, и она в него плюнула.
Тут женщина взглянула на меня, и если у меня еще оставались в том сомнения, теперь я точно знал, что это дьявол: в глазах ее горел красный огонь, хотя в бинокль это и не видно – только оттенки зеленого. Дьявол видел меня в окно. Он меня видел. Я в том нисколько не сомневаюсь.
Дьявол, корчась и извиваясь, превратился в нечто вроде шакала, в существо с плоской мордой, огромной головой и бычьей шеей, полугиену-полудинго. В его шелудивой шкуре копошились черви, но он продолжал подниматься по ступеням.
Черный Кот прыгнул, и, извиваясь, они принялись кататься по земле так быстро, что я не успевал ничего разглядеть.
И при этом не издавали ни звука.
Вдали, на проселочной дороге, куда выходит наш подъездной путь, загромыхал припозднившийся грузовик, через бинокль его горящие фары сияли, как зеленые солнца. Я убрал бинокль и увидел в темноте слабый желтый свет фар, а затем красный – задних фонарей, а потом и они пропали.
Когда я снова поднес к глазам бинокль, смотреть было уже не на что. Только на ступенях сидел Черный Кот и смотрел в темноту. Я поднял бинокль выше и увидел нечто, возможно, стервятника, улетавшего прочь.
Я пошел на веранду, поднял Черного Кота и погладил его, и сказал ему много добрых и ласковых слов. Он жалобно мяукнул, когда я подошел, но очень скоро уснул у меня на руках, и я положил его в корзинку, а сам пошел наверх, спать. А наутро обнаружил на футболке и джинсах капельки засохшей крови.
Это было неделю назад.
Но такое случается не каждую ночь, хотя и довольно часто: мы знаем об этом по ранам кота и по боли, которую я читаю в его львиных глазах. У него уже не сгибается левая передняя лапа и ослеп правый глаз.
Не могу понять, чем мы заслужили появление у нас Черного Кота. И кто его послал. И еще, как ни трусливо и эгоистично это звучит, мне хотелось бы знать, надолго ли его еще хватит.
Шогготское [36] особой выдержки
Бенджамин Ласситер пришел к неизбежному заключению, что женщина, написавшая «Пешеходную экскурсию по побережью Британии», книгу, которую он носил в своем рюкзаке, никогда в жизни вообще не была на пешей прогулке и, скорее всего, не узнала бы британское побережье, если бы даже оно протанцевало через ее спальню во главе джаз-банда, громко и радостно напевая «Я и есть побережье Британии» и аккомпанируя себе на казу[37].
В течение пяти дней он следовал ее рекомендациям и в награду имел лишь волдыри на ногах и боль в пояснице. На британских морских курортах множество пансионов, предоставляющих ночлег и завтрак, где будут чрезвычайно рады принять вас в межсезонье, говорилось в книге. Бен зачеркнул эту фразу и на полях написал: На британских морских курортах существует жалкая кучка пансионов с ночлегом и завтраком, владельцы которых в последний день сентября улетают в Испанию, Прованс или куда-то еще, крепко заперев за собой дверь.
Подобных заметок на полях он оставил множество: Ни при каких обстоятельствах не заказывайте, как это сделал я, яичницу в придорожном кафе, – или: Что это за блюдо, рыба с жареной картошкой? – или: Нет, вовсе нет. Последняя была сделана напротив абзаца, в котором утверждалось, что если и есть на свете что-то, что могло бы чрезвычайно обрадовать обитателей живописных деревень на британском побережье, так это путешествующий пешком турист-американец.
Пять адских дней Бен шел от деревни к деревне, угощаясь сладким чаем и растворимым кофе в кафе и закусочных и пялясь на бесконечность серых скал и свинцового моря; он дрожал от холода в двух толстых свитерах, мок под дождем, но так и не сподобился увидеть обещанные достопримечательности.
Найдя себе укрытие на автобусной остановке, где ему однажды даже пришлось переночевать, он принялся искать перевод для ключевых слов путеводителя: он решил, что прелестный означает не поддающийся описанию; живописный означает неприглядный, но смотрится неплохо, если дождь наконец перестал; а восхитительный, возможно, означает: мы никогда здесь не были и не знаем никого из тех, кто был. Он также пришел к заключению, что чем экзотичнее название деревни, тем более она уныла на вид.
Вот и получилось, что на пятый день Бен Ласситер очутился где-то севернее Бутла, в городке Иннсмут, который в путеводителе не был назван ни прелестным, ни живописным, ни восхитительным. В книге не содержалось также описание ни ржавого пирса, ни гниющих на галечном пляже корзин для ловли лобстеров.
На берегу было три заведения, одно возле другого: «Вид на море», «Мон репо» и «Шуб-Ниггурат»[38], и в окне у каждого висела выключенная неоновая вывеска «СДАЮТСЯ КОМНАТЫ», а на двери – табличка «ЗАКРЫТО ДО НАЧАЛА СЕЗОНА».
Открытых кафе здесь не было. На двери единственной забегаловки, торгующей рыбой с жареной картошкой, тоже значилось «ЗАКРЫТО». А пока Бен ждал, когда она откроется, серый день поблек и сменился сумерками. Наконец на дороге появилась маленькая, лицом немного похожая на лягушку женщина, которая отперла дверь. Бен спросил, когда будет открыто для посетителей, она посмотрела на него в замешательстве и сказала:
– Сегодня понедельник, уважаемый. Мы никогда по понедельникам не работаем, – после чего вошла в лавку и заперла за собой дверь, оставив продрогшего и голодного Бена на пороге.
Бен вырос в маленьком городке засушливого Техаса: единственным доступным жителям видом водоемов был бассейн на заднем дворе, а путешествовать можно было лишь в пикапе с кондиционером. Потому у него и возникла идея пешком пройти вдоль берега моря в стране, где говорят практически по-английски. В городе Бена сушь была двойной: здесь гордились тем, что ввели запрет на алкоголь за тридцать лет до того, как остальную часть Америки шарахнуло сухим законом, и потом так его и не отменили; а потому Бен знал о пабах только то, что это рассадники греха, как и бары, только с более приятным названием. Однако автор «Пешеходной экскурсии» утверждала, что, зайдя в паб, там можно обнаружить местный колорит и узнать полезную информацию, что в пабе следует непременно «пропустить стаканчик» и что в некоторых даже подают еду.
Этот паб назывался «Книгой Мертвых Имен», а табличка на дверях известила Бена, что его владельцем является некий А. Аль-Хазред[39], обладающий лицензией продавать вина и крепкие напитки. Бену стало интересно, не означает ли это, что здесь подают индийскую еду, которую он не без удовольствия отведал по прибытии в Бутл. Он задержался у указателей, решая, что выбрать: «Публичный бар» или «Салун», и спрашивая себя, что означает здесь слово «публичный» и не являются ли английские публичные бары такими же частными, как и публичные школы, но в конце концов, поскольку название напоминало вестерн, направился в «Салун».
Там было почти пусто и пахло прокисшим пивом и позавчерашним табачным дымом. За стойкой стояла пухлая женщина с бесцветными волосами, а в дальнем углу восседали два джентльмена в долгополых серых плащах и шарфах. Они играли в домино и потягивали из граненых стеклянных кружек темно-коричневый, с обильной пеной напиток.
Бен подошел к барной стойке.
– У вас можно заказать поесть?
Барменша какое-то время чесала нос, затем нехотя ответила, что, наверное, могла бы приготовить ему по-крестьянски.
Бен понятия не имел, что это значит, и в который раз пожалел, что «Путеводитель» не снабжен англо-американским разговорником.
– А это еда? – спросил он. Она кивнула. – Хорошо. Приготовьте одну порцию.
– А выпить?
– «Коку», пожалуйста.
– У нас не бывает «Коки».
– Тогда «Пепси».
– И «Пепси».
– А что у вас есть? «Спрайт»? «Севен-ап»? «Гаторейд»?
От его вопросов она словно еще поглупела, но наконец произнесла:
– Кажется, у нас осталась пара бутылок вишневого крюшона в подсобке.
– Вот и хорошо.
– С вас пять фунтов двадцать пенсов. По-крестьянски я принесу, когда будет готово.
Усевшись за маленький и немного липкий деревянный столик и потягивая нечто шипучее, с виду и на вкус совершенно химическое, Бен решил, что по-крестьянски – это, вероятно, нечто вроде стейка. Он пришел к этому ни на чем не основанному заключению, приняв желаемое за действительное и представив себе грубого или, положим, буколического крестьянина, на закате ведущего тучных быков по свежевспаханному полю; в тот момент он хладнокровно и лишь при незначительной посторонней помощи мог бы съесть целого быка.
– Вот, пожалуйста. По-крестьянски, – сказала барменша, ставя перед ним тарелку.
Оказалось, что «по-крестьянски» – это прямоугольный кусок острого сыра, лист салата, карликовый помидор со следом большого пальца на кожице, горка чего-то влажного и коричневого, на вкус похожего на кислый джем, и маленькая черствая булочка, – и это разочаровало и опечалило Бена, который решил, что британцы относятся к еде как к своего рода наказанию. Он жевал сыр с листом салата, проклиная всех крестьян Англии за то, что они предпочитают обедать такими помоями.
Джентльмены в серых плащах, что сидели в дальнем углу, закончили играть в домино, подхватили свои кружки и подсели к Бену.
– Чего это вы пьете? – с любопытством спросил один.
– Говорят, вишневый крюшон, – ответил он. – Судя по вкусу, его на химзаводе приготовили.
– Интересно вы говорите, – сказал тот, что пониже. – Интересно вы говорите. У меня вон друг работал на химзаводе, но он никогда не пил вишневый крюшон.
Он сделал драматическую паузу и отхлебнул из кружки. Бен подождал, будет ли продолжение, но тот, кажется, выговорился; беседа замерла.
Стараясь произвести хорошее впечатление, Бен, в свою очередь, спросил:
– А вы, парни, что пьете?
Более высокий, сидевший до этого с мрачным видом, повеселел:
– Что ж, это чрезвычайно любезно с вашей стороны. Мне пинту шоггота особой выдержки.
– И мне тоже, – сказал его друг. – Я не прочь прикончить шоггота. Ха, держу пари, получился неплохой рекламный слоган! «Я не прочь прикончить шоггота». Стоит им предложить. Держу пари, они ужасно обрадуются моему предложению.
Бен пошел к барменше, собираясь заказать две пинты шоггота особой выдержки и стакан воды для себя, но обнаружил, что она уже налила три пинты темного пива. Что ж, подумал он, придется выпить за компанию, тем более что хуже, чем вишневый крюшон, ничего просто быть не может. Он сделал маленький глоток. У пива был привкус, благодаря которому, как он полагал, рекламщики охарактеризовали бы напиток как «полнотелый», но если припереть их к стенке, им пришлось бы признать, что означенное тело принадлежит козлу.
Он расплатился и стал лавировать между столиков обратно, к своим новым друзьям.
– Итак, как вы здесь очутились? – спросил тот, что повыше. – Полагаю, вы – один из наших американских братьев – хотите посмотреть самые знаменитые английские городки?
– Кстати, в Америке тоже есть город с таким названием, – сказал тот, что поменьше.
– В Штатах есть Иннсмут? – удивился Бен.
– Должен сказать, что да, – сказал тот, что поменьше. – Он все время об этом писал, тот человек, чье имя мы не упоминаем.
– Простите? – удивился Бен.
Маленький посмотрел через плечо и очень громко прошипел:
– Гэ Фэ Лавкрафт!
– Я же просил не называть его! – сказал второй и сделал глоток темного пива. – Гэ Фэ Лавкрафт. Гэ Фэ блин Лавкрафт. Гэ блин Фэ блин Лав блин Крафт. – Он замолчал, чтобы набрать побольше воздуха. – Что он там знал? А? Я хочу сказать, что он, блин, знал?
Бен отпил немного пива. Имя было смутно знакомым; он вспомнил, что оно ему как будто попадалось в груде старинных виниловых пластинок в дальнем углу отцовского гаража.
– Это случайно не рок-группа?
– Я не про рок-группу говорил. Я имел в виду писателя.
Бен пожал плечами.
– Никогда о таком не слышал, – признался он. – Я вообще-то читал одни вестерны. И технические справочники.
Маленький пихнул локтем соседа.
– Ну вот, Уилф. Слыхал? Его никто не знает.
– Ладно. Ничего страшного. Что до меня, то я читал этого, Зейна Грея[40], – сказал высокий.
– Да. Ну. Было бы чем гордиться. Этот малый, как, бишь, тебя зовут?
– Бен. Бен Ласситер. А вас?..
Маленький улыбнулся; он ужасно похож на лягушку, подумал Бен.
– Я Сет, – сказал маленький. – А моего друга зовут Уилф.
– Очень приятно, – сказал Уилф.
– Привет, – сказал Бен.
– По правде говоря, – сказал маленький, – я с тобой согласен.
– Согласен? – не понял Бен.
Маленький кивнул.
– Ну. Насчет Гэ Фэ Лавкрафта. Вообще не понимаю, к чему весь этот шум. Он и писать-то, блин, не умел. – Маленький отхлебнул портера и слизнул с губ пену длинным гибким языком. – Взять хотя бы слова, которые он употреблял. Жуткой. Ты хоть знаешь, что это означает?
Бен покачал головой. Ему казалось странным, что он говорит о литературе с двумя незнакомцами в английском пабе. Он даже на мгновение предположил, что стал кем-то еще, пока не смотрел. Чем ниже опускалась риска в его кружке, тем менее противным становилось пиво, а липкое послевкусие вишневого крюшона почти пропало.
– Жуткой — значит изнурительный. Мучительный. Чертовски странный. Вот что это значит. Я смотрел. В словаре. А вот это, другое слово, выпуклогорбый?
Бен снова покачал головой.
– И не говори, а всего-то фаза луны, между второй четвертью и полнолунием. А нас он как всегда называл, а? Блин. Этсамое. На букву «б». На языке вертится…
– Выблядки? – предположил Уилф.
– Неа. Блин. Как его. Пучеглазые. Вот. То есть похожие на лягушек.
– Да брось! – сказал Уилф. – Я думал, это про верблюдов.
Сет энергично покачал головой:
– Лягушки. Опрдленно. Не верблюды. Лягушки.
Уилф отхлебнул шогготского. Бен пригубил, осторожно и без всякого удовольствия.
– Ну и? – спросил Бен.
– У них два горба, – встрял Уилф.
– У лягушек? – удивился Бен.
– Неа. У пучеглазых. В то время как у этих ваших обыкновенных дремедеров, у них один. Для долгого путешествия через пустыню. И это едят.
– Лягушек? – снова удивился Бен.
– Горбы, – уставился на Бена Уилф своим выпуклым желтым глазом. – Слушай сюда, компанейский ты парень. После трех-четырех недель путешествия по пустыне кушанье из жареного верблюжьего горба кажется особенно вкусным.
Сет скривился:
– Ты никогда не пробовал верблюжий горб.
– Но мог бы, – сказал Уилф.
– Да, но ты же не пробовал. Ты и в пустыне-то не был.
– Ну, если предположить, что я отправился в паломничество к гробнице Нъярлатхотепа…
– Ты имеешь в виду черного царя древних, который грядет в ночи с востока и его не узнают?
– А кого ж еще?
– Просто спросил.
– Глупый вопрос, если тебе интересно знать.
– Но ты мог иметь в виду кого-то другого.
– Это не слишком распространенное имя, не так ли? Нъярлатхотеп. Двух таких не было, или я не прав? «Привет, ты тоже Нъярлатхотеп? Надо же, какое совпадение!» Только это вряд ли. Короче, тащусь я через пустыню, по бездорожью, и думаю, а не прикончить ли мне верблюжий горб…
– Но ведь ты нигде не тащился! Ты дальше нашей гавани не бывал.
– Ну… да…
– Вот! – Сет торжествующе посмотрел на Бена, наклонился и прошептал ему в ухо: – Он всегда такой, как дорвется до выпивки, и я, типа, его боюсь.
– Я все слышал, – сказал Уилф.
– Ладно, – сказал Сет. – Короче. Гэ Фэ Лавкрафт. И эти его, блин, тексты. Гм. Выпуклогорбая луна висела низко над пучеглазыми и студенистыми обитателями Далиджа. Что он имел в виду, а? Что он имел в виду? Я тебе скажу, блин. Он, блин, имел в виду, что луна была почти полная, а те, кто жил в Далидже, все до единого были чертовыми студенистыми лягушками! Вот что он имел в виду.
– А что ты еще такое сказал? – спросил Уилф.
– Чего?
– Студенистые. Этчто значит, а?
Сет пожал плечами.
– Фиг его знает. Но он частенько его употребляет.
Снова повисла пауза.
– Я студент, – сказал Бен. – Стану металлургом, когда доучусь. – Ему кое-как удалось прикончить свою пинту шогготского особой выдержки, и он с приятным удивлением осознал, что это был его первый в жизни алкогольный напиток. – А вы, ребята, чем занимаетесь?
– Мы служители, – сказал Уилф.
– Культа Великого Ктулху[41], – гордо добавил Сет.
– Правда? – удивился Бен. – А что это значит?
– Теперь я, – сказал Уилф. – Погодите. – Он направился к барменше и вернулся еще с тремя пинтами напитка. – Ну, – сказал он, – это значит, технически, не так уж много. Быть служителем – это совсем не то, что можно было бы назвать тяжкой работой в разгар сезона. Так происходит потому, конечно, что он спит. Ну, не то чтобы спит. А если точнее, он мертвый.
– В своем доме в Р’льехе мертвый Ктулху ждет, сны видит, – перебил его Сет. – Или, как сказал поэт, не мертво то, что вечно спит…
– И в странной вечности витает, – затянул Уилф.
– Под «странным» он имеет в виду чертовски специфическое.
– Точно! Мы ведь говорим не о вашем измерении.
– А о том странном измерении, где умирает Смерть.
Бен был слегка удивлен, обнаружив, что, кажется, пьет следующую пинту «полнотелого» шогготского особой выдержки, а козлиный дух уже не ощущается им так ярко. Он также был рад заметить, что больше не испытывал голода, что волдыри на ногах не саднили, а его собутыльники были обаятельными, умными парнями, правда, он все время путался, кого из них как зовут. А поскольку у него не было опыта в употреблении алкоголя, ему не приходило в голову, что все это он ощущает благодаря второй пинте шогготского особой выдержки.
– Так что именно сейчас, – сказал Сет, а может, Уилф, – нам вообще не приходится париться. В основном просто ждем.
– И молимся, – сказал Уилф, если он не был Сетом.
– И молимся. Но очень скоро все изменится.
– Да-а? – спросил Бен. – И каким же образом?
– Ну, – поведал ему тот, что повыше, – в один из дней Великий Ктулху (в данный момент временно покойный), то есть наш босс, проснется в своем подводном, так сказать, прибежище.
– И тогда, – сказал маленький, – он потянется, и зевнет, и оденется.
– Я не удивлюсь, если он сходит в туалет.
– Может, газеты почитает.
– А когда все это сделает, он явится из океанских глубин и напрочь уничтожит весь мир.
Бен счел это ужасно забавным.
– Словно «по-крестьянски», – сказал он.
– Именно. В самую точку, молодой американский джентльмен! Великий Кхулту проглотит мир вместо ланча, оставив на краю тарелки огрызок бренстонского маринованного огурца.
– Типа вот этой бурой фигни? – спросил Бен.
Они заверили его, что типа того, а он отправился к стойке и возвратился с еще тремя пинтами шогготского особой выдержки.
Дальнейший разговор он помнил смутно. Помнил, как допил свою пинту, и новые друзья пригласили его пройтись по городку, показывая местные достопримечательности: «Здесь мы берем посмотреть киношку, а вон то большое здание, за этим домом, – Безымянный Храм Неназываемых Богов, и по субботам там, в крипте, ярмарка…»
Он поделился с ними своими предположениями относительно путеводителя и взволнованно заверил, что Иннсмут очень даже живописный. А еще сказал, что они лучшие из друзей, какие у него когда-либо были, а Иннсмут вообще восхитителен.
Луна была почти полная, и в бледном ее свете оба новых друга были удивительно похожи на огромных лягушек. Или верблюдов.
Все трое дошли до конца ржавого причала, и Сет и/или Уилф указали Бену на развалины затонувшего в заливе Р’льеха[42], сквозь толщи воды видимые в лунном свете, и Бена вдруг одолел, как он склонен был считать, внезапный и непредвиденный приступ морской болезни, так что его буквально выворачивало наизнанку прямо в ночное море… А потом все казалось немного странным…
Бен Ласситер проснулся от холода на склоне холма, с раскалывающейся головой и отвратительным привкусом во рту. При этом голова его лежала на рюкзаке, а по обеим сторонам от него простиралась скалистая вересковая пустошь, и не было никаких признаков ни дороги, ни какого-либо городка, живописного, прелестного, восхитительного или хотя бы колоритного.
Спотыкаясь и прихрамывая, он прошел почти милю, пока не добрел до ближайшей бензозаправки.
Там ему разъяснили, что в этих местах нет городка с названием Иннсмут. И нет другого городка, где был бы паб, который называется «Книга Мертвых Имен». Он рассказал о парнях по имени Уилф и Сет, и об их друге, которого зовут Странный Иэн и который где-то крепко спит, если только не лежит мертвый на дне моря. Ему ответили, что здесь никогда особенно не жаловали американских хиппи, что шляются, обкуренные, по окрестностям, и что ему, возможно, станет лучше после доброй чашки хорошего чая и сэндвича с тунцом и огурчиком, ну а если он упорно желает бродить здесь и дальше в наркотическом дурмане, то молодой Эрни из вечерней смены будет просто счастлив снабдить его небольшим пакетиком отличной, собственного приготовления анаши, надо только прийти сюда после обеда.
Бен вытащил свой путеводитель и попытался найти в нем Иннсмут, чтобы доказать им, что ему все это вовсе не приснилось, но не смог найти страницу, на которой значился городок, если она вообще существовала. Правда, довольно много страниц примерно из середины книги оказались почему-то грубо вырваны.
Тогда Бен вызвал по телефону такси, которое довезло его до железнодорожного вокзала в Бутле, там он сел на поезд, шедший до Манчестера, а из Манчестера на самолете долетел до Чикаго, откуда, изменив свой первоначальный план, полетел в Даллас, там пересел в другой самолет, летевший на север, где, взяв на прокат автомобиль, добрался наконец до дома.
Он обнаружил, что ему приятно сознавать, что он находится более чем в шестистах милях от океана; правда, позднее он переехал в Небраску, чтобы оказаться еще дальше: кое-что из того, что он видел – или думал, что видел, – в воде у ржавого причала он никогда уже не мог забыть. Да и то, что скрывали под собой серые плащи, не было предназначено для человеческих глаз. Чешуйчатые. Ему не требовалось смотреть в словаре. Он просто знал. Они были чешуйчатыми.
Недели через две после возвращения Бен отправил автору по почте свой экземпляр «Путеводителя» с пометками на полях для последующих переизданий, с пространным письмом, содержавшим множество полезных советов. Он также просил автора прислать ему копию страниц, которые оказались вырванными из его экземпляра, чтобы успокоить его сознание; и втайне испытал облегчение, когда дни сменились месяцами, месяцы – годами, а годы – десятками лет, и она ему так и не ответила.
Свадебный подарок
После всех радостей и переживаний, после свадебной магии и безумств (и нелепой речи отца Белинды, сопровождавшейся показом семейных слайдов), когда медовый месяц в прямом смысле закончился (хотя в переносном еще нет), а их свежий загар еще не успел поблекнуть в лучах осеннего английского солнца, Белинда и Гордон уселись разворачивать свадебные подарки и составлять благодарственные письма за тостеры, полотенца, соковыжималки, чудо-печки, столовые приборы, посуду, чайники и занавески.
– Ну вот, – сказал Гордон. – С крупными предметами покончено. Что у нас осталось?
– Конверты, – ответила Белинда. – Должно быть, чеки.
Действительно, в конвертах оказались чеки, подарочные карточки, а также десятифунтовая карточка на покупку книг от Гордоновой тети Мэри, бедной, как церковная мышь, но очень милой, присылавшей ему такие карточки на день рождения, сколько он себя помнил. И наконец, в самом низу огромной стопки, они обнаружили большой коричневый конверт для деловой корреспонденции.
– Что это? – спросила Белинда.
Гордон вскрыл конверт и достал желтоватый лист бумаги, сверху и снизу неровно оборванный, на котором виднелись несколько строк, напечатанных на пишущей машинке, а Гордон уже несколько лет не держал в руках машинопись. Он медленно прочел написанное.
– И что же? – повторила Белинда. – От кого письмо?
– Не знаю, – ответил Гордон. – От того, у кого сохранилась дома пишущая машинка. Оно не подписано.
– Но это письмо?
– Не совсем, – ответил он, почесал нос и снова принялся читать.