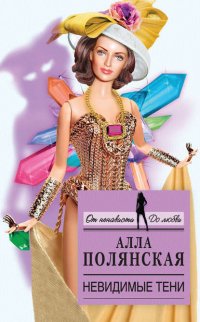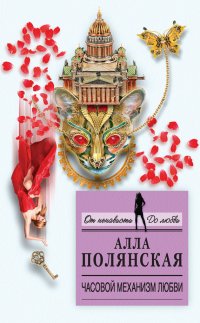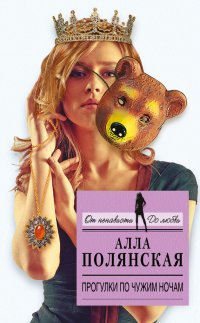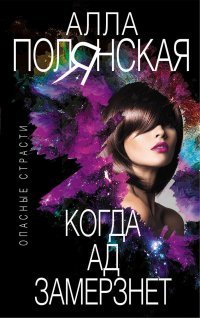
Читать онлайн Когда ад замерзнет бесплатно
- Все книги автора: Алла Полянская
Copyright © PR-Prime Company, 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Моим родителям, лучшим родителям в мире.
1
Когда тьма спускается с небес, даже хорошо знакомые места кажутся совсем другими. Словно с приходом тьмы все вокруг сдвигается, поворачиваясь другой стороной, внутри поднимаются какие-то первобытные страхи, и начинаешь думать о вещах, о которых днем вообще не думаешь.
Например, о чудовищах.
Просто со временем перестаешь их качественно бояться. В детстве страх абсолютно чистый, не замутненный никаким цинизмом, а когда ты взрослый, то начинаешь бояться совершенно других вещей. А монстры – всякая там нежить типа вампиров, оборотней или призраков, даже зомби, самые неприятные из списка, – что они могут сделать? Убить? Ну, и все. Обратить в себе подобных? Тоже не страшно (кроме зомби, это вообще днище). А вот вампиром быть отлично, я думаю. Летаешь себе, а если что – можно к знакомым на огонек заглянуть. Никаких обязательств, никаких привязанностей. Хотя, безусловно, пить кровь – это гадость, но как-то можно стерпеть, и зубы никогда не болят.
И душа не болит тоже.
Знаете, я всегда считала, что бомжами становятся граждане, злоупотребляющие огненной водой. Ну, или совершенно глупые, которые попадаются на удочку мошенников. Я не относилась ни к одной из указанных категорий, и тем не менее, любуйтесь, дамы и господа: я стою на улице в окружении коробок и ожидаю риелторшу из агентства недвижимости. Она единственная смогла найти мне квартиру в такой короткий срок и согласилась меня подвезти. И я, конечно, поеду сейчас на съемную квартиру, хотя понимаю, что это какая-то ужасная дыра, но на улице делать нечего, тем более, что мои коробки картонные, асфальт сырой и темно.
А главное, мне больше некому позвонить, только практически незнакомой тетке, с которой я два раза поговорила по телефону. Когда все стряслось, я просто набрала номер некой Риты, с которой накануне общалась на предмет нового жилья. Само агентство недвижимости я нашла в интернете, обзвонив в срочном порядке с десяток таких, но только здесь согласились мне помочь – уж больно мало у меня денег.
Наверное, так ощущала себя Белоснежка, попавшая в ночной лес. Это потом уже появились гномы и принц, а вначале были Злая Королева, бесхребетный папаша и бег по лесу, полному теней и страхов.
Ночью все не так, даже если это не совсем ночь, а просто рано темнеет.
– Я тут развернуться не смогу.
Голос прозвучал очень неожиданно, я даже вздрогнула. Обернувшись, увидела смутный силуэт.
– О, у тебя коробки… ладно, сейчас погрузимся.
Передо мной возникла высокая статная барышня, одетая в короткий норковый полушубок и джинсы. Наверное, это и есть Рита.
– Давай к машине перетащим, я тут недалеко парканулась. У вас тут узковато. – Она берет один из ящиков. – Сейчас все быстренько погрузим – и едем, есть идея.
Мне все равно. В моей жизни все уже произошло, дальше тьма… хотя и раньше была тьма, но как бы ни было темно, всегда может стать еще темнее.
Я молча перетаскиваю коробки с книгами и немногими другими пожитками в машину Риты, и скоро багажник и заднее сиденье наполняются доверху, особенно много места занимает узел с постельным бельем, а ведь есть еще одна коробка.
– На колени себе поставишь. – Рита выводит машину из переулка на дорогу. – Значит, идея такая: сегодня появилась квартира, как раз по твоим деньгам. Честно говоря, я хотела сама ее купить и потом сдавать, но тебе нужнее, так что ты ее послезавтра купишь, но свободна она уже сейчас. Хозяйка там еще копошится, но ключи уже у меня, и нет причин не заехать прямо сегодня. С хозяйкой я договорилась.
Я киваю, особо не вникая в суть сказанного. Если бы она сейчас предложила вывезти меня в лес и утопить в омуте, я бы, пожалуй, точно так же сидела и прижимала к себе коробку со своей прошлой жизнью – не сказать, что она была счастливой, зато определенной, а что будет дальше, я не знаю, да мне сейчас и неинтересно.
– Менты тебя сильно достают?
– Умеренно.
Рита кивает, словно понимает, о чем речь, – а может, и понимает.
– У меня муж там служит, попрошу его поинтересоваться.
– Ага.
Я не виновата, что внутри у меня сейчас пусто. Но я понимаю: эта Рита, так уверенно ведущая свою машину, тоже ни минуты не виновата в том, что произошло со мной, наоборот – она пытается помочь, чем может, она же не знает, что помочь мне уже невозможно.
– Вот, приехали. Самый центр.
Эти одноэтажные дома вдоль улицы, ведущей в парк «Дубовая роща», стоят здесь с позапрошлого века. Когда-то это был квартал, где жили богатые купцы и мещане, но потом новая власть их расстреляла, а в домах поселился победивший гегемон.
– Ты не смотри, что дом с виду так себе. – Рита позвенела ключами, у святого Петра мастер-класс проходила, не иначе. – Дом крепкий, еще сто лет простоит и не почешется.
Мы входим во двор, освещенный фонарем. Ну, двор как двор – недалеко от дома отдельно стоящий флигель, дальше какие-то сараи, но Рита уверенно топает к ступенькам, ведущим к высокой двери. Дом был когда-то почти двухэтажный, внизу высокий цоколь, сверху – крыша-мансарда, и сооружение в темноте выглядит очень внушительно. Точно такая же лестница есть со стороны улицы, но дверь там, видимо, заколочена. И хорошо бы квартира, которую нарыла мне Рита, была в мансарде. Но мне так не повезет, я точно знаю.
Мы входим в просторный холл, перерезанный коридором, который уже позже появился, это заметно. Вдоль коридора еще две двери, а справа и слева – ступеньки, ведущие наверх.
– Я уж думала, будем вечно вас ждать. – Молодая надутая тетка оценивающе смотрит на меня. – Да поставь коробку-то!
Я ставлю коробку на пол, Рита тоже.
– Люся, пошли к машине, разгрузимся, там еще коробки.
– Да понятно. – Люся вполне могла бы послать Риту с ее предложением по известному адресу, но отчего-то не посылает. – Подожди, кликну соседей, помогут. А ты оставайся, бабуля сама хотела тебе ключи передать.
Это она уже мне говорит.
Комната просторная, очень странной конфигурации, но в ней есть большой камин, что приводит меня в состояние шока, а также есть полукруглое возвышение, к которому ведут три ступеньки. А потолки теряются вверху, и есть винтовая лестница, ведущая туда. И хотя сейчас уже темно, я все равно вижу что, эта с позволения сказать, «квартира» – просто жуткая дыра.
Но выбора у меня нет.
В комнате у окна стоит табурет, на котором, как воробей на жердочке, примостилась крохотная старушонка.
– Стало быть, тебе передаю. – Бабка смотрит на меня с хитроватым прищуром. – Что ж, пришло время… Вот, значит, ключи: этот от двери, а эти два от замков внизу, там отсек есть, поглядишь – просторный, и варенье можно хранить, и вещи, что поплоше, а выбросить жаль.
Она вдруг неожиданно резво соскочила с табуретки и засеменила по комнате.
– Сколько годков тут прожито, вот как получили ее мои родители еще, от фабрики, значит, – так и живу с тех пор, но только теперь все. – Старуха погладила обрамление камина. – Да, пора и честь знать… так, значит, ключики-то я тебе отдала, а дальше сама разбирайся. Ты молодая, все наживешь. А на первый случай там в кладовке раскладушка есть. Хоть и старенькая она, да исправная, поспишь так, значит, кости молодые.
Я терпеть не могу, когда у людей в речи живут слова-паразиты – значит, это самое, типа, ну и прочее. Как-то раз вызверилась на одну барышню, когда та завела монолог в стиле: ну, типа, я иду, типа, а он, типа… Вот хотелось взять и стукнуть ее по пустой башке, но я не стукнула, конечно.
Я вообще чаще всего наступаю на горло своим желаниям.
В комнату вереницей потянулись мои коробки – похоже, риелторша весь дом на ноги подняла. Ну, оно и время еще не ночное совсем, даром что темно за окном. Середина марта, темнеет рано.
– Все, ящики занесли, сейчас Миша узел притащит. – Рита, запыхавшись, расстегнула полушубок. – В общем, ты оставайся, обживайся тут, а послезавтра утром я к тебе заеду, и поедем к нотариусу. Оформим сделку, и все.
– Ага, спасибо.
Старуха заглядывает в принесенные коробки, и это так себе идея.
– Все, бабушка, поехали. – Давешняя Люся берет бабку за руку. – Пусть девушка устраивается.
По тому, как громко она говорит, становится ясно, что старуха глуховата.
– Что ж, и правда, нечего нам тут путаться под ногами у молодой хозяйки. – Старуха подмигивает мне. – Ну, ты сама поглядишь, в кладовке раскладушка-то, не на полу, же тебе спать, хоть и тараканов нет, а все ж негоже на полу. Кабы знали, так диван бы оставили.
– Баба Маша, твоим диваном можно было еретиков пытать, одни пружины в разные стороны. А вот шкаф надо было оставить, но кто ж знал, еще третьего дня все выбросили. – Люся кивнула в сторону двери. – Идем, поздно уже. Так послезавтра у нотариуса, счастливо оставаться.
У нотариуса так у нотариуса, я молча киваю, с тоской глядя на кучу коробок. Разбирать мне их совершенно не хочется. Я хочу спать, ну и чаю бы выпила, конечно, – только чайника нет, и чая, и ничего вообще, я уходила из дома, в котором выросла, взяв с собой только то, без чего обойтись я ни за что не смогу, а еда в этот список не входит.
Мой уход из дома очень сильно напоминал бегство, и по сути он им и был.
У меня очень токсичная семейка – вернее, то, что от нее осталось, а это немного. Когда не стало отца, я, собственно, и сама собиралась съехать, поменяв пароли и явки, чтобы никогда больше никого из них не видеть, но я не думала, что буду уходить короткими перебежками, наспех похватав коробки и позвонив полузнакомой тетке-риелторше.
Позавчера я наняла ее искать мне жилье на те очень небольшие деньги, что у меня оставались. Я понимала, что найти приличную квартиру в нормальном районе будет нереально, и уже приготовилась к худшему, то есть к жуткой панельной хрущевке в районе Глиссерной, Енисейской или Ногина.
А тут центр города, недалеко от театра – но боже мой, этот дом просто музейная древность.
– Смотри, вода в кранах есть – конечно, душа как такового нет, фанерой выгорожен закуток и сломана труба, но главное, что вода есть, а трубу починишь. Кухни тоже как таковой нет, тоже фанерой отгорожено пространство, но, правда, плита не работает, это минус. А наверху типа чердак, у остальных людей там полноценные комнаты, а у тебя нет, но за такие деньги что ж ты хотела. И хотя вместо ванной и кухни только перегородки, но комната большая, и все можно сделать, и вряд ли это будет очень много стоить. – Рита теребит меня, довольная собой. – Зато район отличный, а не жопа мира, и соседи хорошие – видала, вмиг все занесли, по первому зову собрались. А соседи – это важно. Кстати, их тут немного, что тоже хорошо. А ремонт… да разживешься и сделаешь ремонт, а там поднакопишь денег, продадим эту квартиру и найдем получше, не переживай.
– А я не переживаю.
– Ну, да, оно заметно. – Рита ухмыльнулась. – Звонила своему супругу, просила замолвить слово о бедном гусаре… о тебе, то есть. Чтобы следователь отстал от тебя. С работы тебя поперли?
– Ничего.
– Ничего – это когда ничего, а жить на что? – Рита задумалась. – Вот тебе газета с вакансиями, найдешь что-то, да те же объявления расклеивать, если совсем нет денег, месяц перекантуешься, а через месяц из нашего агентства будет уходить человек, я за тебя словечко замолвлю, хочешь? Хорошая работа, коллектив отличный, а когда поднавостришься, то очень скоро заработок пойдет, и неплохой заработок. Так как?
– Можно, наверное.
Работы у меня теперь и правда нет. Проклятые чистоплюи, как будто это я грохнула бедолагу Виталика, а не моя сестрица.
– Ладно, не переживай, все наладится. – Рита ставит у двери пакет. – Это тебе на новоселье. Бытовая химия и кое-какая жрачка, тебе бы поесть чего. Ладно, ты держись, а я тебе позвоню.
– Ага.
Телефонный номер у меня тоже новый, старую сим-карту я вытащила по дороге сюда.
– Ты мне свой новый номер дай. – Рита смеется. – Симку-то ты выбросила, я же видела.
Выбросила в окно, а это другая – ну да, Рите новый номер нужен.
– Только никому не давай номер, ладно?
– Могла бы и не говорить. – Рита фыркнула. – А только с такими гадюками, как у тебя родственнички, я б на другую планету улетела, не то что номер телефона да адрес поменяла.
Мне пришлось рассказать Рите о своей ситуации, в общих чертах, конечно. Остальное она, видимо, выяснила через своего мужа-мента. И тайна следствия им там нипочем, позвонил да спросил. Хотя, конечно, никакого секрета и не было, об убийстве Виталика раззвонили все телеканалы – как же, сестрица ему одним выстрелом башку снесла, только нижняя челюсть осталась, выставив на всеобщее обозрение зубы Виталика, оказавшиеся сплошь в пломбах. И хотя так-то Виталик был никем, но тут же, извольте видеть, преступление на почве страсти.
– Что ж теперь.
– Не кисни. – Рита вздохнула. – Хотя это легче сказать, чем сделать, но все равно не кисни. Все гораздо лучше, чем могло быть.
Тут она права. Я сейчас могла бы до сих пор стоять на улице в окружении коробок и ожидать такси, а потом таскать на себе коробки и складывать их в какой-то чужой квартире. Или лежать мертвой где-нибудь на пустыре. А так я в квартире, которая послезавтра станет моей. И у меня оказалось накоплено достаточно, чтобы купить ее, а могло ведь быть и хуже, Рита абсолютно права.
– Ничего. Это я так. Рита, я очень признательна, правда.
Просто я не умею выражать эмоции, вот внутри все чувствую, и с эмпатией у меня порядок, но показывать не могу, вся моя предыдущая жизнь научила меня именно этому. Нельзя показывать, что чувствуешь боль, да и вообще хоть что-то, потому что есть люди, которые используют твою слабость против тебя.
Я очень рано перестала плакать – по крайней мере, прилюдно.
– Ладно, завтра позвоню.
Рита ушла, а я заперла дверь и огляделась вокруг. Свисающая с высоченного потолка лампочка осветила убогого вида комнату, абсолютно пустую, если не считать табурета, на котором сидела старуха, и древней деревянной тумбочки, рассохшейся, с облупившейся краской.
Но мне хочется спать, и я достаю из коробки спальный мешок. Этот мешок я взяла из кладовки, где стояли папины туристские принадлежности – отчего-то не хотела оставлять его, потому что спальный мешок – это нечто очень личное.
Штор на окнах нет, и я раскладываю вокруг коробки с вещами и стелю на пол спальный мешок, поверх него бросаю свой плед и подушку, вытряхиваю из пакета одеяло. Это то, что я сегодня, уходя, забрала с собой, просто стянув с кровати. В углу возвышается узел с маминым постельным бельем и полотенцами, но пока мне хватит и этого.
Поесть бы чего… но это можно завтра, а сегодня я хочу спать.
Но каким-то образом в комнате уже светло, а я целую минуту смотрю в потолок, пытаясь понять, где я нахожусь и куда подевалась ночь. За дверью какие-то шаги, голоса – что там Рита мне о соседях говорила, что они хорошие? Ну-ну.
Я иду в закуток, где толчок и раковина. Представить себе не могу, что старуха жила в таком свинарнике десятилетиями. Я вообще не понимаю бытовую неаккуратность и безразличие к тому, что вокруг. Мой дом – моя крепость, а тут не крепость, а просто сарай.
В пакете, оставленном накануне Ритой, еще два пакета, в одном – моющие средства, губки для мытья поверхностей, резиновые перчатки, в другом – хлеб, сыр, апельсины, пакетик с чаем, коробка рафинада, шоколадка, пачка масла и баночка апельсинового джема с лавандой. Похоже, Рита понимает меня гораздо лучше, чем весь остальной мир.
И где-то среди коробок есть та, в которой литровая кружка, кипятильник и папин туристский нож.
Подоконники в этой квартире очень широкие, и я устраиваюсь на одном с большой эмалированной кружкой, в которой плещется чай. Хлеб с маслом и кусочком сыра – отличный завтрак, а потом я вымою здесь все, что можно вымыть, – у меня, конечно, нет невроза на почве порядка, но от мысли, что здесь остались какие-то частицы кожи старухи, ее старческая моча, которой провонял толчок, меня просто передергивает.
Во дворе какой-то движняк, и из разговоров я понимаю, что там, похоже, кто-то умер.
Ну, люди умирают, вот Виталик умер, и родители… и я почти умерла, хотя иногда я думаю, что моя смерть случилась гораздо раньше, просто никто, как обычно, не заметил. Меня, знаете ли, моя семья замечала лишь тогда, когда нужно было на ком-то сорваться.
Это к вопросу, почему я ушла от них. А я ушла давно, и неважно, что продолжала жить в своей комнате.
В дверь постучали, но это не Рита, она бы позвонила предварительно, а просто так стучать ко мне бессмысленно, я не открою.
– Эй, открой!
Ага, вот сейчас побежала.
Ненавижу, когда вторгаются в мое личное пространство. Хватит с меня этого дерьма. Знаете, я в какой-то момент поняла, что нужно уметь устанавливать границы, и освоила это достаточно неплохо. Так вот, чтобы не было недомолвок: мое личное пространство неприкосновенно, я его контролирую и сама решаю, кого туда впускать.
А потому, граждане, можете стучать до посинения, Бог в помощь.
Я допиваю чай и оглядываю поле боя – вроде бы пустая комната, но уборки тут на сутки. Вот так начну с дальнего угла и губкой с порошком отчищу каждый миллиметр пола и стен, а потом наверх поднимусь и погляжу, что там. Меня отчего-то немного пугает винтовая лестница у стены, и я бы предпочла влезть по ней в компании, например, Риты.
Зазвонил телефон – Рита легка на помине.
– Все поменялось, одевайся и поедем к нотариусу прямо сейчас. – Рита на кого-то сердится, это заметно. – Или ты занята?
Чем я занята, в самом деле…
– Нет, заезжай.
Я натягиваю джинсы и толстовку с капюшоном – все это когда-то сидело на мне довольно плотно, а сейчас болтается, как на вешалке. Похоже, надо иногда есть, но как-то все время некогда.
Снова звонит телефон.
– Выходи, я у двора.
Хорошо сказать – выходи, когда за дверью снуют какие-то люди, с которыми я не хочу встречаться.
Но Рита не должна знать, что у меня есть страхи такого плана.
Во дворе стоит гроб, и это, блин, вообще не смешно. Похоже, я – одна из четырех Ангелов, и Смерть следует за мной по пятам на бледном коне.
Но я потом об этом подумаю, а сейчас поеду с Ритой к нотариусу.
– Потом заедем к Игорю на работу.
Игорь – это Ритин муж, и работает он в полиции. И зачем мне туда тащиться, я в толк не возьму.
– Ты же хотела, чтобы следователь отстал от тебя? Ну, вот он и отстанет, но Игорь хочет с тобой поговорить. Не дергайся, мы же будем вместе, я не дам тебя в обиду.
Я с сомнением качаю головой – отчего-то полицейский взъелся на меня с самого начала. Он не поверил, что я ничего не видела и не слышала, он хочет, чтобы я была качественным свидетелем, а я ни то ни се: когда Лизка разнесла Виталику его тупую башку, я смотрела первую часть «Гарри Поттера», надев наушники. Я всегда так делала с тех пор, как у меня появились хорошие наушники, а градус ненависти внутри дома возрос. Но полицейский этого не понял и все тянул из меня какую-то «информацию», тянул – хотя все было понятно и просто, как банка с огурцами.
Здание полицейского управления спяталось среди высоких елей, а за дверью просторный холл, в котором за стеклом сидят разжиревшие сержанты. И офицер с толстыми ляжками пьет кофе из пластикового стаканчика, поглядывая свысока на посетителей, при этом, видимо, ощущая себя высшей расой.
Но к Рите тут отношение совсем другое, и это потому, что в вестибюле ее ожидает очень симпатичный мужик.
– Игорь, это Линда. – Рита подтолкнула меня к своему супругу. – Я вас тут подожду, только не держи ее долго, нам к нотариусу.
Я так понимаю, именно этот Игорь – начальник того самого следователя, который измывается надо мной уже скоро месяц.
Кабинеты тут обшарпанные и прокуренные, а уборщица, наверное, объявила забастовку сразу после Нового года.
– Присаживайся. – Игорь подвигает мне стул. – Так, Ковальская Линда Альбертовна, твоя сестра Елизавета убила своего мужа, но лично ты ничего не слышала, хоть и была в доме. Очень сложно не услышать громкий скандал и выстрел. Я тут взял твое дело почитать, очень красочно. Наушники – оказывается, это эффективно, надо взять на вооружение идею. Думаю, сейчас я еще раз задам тебе надоевшие вопросы, и больше мы к этой теме не вернемся до самого суда.
– Я и на суде точно так же не смогу ничего сказать.
– Тебя никто не будет спрашивать о том, чего ты не видела. Просто зададут вопросы насчет отношений между убитым и твоей сестрой. А может, и вообще не вызовут, посмотрим.
Это будет забавно, да.
2
Иногда я думаю: почему именно я? Почему только для меня припасены все фиаско, обломы, разочарования и поражения, какие только можно измыслить? Ну, вот взять хотя бы имя. Я верю, что родители хотели как лучше, но моих сестер зовут Лиза и Катя, а меня зачем-то обозвали Линдой, и это была огромная ошибка. Тяжеловесное необычное имя торчит поперек моей жизни, как больной зуб, как огромное кресло в маленькой комнате, как камень в траве, и я спотыкаюсь о него всю свою жизнь, с самого детства. А если учесть, что дома меня все называли просто – Лидочка, то я в толк взять не могу, к чему был этот выпендреж. Ну, хотели вы Лидочку – назвали бы меня Лидия, тоже не фонтан, но хотя бы логика прослеживается, так нет, извольте видеть – Линда! А жить с этим именем как?
Но и это еще не все.
Сестры мои оказались низкорослыми смуглыми худышками – и старшая Лизка, и младшая Катька. Они как две капли воды походили на мамину мать, чему та не уставала радоваться, а я оказалась похожа сама на себя, взяв от каждого родственника что-то ненужное, и возвышалась промеж них всех крупным белым пятном, как приемная. И родители вздыхали – надо было покупать мне отдельную одежду, ведь донашивать за старшей сестрой я не могла, а когда Катька дорастала до Лизкиных шмоток, они безнадежно выходили из моды. И в этом как бы я была виновата, потому что вон какая вымахала дылда. Каланча. Жирафа. Такая здоровенная, и такая дура.
Я вводила семью в расходы, вот что.
И когда мои сестры, мои подружки и прочие особи женского пола встречались с парнями, я сидела дома, потому что кому я на хрен была нужна – такая-то. Конечно, мама говорила, что я красотка, но это она мне говорила, а сама так не думала, это я точно знаю. Как-то раз я слышала, как она просила Лизку взять меня с собой на дискотеку, чтобы я не сидела сиднем, но Лизка фыркнула и сказала: мам, ну ты же знаешь, какая она, позору с ней не оберешься.
И они с Катькой уходили, а я сидела над книжками или просто шла бродить по городу, и никогда ни одна собака ко мне не пристала, кроме как-то раз пьяного мужика лет тридцати, который думал, что мне восемнадцать, а мне было четырнадцать, блин, и я испугалась до слез. Но я же не виновата, что в четырнадцать лет выросла окончательно и была уже такого роста, как сейчас? И в двадцать пять иметь рост метр семьдесят семь оказалось очень даже в самый раз, а в четырнадцать, когда все ровесники едва доставали мне макушками до плеча, в таком теле жилось не очень уютно.
И ухаживать пытались за мной парни совсем плевые, а все стоящие ребята выбирали девчонок типа моих сестер. И моих сестер тоже. А ко мне пытались подкатывать лузеры вроде Игоря Алексеева, здоровенного, конопатого и тупого, как сапог. Он едва тянул школьную программу, не мог связать двух слов, смотрелся несуразным и неуклюжим, а его ботинки фасона «прощай, молодость» были огромными, изношенными, словно их уже покупали не новыми, и постоянно грязными. Но я иногда по просьбе училки проверяла его жуткие диктанты, выглядящие месивом из ошибок и помарок, чтобы ему поставили хоть какую-то хилую тройку, дабы он не портил своей тупизной общий показатель. И он как-то принес мне на Восьмое марта букет тюльпанов. Мне никто никогда не дарил цветов – только папа на день рождения, а тут извольте видеть, Алексеев притащил мне эти тюльпаны и что-то мямлил насчет пойти погулять, но одна мысль, что меня могут увидеть рядом с этой жертвой генетических экспериментов, повергала мою душу в сакральный ужас.
Конечно же, я и не подумала никуда с ним идти.
Или когда Витька Василишин вдруг заявился с прямым, как ножка обеденного стола, вопросом: ты будешь со мной встречаться? О господи, встречаться! С Василишиным! Я же из ума-то не выжила, чтобы сделать такое.
Сестры ржали в голос. Эти две змеи отлично спелись… или сшипелись, кто знает, и шипели они всегда против меня. Мы все трое были практически погодки – сказалось отчаянное стремление нашего папы заиметь сына, который с трех попыток не получился, а пробовать дальше мама категорически отказалась. И, по идее, мы должны были дружить, и сестры дружили – против меня. И по сей день так. Я могла, конечно, им и ответить, особенно в детстве, когда они вдвоем набрасывались на меня, но если я пыталась защититься, мама кричала: ты что, ты же больше и сильнее, а они – смотри, какие маленькие, уступи, разве тебе больно?
Они с папой словно не подозревали, что, когда меня бьют, мне так же больно, как всем остальным людям. Ведь я больше и сильнее, а сестры такие хрупкие, как птички.
А потом Лизка вышла замуж за Виталика.
Знаете, Виталик был как «Мерседес» среди «Жигулей», как туфельки «Прадо» на полке с валенками, как… в общем, Виталик Ченцов был тем, о ком я и мечтать не смела, но мечтала. Он играл на гитаре, он занимался бизнесом, он… у него были задумчивые серые глаза в длинных ресницах, и волосы вились крупными кудрями, обрамляя высокий лоб и лицо порочного ангела.
И Виталик какое-то время встречался со мной.
Я не верила своему счастью. Я самой себе не верила, и я любила его так, как никогда и никого не любила. В то лето все мое семейство отправилось путешествовать – мама забрала свои мольберты и кисточки, чтобы по ходу путешествия рисовать, а я осталась: надо было присмотреть за квартирой, где были цветы, рыбки, два маминых мопса, а я все равно сломала руку, какое тут путешествие.
И в день, когда мне сняли гипс, я познакомилась с Виталиком.
Я и раньше видела его, но просто любовалась на расстоянии, не смея даже мечтать о том, чтобы подойти и заговорить. Он всегда был погружен в какие-то свои мысли, а если смеялся, то его лицо озарялось внутренним светом, и он становился похож на ангела. По крайней мере, я была уверена: ангел выглядел бы именно так, если бы вдруг решил сойти с небес.
Ну, это мне тогда так казалось. Со временем восприятие очень сильно меняется. Сейчас я думаю, что ничего более тупого, чем влюбиться в никчемного Виталика Ченцова, я сотворить не могла, а тогда мне казалось, что я, наконец, нашла именно своего человека, в горе и в радости, в богатстве и в бедности, и пока не разлучит нас смерть.
Бойтесь своих желаний, потому что у меня именно так и вышло.
Это мопсы виноваты, потому что я как раз тогда выгуливала мопсов – знаете, они только с виду собаки, а на самом деле отвратительные уродцы – слюнявые, пучеглазые и тупые. Они противно тявкают, а когда спят, то храпят. От них нет вообще никакой пользы, потому что предназначение собаки – сторожить дом и имущество хозяев, а эти уродцы ничего не стерегут и никого не защитят, даже себя. Они бесполезны и без человека не выживут, но хлопот с ними больше, чем с настоящими собаками, от которых есть польза. И я гуляла с этими дурацкими мопсами, а Виталик сидел на скамейке, у него была разбита нога, а рядом суетился мой бывший одноклассник Олег Дорохов.
Конечно же, я пригласила их к нам и постаралась помочь.
И Виталик… я влюбилась сразу. Эти глаза под кудрявой челкой, эти брови вразлет, эти руки с тонкими пальцами… боже ж мой, я никогда в жизни не встречала парня, на которого запала бы вот так, сразу, но я никогда до этого не оказывалась так близко к Виталику.
Мы созванивались, а через пару дней, когда его нога начала заживать, он пригласил меня в парк. Он рассказывал о своем бизнесе и о том, какую музыку он любит, и мы вместе слушали его любимые песни, хотя я вообще в музыке не разбираюсь, но если Виталику что-то нравилось, то мне тоже.
И он оставался со мной, и это было самое счастливое лето в моей жизни.
Потому что тогда все складывалось так, как я хотела. У меня был парень, которого я любила до печенок, и он был моим, и рядом с ним я ощущала себя королевой. Его не смущали мамины странные картины, которые она отчего-то считала зашибись какой живописью, ему не мешали ее кисточки, подрамники и даже мопсы – ему была нужна я. А он был нужен мне так, что я дышать боялась, думая о том, что он мой – Виталик Ченцов, обалденный, невероятный, сказочный принц восьмидесятого лэвела.
А потом вернулась моя семья, и Лизка увела у меня Виталика в первый же вечер. И он восхищенно смотрел на нее – боже, такая маленькая, изящная, такая красотка.
Не то что я, жирафа.
Мама пыталась нас примирить, но дело в том, что она всегда оправдывала сестер, когда те обходились со мной дурно. Она хотела, чтобы я приняла ее точку зрения, которая заключалась в том, что мы родные сестры и вообще семья. Правда, сестрам она этого отчего-то не говорила. И тогда она не сказала Лизке – что же ты делаешь, ведь она твоя сестра! Нет, не сказала. Ей это, скорее всего, и в голову не пришло, у нас в доме только мне полагалось помнить о родстве, а Лизке с Катькой – нет, они же такие миниатюрные милашки.
И вот так взять и увести парня сестры было вполне нормально, а я должна была помнить, что мы семья, как вам такой расклад? Вот и мне – никак. Думаю, Золушке было проще: у нее была мачеха и сводные сестры, от таких гражданок хорошего ждать априори не приходится, а тут…
На свадьбу я, конечно же, не пошла.
Честно говоря, я и по сей день не знаю, за что сестры так меня ненавидели, причем началось это в детстве, и родители старательно этого не замечали и меня уговаривали не замечать. Ну, как они говорили – быть умнее. Пока мы были детьми, мне говорили: ты же такая большая, уступи, будь умнее! То есть мой высокий рост как бы накладывал на меня определенные обязательства: быть умнее – а быть умнее не имело ничего общего с интеллектом, быть умнее в понимании моих родителей означало вести себя примерно, не создавать проблем и всегда во всем уступать сестрам, потому что – ты же дылда здоровенная, а она такая маленькая, отдай, тебе что, для сестры жалко?
Сестрам таких требований никогда не выдвигали, они же маленькие.
Ростом маленькие, тощие, ага. Вроде как неполноценные, а потому их надо жалеть.
А вот меня отчего-то никто не жалел, а чего меня жалеть, вон какая каланча вымахала, а Бог ума не дал.
И когда Лизка вышла за Виталика, я перестала разговаривать с ней. И с мамой, и с Катькой. Папа, бедняга, не знал, как нас помирить, а хуже всего, что поселились молодожены в нашем же доме. Ну а что – места полно, четыре спальни, гостиная, столовая и папин кабинет. И очень странно мне было видеть Виталика по утрам, а он здоровался со мной как ни в чем не бывало, что-то говорил, о чем-то спрашивал. А я не могла взять в толк, как это у него получается – вести себя так, словно не было между нами ночей в этом же доме, не было общих каких-то дел, музыки, споров о книгах, не было ничего, что стало моими воспоминаниями, а его воспоминаниями – не стало.
И я, конечно же, никогда не отвечала ему, просто поворачивалась к нему спиной, нравится ему разговаривать с моей спиной – да флаг в руки, я-то здесь при чем. Продолжала ли я его любить? Нет. Он обесценился для меня в тот самый момент, когда я поняла, что он спит с Лизкой. После этой писклявой дряни я не дотронулась бы до него даже щипцами. Но я не хотела с ним разговаривать, ни с кем из них, просто не хотела, и все.
Я не знала, что им сказать. Не говорить же, что мне больно?
А потом мама сказала: ты ведешь себя глупо, неужели ты не понимаешь? К чему эта оскорбленная поза, сколько можно, неужели ты не видишь, что ты смешна в своей ревности?
Она не понимала, никто из них не понимал, что это не ревность. Это… я даже не знаю, как сказать… Отчуждение какое-то. О чем можно разговаривать с абсолютно чужими тебе людьми, которые к тому же враждебно к тебе настроены, а то и вовсе не воспринимают тебя всерьез?
Им было весело на это смотреть, они даже не поняли, какую боль причинили мне, они не думали, что я могу что-то чувствовать, словно не считали меня человеком, хихикали и потешались, а я делала вид, что меня это не касается, но внутри истекала кровью от одной мысли, что все это произошло и происходит, потому что это было неправильно и ненормально. Правда, только я это понимала, похоже, но видеть торжествующий Лизкин взгляд мне было невыносимо.
И торчащий ее живот.
Когда ее беременность стала очевидна, я стала приходить домой только ночевать. Это было просто, ведь я после института устроилась работать в фирму, которая занимала всю мою жизнь. На меня наваливали все больше работы, и это было весьма кстати, потому что и платили мне отлично, я могла откладывать практически всю зарплату, думая о том, что еще год-полтора такого ударного труда – и я съеду из родительского дома в собственную квартиру, не влезая при этом в ипотеку. На тот момент я была не готова выбросить из жизни своих родителей, я очень их люблю.
Но, несмотря на это, я никого из всего семейства видеть не хотела.
Потом как-то позвонил папа и сообщил, что Лизка родила девочку. Я спросила, зачем он мне это говорит, и он не знал что ответить. Он начал говорить, что мы же все-таки семья, и раз уж так вышло, так что же теперь, враждовать всю жизнь, и я спросила у него, как бы он считал кого-то семьей, если бы этот кто-то отнял у него самое дорогое в жизни.
Он не знал, что мне ответить, он и не думал о проблеме под таким углом, разве я могла что-то чувствовать, это был для него тупик, но он был умный и в тот момент, видимо, все-таки понял, что заезженная пластинка о семье в свете моего вопроса выглядит просто насмешкой, издевательством. Именно тогда он приехал ко мне на работу и привез пирожных, а я смотрела на него и думала: я его очень люблю, а он считает меня какой-то умственно отсталой.
И я спросила у него тогда – почему он решил, что я не могу чувствовать боль? Я что, и правда выгляжу как гомункул, не способный к высшей нервной деятельности? И почему они с мамой никогда не напоминали сестрам о том, что мы все семья, и я тоже их семья?
Ответ был прост: они маленькие, хрупкие, слабенькие.
Это было так тупо, так невероятно по-идиотски, что я ушам своим не поверила, но в тот момент поняла: мой папа понятия не имеет, что я за человек. И что за люди мои сестры. Он никогда не задавался таким вопросом, он любил нас инстинктивно, как когда-то инстинктивно зачал нас. Он понимал, что должен любить плод чресл своих, так сказать. Но они с мамой не знали, что нам говорить, когда мы выбивались из каких-то классических рамок и возникала проблема сложнее, чем выбор наряда.
И мне тогда впервые захотелось уехать, сменить пароли и явки и никогда больше не видеть никого из них.
Бойтесь своих желаний, граждане.
Я не ушла тогда, потому что любила родителей. Смешно, иррационально и тоже чисто инстинктивно, тем не менее я очень любила родителей, по большому счету я всегда и все делала, чтобы заслужить их одобрение. Просто они не замечали этого, считая такое положение вещей чем-то само собой разумеющимся. Со мной ведь не было проблем: я прилежно училась, примерно себя вела и всегда торчала дома, делая уроки или помогая маме по хозяйству.
А сестры тем временем плевали на учебу, бегали по танцулькам и вечеринкам, целовались с парнями. Мама регулярно пила успокоительное, ожидая их домой, но когда они приходили, пропахшие табачным дымом и духом полнейшей свободы, им всегда доставалось все внимание, которое родители могли дать детям. Мама откладывала в сторону свою живопись, свои дела и свою жизнь, внимательно выслушивала их личные драмы, а потом они с отцом обсуждали их, искали выход, ссорились, не соглашаясь – жизнь моих сестер полностью занимала их время и все эмоции.
А я… Ну, я-то всегда была в порядке. Как надоевшая настольная лампа, которую выбросить пока никак, потому что она идеально подходит к обоям. И лампа, конечно, не может ничего чувствовать. Она просто вещь, привычная – но вещь, и когда поменяются обои, от нее, наконец, можно будет избавиться.
Я поняла это в тот день, когда Лизка родила. Смотрела на папу, который пытался осознать факт, что настольная лампа тоже обладает чувствами, и это совершенно не укладывалось в его голове, а я смотрела на него и думала: я тупая. Они правы в этом, я ужасно тупая, потому что лишь полная тупица способна любить людей, даже не считающих ее человеком – не то что равным им человеком, а вообще.
Но я не могла заставить себя оборвать с ними связи. Ну, я тупая, что ж.
Младенец женского пола занял все пространство нашего дома. Не смог вплеснуться только в мою комнату, потому что она была всегда закрыта для посещений. Но остальная часть дома была завалена какими-то младенческими девайсами, в коридоре устроилась коляска, на улице постоянно сушились какие-то вещи. Они было попытались сунуться с этим младенцем и ко мне – ну, типа, твоя очередь нянчить! – но тут уж нет. Впервые в жизни я не повелась на это «будь умнее, уступи сестре!».
Хватит, науступалась.
Чтоб вы понимали, маленькая дрянь орала день и ночь. Я купила себе в аптеке беруши, но чаще надевала наушники и слушала музыку или фильмы. Именно тогда у меня появилась привычка нырять в другой мир, просто надев наушники. Виталик все-таки смог показать мне музыку, и со временем я даже поняла, что мне нравится, а что нет. И я слушала музыку или смотрела фильмы, в то время как остальные домочадцы ходили с опухшими от недосыпа глазами, и это было понятно, они все по очереди нянчили младенца. Виталик уже не пел под гитару и не смотрел на Лизку восторженными глазами, а однажды утром, когда я пила чай на кухне, вдруг вошел туда, а ведь по негласному правилу никто не входил, когда я утром пила чай, но Виталику же правила не писаны, они вообще в нашем доме были писаны исключительно для меня, так что он явился туда, уселся на табурет – уж не знаю, что он нашел в рассматривании моей спины, но ни с того ни с сего сказал: это оказалось совершенно не так, как я думал.
Не знаю, что он хотел услышать в ответ, я промолчала.
А потом, спустя несколько дней, я случайно увидела его с какой-то девкой. В кафе. Они пили коктейли, смеялись, Виталик нежно касался ее руки и был совсем такой же, как раньше. Когда-то, когда мы только познакомились, и кудри обрамляли его лицо совсем так же. И даже тень недосыпа не портила его.
Он снова ощущал себя свободным, и я видела, что он по-настоящему счастлив, впервые за долгое время, потому что ни к каким обязательствам он был не готов, а уж тем более он был не готов к суровым будням, в которых есть издерганная Лизка – а она-то и в обычном состоянии не подарок – и вечно орущий ребенок, трижды ему ненужный, потому что мешает жить и спать. И вообще, какая страсть и романтика, когда жена в халате, на который срыгнул младенец, и она оказалась совсем никакая не фея, не маленький хрупкий эльф, а так, обычная баба – тощая, мелкая, скучная и склочная, с тонким визгливым голоском и злокозненным характером.
И он тогда решил пожаловаться мне – а когда я своим слоновьим равнодушием растоптала все эти его души прекрасные порывы, он не растерялся и нашел себе кого-то вне нашего перенаселенного дома. Кого-то, кто понял его, пожалел, оценил, восхитился его тонкостью и нерастраченностью. Неутратой себя и прочими такими материями.
Плавали, знаем.
И я помню, как стояла и смотрела на него сквозь витрину кафе, и думала, что они с Лизкой вполне стоят друг друга, а вот меня он не стоил. И, конечно же, Лизкиной вины это ни секунды не умаляет, но то, что меня от него боги отвели, так это уж точно. Просто можно было это сделать как-то не так.
Впрочем, я сейчас думаю, что мне тогда преподали главный в жизни урок: никому нельзя доверять. И я думала, что усвоила его.
А оказалось, что нет.
И как вот это все уместить в рамки полицейского протокола, я не знаю, но это не моя проблема.
3
Знаете, чем хороши кладбища?
Здесь тихо и со всеми все ясно. И самое смешное то, что всем хватает места, даже если класть по двое, а то и по трое в одну могилу, граждане сто пудов не поссорятся.
Памятник самый простой – ну, не стала бы я тратиться на что-то получше, а совсем не поставить тоже вроде как нехорошо. Это у родителей отличный памятник, тут я постаралась, хотя предпочла бы, чтобы они оставались живы и здоровы… Нет, я согласилась бы даже на просто живы, но вышло то, что вышло, и ничего уже не исправить. И я нашла ребят, которые сделали отличный памятник – плачущий ангел. Когда-то мама говорила, что все наши кладбища – кошмарное убожество, они тогда побывали в Новом Орлеане, и тамошний город мертвых мама фотографировала погонными километрами, хотя как по мне, то все эти семейные усыпальницы – просто жуть на лапках. Тем не менее я нашла фирму, делающую этих ангелов. Мама была права, наши кладбища – убожество, но у нее все в этом вопросе хорошо… если считать за «хорошо» могилу с ангелом.
Ну а Виталик никакого ангела не заслужил. Я и сама не знаю, зачем потратилась на памятник для него. Возможно, потому, что от его тупой башки почти ничего не осталось, а я еще помню его лицо в свете фонарей – когда-то летом, в парке, сто лет назад, когда я смотрела на него и думала: он самый лучший и он мой.
Лучше бы я кота завела.
Так что у Виталика никаких изысков в виде ангелов и прочего кладбищенского гламура, просто прямоугольная плита, на которой закреплена овальная эмаль-фотография и выбиты буквы и цифры, а справа выгравирована гитара со сломанным грифом.
Ченцов Виталий Андреевич.
Гад, предатель и вечный подросток с гитарой, безмозглый и беззащитный в своей всепоглощающей бестолковости, записной волокита и бесстыжая морда. Правда, с мордой у него теперь проблемы, выстрел из дробовика прямо в голову прервал его карьеру ловеласа, хоронили его в закрытом гробу, но червям это безразлично, я думаю.
И я потратила последние деньги, чтобы оплатить этот дурацкий памятник, потому что никаких других пригодных для этого родственников у Виталика нет.
Хотя я тоже никакая не родственница. И спросите у меня, зачем я это сделала, я не отвечу.
– Закончили, хозяйка.
Грязноватый потный мужик воткнул лопату в перекопанную землю – ее осталось немало после того, как срыли могильный холм и установили памятник. Все, что я могла и считала нужным сделать для сукина сына, я сделала, остальное теперь его проблемы.
– Держи.
Я отдала деньги бригадиру, он деловито пересчитал их, поплевывая на грязные пальцы. Это хорошо, что сам памятник я оплатила еще перед отъездом из дома, и сейчас отдаю деньги просто за работы по установке, но и это для меня разорительно.
– Порядок, как договаривались. – Мужик кивнул подельникам: – Живее собирайте инвентарь, скоро стемнеет уже, нечего тут валандаться.
Ну, допустим, еще не скоро стемнеет, но уже пятый час, и сумерки рядом.
– Можем подвезти. – Бригадир оглянулся вокруг и многозначительно кивнул на солнце, клонящееся к закату. – Мы как раз в центр едем.
– Спасибо.
Я бреду по кладбищу, впереди лениво переговариваются мужики, только что установившие памятник на могиле Виталика Ченцова, и у меня странное чувство – словно во всем мире осталось только это кладбище и мы вообще единственные выжившие.
При этом я понимаю, что если так, то я в беде.
Я и так в беде, но в данный момент мне нужно выбраться куда-то, где я буду видеть не только могилы.
Микроавтобус, на котором приехала бригада, стоит в широком проходе между кварталами кладбища. Мы грузимся внутрь, я устраиваюсь рядом с дверцей на протертом сиденье, и это всяко лучше, чем топать отсюда пешком, когда дело к вечеру, а вокруг – нескончаемые кварталы крестов и памятников. Не то чтоб я боялась кладбищ, дело не в этом, а просто как-то неприятно, особенно когда никого нет, так что я принимаю предложение насчет подвезти. И хотя запах в автобусе очень густой, я терплю, потому что плохо ехать лучше, чем хорошо идти.
– Я выйду здесь, если можно.
Воздух очень свежий, а мне нужно проветриться – и после кладбища, и после небольшого пространства микроавтобуса, где сидели четыре потных гражданина, причем свежий запах пота смешивался с застарелым. И я даже представить себе не могу, что такой вот самец явится домой, где его ждет какая-то женщина… Какая женщина, если она, конечно, не резиновая, согласится разделить постель с чуваком, воняющим так, что глаза ест?
В городе недавно прошел дождь. В Александровске дождь идет как-то полосами, вот тут он есть, а через три квартала его нет. И я сейчас иду по улице, где он был. И пахнет свежими лужами, мокрым асфальтом, влажным тополем, люди торопятся по своим каким-то делам, а я хочу есть.
На углу в ларьке торгуют булочками и горячими хот-догами, и мне ужасно хочется купить хот-дог, но нужно экономить.
– Булочку с повидлом, пожалуйста, и чай.
Булочки здесь очень дешевые отчего-то, это я уже знаю, а чай вообще стоит копейки. Правда, это не настоящий чай, а просто пакетик, брошенный в картонный стаканчик с кипятком, но это сейчас неважно. Я могу посидеть в сквере, съесть горячую булочку, запивая этим ненастоящим чаем, и ощутить город и жизнь вокруг.
– Вчерашних булок три штуки осталось, заберешь? – Пожилая тетка-продавщица протягивает мне пакет с булочками. – Бесплатно, бери. Хозяин велит выбросить, а они совсем хорошие, зачерствели только чуток, так ты их в микроволновку – и будут как новые.
У меня нет микроволновки, но это неважно. Все равно еда начинает мне вонять, стоит мне проглотить три-четыре куска чего угодно. Только чай и булочки идут более-менее да растворимые супы, они и сами по себе имеют резкий запах.
– Спасибо.
Я не хочу думать, почему эта тетка отдала мне булочки. Наверное, вид у меня какой-то заморенный, но меня это не волнует. Я допиваю чай и бреду в сторону дома – своего нового дома, если его можно так назвать. Мне нужно пробраться туда так, чтобы не натолкнуться ни на кого из соседей. Это еще один мой новый ритуал и такая занимательная игра – проскользнуть в свою дверь так, чтоб никого не встретить, и пока мне это удается. Если раньше я старалась выходить только после наступления темноты, то потом я нашла вход на так называемую черную лестницу – когда-то по ней ходили прислуга, поставщики и прочие граждане, которых нежелательно было видеть на парадных ступеньках. Эта лестница совсем недалеко от моей квартиры, она забита досками – вернее, была забита наглухо, а теперь уже нет. И если мне надо выйти днем, я спускаюсь в полуподвал, а чтоб вернуться, мне нужно просто обойти дом и отодвинуть доски, и тогда я оказываюсь перед узкой лестницей, ведущей вниз, – там когда-то, наверное, была кухня, а теперь это просто большое пространство в подвале, но из него можно попасть в верхний коридор, и сразу моя дверь. Тут главное – открыть ее, а я пока не привыкла к нелепому замку.
Когда я запираюсь изнутри, меня немного отпускает.
У стены стоят две картины – все, что я смогла взять из своей прошлой жизни. Эти картины рисовала моя мама – она была художницей, но очень странной – она никогда не завершала свои картины. И вот эти полотна единственные, которые она все-таки закончила. Я по сей день точно не знаю, почему она так делала – начинала что-то писать и на полдороге бросала, просто теряла интерес. Я думаю, семья и возня с детьми убили ее вдохновение, хотя я как раз делала все, чтобы не доставлять ей хлопот, так что я к смерти маминого вдохновения непричастна.
В мансарде нашего дома у нее была мастерская со стеклянным люком в потолке – «для света», и там за годы собралось множество начатых и брошенных картин.
И только эти две мама все-таки довела до конца.
На одной из них кувшин с цветами, я помню и сам кувшин, и цветы, которые собрала на лугу и принесла домой, а мама взяла этот букет, поставила в кувшин и принялась смешивать краски. На нее иногда нападало невероятное вдохновение, просто оно так же быстро от нее сбегало, но не в тот раз. Мы были на даче только вдвоем, и маму ничто не отвлекало, а потому она весь день рисовала этот букет и дорисовала до конца, и когда папа через пару дней привез из летнего лагеря моих сестер, картина уже была готова. Помню, как папа был удивлен и рассматривал картину, узнавая цветы. А я теперь думаю, что маму всегда что-то отвлекало, и вдохновение уходило, испуганное домашней возней, постоянными детскими ссорами и бытовыми делами.
На вторую картину я пока смотреть не могу, но цветы меня радуют.
А меня мало что сейчас радует.
Я достаю телефон и ставлю его на зарядку. Так-то, конечно, звонить мне некому, кроме потенциальных работодателей. В сумке пакет с булочками – что ж, очень кстати, голод скоро вернется. И надо как-то пропихивать в себя еду, воняющую, как скотобойня. Я понимаю, что это галлюцинация, но запах всегда приходит.
Где-то в коридоре слышны голоса, топот ног – я уже знаю, здесь у кого-то из жильцов есть дети. Это два пацана, подросток лет тринадцати и забавный мальчишка лет семи, и они не доставляют хлопот конкретно мне, но они пронырливые и все время подглядывают за мной в окно.
И сейчас они, судя по звуку, зачем-то сыплют мне под дверь какую-то крупу.
– Это еще что такое?
Женский голос, я его и раньше слышала.
– Мам…
– Немедленно все уберите. – Женщина, похоже, рассержена. – Вот прямо сейчас, Саша, взял веник и подмел, сию секунду. Миша, от тебя вообще не ожидала.
– Мам, она вампир.
Фраза прозвучала очень уверенно, сразу видно: человек долго думал, сопоставлял факты, и я у него получилась вампиром, что ж.
– Глупости какие. Немедленно принесите веник и подметите. – Женский голос приглушенный и сердитый. – С чего ты решил, что…
– Ну, смотри. – Похоже, мальчишка сдаваться не намерен. – Никто ее днем не видел, выходит только после того, как стемнеет. Никаких продуктов она не покупает, я сам следил, никогда не приносит сумок с продуктами, даже небольших пакетов. Что она ест? Она не выбрасывает ничего такого, что говорило бы о том, что у нее есть какая-то еда. Она вообще ничего не выбрасывает. Когда она переселилась, у нее были коробки, я сам видел – с книжками, и одежда какая-то. Ни посуды, ни еды. А внешность? Все как в книгах: бледная кожа, синяки вокруг глаз…
– А крупа зачем?
– Если вампиру подсыпать крупу или мак, он с места не сдвинется, пока не пересчитает все зерна, тут-то мы ее и раскроем. – Мальчишка решил стоять на своем до конца. – А потом, смотри: как только она поселилась, так ночью Митрофановна из флигеля умерла.
– Саша, не городи ерунды. – Женщина явно сдерживает смех. – Ну-ка, мигом за веником. Вы бы ей чеснока еще подбросили, ну что за глупости.
– Вот ты не веришь мне, мам, а в кино тоже так: никто не верит, пока вампир не выпьет кровь из всех, кто вокруг.
– Ну, она тут уже две недели, а никто не умер.
– А Митрофановна?
– Митрофановне было восемьдесят шесть лет. – Женщина фыркнула. – Когда-то же она должна была умереть? И потом – вряд ли ее кровь могла заинтересовать вампира. А больше с тех пор никто не умер.
– Она может охотиться на улицах, ведь куда-то же она ходит по ночам.
– Тише, она может услышать! – Женщина смеется. – Надо же, что удумали!
– Вампиры днем спят, мам, ничего она не слышит.
Голоса затихли, дальше по коридору хлопнула дверь.
Так, час от часу не легче. Значит, я вампир.
В принципе, вампиром быть, наверное, совсем неплохо. Я бы, наверное, не отказалась от бессмертия, при этом вампиры умеют летать, превращаться в разных забавных зверей, а самое главное – никаких расходов на питание. В моем случае это важно, денег у меня почти не осталось, а есть очень хочется. С другой стороны, наших граждан сложно назвать экологически чистым продуктом, так что, будь я вампиром, с питанием возникли бы проблемы. Впрочем, что-то можно решить, но проблема в том, что я не вампир, к сожалению, иначе моя жизнь была бы куда как проще.
За дверью снова кто-то возится, метет веником. Что ж, крупа под дверью – не самое худшее, что там могло оказаться.
Я набираю в кружку воды и ставлю кипятильник – растворю суп, что ж делать. Тем более, булочки есть, пусть и черствые, но я знаю, как их оживить, просто подержу их над паром, и все. Если бы и остальное было так легко исправить.
Например, вот эта идиотская квартира.
Когда я сюда въехала, то не поняла сперва, почему помещение имеет такую странную конфигурацию, а потом разобралась. Когда-то это была огромная гостиная в добротном и новом купеческом особняке, она занимала почти весь этаж. Впоследствии дом большевики у владельца отжали, его самого, если он не успел сбежать, наверняка поставили к стенке, а дом перестроили и разделили на несколько квартир с длинным общим коридором, темным и пыльным. Каждому жильцу достался кусочек этой гостиной, а на втором этаже у прежних хозяев были спальни, и теперь кое у кого из здешних жильцов там второй ярус, у некоторых даже отдельные квартиры, но у меня вверху совсем не спальня, а крохотная каморка мансарды. Когда-то там, наверное, спала служанка, и под кипами хлама там до сих пор сохранились убогая деревянная кровать столетней давности и колченогий табурет, заляпанный воском. Я, конечно, понимаю, что осталось это богатство, наверное, от прежних жильцов, превративших это помещение в склад ненужных вещей, но гораздо интереснее думать, что спала там, например, нянька, которую специально поселили рядом с «детской».
В моем владении оказалась та часть гостиной, где есть камин – несуразный, очень большой, но и комната изначально была огромная – не просто гостиная, а бальный зал, почти на весь этаж. А в цоколе располагалась так называемая «людская», теперь там ряд отсеков с самодельными перегородками и дверями, в них жильцы прежде хранили дрова и уголь, а теперь хлам и банки с домашними консервами. У меня там тоже есть отсек, и даже ключ к нему мне выдала юркая старушонка, бывшая хозяйка этой квартиры, она все время что-то пыталась мне втолковать, да я не слушала. Я видела только убогую деформированную комнату с высоченным бессмысленным потолком, почти вертикальной железной винтовой лестницей в верхнее помещение и нелепым, трижды ненужным мне камином – а в основном это вот, блин, венецианское окно с небольшим балкончиком над высоким цоколем.
Риелторша Рита заверила меня, что мне сильно повезло. Возможно, с ее точки зрения так оно и было, да и я, когда меня отпускает обида и депрессия, тоже понимаю, что даже такая квартира всяко лучше съемной, и тоскую я не по дому, собственно, а по родителям. Из той ситуации, которая сложилась на момент моего фактически бегства из дома, я вышла, можно сказать, без потерь, потому что всегда была осторожна.
Только ни хрена мне моя осторожность не помогла, потому что я здесь.
Я вообще только обживаю эту, с позволения сказать, квартиру, в которую меня запихнули стечение обстоятельств и неправильное положение звезд во всех, блин, домах. И в этой комнате тоже положение звезд неправильное. За ту неделю, что я здесь, мне ни разу не удалось нормально поспать, потому что квартира на первом этаже, и мимо окон все время шастают какие-то граждане, а штор у меня нет. А еще у меня нет мебели, утюга, семьи, чайника, микроволновки и счастья.
Зато есть здоровенный камин, лепка на почти пятиметровом потолке, с которого на длиннющем шнуре свисает лампочка, и наборный паркет, зачем-то выкрашенный синей краской. И крохотная ванная с толчком, которому лет двести, и тут же устроен импровизированный душ – просто слив в полу, а над ним труба с краном. Душ толком не работает, но какая-то вода периодически все-таки течет, и то хорошо.
Вместо кухни – закуток, выгороженный рядом с дверью, с проржавевшей насквозь раковиной и неработающей газовой плитой на ножках. Я таких плит и не видела никогда, но многие вещи на свете – как змея в траве, ты ее не видишь, даже не знаешь о ней, а она там. И при случае ты о ней обязательно узнаешь, но случай этот тебе не понравится.
В дверь требовательно постучали.
Это уже не первый раз, когда кто-то стучит мне в дверь, но поскольку я никого не жду в гости, то не открываю. Добрососедские отношения мне вообще неинтересны, могу только представить, какое стадо маргиналов живет в этой халупе, выстроенной в конце позапрошлого века.
Могу, но не хочу.
А потому дверь открывать не собираюсь. Видите ли, я слегка снобка, и хотя оттопыривать мизинец мне сейчас вообще глупо, но отчего-то я не хочу контактировать с такими же неудачниками, как я сама. Просто у меня такое ощущение, что если я впущу кого-нибудь из них на свою орбиту, то обратного хода уже не будет. Нищета заразна, и если хотите чего-то в жизни достичь, никогда не подпускайте к себе нищих ближе чем на расстояние, необходимое для того, чтобы бросить им монетку.
Даже если ты сам – нищий.
Тем более что причины для общения в принципе нет.
– Ну, что, не открывает?
Женский голос, очень противный.
– Не. – Это голос явно мужской, и принадлежит он человеку пьющему. – Натаха, у тебя сто грамм есть?
– Нету. – Неизвестная мне Натаха злорадно засмеялась. – И у этой ты не разживешься, зря стучишь. Как переезжала, одни книжки заносили.
– А может, и не зря… – Алкаш под дверью, видимо, не устоял на ногах и тяжело оперся о мою дверь. – Там краны не работают, точно знаю, так я бы починил.
– Что ты там починил бы, алкоголик несчастный. Пропил ты, Леша, свои руки и голову, давно пропил, так что не стучись и не позорься, как Зойка узнает, что стучал сюда, так оторвет тебе все, что еще бултыхается, так и знай.
– Откуда ей узнать… Натаха, будь человеком, дай сто грамм, подлечиться надо.
– В психушке тебя вылечат, хватит канючить, хандубей.
Голоса удаляются, и я снова начинаю дышать. А то, что я не дышала, заметила только сейчас.
Эти две недели я все время искала работу, но безуспешно. Везде обещали перезвонить – ну, возможно, кто-то сейчас все-таки звонит.
Нужно выйти в магазин, хватит ныть.
Я надеваю поверх толстовки куртку и открываю дверь.
– Эй…
По голосу я узнаю алкаша, стучавшего ко мне совсем недавно. Значит, ждал в коридоре.
– Я знаю, что у тебя мебели нет. А у матери во флигеле много всякой мебели, дашь на бутылку – и забирай хоть шкаф, хоть что. Идет?
С одной стороны, у меня денег совсем в обрез, с другой – у меня и правда нет никакой мебели, а сделка выгодная.
– Идем.
Алкоголик засуетился, побежал впереди меня. Хорошо, что почти стемнело, никто не увидит.
Дверь во флигель обита дерматином, внутри беспорядок, но именно такой, какой бывает, когда спешно что-то ищут, а пока была жива хозяйка, здесь, похоже, всегда царила чистота. Покойная бабка была большая аккуратистка.
– Так-то я с Зойкой живу. – Алкоголик шмыгнул носом. – Но теперь перееду обратно сюда, мать умерла, дом теперь мой, а Зойка меня достала. Ну, а мебели мне одному столько ни к чему. Вот, смотри, что приглянется, я тебе сам и принесу.
Мебель покупалась, видимо, еще в восьмидесятых годах прошлого столетия, но сохранилась отлично. В серванте какие-то почетные грамоты, их много.
– Мать в роддоме акушеркой работала пятьдесят лет, ветеран труда, вот! – Алкоголик снова шмыгнул носом. – Батя-то умер давно, а мать только недавно. Жалко, один остался теперь. С Зойкой они вообще не ладили, никак. Ну, а я… а вот, смотри – подарю тебе просто так, хочешь?
Вещица и правда симпатичная – конечно, китайская поделка дешевая, но выглядит очень красиво: золотистая карета яйцевидной формы и шестерка белых лошадей в плюмажах, золото-серебро-бархат-камешки. Стразы очень красиво блестят, и сама вещица увесистая.
– Нравится? А забирай, ну типа на новоселье, вот правда, от души дарю. Мне оно ни к чему, я такими финтифлюшками не интересуюсь, пропью – и все, а тебе будет радость. Вы, девчонки, все любите разное блестящее. Ну, а заодно Зойке не достанется, она давно на него зубы точила, а теперь, когда матери не стало, она его утащит, я пьяный буду валяться, а она утянет, к гадалке не ходи, а мне скажет, что я сам пропил. А так я буду знать, что сам тебе отдал – так просто, на память. Бери, мать бы хотела, чтоб я не пропил и Зойке не отдал, а я тебе отдам, красивая игрушка. Еще одна такая была, только там не карета, а как бы яйцо на такой поляне, с цветами – красиво тоже, блестело ужас, мать его Зойке подарила на нашу свадьбу, а теща, дура, возьми да и разбей, вот мать и осерчала – все говорила: как помру, не вздумай Зойке отдать, а хоть просто подари хорошему человеку за упокой моей души, чтоб ему радость была. Так что бери, это от души, хоть раз сделаю так, как мать велела. Эх, кабы раньше-то мозги были мать слушать, а теперь что уж, когда все наперекосяк, в сорок три года жизнь закончилась. Бери, говорю, и не сомневайся – считай, что волю покойной исполнил я в точности, а мне это тоже в радость. Мать-то хорошая была у меня, хоть и строгая.
– Спасибо.
Я беру с полки украшение, мысленно примеряя его к каминной полке. И по всему видать, будет красиво, только полка огромная, а вещица небольшая… нет, на камине она потеряется. Ну, что-нибудь придумаю.
– Мебель-то брать будешь?
На глаза попадается небольшой комод с ящиками. На высоких ножках, красиво вырезана форма, тускло блестящая фурнитура – это уж точно не ширпотреб. Как он тут оказался, в толк не возьму.
– Да, комод знатный, мать говорила, он здесь стоял, когда они с отцом этот флигель от завода получили, отцу дали ордер на работе, меня еще тогда и на свете не было, а мать рассказывала. К остальной мебели этот комод не подходил, мать все порывалась выбросить, но отцу он очень нравился, вот и не выбросили. Берешь? Ты возьми, вещь хорошая, добротная, сразу видно, что со старых времен. А мне, конечно, без надобности. Так что решила?
– Ага, беру. Вот деньги.
Я даю ему денег чуть больше, чем стоит пузырь водки, он радостно кивает и поднимает комод, но видно, что ему тяжело.
– Ты стой тут, а я позову Леньку. Вдвоем-то мы его осилим точно. Стой, не уходи никуда.
Я остаюсь в чужой комнате. Диван застелен дешевым китайским покрывалом, и я бы могла купить этот диван, но отчего-то брезгую. Комод я вымою, а диван? Одна мысль, что на нем сидела или лежала мертвая старуха, вызывает у меня тошноту.
На стенах фотографии смешного малыша, и я понимаю, что это мой новый знакомый алкоголик. Как из такого симпатичного пацана вырос синюшный опухший алкаш, я не знаю.
– Вот, Ленька, давай перенесем, а потом шмеликом в магазин.
В комнату вваливается хозяин замка, а с ним такой же точно алкаш. Его я уже видела, он постоянно слоняется по улице и роется в баках – бутылки собирает.
– Добрый вечер, барышня. – Алкоголик изображает нечто вроде реверанса. – Сейчас мы его вам мигом. Давай, Леха, поднимай со своей стороны, мешкать нечего, магазин может закрыться, а тот, что на проспекте, нужный продукт не держит – коньяки там разные, вина – сколько угодно, а нам такое без надобности, организм только травить. А вы, барышня, двери откройте, и мы его вам в два счета. Мы с детства привычные вместе все делать.
Ага, и спились тоже вместе. Надо же, какая дружба трогательная.
В два счета доставить комод не вышло, сработан он из настоящего дерева, но в итоге они его все-таки занесли и поместили у стены. В этой комнате он смотрится очень органично.
Я ставлю на него карету с лошадками, и выглядит она здесь как инопланетный корабль. Ну, очень красивая штука, интересно, где старуха ее раздобыла. Возможно, привезена из Германии после войны. Игрушка по всей поверхности блестит мелкими стразиками.
Нет, не могу видеть это на фоне ободранных стен.
Лошади серебристые и черные, и те, что черные, покрыты эмалью, как и части ландышей, придерживающих карету. Очень тщательная работа, но штука сама небольшая, хоть и тяжелая. Может, это какое-то новогоднее украшение? Тогда я к нему привяжу потом веревочку, и будет красиво. Если включить гирлянду, стразы заблестят пуще прежнего.
Коробка с елочными игрушками в кладовке. Я достаю ее с большими предосторожностями, заворачиваю карету в длинный хвост пушистой мишуры и пристраиваю ее к другим игрушкам.
Телефон пищит, сигнализируя о том, что разрядился, и я выключаю его – мне некому звонить.
4
Чтобы вы понимали, у меня новый номер телефона, и ни одна живая душа из прежних знакомых его не знает. Как и моего нового адреса. Знаете, я на всех обижена, теперь уже окончательно – мне и раньше случалось обижаться, потому что мне все всегда доставалось в последнюю очередь, либо вообще не доставалось, либо отнималось кем-то очень скоро, и к моим двадцати семи годам я окончательно убедилась, что все против меня просто сговорились, и Бог, если Он все-таки есть, этот заговор возглавил.
А против Бога, как известно, не попрешь.
Поэтому я просто обиделась и плюнула на всех. И вот теперь я здесь, в абсурдной недоквартире, и мне даже чаю не выпить, потому что, как я уже говорила, у меня нет чайника. И чашек нет, и заварки, и сахара… ничего, короче, нет, вообще, только кипятильник и белая эмалированная литровая кружка в желтый цветочек, эту кружку мне как-то папа купил, давно еще, когда все было хорошо. Ну, как – хорошо… относительно хорошо, потому что у меня никогда не было так, как мне бы хотелось. Но сейчас я думаю, что тогда я была очень счастлива, потому что были живы родители, и все было если не ок, то по крайней мере не так, как сейчас.
Снова кто-то стучит в дверь. Да что ж такое! Возможно, имеет смысл открыть и дать понять раз и навсегда, что я не хочу ни с кем разговаривать, ста грамм у меня тоже нет, и вообще я вампир. Мне не нужна помощь, я не намерена вступать ни в какие разговоры, адье, граждане, идите все лесом.
Но дело в том, что я и ссориться не хочу, так что судите сами, до какой степени меня все достало.
– Эй, ты откроешь или нет?
Настырная мерзавка, надо же. Ага, открою – когда ад замерзнет.
– Я тебе пожрать принесла, оставлю у двери. Посуду потом заберу.
Очень мне нужны подачки от каких-то маргиналов. Могу себе представить эту «еду». Хотя, конечно, мой рацион сейчас не назовешь разнообразным, а скоро и того не станет, если я срочно что-то не предприму.
Шаги удалились, где-то закрылась дверь. Ладно, погляжу, что там.
На полу стоят небольшая кастрюлька и пластиковый судок. Черт, жрать-то как хочется… Эти растворимые супы и порошковое пюре меня убивают.
– Ну, я не просила, но не оставлять же здесь…
Надеюсь, никто этого не видит.
В кастрюльке суп с фрикадельками, в судке жаркое и хлеб. Жаль, холодильника нет, испортится, мне-то за раз это нипочем не съесть. Похоже, боги отвернулись от меня, но кто-то из святых все-таки решил поддержать мое бренное существование. А может, мне просто не дают сдохнуть с голоду, потому что придумали для меня еще кучу всяких гадких аттракционов, а если я умру, то уже не смогу повеселить эту праздную публику.
Хотя в следующей жизни я вполне могу родиться утконосом, чтоб уж совсем весело было.
За окном уже почти стемнело, и надо бы ложиться спать – все равно делать больше нечего. Ну, можно пойти погулять, но я уже была на улице, опять выходить неохота.
С тех пор как я здесь, мои прогулки проходят исключительно по ночам – так меньше шансов нарваться на соседей. Если приходится выйти днем, я, как вы уже поняли, предпочитаю наглухо забитую черную лестницу. Возможно, из-за этого родился миф о том, что я вампир.
Я зажигаю свет – убогая комната при таком освещении выглядит еще хуже, даже купленный у алкаша комод не спасает, хотя он мне нравится, но в этой обглоданной временем и бесхозяйственностью комнате изящный комод вроде как лорд на вечеринке кокни.
Ладно, как-то устроюсь со временем.
У правой от входа стены расположено каменное полукруглое возвышение, к которому ведут три ступеньки, там я устроила себе гнездо. Думаю, когда строился дом, это место было предусмотрено для оркестрантов, ведь любой приличный бал должен сопровождаться музыкой, но теперь вместо оркестра здесь я. Сплю тут, установив старую раскладушку, которую нашла в глубокой кладовке. Здесь такая имеется, я упоминала? Нет, конечно. Впрочем, плевать, там все равно ничего нет, кроме тяжелого котла на треножнике и покрытой окалиной кочерги с завитушками на ручке. Я туда перетащила часть ящиков с книгами и кое-какими вещами.
Ну, и раскладушка эта тоже была там, вполне крепкая. Я ее отстирала, как смогла, и теперь сплю на ней, уложив на нее папин спальный мешок, это лучше, чем на полу. Поскольку делать мне совершенно нечего, я изучаю газеты с вакансиями, но пока мне ничего не подходит. Хотя, безусловно, я отдаю себе отчет в том, что хорошая работа в таких газетах не предлагается.
В кладовке стоят ящики с книгами, и я достаю «Мэри Поппинс» Памелы Треверс – старая книжка, еще папина, издана в семьдесят втором году, я помню, когда читала ее в детстве, и тогда эта книжка ощущалась как очень странная. Но знаете, со временем ко многим вещам привыкаешь, да и восприятие меняется.
Когда я чувствую себя ужасно или около того, мне нужно уцепиться за что-то привычное и знакомое. И таким чем-то привычным и знакомым становятся книжки, которые я читала в детстве. Как бы погано мне ни было, стоит только открыть одну из своих старых книжек, все становится если не хорошо, то терпимо.
И вот Мэри Поппинс уже пришла в дом к мистеру и миссис Бэнкс, и я по-прежнему уверена, что миссис Уиннифред Бэнкс заслуживает здоровенного пинка, потому что пользы от нее нет никакой. Судите сами: готовкой занимается миссис Брилл, некая Элин накрывает на стол – так, словно хозяйка дома без рук, без ног, а тип по имени Робертсон Эй точит ножи и чистит ботинки, попутно подстригая газон, и все эти люди получают жалованье, а ведь еще есть нянька! А сама-то миссис Бэнкс чем занята целый день? Да ничем. А потом мистер Бэнкс стонет, что денег ни на что не хватает. А как же их будет хватать-то, когда такая прорва народу получает жалованье за то, что вполне могла бы сделать миссис Бэнкс, если бы соизволила поднять задницу, да только дудки!
Лентяйка она, паршивая жена и никчемная хозяйка, вот что.
Мэри Поппинс мне, кстати, тоже не нравится. Неприятная самовлюбленная личность, да. Но книга в целом очень волшебная, есть в ней какая-то странная пограничная атмосфера – как между сном и явью, знаете, когда на грани засыпания стирается нечто, определяющее точку в пространстве и времени, и в этом тумане совершенно особая жизнь. А если из него резко выскочить, сначала вообще не понимаешь, где находишься, настолько секунду назад было все реально – и при этом не являлось сном.
И очень странные картинки в самой книге, когда-то они были черно-белые, но я их в детстве раскрасила фломастерами, и теперь они цветные.
Ох, а миссис Корри с ее отломанными пальцами – вообще жесть. Но, блин, когда я вот так лежу, завернувшись в знакомый с детства плед, и читаю о странных делах, творящихся на Вишневой улице, мир не кажется таким категорически враждебным.
Я вообще предпочитаю окружать себя привычными вещами, и наш старый дом был именно таким, но оставаться там я не могла, и потому я здесь. Чаю бы выпить, но он у меня, похоже, весь вышел, и ведь я знала, что этот день когда-то наступит, но наступил не день, а вечер, и утро будет тоже, и без чая никак, а значит, мне прямо сейчас придется плестись в магазин, чтобы купить хотя бы чайных пакетиков, как бы это ни было ужасно – без чая жизнь совершенно отвратительна, так что надо идти, деваться некуда. Тем более, что я же собиралась в магазин. Если бы алкоголик меня не тормознул, я бы уже даже вернулась, а теперь все равно придется плестись по темноте.
Я нехотя выползаю из объятий пледа, оставив книжку раскрытой, – не люблю листать в поисках места, на котором закончила чтение. Темные джинсы, такая же толстовка с капюшоном, кроссовки – уже достаточно тепло, чтоб не надевать куртку. В общем, кто меня ночью видит.
Осторожно открыв дверь, я выглядываю в коридор. Пусто и гулко, слышен работающий у кого-то телевизор, но надо отдать должное строителям, сработавшим дом: звукоизоляция тут отличная. Скользнув к двери, оказываюсь во внутреннем дворике. Полукруглый флигель, в котором когда-то, видимо, жил кто-то из прислуги, а потом неведомая мне Митрофановна, которую угораздило умереть в тот день, когда я появилась в этом доме, подмигивает мне освещенным окном – свет погас, похоже, алкаш Лешка устраивал банкет.
Еще три небольшие постройки, которые служили прежним хозяевам для каких-то хозяйственных нужд, теперь там сараи, запущенные и грязные.
– Эй, погоди.
Тут у всех это «Эй!», как глупо.
– Да погоди, куда ты.
Как ни странно, Лешка трезвый. Свет фонаря скрыл морщины и одутловатость, и сейчас я с удивлением вижу, что когда-то он был весьма хорош собой: гордый разлет бровей, прямой нос, лицо с высокими скулами. Все это оплыло и сместилось от непомерных возлияний, но тьма обнаруживает настоящую суть вещей, вот чем она хороша.
– Ну, чего?
Лешка замялся.
– Слушай… я хотел тебе ключи от материного флигеля отдать. – Он сует мне в руки связку. – Я запер, сегодня переночую у Коляна, его судорога с тещей в гости уехали, а то ведь Зойка вытащит, пока я пьяный буду, а мне скажет, что я сам потерял. А так я буду знать, что ключи у тебя. Потому и ждал, чтоб по-трезвому отдать, я, знаешь, как просплюсь, то помню только то, что накануне трезвым делал, а когда пьяный, то не помню, что делал по трезвяни. Ты прости, что беспокою, но как матери не стало, так я за флигель переживаю, Зойка готова все оттуда распродать, жадюга страшная, ну а мать как раз и не хотела этого, она Зойку-то и на порог не пускала. Эх, кабы тогда – и теперешний ум, ну вот что мне было тогда мать послушать, а ведь кругом она права оказалась…
Я молча беру связку и прячу в карман. Ну, вот такую несуразную жизнь соорудил себе Лешка.
– Ты… это… Линда… спасибо. – Лешка закивал, обрадованный. – Я тебе отдам кровать родительскую, она хорошая, двуспальная, мне ни к чему, а ты бери. За так бери, по дружбе. Мать на ней годов двадцать не спала, как отца не стало, а кровать, считай, новая.
– Да ладно, я и за так твои ключи подержу, невелика услуга. Если по дружбе.
– Ну, а если по дружбе, то кровать мы тебе с Ленькой все равно притащим, что ж тебе на полу спать, незачем это. А мне ни к чему – пропью, и без пользы.
Улица освещена, совсем недалеко проспект. Я иду в сторону гудящих машин, через дорогу магазин, где можно купить недорогие продукты. Беру коробку чая – самого дешевого, но он неплохой, я знаю, и уж всяко лучше пакетиков. Очень хочется шоколада, но это дорого, а потому покупаю два плавленых сырка и пачку крекеров, ругая себя на чем свет стоит, денег-то совсем в обрез.
Засунув в карман толстовки чай и сырки, выхожу из магазина. Проспект полон людей – недалеко театр, и граждане торопятся приобщиться к прекрасному. Я очень люблю театр, когда чуток разживусь деньгами, обязательно пойду туда. А в антракте куплю себе пирожных и стакан чаю, встану у круглого столика и неспешно съем эклеры, запивая их жидким театральным чаем, который не испортит мне настроение. А сейчас я хочу войти в эту нарядную толпу и ощутить себя одной из тех, кто радуется сегодняшнему вечеру. Я отлично ощущаю себя в толпе, нужно просто поймать ее ритм, и как бы одиноко ни было дома, в массе людей одиноко не будет.
Вот если бы только на свете не было столько неуклюжих бестолковых граждан: какой-то мужчина толкает меня плечом, да так, что я едва не падаю.
– Извините, пожалуйста. – Он оборачивается ко мне, пытаясь дотронуться, поддержать. – Вы не ушиблись?
– Нет. Ничего, бывает.
Он достаточно молодой, и на его руке не повисла спутница, но мне это вообще неважно.
– Могу в виде контрибуции угостить вас кофе, хотите?
– Нет, спасибо.
Кофе на ночь пить очень глупо, конечно.
– Вот напрасно вы отказываетесь. – Парень смотрит на меня оценивающе. – А горячий шоколад? Прямо здесь, из автомата?
У нас в городе понаставили этих псевдокофейных автоматов на каждом углу. И в них не только кофе, но и чай – вернее, вода с красителем, пить эти помои невозможно. А еще там есть горячий шоколад.
– Ладно, шоколад.
Мне же хотелось шоколада – ну, вот и он. Правда, это совсем не шоколад, но запах нормальный, и на вкус терпимо.
– Зазевался и толкнул вас. – Улыбка у него вполне приятная, зубы все на месте, и они не гнилые. – Вы тоже были на представлении?
– Нет, в магазин выбежала.
– Живете рядом, понятно. – Он оглянулся. – Старые дома? Как там внутри, я никогда не был.
– Несимметрично.
Если он думает, что я стану приглашать его к себе, то напрасно.
– На той неделе приезжает столичная труппа, хотите – сходим вместе? Я куплю билеты.
– Вы же меня совсем не знаете.
– Ну и что. – Парень смеется. – А давайте так: встречаемся в следующую пятницу вот на этом самом месте, в семь вечера. У меня будут два билета на спектакль, я угощаю, так сказать. Никаких вопросов, никаких обязательств – просто попьем шоколаду и посмотрим спектакль. Идет?
– Ладно, идет.
Это если я не забуду, конечно. И если ничего не изменится.
– Если дадите мне номер телефона и скажете свое имя, я вам напомню. Ну, вдруг вы забудете.
– Не забуду. Мне пора, спасибо за шоколад.
Я знаю, что это глупо и невежливо – но я не способна больше ни на какие социальные контакты. У меня проблемы с доверием, вот что.
– Ладно, тогда в следующую пятницу, не забудьте.
– Ага. Мне пора, я…
– А давайте я проведу вас.
– Нет, спасибо, я тут совсем рядом.
Я понимаю, что парень клеится ко мне, и если бы я была нормальная, то пусть бы он меня и провел до дома, все лучше, чем одной. Ему лет тридцать пять, не больше, он высокий и коротко стриженный, с хорошо скроенным лицом и небольшими карими глазами. Но я сейчас в состоянии измененной реальности и не знаю, когда смогу продуктивно контактировать с другими особями своего вида, не делая над собой титанических усилий.
– Тогда через неделю встречаемся здесь.
– Ага.
Это очень тупой диалог, и тупая тут именно я, но это все, на что я на данный момент способна.
Нырнув с проспекта на квартал ниже, я оказываюсь в полосе темноты – нет, фонари горят, но гораздо реже, и после ярко освещенного проспекта кажется, что совсем темно.
Здесь только старые дома – такие, в каком живу теперь и я. Когда-то тут был респектабельный купеческий квартал, и я могу только представить, как по этим улицам гуляли толстощекие купчихи со своими дочками, разодетыми в пух и прах. А во дворах пыхтели самовары, и бородатые купцы вели неспешные беседы, попутно обдумывая свои хитрые торговые дела.
От тех времен остались только дома, искалеченные новым временем. Но дома эти крепкие, они стоят и не думают сдаваться, есть в них что-то постоянное, и мне приходит в голову мысль, как все-таки неплохо, что получилось купить эту квартиру. А могло быть хуже, намного хуже. Все, не буду больше сердиться на квартиру и на риелторшу Риту, которая нарыла мне эти хоромы.
Перепрыгнув через ливневку – вот отчего-то не люблю я наступать на ливневки, – перехожу улицу и добираюсь до угла дома, соседнего с моим. Здесь совсем темно, и это оттого, что фонарь далеко, а тот, что рядом, сейчас не горит. Вот через пару минут я уже приду домой и сделаю чай, и положу плавленый сырок на хлеб…
Что-то мягкое лежит в темноте, я спотыкаюсь и едва не падаю, лишь в последний момент ухватившись за перила крыльца. Похоже на какой-то мешок, но это не мешок, а просто пьяный охлос, беспробудно уснувший рядом с крыльцом – не дополз.
Чтоб вы понимали, я презираю граждан, которые напиваются до свинячьего визга. В моих глазах они вообще не люди, все эти любители выпить, они отвратительны как класс, и к сапиенсам их отнести я не могу. Это какие-то зомби, алкоголь накладывает неизгладимый отпечаток на внешность, и особенно отвратительны пьющие тетки. Тут я согласна, что поддерживаю двойные стандарты, но вот хоть убейте, а вид пьяной опухшей бабы мне отвратителен вдвойне.
Но на земле валяется какой-то мужик, и я просто переступаю через него и иду дальше. Что характерно, если бы там лежала женщина, я бы попыталась ее растормошить, но сейчас мне это и в голову не пришло, да и с чего бы. Ну, растормошу его, и что дальше? Он либо полезет драться, либо примется блевать, а скорее всего, как только я уйду, уляжется снова на прежнее место.
А потому лучше оставить все как есть, сейчас ночи уже не холодные – ну, схватит насморк, но насмерть точно не замерзнет.
Я отодвигаю доски и протискиваюсь на площадку лестницы. В коридоре никого, все так же в какой-то квартире голосит телевизор, я открываю свою дверь и осторожно запираю замок. И пусть эта квартира не похожа на пригодное для жизни жилье, за запертой дверью я ощущаю себя чуть спокойнее. Сейчас вскипячу воду и выпью чаю.
И дочитаю книжку, стараясь не думать о том, в каком дерьме я оказалась.
Мэри Поппинс тоже любит чай.
Сырки слегка помялись, но это ничего. Если растворить в чашке суп и бросить в него полоску такого сырка, суп будет гораздо лучше. Но если нарезать тоненькими пластиночками и на хлеб – то с чаем тоже замечательно.
Дело в том, что мне никогда до этого не приходилось голодать, но есть я тоже не могу.
Впрочем, есть и позитив: сегодня я вроде как заключила выгодную сделку, учитывая, что купленный мною комод из какой-то красноватой древесины стоит уж всяко дороже бутылки водки. Кто-то может сказать, что я воспользовалась ситуацией, но, во-первых, это сам продавец товара предложил такую цену, а во-вторых – никто не отменял свободу договора. Так что я вполне добросовестный приобретатель, и комод мне нравится, я вымыла его и оставила ящики открытыми, чтобы высохли. Буду держать там косметику, белье и разные мелкие предметы, которые жаль потерять.
Но денег стало еще меньше, вот что.
Дикий визг раздался снаружи – в тишине почти ночного переулка это звучит весьма неприятно. Думаю, кто-то еще наткнулся на пьяного, и непонятно, зачем так орать. Но свет в комнате я все-таки выключу на всякий случай, чай я и на ощупь смогу заварить, тем более, что прямо напротив моего окна фонарь, и это очень удачно: в комнате достаточно светло.
Я нарезаю сырок тонкими ломтиками и укладываю их между тонкими кусками черного хлеба. Это не очень свежий хлеб, но зато он дешевый, и я могу не экономить, у меня его еще полтора кирпичика. С чаем это вкусно. И такую еду я все-таки могу понемногу есть, она не начинает вонять сразу.
За окном происходит что-то непонятное – виден свет от мигалок, и это не просто машина «Скорой», а еще и полиция. Возможно, этот тип, который валялся там, был не совсем пьян – может, его кто-то избил. Ну, его достаточно быстро обнаружил кто-то более впечатлительный, чем я.
Книжку читать в свете фонаря я не могу – нет, буквы видны, но для зрения это не очень хорошо, а оно у меня и так паршивое. Тем не менее спать я тоже не могу – во-первых, еще рано, во-вторых, в коридоре суматоха – возбужденные голоса и топот ног. Я так понимаю, соседи бегут поглазеть – ну, а я нет, для меня подобное зрелище вообще развлечение ниже среднего. Но зажигать свет я не стану, пусть думают, что меня нет дома.
Я иду в кладовку и зажигаю там свет. Если перетащить сюда матрац и плед, то можно закрыться, спокойно попить чаю и почитать.
Вы поймите меня правильно. Если даже тот чувак был не пьян, а мертв, ничего изменить я не могла. И сейчас не могу. Но толпа у трупа – это совсем не та толпа, в которой я жажду оказаться. Я совершенно не хочу стать объектом внимания кого бы то ни было. Я не хочу фигурировать в сводках и прочих репортажах, даже случайно.
В кладовке очень даже можно жить – в первый же день моего пребывания в этой квартире я вымыла ее, как и всю квартиру, и сейчас папин спальный мешок нормально разместился, и коробки с моими пожитками особо не мешают, с ними даже лучше. Пожалуй, я стану здесь ночевать постоянно, мне сейчас очень уютно.
В дверь позвонили, но ведь я не обязана открывать? Завтра отключу звонок.
Я пью чай вприкуску с хлебом, а Мэри Поппинс катит коляску с близнецами в бакалейную лавку. Надо же, кучу всего набирают в долг, а ведь стоит выгнать Робертсона Эя и горничную, и денег в семье прибавилось бы. А накрывать на стол и стричь газон могли бы Джейн и Майкл, детей надо приучать к труду. Да и сама миссис Бэнкс могла бы поднять задницу, если на то пошло.
Теперь в дверь стучат. Нет, ну это надо такое? Ломиться среди ночи в чужую квартиру. Все-таки я привыкла жить в доме, соседи к нам по ночам не стучались, это уж точно.
– Да нет ее дома. – Этот голос я уже слышала. – А если и есть, то нипочем не откроет, чумичка.
– Там полиция приехала. – Второй голос женский, тот самый, что днем, когда меня обвинили в вампирстве. – Будут всех опрашивать.
– Свет у нее не горит. Могла и пойти куда-то. Я вот ни разу не видела, как она входит или выходит – но сейчас нарочно в окно заглянула, свет не горит, и в квартире вроде как пусто.
– Ну, тогда и ломиться нечего. – Вторая барышня выказывает признаки интеллекта. – Мало ли, что у человека в жизни стряслось, не хочет она общаться – не надо лезть.
– Да кто же лезет…
– Да вы все лезете, небось достали девку уже. – Вторая вздохнула. – Ужас какой… Оно, конечно, если совсем уж положа руку на сердце, так Леонид был плевый мужик, пьяница и бездельник, еще и ссать приходил под наши ворота, гонял его Мишка не раз, и морду начистить хотел, едва отговорила – связываться с такой рванью, руки марать, но ты эту рану на горле видела? Ужас… как дикий зверь напал.
– Полиция разберется.
Рана на шее трупа? Боюсь, моя репутация вампира окрепнет.
Я возвращаюсь в кладовку и устраиваюсь на матраце. Я потеряла интерес к чтению и сейчас постараюсь уснуть – завтра будет день, и мне срочно нужна будет хоть какая-то работа, потому что денег почти не осталось, и запасы растворимых супов тают. А вот будь я вампиром, такой проблемы у меня бы не было. Правда, я бы вряд ли стала употреблять в пищу столетних старух и алкашей. По-моему, даже с точки зрения вампира это все-таки гадость.
Не знаю, как вам, а мне подчас снятся очень странные сны. Вот, например, этот снится периодически: какие-то комнаты, в которых ни с того ни с сего располагается кладбище. Оградки, кресты – анфилада каких-то серых комнат, наполненных старой смертью. И совершенно непонятно, зачем это было устраивать в помещениях и каким образом такое вообще было сделано, – а я иду по темному коридору, заглядывая в дверные проемы, а там теснятся все эти оградки, и я знаю, что дело к вечеру, и мне страшно до чертиков.
Причем вне сна я не боюсь кладбищ. Не то чтоб я любила там гулять и вообще как-то проводить время, а такие малахольные тоже есть, но я не боюсь. А в этом сне бывают разные вариации, как, например, жутковатая статуя на выходе из комнат – прямо на ступеньках, серая статуя, изображающая непонятно что. Даже со спины оно неприятное, и я не хочу видеть, что там впереди, у меня и так сердце скоро треснет.
Я с усилием открываю глаза.
И одновременно слышу, как звенит в комнате стекло – ужасно, агрессивно, разрушительно. Я моментально просыпаюсь окончательно и выбегаю из кладовки. На полу стекло, и я стараюсь не порезаться, но это сложно, а еще летят камни, запущенные умелой рукой, и за окном я вижу четверых мальчишек, швыряющих камни в мои окна.
– Сашка! – Женский голос откуда-то сверху. – Вы что ж это делаете, балбесы! Ну, я сейчас матери расскажу!
– Ребята, валим! – Высокий парнишка в серой курточке машет рукой. – Палево!
Они, видимо, не ожидали, что их заметят, а поскольку время сейчас самое что ни на есть учебное, то они, скорее всего, сбежали из школы. Может, перемена у них. Это умно: если что – ну, были в школе. Расчет был на то, что взрослые на работе, а я, как и положено вампиру, днем сплю.
В коридоре слышны голоса, какая-то беготня. Я стою посреди комнаты, и у меня кровоточат ноги. И это злополучное венецианское, блин, окно, которое теперь вдребезги и на починку которого уйдет куча денег, которых у меня и в помине нет.
Я порезалась осколками, сгоряча не поняла просто.
Мне надо оценить размер катастрофы, но стекло повсюду.
На полу лежат большие куски, кое-где маленькие острые кусочки, похожие на отколовшиеся льдинки, и стеклянная пыль на всех поверхностях. Кто бы мог подумать, что из одного, даже очень большого, окна может быть столько осколков. Правда, окно старорежимное, и это единственное, что было красивого в комнате, потому что сама комната несуразная, потолочная лепка уходит в соседнюю квартиру.
Все вдребезги, блин.
У меня, знаете ли, все вдребезги.
5
Нужно как-то убрать все это, но сначала остановить кровотечение. Правда, как и чем я стану убирать этот погром, я еще не решила. Хуже, что бинтов у меня тоже нет, но тут проще, я разорву на части свою ночную рубашку или какую-нибудь наволочку. В кладовке в дальнем углу стоят коробки с моими пожитками, что-то найдется, но вот во что собрать осколки, я не знаю, у меня и веника нет, не говоря уже о совке и ведре.
– Ну, допустим, я пойду на улицу и наломаю веток, веник сделаю. А дальше как?
Я точно знаю, что моих активов хватит прожить еще примерно неделю, питаясь растворимыми супами и кашами быстрого приготовления. За эту неделю я должна устроиться на работу, иначе мне придется идти грабить банки или продуктовые ларьки. Я это знаю, и у меня есть план. Но у меня нет плана поиска веника, ведра и совка в случае кровоточащих ног.
Внизу, конечно, у меня теоретически есть отсек, но что там, я не знаю.
Я разрываю на части старую наволочку и перевязываю ноги. Один порез очень глубокий, и надо с ним что-то делать, странно, что ничего не болит, так что сначала приберу стекло. А потому я беру связку ключей и зажигалку – надо посмотреть какую-то емкость в отсеке, но вдруг там темно. Идти очень больно, и после меня на полу остаются кровавые следы, но лестница, ведущая в цокольное помещение, начинается рядом с моей дверью, справлюсь. Я спускаюсь вниз и, щелкнув зажигалкой, обнаруживаю на стене выключатель. Это полуподвал, и оказывается, что здесь чисто, сухо и вполне сносно: разнокалиберные двери пронумерованы в соответствии с номерами квартир, и мой отсек находится как раз под моей квартирой.
Замок навесной, и ключ к нему здоровенный, потому что замок старый. Второй замок врезной, он поновее. Зачем здесь два замка, что тут воровать?
Внутри темно, и я не нахожу выключатель, а потому чиркаю зажигалкой. Ага, с лампочки свисает шнурок, стоит его дернуть, и она загорается. Это, знаете, как в классических фильмах ужасов, когда безголовые подростки или убегающие от правосудия бандиты попадают в пустой дом с подвалом, полным каких-то вещей, где обязательно находят какую-то потустороннюю хреновину, которая их потом всех очень изобретательно и красочно убивает.
В моем отсеке пустые пыльные банки на полках, рама от старого зеркала, стоящая на какой-то пыльной тумбочке с тонкими витыми ножками, а самого зеркала нет – видимо, демон, живший в нем, все-таки вырвался на свободу. На полу ящик с какими-то железками, у стены пыльные большие доски, перед ними старое кресло и круглый стол, прикрытый не то покрывалом, не то скатертью, очень тяжелый и пыльный, не сдвинуть. На кресле люстра в перепутанных висюлинах, серых и безнадежно грязных, беззащитно воздевшая к потолку пять рожков, и – о счастье! – старый затертый веник и металлический тяжеленный совок. Он явно предназначен для камина, как и старое погнутое ведро, но мне безразлично, что все это для камина, у меня другие цели, а камин может обижаться сколько угодно.
Я беру ведро, веник, совок и, довольная собой, выключаю свет и закрываю помещение. Что ж, не так все плохо, как я думала. Оно еще хуже, но в этом есть и преимущество: в моей жизни сейчас полнейшая ясность. Я точно знаю, кто мне друг, кто мне враг и кто я.
Никто. Во всех случаях.
Зато я свободна от всех связей, обязательств и прочих условностей. Я могу начать жизнь с чистого листа, и будь я проклята, если позволю себе снова оказаться дурой, которой все пользуются, как хотят.
Я открываю дверь, поставив ведро с совком на пол, – замок немного заедает, или я к нему не привыкла, надо вставить ключ и нажать, глупость какая.
– Эй!
Это местное приветствие, я уже говорила.
Какая-то тетка идет в мою сторону, шаркая шлепанцами, а дверь, как назло, не открывается… ну вот, открылась. Подхватив ведро, я вхожу и запираюсь. Никогда не понимала манеру наших граждан лезть в чужое личное пространство. Вот что это за стуки в дверь, крики «эй!» и прочие прелести, неужели люди не понимают, что все это отвратительно и очень тупо?
Это все равно что начать на улице приставать к прохожим.
Ну вот, снова стук. Как же я все это ненавижу!
– Эй, послушай, открой, есть разговор.
А я не «эй!». И у меня нет ни к кому никаких разговоров, я вас, гражданка, знать не знаю и хочу сохранить данное положение вещей, пока я здесь. Ну, то есть, навсегда.
– Открой, поговорим.
Ничего более тупого я не слышала. Поговорим, ага. О ста граммах, о соседях, о политической ситуации, о синтезе химических соединений. О чем можно говорить с незнакомым человеком? Иногда и с хорошо знакомым говорить не о чем.
– У тебя стекло разбилось, я помогу собрать.
Оно не само разбилось, его разбили какие-то сорванцы. Я и сама могу собрать осколки, даже те, что остались от моей жизни.
Какие-то высокопарные обороты лезут в голову, а это значит, что у меня истерика. И когда я в таком состоянии, я могу сделать что угодно, чтобы вы понимали. Но в основном я делаю хуже себе. Впрочем, мое нежелание контактировать с окружающим миром сейчас вполне оправданно.
Хорошо, что сейчас не зима, а скоро будет и совсем тепло, побуду пока без стекол.
Стеклянная пыль осела на каминной полке, на паркете, на коробках с моими вещами, на раскладушке – страшно подумать, что было бы, если бы я не ушла спать в кладовку. Осколки накрыли бы меня полностью, и просто порезанными ногами дело не обошлось бы.
– Или ты сейчас откроешь, или я буду стучать, пока не сбегутся все.
Настырная, гадина. Ладно, открою, иначе сюда и правда сбежится весь дом.
За дверью обретается какая-то гражданка в халате и бигуди. Типичная домохозяйка. Господи, да кто сейчас накручивает волосы на бигуди!
– У тебя кровь.
Ну да, а я вот и не знала.
– Погоди, я аптечку принесу.
Она развернулась и ушла, а я стою дура дурой – вот только что она колотилась в мою дверь, а теперь вильнула хвостом, и нет ее.
А кровь из ноги не унимается, как назло.
Я сажусь на ступеньки, смахнув стекла лысым веником, – стоять что-то совсем невесело. И как я все это приберу, понятия не имею. Но, знаете, есть у меня один метод насчет того, как сделать любую монотонную работу качественно. Нужно взяться с самого края и потихоньку продвигаться вперед. Вот в данном случае я стану по одному осколочку осторожно подбирать и складывать в ведро, стараясь ничего не пропустить, а освободившееся место подтирать влажной тряпкой, и когда чистая полоса окажется шириной в пару метров, отдохну – почитаю книжку, выпью чаю, и потом снова возьмусь за уборку. И до ночи справлюсь обязательно.
Этот метод действует не только при уборке, а и вообще при любом деле, которое делать неохота, лень или страшно, а непременно надо.
Здоровенный мужик открывает дверь и вталкивает в комнату троих подростков и зареванного пацана лет семи. Моя квартира начинает напоминать детскую комнату милиции.
Вслед за этой живописной группой в комнату входят барышня в бигуди и пожилая тетка с сухим темным лицом и тонкими руками, которая тут же, ни слова не сказав, принимается снимать повязки с моих ног.
– Завязала, чем попало. – Теперь она ворчит, разматывая импровизированные бинты. – А вот тут дело плохо, придется зашивать.
На меня, похоже, никто внимания не обращает. Мужик тряхнул самого высокого подростка и заставил его повернуться ко мне.
– Смотри. – Его ярость, похоже, сгустила воздух до консистенции кипятка. – Все смотрите, и ты, Миша, тоже смотри, не смей отворачиваться.
Мелкий попытался отвернуться, хныча, и тетка в бигуди сделала шаг в его сторону, но мужик жестом остановил ее.
– Не вмешивайся, Роза. Пусть смотрят на результат своего хулиганства. – Он снова тряхнул старшего. – Вы человека искалечили, а могли и убить. Лутфие Алиевна, повреждения серьезные?
– Левую ногу придется зашить, само это не заживет. – Докторша поднялась. – Сейчас схожу за инструментами и лекарствами. Прибрать бы тут…
– Сейчас приберем. – Дама с экзотическим именем Роза, оказывается, принесла с собой большую щетку на длинной ручке и жестом остановила запротестовавшего было мужика. – Погоди, тетя Лутфие придет, ей и расположиться негде будет. Саша, ну-ка мигом домой и принеси два табурета, маленький и большой.
Ребята, я вам всем не мешаю?
– Нет, погоди. – Мужик нависает над пацанами гневной скалой. – Я хочу понять, зачем вам, дебилам, это понадобилось.
Они считали меня вампиром, парень. Вот я-то как раз это отлично понимаю, все факты говорят против меня.
– Я весь внимание. – Раскаты грома в голосе мужика пригибают головы пацанов к земле. – И мне ответ нужен сейчас, а не завтра.
– Мы думали, она вампир.
Ну, что я говорила? Господи, вот еще вампиром прослыть мне никогда не удавалось, но я исправила это досадное упущение в своей биографии.
– Что?!
– А что! – Старший мальчишка вздернул подбородок. – У дяди Лени горло разорвано, а крови почти что и не было. И Митрофановна умерла… вампиры умеют заживлять раны, а тут его вспугнули, наверное. Ее.
– И вы решили…
– Ну да. Солнечный свет. – Мальчишка смотрит в сторону. – Мы думали…
– Ну, это вы еще даже не начинали думать. – Голос мужика звучит даже ласково. – Но я вас думать научу, факт. И сейчас вы сначала тут все приберете. Мигом за табуретками, и убирать. А вашим родителям я уже позвонил, они едут.
Двое пацанов даже попятились, но убегать смысла нет, и они это понимают.
Вернулась смуглая тетка, неся в руках врачебный чемоданчик, за ней громыхнул табуретками охотник на вампиров.
– Роза, помоги-ка мне. – Медработник поставила на пол чемоданчик и вытащила из него одноразовую стерильную салфетку. – Тебя как зовут, детка?
Это она мне, понимаете. Наконец заметила. Детка, забавно.
– Линда.
– Ну, так вот, Лидочка, давай ножку на табурет, мне так удобней будет шить.
Так, и здесь я Лидочка. Ну, ладно.
– Роза, держи таз, я промою раствором фурацилина.
Граждане, мои ноги приделаны ко мне, вообще-то. И раны чертовски болят – шок прошел, и я ощутила все и во всей красе.
– Надо укол делать, рану придется прозондировать, не стерпит она, да и незачем.
Дверь открылась как раз на середине пошивочных работ. В комнату ввалилась какая-то пара, которая тут же вцепилась в одного из пацанов, и истеричная толстуха, которая принялась орать на меня.
Я абстрагировалась. Когда я слышу такой визг, я тут же абстрагируюсь.
Вишенкой на торте оказался полицейский, который пришел задать мне вопросы. Вернее, два полицейских, один из которых принял живейшее участие в разборе полетов вокруг антивампирского хулиганства, а второй пристал ко мне с вопросами. При этом мне зашивали ногу, и я ощущала себя весьма неоднозначно.
– Молодой человек, вы другого времени не нашли? – Докторша отложила иголку и намазала шов чем-то едким. – Вы же видите, в каком она состоянии.
– У меня работа. А скажите, вчера вечером вы не видели ничего, что показалось вам необычным или подозрительным?
– Нет.
Трупы я и раньше видела, но на тот момент я ничего такого не заподозрила, а что необычного может быть в валяющемся на земле пьянице? Ну, допился до коматоза, и все. Ничего необычного или подозрительного, так что я совсем не солгала.
– А вы куда-то выходили вечером?
– Да, за чаем выходила, часов около девяти. В магазин через дорогу, чек где-то в кармане.
– И когда возвращались обратно…
– То ничего подозрительного не видела.
Продавщица может вспомнить меня, и на чеке есть время, в которое я была в магазине. А вот о том, что я полчаса пила горячий шоколад с первым встречным, никто знать не может. Так что я вполне могла пройти по улице, и трупа там еще не было.
Похоже, я попала в цель.
– Но вчера мы стучали к вам, а вы не открыли.
– Не хотела. – Я пожала плечами. – Я не обязана среди ночи открывать непонятно кому, тем более, что ничего существенного я вам сообщить все равно не могла.
– Это я буду решать, что существенно, а что нет.
– Ну, так не надо было среди ночи являться, тут вам не притон, чтобы по ночам шастать.
– Я сейчас тебя арестую, и…
– Остынь, Димон. – Второй полицейский заинтересованно смотрит на мои ноги, и интересуют его явно не повязки. – Это ваша вчерашняя одежда?
Он держит в руках мою толстовку, из кармана которой он уже выудил вчерашний чек.
– Ну да.
– Ну вот и хорошо, мы все выяснили, ни к чему ссориться. – Второй сделал знак коллеге. – Спасибо за сотрудничество, выздоравливайте. Идем, напарник, нам еще работать.
Похоже, Димону очень не понравилось, что жертву вырвали из его когтей, но против лома нет приема, и он нехотя отступил. Я слышу, как он в коридоре раздраженно что-то бормочет, на что второй ему отвечает:
– У нее одежда чистая, а там кровища фонтаном била, и…
– На месте крови-то не было.
– Ну, а там, где его убили, должно быть ее много, а одежда…
И больше я ничего не хотела знать и слышать, а какие-то люди снуют по моей квартире, как у себя дома.
В общем, когда экзекуция закончилась, я стала еще больше походить на вампира, и единственное, чего мне хочется, – это съесть кусок мяса, запить его свежей кровью и лечь спать. Мяса у меня нет, крови тоже, на худой конец я бы яблочного сока выпила, но его тоже нет, зато в кладовке есть папин спальный мешок, подушка и плед. И я сейчас туда доберусь и усну.
– Ты куда?!
Этот дружный возглас мне вообще неинтересен, идите вы все лесом, граждане. Я вас не звала, начнем с этого.
– Спать хочу.
Я ковыляю в кладовку и валюсь на матрац. Меня бьет озноб, я заворачиваюсь в плед и утыкаюсь носом в знакомо пахнущую подушку.
Хоть что-то держит меня на плаву и не дает слететь с катушек.
В дверь вдруг вошел Виталик, сел на ящик с книгами и смотрит на меня.
Глупо. Виталик ведь умер.
6
Он умер не вдруг. Пару лет ему удавалось водить Лизку за нос. Я вначале заинтересованно наблюдала за этим цирком, потом мне надоело. Тем более, что заболел папа, и нужно было ездить в больницы, аптеки, к докторам – в общем, это заняло все мое время, которое оставалось от работы. Мама тем временем нянчила Лизкиного ребенка, окончательно забросив свое рисование. Девчонка оказалась болезненной и капризной и отчего-то была очень похожа на меня, и этим фактом мама пыталась помирить меня с Лизкой – «она же твоя сестра!», как будто случайный набор генов какого-то ребенка, определивший странное внешнее сходство, мог что-то исправить в том, как они со мной обошлись. Дело-то по большому счету было вовсе не в Виталике. Дело было в моих сестрах, которые ни за что ни про что всю жизнь ненавидели меня, история с Виталиком просто вполне укладывалась в общую картину, но дело было не в нем.
Знаете, я никогда не прощаю напрасных обид.
Если я виновата, я тысячу раз извинюсь и постараюсь исправить нанесенный вред, если уж так вышло. И никто не накажет меня ужаснее, чем я сама, потому что я покой и сон теряю, если случается мне вдруг нечаянно зря обидеть кого-то, подвести или причинить неудобства. Это я говорю не для того, чтоб показать, что я вся из себя няшка, а просто – ну, вот так. Если я виновата, то обязательно это признаю. Терпеть не могу людей, которые никогда не чувствуют за собой вины, вот как мои сестрицы.
Но если меня обидеть напрасно, тут уж всяко прошу прощения, граждане, но вы сами нарвались.
Я никогда этого не забуду и при случае отомщу обязательно, хоть сколько времени пройдет.
Но даже и после этого я не прощу напрасную обиду.
Мама говорила, что так нельзя, это портит карму, но маме было простительно говорить такие вещи, она творческая личность, художница – богема, в общем. А я нет, и бухгалтерия – самая буквальная вещь в мире, и хотя я ее не люблю, и случись мне найти другое дело, которое будет приносить мне доход, я плюну на дебеты вкупе с кредитами и займусь чем-то еще, но бухгалтерия научила меня тому, что есть вещи, которые – ну, вот такие, какие есть, и ничего с этим не поделаешь.
Моя семья была такой, какой была, и пока были живы родители, я старалась ради них держаться рядом. Нет, конечно, я не стала общаться с сестрами или умиляться при виде ребенка Виталика и Лизки, но я держалась в рамках. Чтобы мама не расстраивалась.
А потом все вдруг очень быстро распалось.
Виталик-то свои походы налево и направо умело скрывал. Ну, как – умело… я о них знала, потому что я его видела насквозь, а Лизка долго верила, что все его отлучки и неявки ночевать – это по работе. Правда, что-то денег с этой работы было не видать, но пока не заболел папа, вопрос заработков Виталика не стоял так остро.
А потом вдруг встал.
Потому что средства, скопленные родителями, быстро таяли под напором нашей бесплатной медицины, а лучше папе не становилось. И в какой-то момент Лизка задала Виталику вполне резонный вопрос, который должна была задать уже давно, – где деньги, Зин?
Ну, и оказалось, что деньги все в развитии. В товаре. В обороте.
Короче, нет никаких денег.
Я слышала крысиный Лизкин визг и думала о том, что скоро от Виталика в нашем доме не останется ничего, кроме ребенка. Лизка плакала на кухне, Катька с мамой утешали ее, истошно визжала девчонка, хором лаяли мопсы – а я радовалась, что папа этого не видит и не слышит, его это доконало бы.
Нет, я не злорадствовала.
Вот когда я впервые увидела Виталика с чужой девицей – тогда я позлорадствовала, скрывать не стану. Я же всю дорогу думала, что Виталик бросил меня, потому что Лизка лучше, красивее, интереснее, а на самом деле ни хрена так не было, просто по своей сути Виталик был ходок. Ну, вот бывают такие мужики, им всегда нужен драйв – страсть, интерес, восторг узнавания, а когда эти этапы пройдены, они теряют весь энтузиазм и отправляются на поиски нового драйва. Незрелая личность, короче. И это я могла остаться с младенцем на руках и посторонней девицей в постели моего мужа. По счастью, Виталик увидел драйв на стороне раньше, чем у нас с ним дошло до таких вещей, как ребенок и халат со следами младенческой блевотины.
Но тогда я злорадствовала, и долго еще сцена в кафе грела мне душу. Я готова это признать, почему нет.
А потом мне стало все равно. У меня была своя жизнь, свои дела, и дома я появлялась хорошо если к вечеру, а то и к ночи. Ну, а когда папа заболел, то и вовсе мне стало не до Лизкиных семейных драм.
А вот для Лизки все только начиналось.
Она не умна, никогда умной не была. Они с Катькой по сей день пишут «ни чего» и «ни как», а то и «не как», зато частицу «не» с глаголами всегда слитно, а таблицу умножения осилили только до шести, дальше непреодолимая стена. Так что выучились они на парикмахеров да закончили курсы маникюра, на большее их мозгов не хватило.
Нет, я не считаю всех парикмахерш и маникюрш тупыми, избави меня боже так считать. Есть люди творческие, с призванием, и это работа нужная и почтенная. Эти люди могли бы реализоваться где угодно, просто любят именно это ремесло. А вот мои сестрицы звезд с неба не хватали, так что выбор профессии у них был невелик, но и спрос на их работу тоже был так себе. Папа вздыхал и говорил, что интеллект обычно дети берут от матери, и я со своими отличными отметками опровергала это правило, а мои сестры его подтверждали. Но мама нашла себя в изобразительном искусстве, хотя ее живопись немногого стоила, но она не стала скучной и ноющей домохозяйкой, а сестрам нечем было занять свое либидо и незамысловатые мозги.
Так что – нет, Лизка совершенно не умна. Но она хитрая и расчетливая и напрочь лишена любых этических ориентиров и нравственных предрассудков. И она достаточно быстро выяснила, отчего Виталик не приносит ей денег. Откуда ж деньги на семью, если на стороне барышня, а то и не одна.
Я помню, как они орали друг на друга.
Я надела наушники и заваривала себе чай на кухне, но даже сквозь раскаты Джими Хендрикса я иногда все-таки слышала Лизкин крысиный визг. Она всегда напоминала мне крысу, с этими ее маленькими черными глазками и остренькой хищной мордочкой. И голос у нее был такой, какой обязательно был бы у крысы, если бы та вдруг решила заговорить.
Я помню, как мама тронула меня тогда за руку – она звала меня, но в наушниках мертвый Джими Хендрикс был живее всех живых, и я не слышала, тогда она подошла ко мне и тронула меня за руку, и я подумала, как давно она не была со мной рядом.
Но даже тогда ее тревожила не я, здоровенная дылда, у которой в жизни все зашибись.
Ее тревожила «Лизонька». Лизонька, мать ее, маленькая, слабенькая, хрупкая нимфа, орущая крысиным голоском на весь дом, на фоне заходящегося визгом ребенка. Я так и не поняла, отчего их девка все время голосила, но она реально орала все время, все три года, что я ее наблюдала.
А тогда мама смотрела на меня измученными глазами, и мне захотелось бросить гранату в комнату сестры, чтоб раз и навсегда решить проблему «Лизоньки».
– Лидочка, что ж теперь будет?
Как будто мне было до этого дело.
– Мам, хочешь чаю?
Она отшатнулась, словно я предложила ей вдруг пристрелить ее мопсов.
– Ты… ты черствая эгоистичная дрянь.
Это было сказано так жестко и резко, как пощечина. И я тогда подумала, что свой характер отчасти унаследовала от нее, а это значит, что любые мои аргументы услышаны не будут, потому что она уже все решила.
– Конечно. – Я налила себе чаю и улыбнулась ей своей самой безмятежной улыбкой. – Расскажи мне еще, что она – моя сестра.
Я переступила через мопсов и разбитое вдребезги мамино сердце и унесла чашку к себе в комнату.
Я очень люблю маму, правда. И даже сейчас, все равно. И я, конечно же, простила ей все то, что она со мной проделала ради любви к моим сестрам – маленьким, хрупким и слабым сукам. Мои родители – это единственные люди, которым я безоглядно простила все напрасные обиды. И не потому, что они не понимали, как обижали меня, а просто потому, что они мои мама и папа. И несмотря на все их закидоны, они любили меня, просто иногда и сами об этом забывали.
А тогда мама была в ужасном горе, ей нужно было на ком-то сорваться, и она сорвалась на мне.
Виталик собрал вещи и ушел. Лизка выла в своей спальне, визжала истошно девчонка, мама что-то говорила, потом детский визг переместился в ванную и постепенно затих, и я совсем уж было собралась лечь спать, когда в мою комнату вошла Лизка. Ей тоже нужна была жертва, ее ярость еще требовала выхода, а тут я. Как обычно, и очень удобно. Тем более, что ведь это я привела Виталика в наш дом. Я виновата в том, что ей захотелось его отбить. Просто ради смеха сначала, чтобы посмотреть, как я буду корчиться от боли.
Конечно, она так не сказала.
Она начала издалека – мол, раз уж так вышло, что она теперь без мужа и на ней ребенок, а мне все равно нечем заняться… они мою бухгалтерию называли «сидишь, бумажки перекладываешь» – так вот, раз уж так вышло, что я такая тупая и бесполезная, то мне теперь нужно взять на себя заботы о ребенке, ведь она, Лизка, собирается выйти на работу. На настоящую работу, а не бумажки перекладывать.
Я даже отвечать ей не стала.
Поймите меня правильно. На тот момент у меня не осталось к ней ни ненависти, ни презрения даже – она была мне попросту безразлична, вот как безразличны мне, например, зулусы в Африке. Есть они там – ну, и ладно, мне до них нет дела, не станет их – ну, и не станет. Но между Лизкой и зулусами была огромная разница: зулусам тоже нет до меня никакого дела, а Лизке – было, так что я по сей день предпочитаю зулусов.
Это просто разная реакция на раздражители.
Когда мне больно, тяжело, ужасно – я прячусь. Я делаю вид, что обиделась, и потому не разговариваю ни с кем, а на самом деле это для того, чтоб ко мне никто не лез с разговорами и увещеваниями, потому что, когда я в таком состоянии, никакие аргументы, кроме моих собственных, мне не важны. Даже если бы сам Господь Бог сошел в такой момент с облаков и принялся что-то мне вещать, я бы повернулась к нему спиной. Потому что мне больно, блин, и мне надо это как-то пережить.
У Лизки другая тема.
Ей обязательно нужна жертва, которой она постарается причинить еще большую боль, чем испытывает сама. Она должна вцепиться в кого-то под любым предлогом и грызть, терзать его, пока не ощутит, что насытилась, нажралась, напилась крови, как упыриха. Тогда ей становится легче.
Но дело было в том, что на тот момент я уже не годилась на роль жертвы. Пока она играла с Виталиком в семью, а потом в догонялки, она выпустила меня из своей зоны комфорта, и у меня, наконец, отросло достаточно агрессивное эго. И любые попытки вцепиться в меня просто ради сбросить негатив я научилась пресекать.
Я молча вернула на место наушники, вытолкнула ее из комнаты и заперла дверь.
Это оказалось совсем просто, ведь я больше и сильнее, а она и правда мелкая и тощая. Говорить с этой барышней мне было не о чем, да и не было у нас никогда общих тем, кроме Виталика, да и то недолго. Я включила в наушниках звуки летнего вечера и уснула под стрекот цикад и шум моря, а в доме тем временем продолжался ад.
Утром оказалось, что маму забрали в больницу.
Я приходила к ней, приносила фрукты и лекарства, она не хотела меня видеть, и медсестры осуждающе смотрели на меня – довела мать, теперь вон чего. Они не знали, что есть еще две дочери.
Я по сей день не знаю, что происходило в доме, когда я нырнула в густую летнюю ночь, но предполагаю, что Лизка вцепилась в маму – со мной-то ей ничего не обломилось, а жертва все равно была нужна. И до того вечера жертвой всегда была я, с самого детства она срывала на мне все, что могла, и мама считала, что так оно и должно быть, что ж поделаешь, такой у Лизоньки характер, это же сестра, она все равно тебя любит, надо прощать.
Пока не попала под этот каток сама.
Наша мама, утонченная и богемная, с чистым взглядом немного раскосых карих глаз, широко распахнутых навстречу свету и цвету, попала под поезд Лизкиного гнева и пережить этого не смогла. Потому что она видела только маленькую хрупкую девочку, которую надо всячески оберегать, ведь она такая нежная и слабая. Такая ранимая, да. Как цветок, мать его.
И вдруг такой разрыв шаблона.
А я – дылда и эгоистичная дрянь, я не позволила хрупкой и ранимой фее наброситься на себя и напиться крови. Тогда мама была бы жива, и все было бы неплохо, и всех бы это «неплохо» по итогу устроило. Кроме меня, но кого интересует, что там меня устраивает, а что – нет, мы же семья, и я должна быть умнее.
И, конечно же, все родственники меня ужасно осуждали.
И я сама себе казалась Белоснежкой, которая никуда не ушла, а осталась в замке, и никаких добрых гномов с ней не стряслось, и никого вообще, кто бы заметил, что она нормальная девка, которой хочется замуж за принца и свалить из этого дурдома, или просто свалить, даже без принца, но вокруг не было никого, кто бы выпихнул ее в лес, а были только какие-то мерзкие чудовища, медленно разрывающие ее на кусочки, пока король пытается ее убедить, что это нормально и совсем не больно.
Вместо того чтобы выгнать прочь отвратительных монстров или хотя бы сделать им замечание.
Папа все это время молчал, о чем-то думая. Он не принимал участия в общих посиделках, он вообще замолчал, ни с кем не разговаривал и редко выходил из комнаты, отгородившись своим горем ото всех. Откуда-то нарисовалась наша тетка, мамина двоюродная сестра, очень похожая на моих сестер, и она вроде как сидела с ребенком, но что она делала в нашем доме, окончательно стало ясно лишь тогда, когда не стало папы.
Но я хотела сказать о Виталике.
В доме он больше не показывался – как я и предполагала, ни Лизка, ни их дочь ему были не нужны. Катька появлялась редко, ей все эти эмоционально окрашенные семейные проблемы были до лампочки, в ее жизни что-то происходило, о чем она предпочитала молчать.
Как оказалось, у них с Виталиком получился роман, да.
Я, конечно же, об этом понятия не имела.
Работа занимала мое время, а вечером я готовила что-то для себя и для папы, а двоюродная тетка пыталась влезть в мое пространство, пока в один из вечеров я не выставила эту даму из нашего дома. Лизка исходила визгом насчет «некому нянчить ребенка», но мне ее визг был до лампочки, а она помнила, что я больше и сильнее, и тетка это поняла очень скоро, так что ушла гражданка в туманную даль.
Папа по-прежнему молчал, а без маминой и Катькиной поддержки Лизка уже не пробовала открыто со мной конфликтовать – она, слава всем богам, наконец осознала и хорошо запомнила, что кроется за формулировкой «больше и сильнее».
А потом вдруг всплыло, что у Катьки с Виталиком роман, вот тут-то и началась потеха.
Уж не знаю, кто принес Лизке эту благую весть, но когда я в один прекрасный вечер пришла домой, в доме было подозрительно тихо. Обычно орала девчонка, визжала в телефон Лизка, перекрикивая работающий телевизор и ребенка, – обзванивала своих многочисленных подружек, таких же тупых и безграмотных пираний, как она сама, а тут тишина. Я прошла на кухню и приготовила ужин. Папа молча взял у меня из рук поднос с едой и как-то беспомощно посмотрел на меня.
Он осунулся и очень похудел, у меня сердце сжалось от жалости.
– Там неприятности вышли. – Папа вздохнул. – Не знаю, как это можно решить.
– Какие? – Я была уже рада, что он разговаривает, он ведь все время молчал. – Пап, ты поел бы.
– Да, конечно. – Папа отступил в комнату. – Зайдешь?
Это была их с мамой спальня. Он заперся здесь, понимая, что осталось ему недолго, и сам не желая дальше жить, и я понятия не имела, о чем он думал все это время.
– Я понимаю, что ты на нас всех очень обижена. – Папа сел на диван, расположив поднос с едой на столике перед собой. – И я все время задавал себе вопрос – как же вышло, что мы с матерью допустили столько ошибок с вами? Вы между собой совершенно чужие люди, и… я не думал, что именно ты станешь мне опорой, когда…
– Почему?
Интересно, он что, всерьез рассчитывал на маленьких хрупких сучек?
– А, я понимаю. – Папа вздохнул и откинулся на спинку дивана. – Да, девочки были мне понятнее и ближе, и маме тоже, мы всегда знали, как они мыслят, они так похожи на маму. А вот что творится в твоей голове, мы никогда не знали, никто не знал. Потому девочки… так обходились с тобой, понимаешь? Им было так проще.
– Вам всем было так проще.
– Линда, я всегда знал, что ты умная. – Папа посмотрел на меня в упор. – И я всегда знал, что ты в жизни не пропадешь, потому что умные люди всегда находят выход из любой ситуации, а девочки совсем не такие.
– Пап, рост вообще ничего не значит, если ты не игрок в баскетбол, ты не знал этого?
– Знал. – Папа устало прикрыл глаза. – Но когда девушка маленькая и хрупкая, к ней инстинктивно относишься как к беззащитному ребенку, и спроса с нее никакого, а когда дочь высокая и сильная, она вроде как должна всем гораздо больше. И в этом наша с мамой ошибка, конечно. Ты такая же наша дочь, как и девочки.