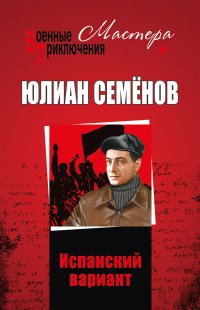
Читать онлайн Испанский вариант (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Юлиан Семенов
© Семёнов Ю.С., наследники, 2019
© ООО «Издательство „Вече“», 2019
© ООО «Издательство „Вече“», электронная версия, 2019
Нежность
(1927)
«Господи, зачем же она так несется?! Булыжник-то старый, положен плохо, нога подвернется», – испуганно думал Исаев, глядя на Сашеньку, которая бежала вдоль перрона Казанского вокзала. Он даже зажмурился, потому что представил себе, как она упадет, и это будет ужасно – нет ничего более оскорбительного, когда на улице падает красивая молодая женщина.
«Не надо бы ей так бежать, – снова подумал он, – все равно ведь я дома».
Так же испуганно бежала Роза по темной кантонской улице, а за нею гнались двое, а потом один из них бросил бутылку и угодил ей в шею, и она упала на асфальт, и Максим Максимович почувствовал, как у нее захолодела кожа на ладонях, – сначала кожа холодеет, потом немеет, а после, когда прихлынет кровь, рукам делается нестерпимо жарко.
– Сейчас! – крикнул Исаев Сашеньке. – Погоди ты, стой! Не беги так! Ты стой, Сашенька!
– Вам нужна девка. Хорошая девка. Вы каких любите? Худых или рубенсовских?
– Я в психотерапию не играю, доктор. Я не болен. Я все время хочу спать, но когда ложусь – сна не получается, устал. И девки не помогают.
– Убеждены?
– Убежден.
– Значит, не нашли пару. Вас что-то в них раздражало. Девка обязана быть гармоничной – тогда вы устанете: от гармонии устают больше всего… Понаблюдайте за собой в музее: после третьего зала вам нестерпимо хочется спать, но, чтобы не казаться нуворишем, вы пялите глаза на картины и подолгу читаете имена художников на металлических дощечках, чтобы хоть как-то спастись от зевоты. Разве нет?
– Я живопись люблю…
– Это как же вас понять? Вы – исключение? Вы не зеваете в музее?
– Не зеваю.
– Сие анормально. Все люди хотят спать в музеях. А вы еще говорите: «не псих». Все – в той или иной мере – клинические психи, только некоторые умеют притворяться.
«Надо продержаться еще неделю, – подумал Исаев, – через неделю я сяду на пароход и там сразу же усну, и кончится этот ужас. Только бы он дал мне сейчас что-нибудь посильней – иначе я сорвусь, ей-богу, сорвусь…»
– В английской аптеке мне сказали, что появился «препарат сна» – гарантия от бессонницы.
– Вы еще верите гарантиям? – Доктор хохотнул и, приподняв веко левого глаза, перегарно задышал в лицо Исаеву: – Вниз глядите. На меня. Влево. А теперь направо.
…В Москве и пахнет-то иначе, липами пахнет цветущими, – понял Исаев. – Осенью тоже пахнет цветущими липами, если только выйти ранним утром из перелеска, когда поле кажется парчовым пологом, закрывающим небо, и рисовать это надо жестко и однозначно, никак не украшая и не стараясь сделать красивей… Но отчего же на вокзале пахнет липами? Наверное, потому здесь пахнет цветущими липами, что дождь недавно прошел, а перрон черный, скользкий, набухший весенней влагой, – на таком перроне не стыдно упасть; по нему покатишься, как в детстве по декабрьской ледяной горке, и не будет в этом никакой беззащитности, и унижения никакого не будет, только все же лучше б Сашеньке не падать, и она, видно, поняла это, вон, смотрит на меня; идет все медленнее, и паровоз отфыркивается все медленней, и можно уж прыгать на перрон, хотя нет, не надо торопиться, вернее, торопиться-то надо, но только я слишком хорошо помню рассказ Куприна про инженера, который так торопился к своей семье, что попал под медленные колеса поезда в тот момент, когда остались две последние минуты – самые длинные и ненужные во всей дороге… Ох как же я люблю ее, Господи! Только я люблю ее такой, какой она была тогда на пирсе – испуганной, моей, до последней капельки моей, и все в ней было открыто и принадлежало мне; и было понятно мне загодя – когда она опечалится, а когда рассмеется, а теперь прошло пять лет, и она все такая же, а может, совсем другая, потому что я другой, и как же нам будет вместе? Говорят, что расставания – проверка любви. Глупость. Какая, к черту, проверка любви! Это ж не контрразведка – это любовь. Здесь все определяет вера. Если хоть раз попробовать проверить любовь так, как мы научились перепроверять преданность, то случится предательство более страшное, чем случайная ночь с кем-то у нее или шальная баба у меня.
Ну, стой, поезд! Успокойся! Отдышись! Мы ж приехали. Стой.
Доктор разжал пальцы, и только теперь Исаев ощутил боль в веке.
– Препарат сна, – сказал доктор, закуривая длинную «гавану», – делает в Кантоне Израиль Михайлович Рудник. А поскольку наша с вами государственность – и бывшая и нынешняя – во всем цивилизованном мире вызывает хроническое недоверие, – Рудник свое изобретение упаковывает в английские коробочки: их ему здесь, в Шанхае, напечатали, – и берут нарасхват, верят. А самое изумительное то, что люди Иоффе из генконсульства закупили большую партию «английского» препарата – в Кремле, видимо, тоже кое-кому не спится.
«Здесь бы я заснул, – подумал Исаев. – В кабинете врача, если только у тебя нет рака, ощущаешь спокойствие бессмертия. Иллюзии – самые надежные гаранты человеческого благополучия. Поэтому-то и кинематограф называли иллюзионом. Делай себе фильмы про счастье – так нет же, все про горе снимают, все про страдания».
– Мед любите? – спросил доктор, усаживаясь за стол. – Липовый, белый?
– Дурак не любит, – ответил Исаев. – Только я прагматик, доктор, я не верю в лечение медом, травой и прогулками. Я верю в пилюли.
– Милостивый государь, настоящий врачеватель подобен портовой шлюхе – поскольку вы мне платите деньги, я готов выполнить любое ваше пожелание. Хотите пилюли? Пожалуйста. Устроим в два мига. Но если спать хотите – мед, прогулки и травы.
– Валериановый корень, пустырник и немного шалфея?
Доктор посмотрел на Исаева поверх очков. Когда он смотрел через очки, глаза его казались очень большими, словно у беременной женщины, и такими же настороженными.
«Медицина будет бессильной до тех пор, пока человечество не изживет в себе ложь, – подумал Исаев. – Я ведь лгу ему. Точнее говоря, я не открываю ему правды. Если бы я сказал ему, что не могу спать, потому что жду возвращения домой, и что там, среди своих, мне не нужно будет никаких лекарств, и что бессонница началась месяц назад, из-за того, что Вальтер сказал о предстоящем отъезде (нельзя говорить человеку о счастье, если не можешь его дать сразу), тогда бы он знал, в чем причина бессонницы».
– Здравствуй, нежная моя…
– Господи, Максимушка, Максим Максимыч… Максим…
– Здравствуй, Сашенька. Ну, как ты?
«Что же я говорю-то?! Стертые слова какие, стертые, словно гривенники! Разве такие слова я говорил ей все эти годы, когда она являлась мне? Отчего мы так стыдимся выражать самих себя? Неужели человек искренен, лишь когда говорит себе одному, тайно и беззвучно?!»
– Как странно спросил: «как ты?». Почему ты меня спросил так, Максим?
– Мне всегда казалось, что глаза у тебя серые, а сейчас я вижу, какие они синие.
– Ты отчего не целуешь меня? Какие же мягкие и нежные у нее губы… Наверное, только у тех женщин, которые любят, бывают такие губы – безвольные, старающиеся молчать, но они не могут молчать, и говорить они тоже не могут, поэтому они подрагивают все время, и тебе страшно, что они скажут то, что ты так боялся услышать, поэтому ты целуй их, Максим, целуй эти сухие, мягкие губы, и не смотри ты ей в лицо, и не старайся понять, отчего она закрывает глаза и почему слезы у нее на щеках, – может, горе с ними уходит? А кто виноват в ее горе? Ты? Ты. Кто же еще? Ты ведь оставил ее на эти долгие пять лет, ты ведь не мог найти ее, как ни искал, ты ведь ни разу не написал ей ни слова – кто ж еще виноват в ее горе? «Ее» горе… Наше горе и еще точнее – мое горе. Потому что я могу простить, но забыть я никогда не смогу…
– Сифилисом не болели? – спросил доктор. – Тогда ртутью головушку успокоим… В сыпняке ведь многие бытовичок подхватили и не знают об этом. Давеча вскрытие было занятное, полковника Розенкранца потрошили… Думали, удар – пил много, а в головушке-то у него гумма, третья степень, а дочери на выданье. Вот вам задачка на сообразительность: где граница между нравственностью и долгом? Мы обязаны поступить безнравственно, вызвать девиц для обследования. Китайцы и англичане настаивают: Шанхай, говорят, самый чистый порт в Китае. Розенкранц, перед тем как почить в бозе, три недели глаз не смыкал, уснуть не мог – криком исходил. Думал, что синдром похмелья у него, и давление поднялось, ан нет… Так что я не зря про люэсочек.
– Сколько я вам обязан, доктор?
– Двадцать пять долларов. Детишкам, знаете ли, на молочишко, да и овес ноне подорожал. Год назад я брал пятнадцать, а сейчас собираю зелененькие – в Австралию подаюсь, там и желтого цвета поменьше, и наших зверенышей почти никого, да и врачей негусто… Значит, пилюльки какие будем пользовать? Англо-кантонские? Израилево-Михайловские? Или медок с водой на ночь и прогулка до пота между лопаточками?
– Пилюли давайте.
…Цок-цок, цок-цок, цок-цок… Перестук копыт, словно музыка. Чубчик у извозчика подвитой, ржаной цветом.
– Сейчас он петь станет, – шепнула Сашенька, – когда я сюда ехала, – он так пел прелестно.
– «Вдоль да по речке, вдоль да по Казанке»?
– Нет. «Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна…»
– «Зачем сидишь, зачем тоскуешь, кого, красавица, ты ждешь?» Ни одного прохожего на улицах.
– Что ты, Максимушка, вон люди! Видишь, сколько их?!
– Никого я не вижу, и не слышу я ничего…
– А цок-цок, цок-цок слышишь?
– Дай руку мне твою. Нет, ладонь дай. Она у тебя еще мягче стала… Я ладони очень люблю твои. Я, знаешь, ночью просыпался и чувствовал твои ладони на спине, и глаза боялся открыть, хотя знал, что нет тебя рядом… Это страшно было – то я папу видел рядом, живого, веселого, а то вдруг ты меня обнимала, и я чувствовал, какие у тебя линии на ладонях и какие пальцы у тебя – нежные, длинные, с мягкими подушечками, сухие и горячие… А ты меня во сне чувствовала?
Цок-цок, цок-цок…
– А еще, знаешь, что он пел, Максимушка? Он еще пел «Летят утки, летят утки и два гуся…».
– Ты почему не отвечаешь мне, Сашенька?
– Я и не знаю, что ответить, милый ты мой…
– Сами-то из Петербурга? Или столичная фитюля? – поинтересовался доктор Петров, пряча деньги в зеленый потрепанный бумажник.
– Прибалт.
– Латыш?
– Почти…
– А по-русски сугубо чисто изъясняетесь.
– Кровь мешаная.
– Счастливый человек. Хоть какая-никакая, а родина. Что в Ревель не подаетесь?
– Климат не подходит, – ответил Исаев, пряча в карман рецепт.
– Дождит?
– Да. Промозгло, и погода на дню пять раз меняется.
– Пусть бы в Питере погода сто раз на дню менялась, – вздохнул доктор, – помани мизинцем, бросился бы, закрыв глаза бросился бы.
– Сейчас начали пускать.
– Я изверился. Сначала «режьте буржуя», потом «учитесь у буржуя», то продразверстка, то «обогащайтесь»… Я детей вообще-то боюсь, милостивый мой государь, – шумливы, жестоки и себялюбивы, а коли дети правят державой? Вот когда они законы в бронзе отольют, когда научатся гарантии выполнять, когда европейцами сделаются… А возможно это лишь в третьем колене: пока-то кухаркин сын университет кончит… Кухаркин внук править станет державой – в это верю: эмоций поубавится, прогресс отдрессирует. Мой тесть-покойник, знаете ли, британец по паспорту, хотя россиянин – нос картошкой и блины на Масленую руками трескал, – так ведь чуть не из пушек палили, когда в Питер приезжал. Любим мы чужеземца, почтительны к иностранцу… В Австралии паспорт, гляди, получу, фамилию Петров сменю на Педерсон – тогда вернусь, на белом коне въеду. «Прими, подай, пшел вон» – простят: иностранцу у нас все прощают…
На улице Исаев ощутил тошноту, и перед глазами встали два больших зеленых круга: они были радужные, зыбкие, словно круги вокруг луны во время рождественских морозов в безлесной России. «Такая была луна, когда мы ехали с отцом из Орска в Оренбург, – вспомнил Исаев, – он держал меня на коленях и думал, что я спал, но продолжал мурлыкать колыбельную: „Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни, птицы уснули в саду, рыбки уснули в пруду, спи…“ Потом он мурлыкал мелодию, потому что плохо запоминал стихи, и снова начинал шептать про уснувших в саду птиц… Если бы он был жив, я, наверное, смог бы сейчас уснуть. Я бы заставил себя услыхать его голос, и я бы знал, что есть на свете человек, который меня ждет. Я бы так не сходил с ума – от ожидания, веры, неверия, надежды и безысходности».
Аптекарь, повертев рецепт доктора Петрова, вздохнул:
– Отдаю вам последнюю упаковку, сэр. – Старый китаец говорил на оксфордском английском, и он показался Максиму Максимовичу каким-то зыбким, словно бы радужным, вроде тех кругов, что стояли в глазах, нереальным и смешным. – Восхитительный препарат, некий сплав тибетской медицины, рожденной пониманием великой тайны трав, и современной европейской фармакологии.
– Где вы так выучили английский?
– Я тридцать лет работал слугой в доме доктора Вудса.
– А сколько вам сейчас?
– Я еще сравнительно молод, – улыбнулся аптекарь, – мне всего восемьдесят три, для китайца – это возраст «Начинающейся Мудрости».
– А сколько бы вы дали мне? – спросил Исаев, бросив в рот пилюлю из упаковки препарата сна.
– Мне это трудно сделать, – ответил аптекарь. – Все европейцы кажутся мне удивительно похожими друг на друга… Просто-таки одно лицо… Лет сорок пять?
– Спасибо, – ответил Исаев и проглотил еще одну пилюлю. – Вы ошиблись на семнадцать лет.
– Неужели вам шестьдесят три?
– Мне двадцать семь.
– Твое окно на пятом этаже, с синими занавесками?
– Ты как это определил, Максимушка?
– Определил вот…
– Тебе писал кто об этом?
– Никто не писал. Но ведь такие занавески ты во Владивостоке сшила, когда я из Гнилого Угла переехал на Полтавскую, – синие в белый горошек и с оборочками по бокам.
– «Со сборочками». С оборочками… Я никогда от тебя раньше этого слова не слыхала, и сама стыдилась вслух произносить при тебе.
– Почему, Сашенька?
– Не знаю. Мы ведь каждый друг друга себе придумываем, чего-то в этом своем придуманном знаем, чего-то не знаем, и постепенно того, изначального, которого полюбили, начинаем забывать, и возвращаемся в себя, на круги своя. Наверное, мужчину, которого любишь, надо всегда немножко бояться: как бы он не ушел, как бы в другую не влюбился, а женщины глупые, они сразу замуровать несвободою его хотят, а потом устают от спокойствия, словно победители в цирковых поединках.
– Лестница какая темная.
– Мальчишки лампочки вывинчивают.
– Ты почему так тихо говоришь?
– Боюсь тебя.
– Пива, пожалуйста. Белого. Холодного. Самого холодного.
Владелец этого маленького немецкого бара приносил пиво Исаеву сам – он всегда садился к нему за столик, и они говорили о Германии: Карл Ниче был родом из Мюнхена, а там Максим Максимович прожил с отцом пять лет.
– В такую жару лучше пить чуть подогретое пиво, майн либер Макс. Вы можете простудить горло, если в такую жару станете пить ледяное пиво. Что вы такой синий? Хвораете?
– Здоров как бык, Карл. Немного устал.
Два мальчика сели возле лестницы, которая вела в полуподвал, и крикнули – словно чтецы эстрадных куплетов – на два голоса:
– Кельнер, пива!
– Русские, – сказал Карл шепотом, – сейчас потребуют водки и черных сухарей… Даже худенькие, даже молодые и воспитанные русские – все равно свиньи. Сейчас я вернусь, если позволите…
Он поднялся из-за стола и крикнул в подвал, опершись на перила лестницы:
– Два пива, поживей!
«Интересно, эти мальчики меня подхватили в аптеке или они ждали, когда я выйду от доктора? – подумал Исаев. – Наверное, они все-таки меня ждали возле дома врача. Но я не видел, как они вели меня. Плохо дело-то, а? Совсем плохо…»
Она думает, что я сплю, – понял Исаев. – Господи, неужели я и ее обманываю этим моим ровным дыханием и тем, как я опустил руку с кровати и вытянул шею… Я вижу себя со стороны – даже когда сплю. Вот ужас-то. И если я сейчас скажу ей, что я чувствую, как она сидит рядом со мной и смотрит на мое лицо, и как у нее пульсирует синяя жилка возле ключицы, и как она держит левую руку, прикрывая грудь, и сколько боли в ее глазах, я стану последним негодяем, потому что она может решить, что я смотрел на нее сквозь полуприкрытые веки. А может, я смотрю на нее сквозь полуприкрытые веки? Нет. Глаза мои закрыты, просто я вижу ее, потому что я приучен чувствовать все то, что рядом. Я думал, что это было со мной, только там, за кордоном, я думал, что дома это уйдет, и я снова стану обычным человеком, как все, и не будет этой постоянной напряженности внутри, но, видимо, это невозможно, и я навсегда останусь таким, который верит только себе и еще двум связникам – Розе и Вальтеру, и больше никому. Мне надо обмануть ее, надо как-то неудобно повернуться и открыть глаза, но не сразу – чтобы не испугать ее, а постепенно: сначала потянуться, потом что-то забормотать, а уже после – рывком – сесть на кровати и тогда лишь открыть глаза. Она за эти мгновения успеет натянуть на себя простыню, она обязательно натянет простыню и вытрет глаза – она же плачет.
Последнее время Исаев жил в отеле на набережной, и все окна его номера выходили на порт, и он подолгу сидел на подоконнике, разглядывая суда из России. Сначала он приходил в порт и стоял возле пирса, где швартовались советские корабли. Но после того как он заметил рядом с собой двух мальчиков из «Союза освобождения», которые начинали разглядывать моряков тогда, когда Исаев оборачивался к ним, он в порт ходить перестал. «Береженого кое-кто бережет», – говорил ему охотник Тимоха, опасаясь всуе поминать имя Господне, ибо красные в этом деле – «чугун чугунами, да еще смех подымают».
Впрочем, несмотря на то что мальчишки из белой контрразведки стали последнее время за ним топать, Исаев несколько раз передавал Дзержинскому, что шанхайская эмиграция, не говоря уже о дайренской, перестала быть реальной силой, а игрушки в заговоры, проверки и долгосрочные планирования были лишь средством хоть где-либо достать денег для прокормления семей. Кто пооборотистей – ушел в торговлю, кто побогаче – уехал в Штаты; в политике, в «движении освобождения», остались люди несчастные, обреченные, недалекие, надеявшиеся на чудо: взрыв изнутри, война на Западе, интервенция с Востока. Эмигранты – из политиков – собирали по крохам деньги, отправляли эмиссаров то в Токио, то в Париж, но отовсюду их гнали: Москва предлагала концессии, а это реальный, отнюдь не химерический выигрыш. На эмиграцию теперь смотрели как на надоевших бедных родственников: и взашей не прогонишь, но и денег давать нельзя – избалуются вконец.
Однако Дзержинский крепко Исаева разнес: смотреть надо дальше, отвечал он, и шире. Ситуация сейчас действительно такова, что эмиграция сугубо невыгодна для правительств Европы и разобщена внутренне. Однако, если в мире появится организованная, целенаправленная экстремистская сила, эмиграция найдет в ее лице самую широкую поддержку. Контакты Савинкова позволяют назвать такой силой фашистов Муссолини и следующих за ним национальных социалистов Гитлера.
– Свет включить, Максимушка?
– Так ведь светло.
– Да? А мне кажется – ночь сейчас.
– Иди ко мне, Сашенька…
– Чаю выпьешь?
– Ты ко мне иди…
– Я воды на керосинке нагрела. Хочешь помыться с дороги?
– Я хочу, чтобы ты подошла ко мне, Сашенька.
«Прямо разрывает сердце – как она смотрит на меня. И руки на груди сложила, будто молится. Девочка, любовь моя, как же мне все эти годы было страшно за тебя… Ну, не смотри ты на меня так, не надо. Я ведь молчу. И никогда ничего не спрошу. И ты не спрашивай меня – не надо нам унижать друг друга неправдой, не надо».
После смерти Дзержинского Исаеву показалось, что о нем забыли. Он послал на Лубянку восемь шифрованных писем с просьбой разрешить ему приехать в Москву: сдавали нервы. Ответа не было. И лишь месяц назад Вальтер передал ему приказ поселиться в этом отеле и ждать получения новых документов для отъезда из Китая, и он весь этот месяц не спит – только ходит по городу, ходит до головокружения и тошноты; присядет на скамейку в парке, закроет глаза, обвалится в тяжелое, десятиминутное забытье, и – словно бы кто ударяет в темечко – «Не смей спать! Открой глаза! Осталось потерпеть неделю. Не спи!»
Исаев сидел на подоконнике, смотрел, как в город приходят сумерки, и ждал, когда же ему захочется спать, но чем ближе был день отъезда, тем страшнее ему было возвращаться в номер, потому что пять лет, проведенные в Шанхае, Кантоне и Токио, сейчас мстили ему внутренним холодом, постоянным чувством озноба и страхом: так у него было в детстве, когда они с отцом собирались в Гренобль и он ждал этой поездки весь год, как праздника, и все время думал: «А вдруг сорвется?» Он постоянно ждал, когда же ему захочется лечь на кровать, вытянуться с хрустом, закинуть руки за голову, увидеть Сашенькино лицо – близко-близко, и уснуть после, и проснуться завтра, когда до отъезда останется всего пять дней.
– Боже, как же я люблю тебя, Максим, я, наверное, только сейчас поняла, как я тебя люблю…
– Почему только сейчас?
– Ждут – воображаемого, любят – свое.
– Не наоборот?
– Может, и наоборот. Нам сейчас говорить не надо, любимый. Мы с тобой вздор какой-то говорим друг другу, будто в мурашки играем. Дай, я тебе галстук развяжу. Нагнись.
«А раньше-то она галстук развязывать не умела», – ожгло Исаева, и он взял ее ледяные пальцы в свои руки и сжал их.
В дверь здесь стучали мягко и осторожно, но – внезапно, потому что коридор был застлан толстым ковром, который скрадывал шаги, и этот мягкий стук в дверь показался грохотом, и Максим Максимович, переложив пистолет в карман пиджака, сказал:
– Да, пожалуйста, войдите.
Вальтер был в белом чесучовом костюме, заляпанном фиолетовыми винными пятнами.
– Вот, – сказал он, протягивая конверт, – здесь все для тебя. – Его грохочущий баварский был сегодня каким-то особенно резким.
В конверте лежал немецкий паспорт на имя Макса Отто Штирлица и билет первого класса в Сидней.
Вальтер закрыл глаза и начал говорить – он легко запоминал шифровки после того, как записывал их дважды на листочке бумаги:
– «Товарищ Владимиров. Я понимаю всю меру ваших трудностей, но ситуация сейчас такова, что мы не вправе откладывать на завтра то, что можем сделать сегодня. Документация, которую мы передаем на „Штирлица“, абсолютно надежна и дает вам возможность по прошествии двух-трех лет внедриться в ряды национальных социалистов Гитлера, опубликовавшего только что свою программу действия в „Майн кампф“. В Гонконге, в отеле „Лондон“, вас найдут в номере 96, забронированном на имя Штирлица, наши люди, которые передадут фотографии, семейные альбомы и письма к вам Штирлица-старшего. Работа по легендировке займет десять дней. Менжинский».
– Знаешь что, – сказал Исаев, – ты сейчас уходи. Ты уходи, Вальтер, потому что я очень хочу спать. Я вдруг так захотел спать…
Вальтер увидел коробочку препарата сна, усмехнулся.
– Психотерапия – великая вещь, – заметил он. – Рудник делает этот препарат из аспирина и валерьянки – полная туфта.
– Наверное, – согласился Исаев. – Только я захотел спать не из-за Рудника и его препарата. Все вернулось на круги своя, и я даже рад этому, потому что человек, освобожденный после каторги, страшится свободы.
– Ты должен уснуть, Максим.
– Я не усну.
– Пожалуйста, усни, любимый.
– Я не смогу, мне и не хочется спать вовсе.
– Я очень прошу тебя, усни… Когда ты проснешься, будет ночь, и снова пройдут эти пять лет, и будет так, словно мы и не расставались с тобой.
– Чем в зимовье у Тимохи пахло?
– Медом и паклей.
– А еще чем?
– Не помню.
– Снегом. Мартовским снегом.
– Пожалуйста, ну, пожалуйста, усни, Максимушка.
– Мне очень не хочется обманывать тебя.
– Повернись на бок, я стану гладить тебя, и ты уснешь.
– Ты всегда меня любила?
– Да.
– Всегда-всегда?
– Да.
– И…
– Да. Да. Да. Спи.
– Почему ты так жестоко мне сказала сейчас?
– Потому что ты так спросил.
– Ничего не нужно спрашивать?
– Ничего. Спи, любимый мой, я тебя очень прошу, спи… Ведь все прошло, и ты дома… Спи…
– Из Берлина легче вернуться домой, чем отсюда, – сказал Вальтер.
– Да. Ты прав. Я все понимаю. Только ты иди сейчас. Я лягу и буду спать. Я сейчас, словно пес, который устал лаять на кость. И я не очень-то соображаю, что говорю. Я могу сейчас не то сказать, и ты обидишься. Ты иди, да? Иди…
Он вернулся домой в сорок восьмом, не зная, что Сашенька и их сын Александр находятся во внутренней тюрьме МГБ.
Испанский вариант
(1938)
Бургос, 1938, 6 августа, 6 час. 30 мин.
– Это его машина, – сказал Хаген.
– По-моему, у него был «остин», а это «пежо». Нет?
– Это его машина, – повторил Хаген, – вчера вечером он схватил машину своей бабы после того, как она сбежала в Лиссабон. Это точно.
– Да не волнуйтесь вы так, приятель, – усмехнулся Штирлиц, – если это он, мы его возьмем. А если не он? Хордана устроит нам серьезные неприятности через Риббентропа. Все молодые министры иностранных дел любят поначалу соблюдать протокол: видите, у этого «пежо» дипломатический номер.
Хаген высунулся из окна «мерседеса». Он весь замер, наблюдая за тем, как Ян Пальма выскочил из маленькой, выкрашенной в грязно-зеленый цвет машины и бросился к входу в аэропорт Бургоса.
– Это он, – сказал Хаген. – Сейчас вы его узнали?
– Узнал. Сейчас узнал, – ответил Штирлиц, закурив. – Но ведь он улетает…
Хаген тщательно обгрыз ноготь на мизинце и ответил:
– Он не улетит.
– Вы неисправимый оптимист…
– А вы неисправимый пессимист, штурмбаннфюрер, – вдруг широко улыбнулся Хаген, заметив Пальма, выбежавшего из аэровокзала. – Сейчас он полезет в машину и начнет ковыряться в чемодане…
– Вы провидец?
– Нет. К сожалению. Просто его паспорт сейчас оказался в кармане моего человека.
К «мерседесу» подъехал пикап и остановился почти вплотную – с той стороны, где сидел Хаген. Седой старикашка со слезящимися глазами протянул Хагену зеленый паспорт. Хаген, взяв паспорт, дал старикашке пачку денег, и пикап, резко рванув с места, понесся по желто-красной песчаной дороге к горам.
– Все, – повторил Хаген, – сейчас он ринется к себе в отель. А по дороге мы его возьмем.
– Вдвоем?
– Почему? Пикап будет ждать нас за поворотом. В него сядут наши люди. Они подставят этого седого жулика под машину Яна Пальма, и вам не придется улаживать скандал со здешней полицией, если даже он возникнет.
– Слушайте, приятель, я не люблю играть втемную. Почему я ничего не знал об этой операции?
– Только потому, что вас не было до утра, и Берлин поручил все провести мне… Вместе с вами…
– Ох, честолюбец, честолюбец! – проворчал Штирлиц. – Погубит вас честолюбие, Хаген.
– Едем, – сказал Хаген, – сейчас он двинет в отель.
Хаген оглянулся: из-за ангара, где стояли самолеты легиона «Кондор», медленно выползала тупая морда военного грузовика.
– Все, – повторил Хаген и по-мальчишески счастливо засмеялся. – Как по нотам.
– «Ничего, – думал Ян, выжимая педаль акселератора, – я его оставил в столе. Или на столе. Просто я очень испугался… Не надо так паниковать. Через час будет самолет в Париж. Ничего. Самое главное, постараться быть спокойным, как вареная телятина. Или как рисовый пудинг. А почему как пудинг?»
Ян не успел ответить на этот дурацкий вопрос. Вообще-то в минуты опасности он любил ставить себе дурацкие вопросы и давать на них смешные, но обязательно логичные ответы – это давало ему какую-то разрядку. Он не успел ответить себе, потому что пикап, который он обгонял, вдруг резко взял влево, и Пальма затормозил, но пикап по-прежнему тянул влево, раздался хрусткий и тугой удар металла о металл, и Пальма почувствовал, как его машину бросило в кювет… На какое-то мгновение он ослеп, потому что вместо дороги он увидел красно-бурую, поросшую коричневой травой глыбистую глину, а потом инстинктивно зажмурился, когда серый сук распорол ветровое стекло льдистой пеленой, а после стало тихо… Он не помнил, сколько времени продолжалась эта тишина. Когда он смог снова соображать и чувствовать, он услышал спокойное урчание мотора и решил, что это была мгновенная галлюцинация, и ничего не случилось, и все будет хорошо, и он открыл глаза. Он увидел совсем другую машину и Хагена, который упирался ему пистолетом в грудь, став на колени на переднем сиденье машины, словно шаловливый мальчишка возле отца, сидевшего за рулем. Только вместо отца сидел штурмбаннфюрер Штирлиц, который то и дело поглядывал в зеркальце на Яна. Заметив, что тот открыл глаза, Штирлиц сказал с обычной своей ленивой ухмылкой:
– Считайте, что первый тур вы проиграли. Сейчас начинается второй: он сложней, а потому интереснее. Не так ли, Хаген?
– Значительно интереснее, – согласился Хаген.
– И уберите парабеллум от его груди, – посоветовал Штирлиц, – а то господин Пальма решит, что мы хотим его убить. А ведь мы не собираемся его убивать, не так ли?
Машина въехала во двор маленького особняка в горах. Ян знал, что этот особнячок принадлежит политической разведке Гиммлера, куда работники фалангистской сегуридад не имели права доступа…
– Начнем с самого начала? – спросил Хаген.
– Что вы считаете началом? – спросил Пальма, осторожно потрогав пальцами марлевую наклейку на лбу.
– Самым началом я считаю место рождения, дату рождения, имя, – сказал Хаген.
– Ну, это неинтересно, – ответил Пальма. – В ваших архивах это все зафиксировано не единожды…
– Нам интересно, чтобы вы все это сказали сами, – сказал Штирлиц. – Не волнуясь, обстоятельно, припоминая детали, имена друзей и врагов…
– Ян Пальма, гражданин Латвии, рожден 21 мая 1910 года в поместье Клава Пальма, чрезвычайного и полномочного посла Латвии… Если можно, дайте мне таблетку пирамидона, у меня раскалывается голова.
– Сейчас я попрошу, – сказал Хаген. – И воды, видимо?
– Лучше глоток тинто, самого сухого.
– По-моему, в университете у вас красное вино было непопулярно? – спросил Штирлиц, пока Хаген, подойдя к двери, отдавал распоряжение. – Более популярной была красная идеология?
– В университете у нас было популярно виски, – ответил Пальма, поморщившись, и снова осторожно потрогал лоб, рассеченный в аварии. – Это активнее, чем вино и даже чем идеология…
– Погодите, погодите, – сказал Хаген, садясь верхом на свой стул, – мы рано перешли на университет. А ваша жизнь у отца в Индии? Ваша дружба с йогами?
– Он тогда был ребенком, – сказал Штирлиц, – а нас интересует начало его зрелости. А зрелость вам дал университет, нет?
– А меня больше интересует, как он угонял наш «мессершмитт» и убил Уго Лерста! – сказал Хаген.
– Погодите, дружище, – Штирлиц нахмурился. – Начнем по порядку – с университета.
– Все равно. Зрелость, Уго Лерст, университет, ваш «мессершмитт»… Только разговаривать я сейчас не смогу, – тихо сказал Пальма.
– Вы хотите заявить протест по поводу похищения? – спросил Хаген.
– Я понимаю, что это бесполезно, – ответил Пальма, – просто голова раскалывается. Дайте мне полежать, что ли, пока не пройдет дурнота…
– Бросьте вы разыгрывать комедию!
– Погодите, Хаген, – сказал Штирлиц. – Он же пепельный совсем…
«Небо тогда тоже было пепельным, – подумал Ян, лежа на узенькой софе в комнате без мебели. Окно было зарешечено изнутри и забрано плотными деревянными ставнями снаружи. – Пепельное небо у нас бывает ранней весной или в самом конце зимы… Когда же это было точно? Семнадцатого? Или девятнадцатого? Раньше дата считалась со дня, а теперь время так быстролетно, что от даты нам остается лишь год… Изредка месяц. Но это был март. Или февраль?…»
Рига, 1934
Небо и вправду было пепельным. Оно было одного цвета с песчаными дюнами, с морем, и поэтому трудно было догадаться, рассвет сейчас или сумерки. И небольшая вилла тоже казалась пепельной, словно бы рисованной размытой акварелью в манере северонемецких мастеров конца восемнадцатого века, и эта иллюзия ушедшего века была бы абсолютной, если бы в доме не гремел джаз, время от времени разрезавшийся высоким, серебряным звуком горна. Двое выпускников университета – Гэс Петерис и Курт Ванг, сидевшие на застекленной веранде, разглядывали танцующих, отхлебывая вино из грубых глиняных кружек.
– Как лихо оттанцовывает Пальма! – сказал Ванг. – Скотина…
– Зачем так грубо? – улыбнулся Петерис.
– А я люблю его.
– В самом деле?
– В самом деле… А ты?
– Завидую. Я завидую ему. Но очень добро, без зла. Порой с недоумением.
– Почему?
– Так… Не интересуется женщинами, а они летят к нему, как мотыльки на огонь; не умеет фехтовать, а выигрывает бои; посещает ваш дискуссионный кружок, а кутит на те деньги, которые ему присылает чрезвычайный и полномочный папа.
– Это хорошо или плохо?
– Занятно. Вообще-то он может позволять себе оппозиционность. Папа переводит ему столько денег, что не страшно побаловаться оппозицией.
– Будь себе на здоровье и ты оппозиционером…
– Я не могу. Мне никто не переводит денег. Я должен быть с клубом, а не против него…
– Сильные мира сего не всегда состоят в одном клубе, – сказал Ванг.
– Клуб против клуба – это не страшно; страшно, когда в клубе сильных появляется отступник.
– Ты убежден, что клуб не прощает отступничества?
– Конечно. Во всяком случае, я так думаю.
– Но ты еще не член нашего клуба, – заметил Ванг. – Я желаю тебе вступить в наш проклятый, скучный и дряхлый клуб как можно скорее. Ты его видишь снаружи, и он кажется тебе прекрасным, а мы рождены в нем и знаем, что он такое изнутри.
– Ну и что же он такое изнутри? Объясни мне, плебею, ты – сын министра.
– Я не силен в словесной агитации. У тебя крепкие челюсти, ты войдешь в клуб: нашим старикам нужны свежие кадры.
К Петерису подошла девушка, опустилась перед ним на колени и сказала:
– Повелитель, я больше не могу без вас.
– Ну уж не можешь, – вздохнул Петерис, поднимаясь. – Пошли попляшем, только напомни, как тебя зовут…
Он поднялся, и девушка поднялась, и они ушли к танцующим, а к Вангу, появившись из-за шторы, приблизился горбун, прижимавший к груди маленький серебряный горн.
– Знаете, – сказал он, – я могу продержать гамму туда и обратно семьдесят три секунды.
– Это прекрасно. Молодчина.
– Сыграть?
– Сыграйте, отчего ж не сыграть.
– Сейчас. Я должен постоять минуту с закрытыми глазами и сосредоточиться. Сейчас.
И горбун, по-прежнему не открывая глаз, заиграл – серебряно и нежно – тонкую и чистую гамму, и звук, таинственно извлекаемый им из маленького горна, перекрыл рев джаза и пьяные голоса танцующих в холле.
…«Как же звали французскую стерву, которая тогда со мной танцевала? – вспоминал Ян, наблюдая, как в тонком солнечном луче, пробивавшемся сквозь ставни, медленно плавала пылинка, похожая на рисунок планеты из учебника астрономии. – Будет совсем смешно, если из-за этой катастрофы у меня отшибет память… Бедный Юстас… Ему сейчас труднее, чем мне. Вообще, самое трудное – это ощущение собственного бессилия. А ту французскую стерву звали, между прочим, по-русски – Надя».
– Хорошо бы, – сказала тогда Надя, перестав танцевать, – чтобы этот трубач дудел раздетым.
– Он артист, – ответил Ян. – Он замечательный артист.
– Какой он артист? Трубач…
– Трубач тоже артист.
– Ты ничего не понимаешь, – засмеялась Надя. – Артист – это который говорит на сцене, а трубач только делает «ду-ду». Большие легкие – это ведь не талант…
Кто-то закричал:
– Цыгане, друзья, цыгане!
Все бросились в парк. Четыре старые, громоздкие кибитки остановились на асфальтовой дороге, которая пролегала сквозь туманный парк.
Цыгане вылезли из своих кибиток. Одеты они были подчеркнуто элегантно: в смокингах, полосатых серых брюках; колдовски растрескивая колоды новых холодных карт, шли они навстречу обитателям старинной виллы, и кто-то из них уже пел гортанную песню, наигрывая на банджо; маленькие девочки танцевали с медлительными повадками старух, и все это показалось тогда Яну Пальма таким же нереальным, рисованным, далеким и зыбким, словно рассветный парк и деревья, смотревшиеся как бы сквозь папиросную бумагу.
Девочка лет тринадцати, разглядывая линии на ладони Ванга, который шел вместе с Яном и Петерисом, быстро говорила:
– Ах, как много вы повидали любви и несчастья, дружбы и предательства! Вы познали богатство и нужду, вы так много работали в жизни…
Пальма не выдержал, захохотал в голос, упал – по-клоунски – на газон, закричал:
– Слушайте все! Наш Ванг, тепличный сын министра, много трудился и познал нужду!
Петерис обернулся к Пальма и сказал негромко:
– Она же работает, зачем ты?
– Прости. Ты прав. Прости. Держи, – Ян поднялся и протянул цыганке монету, – это тебе.
– Я вам еще не гадала, – ответила девчушка. – Я говорю правду этому господину: я же читаю правду по линиям его руки…
– Прости его, – сказал Гэс Петерис, – ты хорошо гадаешь, не сердись на моего друга, просто он очень весел сегодня, он не хотел тебя обидеть… Погадай Вилциню, он ждет…
И они пошли по газону: высокий Вилцинь и маленькая цыганка, которая вела его за руку, а вернее, даже не за руку, а за указательный палец, и все время забегала вперед, чтобы заглянуть ему в глаза…
Петерис долго смотрел вслед ушедшим, а потом обернулся к Вангу:
– Куда ты?
– Меня определили в министерство иностранных дел – это наша семейная традиция…
– А ты, Ян?
– Черт его знает. Что у тебя, Петерис?
– Я уезжаю в Индию, в консульство, – ответил Петерис.
– За рыцарскими шпорами?
– Почему бы нет?
– Сейчас не дают золотых шпор за выдающиеся заслуги. Только позолоченные.
– Меня устроят и позолоченные.
– Помогай британцам сажать в тюрьму побольше индусов, и тебе очень скоро выдадут шпоры, которые открывают двери нашего клуба.
– Кому-то ведь надо сажать в тюрьму. Своим рождением ты лишен этой необходимости, Ян.
– Снова ты ему завидуешь? – спросил Ванг, задумчиво прислушиваясь к цыганской песне.
– Слушай, Гэс, – предложил Пальма, – хочешь, я дам тебе рекомендательные письма в Индию, а ты мне взамен пришлешь оттуда хорошо отделанную голову бунтаря, а?
– Мне нужны рекомендательные письма, но мои успехи в боксе больше, чем твои, Ян, и если я тебя ударю, ты упадешь…
– Не сердись. Я проверял, до какой меры ты подонок. Подонком снова оказался я. Прости.
– Ты постоянно на всех наскакиваешь, – задумчиво сказал Петерис. – Не могу понять, чего ты хочешь?
– Сам не могу понять, чего я хочу. Только очень хорошо знаю, чего я не хочу.
Из дому вышел горбун, протрубил в свой серебряный горн и закричал:
– Все ко мне! Маргарет дает сеанс сексуального массажа! Все в дом, все в дом!
Выпускники университета, перешучиваясь, неторопливо двинулись к дому, а Пальма пошел к кибиткам цыган: они рассаживались на траве и доставали из баулов завтрак – бутерброды с ветчиной. Старый цыган поднялся, когда к нему подошел Пальма, и сказал:
– Вы, верно, против того, чтобы мы здесь перекусили? Но мы недолго, у нас есть приглашение еще в один дом. Это ведь дом господина Пальма? Я не ошибаюсь?
– Верно. Ешьте себе… Все пьяны, никому ни до кого нет дела. А Пальма к тому же добрый парень.
– Человек, говорящий о господине Пальма «парень», может быть либо еще более богатым, чем он, либо он должен быть его лакеем.
– Я – лакей, – хмыкнул Ян, – мы все тут его лакеи…
– Вы говорите неправду. Лакей никогда не признается в своей профессии.
На железнодорожной станции было пусто. Где-то было включено радио. Диктор читал последние новости: «В Вене на улицах продолжается перестрелка между коммунистами и национал-социалистскими вооруженными отрядами. Есть жертвы среди мирного населения».
Пальма долго стучал в окошечко кассы, но никто не отвечал ему: кассир, видимо, спал.
На привокзальной площади остановился низкий «роллс-ройс». Из машины вышла молодая женщина.
– Не сердись, – сказала она седому человеку, сидевшему за рулем. – Не надо на меня сердиться.
– Я не сержусь. Просто я бы очень советовал тебе остаться.
– Зачем? Для кого?
– Для меня, Мэри…
– Это жестоко: делать что-нибудь наперекор себе даже во имя ближнего. Ты мне сам потом этого не простишь. Неужели тебе приятно быть с человеком, если ты знаешь, что он остается с тобой только из жалости?
– Если этот человек ты – мне все равно, Мэри.
– Карл, мужчина временами может быть слабым – это порой нравится женщинам, но он не имеет права быть жалким.
Мэри помахала рукой человеку, сидевшему за рулем громадной машины, и легко взбежала по ступенькам вокзала. Машина, резко взяв с места, словно присев на задние колеса и напружинившись, сразу же набрала скорость.
Женщина остановилась за спиной Пальма, который по-прежнему стучал костяшкой указательного пальца в окошко кассы. Наконец окошко открылось.
– Простите, я отлучился, чтобы сварить себе кофе, – сказал кассир, – все считают, что я сплю в эти утренние часы, а я не сплю, я только часто отхожу за кофе.
– Лучше бы вы спали, – сказал Пальма.
– Мне тоже так кажется, – вздохнул кассир, – но мы расходимся во мнении с начальством. Куда вам билет?
– До Вены.
– Мы продаем билеты только до наших станций, тем более что в Вену сейчас трудно попасть из-за тамошних беспорядков… Я могу продать билет только до Риги.
– Я знаю. Это я так шучу…
Женщина, стоявшая за спиной Пальма, усмехнулась.
Он обернулся.
– Кто-то должен смеяться над вашей шуткой, – пояснила она, – кассир, по-моему, член общества по борьбе с юмором.
– Спасибо, вы меня очень выручили. Вы тоже до Риги?
– Наверное.
– Вы убежали от того седого рыцаря?
Женщина кивнула головой.
– Я тоже убежал, – сказал Пальма.
– Все сейчас убегают… От врагов, друзей, от самих себя, от мыслей, глупостей, от тоски, счастья… Все хотят просто жить…
– Вам бы проповедницей в Армию спасения…
Подошел поезд. В вагоне было пусто: только Пальма и эта женщина. Они сели возле окна. Туман, лежавший над землей еще час назад, сейчас разошелся. Когда поезд набрал скорость, стало рябить в глазах от резкого чередования цветов: белого и зеленого.
– Меня, между прочим, зовут Ян.
– А меня, кстати, зовут Мэри.
– Почему-то я был убежден, что у вас длинное и сложное имя.
– А у меня на самом деле длинное и сложное имя: Мэри-Глория-Патриция ван Голен Пейдж.
– На одно больше, чем у меня, но все равно красиво… Я бы с радостью увидел вас сегодня вечером.
– Я бы тоже с радостью увидела вас сегодня вечером, если бы у меня не было записи на радио, а вы не уезжали в Вену.
– Да, про Вену я как-то забыл.
– А я никогда не забываю про свои концерты, и мне поэтому трудно жить. Зачем вы едете в Вену?
– Мне нравится, когда стреляют.
– Хотите попрактиковаться в стрельбе?
– Позвольте, кстати, представиться: Ян Пальма, политический обозреватель нашего могучего правительственного официоза. Вот моя карточка, позвоните, если я оттуда вернусь, а?
Бургос, 1938, 6 августа, 8 час. 10 мин.
Хаген неслышно вошел в комнату. Он вообще умел ходить неслышно и пружинисто, несмотря на свои девяносто килограммов. Пальма почувствовал в комнате второго человека лишь потому, что тонкий, жаркий и колючий луч солнца исчез с его века, и в этом глазу наступила звенящая, зеленая темнота – так бывает после хорошего удара на ринге.
«У кого это был рассказ „Солнечный удар“? – подумал он. – Кажется, у кого-то из русских».
Он открыл глаза и увидел склоненное над собой лицо Хагена.
– Ну как? – спросил тот. – Легче?
– Несколько…
– Доктора мы, к сожалению, пригласить не можем… Пока что…
– Это как «пока что»? – спросил Пальма. – Вы пригласите доктора, когда надо будет зарегистрировать мою смерть?
– Ну, эту формальность соблюдают только в тюрьме, после приговора суда. Мы просто делаем контрольный выстрел за левое ухо.
– Почему именно за левое?
– Не знаю… Между прочим, я сам интересовался: отчего именно за левое? Экий вы цепкий, господин Пальма. Пойдемте, я покажу наше хозяйство. Подняться можете?
– Наверное.
– Ну, вот и прекрасно. Давайте руку…
Они вышли на маленькую галерею, окружавшую дом.
– Забор не обнесен колючей проволокой, но через эту мелкую металлическую сетку пропущен ток. У нас свой генератор. Убить не убьет, но шок будет сильный. Включаем днем, когда у нас только двое дежурных на территории. Ночью мы спускаем собак, и у нас дежурят четыре человека.
– Это вы к тому, чтобы я не думал о побеге?
– Мой долг хозяина – показать вам дом, где вы теперь живете.
– Но если мне этот дом не понравится, я же не смогу отсюда выйти…
– Приятно работать с латышами, – сказал Хаген. – Реакция на юмор у вас боксерская.
– И со многими латышами вы уже успели поработать?
– Вы спрашиваете не просто как журналист, но скорей как цепкий разведчик.
– Разве вы не знаете, что я – шеф латышской разведки?
Хаген рассмеялся:
– Я знаком с шефом латышской разведки, милый Пальма, да и не латышская разведка нас в настоящее время интересует.
– Какая же?
– Этот вопрос вам задаст Гейдрих в Берлине. Лично. Я здесь только провожу предварительный опрос. Так сказать, прелюд в стиле фа-мажор.
Пальма поморщился:
– Никогда не говорите «в стиле фа-мажор». Вас станут чураться, как верхогляда. Где, кстати, ваш мрачный коллега?
– Он будет работать с вами вечером. Когда я устану.
– Я что-то не очень понимаю: вы меня похитили?
– Похитили.
– И не отпустите?
– Ни в коем случае.
– Но ведь будет скандал, в котором вы не заинтересованы.
– Никакого скандала не будет. Машина-то ваша разбилась… Вот мы вас и похоронили – обезображенного.
– Я забыл ваше имя… Ха… Харен?
– Называйте просто «мой дорогой друг»…
– Хорошо, мой дорогой друг… Разбилась машина британской подданной Мэри-Глории-Патриции ван Голен Пейдж. Моя машина в полной сохранности. А Мэри Пейдж ждет меня в условленном городе, и, если я там не появлюсь, она будет волноваться вместе с моими друзьями. – Пальма лениво поглядел на сильное лицо Хагена и осторожно притронулся к марлевой наклейке на лбу. – Так у нас условлено с друзьями…
«Может быть, я зря выложил ему это? – подумал он. – Или нет? Он растерялся. Значит, не зря. Посмотрим, как он будет вертеться дальше. Если я выиграл время, значит, я выиграл себя. А он растерялся. Это точно… А придумал я про Мэри хорошо. Обидно, что мы с ней об этом не сговорились на самом деле».
…За полчаса перед этим Штирлиц сказал Хагену:
– Приятель, возьмите его в оборот. Пусть он все расскажет про университет, и начните его мотать про Вену. Я в жару не могу работать. Я приеду к вечеру и подменю вас, если устанете. А нет, станем работать вместе. Вдвоем всегда сподручнее. Только чтобы все конкретно, ясно?
– Хорошо, штурмбаннфюрер.
– Скажите еще, «благодарю, штурмбаннфюрер»… Вы что, с ума сошли?! Я ненавижу официальщину в отношениях между товарищами. И вообще стоит этого латыша записать за вами: вы организовали его похищение, вы его доставили сюда. Это ваш первый серьезный иностранец?
– В общем-то да.
– Ну и держите его за собой. Я пошлю рапорт о вашей работе.
– Спасибо… Я, право, не ожидал этого…
– Чего не ожидали?
– Ну… Такой щедрости, что ли…
– Какая там к черту щедрость, Хаген! Во-первых, жара, а во-вторых, вы еще с ним напрыгаетесь – он из крепких, да и, по-моему, Лерст напридумывал, бедняга. Я ведь не очень верил в его версию.
– Я убежден, что в Берлине с ним до конца разберутся.
– Конечно, разберутся. Когда будем отправлять?
– Вы же читали шифровку: там сказано – «в ближайшее время будет переправлен в Берлин».
– Да, верно. Верно, приятель. Ладно. Я двину в город – отдыхать, а вы с ним начинайте.
– Где вас можно найти, в случае чего?
– А что может случиться? Ничего не может случиться. Ищите меня в моем отеле или в баре «Кордова».
С этим Штирлиц и уехал.
Когда Пальма сказал Хагену о своей договоренности с Мэри, тот понял, какую промашку он допустил, начав операцию с захоронением «Пальма, погибшего при автомобильной катастрофе», – лицо седому старикашке-жулику, мастерски воровавшему из карманов бумажники, изуродовали до полнейшей неузнаваемости, – но совсем забыл про машину латыша, которая стояла в отеле. Хаген, сдав Пальма на попечение своих помощников из охраны, немедленно начал обзванивать отель и бар «Кордову» в надежде найти Штирлица. Но его нигде не было. Штирлиц, естественно, не рассчитывал на звонок Хагена. Он знал честолюбие гауптштурмфюрера. Он был убежден, что Хаген счастлив, оставшись наедине с Яном. Штирлиц никак не мог предположить, что тот станет его разыскивать, – Хаген обожал допросы. Он вел их в провинциальной манере: с большими, многозначительными паузами и зловещими расхаживаниями за спиной арестованного, и Штирлицу было занятно наблюдать несколько мальчишеское самолюбование Хагена. «Видимо, в детстве его здорово лупили приятели, – как-то подумал Штирлиц. – Слабые люди очень дорожат правом стать сильными, которое не завоевано ими, а получено в подарок».
Как раз потому, что он достаточно хорошо знал Хагена, Штирлиц и решил не обеспечивать себе алиби на случай отсутствия в тех местах, которые он ему назвал перед отъездом в город. Но ни в один из названных адресов он не поехал. И алиби у него на эту поездку не было.
А ему надо было всегда обеспечивать себе алиби: Максим Исаев лучше других знал, как это трудно – быть все время штурмбаннфюрером Штирлицем.
…Командировка Штирлица в Испанию была для него – при том, что он ощущал нечто надвигающееся – неожиданностью. После того как Гитлер ввел свои войска в Рейнскую область, растоптав, таким образом, Версальский договор, и ни Франция, ни Англия не выступили против него, в Германии наметилась определенного рода раздвоенность: министерство иностранных дел, возглавлявшееся старым дипломатом Нейратом, и генеральный штаб, продолжавший считать, что Гитлер служит им, военным, а не они ему, предлагали тактику выжидания. Гитлер, наоборот, вкусив пьянящую сладость первой внешнеполитической победы, подкрепленной силой оружия, закусил удила.
Умение чувствовать – ценное качество разведчика, но еще более ценным его качеством следует считать знание.
Штирлиц еще только начинал по-настоящему свой путь в закордонной разведке Гейдриха; он был, как говорили в имперском управлении безопасности, на «первом этаже», тогда как кабинет рейхсфюрера помещался на пятом.
Работа в Испании должна была помочь Штирлицу ступить на ту лестницу, которая вела с первого этажа на второй: от ощущения к знанию.
Центр, получив его шифровку о командировке в Испанию, вменил ему в обязанность заниматься изучением фигуры «сеньора Гулиермо» – под таким именем вместе с Франко работал начальник абвера рейха адмирал Канарис, руководивший агентурной цепью в Испании еще в годы Первой мировой войны.
Когда Штирлиц, дав подписку о неразглашении «высшего секрета рейха», был отправлен в Бургос, он сразу же перешел на «второй этаж». Здесь, за Пиренеями, он узнал многое из того, что было воистину «высшей тайной рейха». (Летчики Пунцер и Герст за разглашение того факта, что они сражаются вместе с Франко – написали, дурашки, в письмах домой, – были расстреляны в гестапо «папы» Мюллера без суда и следствия. Тайны, к которым Штирлиц подошел здесь за эти два года, были куда важней: узнай Гейдрих, куда эти высшие тайны рейха уходят, Штирлица ждали бы пытки перед четвертованием – о расстреле он мог мечтать как об избавлении, благе, милости…)
Постепенно, по крупицам собирая информацию, Штирлиц составил ясную картину взаимоотношений Франко и Гитлера, фалангистов и национал-социалистов; чтобы работать, надо знать все, а начало – особенно.
Он знал, что победа в Испании Народного фронта в феврале 1936 года отринула генерала Франко – того, который потопил в крови астурийское восстание шахтеров. Он узнал позже, что Франко, генералы Моро и Санхурхо сразу же объединились для того, чтобы, организовав хунту, свергнуть правительство Народного фронта, избранное народом.
Акция, которую задумала армия, должна быть обеспечена оружием. Франко не имел самолетов и танков. Он получил двадцать итальянских «савойя-маркети» – дуче подписал этот приказ, обсудив его на высшем совете фашистской партии. Но двадцать самолетов – это ничто, когда началась открытая борьба хунты генералов против правительства народа.
Франко поручил своим помощникам войти в контакт с германским военным атташе в Париже. Тот немедленно отправил шифровку в Берлин. Генеральный штаб и министерство иностранных дел рейха были едины в своем мнении: сейчас, после «великой рейнской победы», надо выждать, не следует «дразнить» общественное мнение.
Тогда Франко обратился к руководству НСДАП – национал-социалистской рабочей партии Германии. Письмо Франко попало к шефу закордонных организаций НСДАП, рейхслейтеру Боле. Тот, выслушав отрицательные соображения армии и дипломатов, вежливо поблагодарил коллег за столь серьезный, доказательный и дальновидный совет и немедленно отправился к своему непосредственному руководителю – Рудольфу Гессу, заместителю фюрера.
– Чего вы хотите от нафталинных дипломатов? – сказал тот, прочитав запись беседы Боле с коллегами. – Они мыслят закостенелыми формулами. Армия тоже обязана быть против: она всегда против того, что не ею предложено и разработано… Немедленно переправьте письмо Франко фюреру: нельзя упускать ни минуты…
Гитлер ознакомился с документом, подписанным мятежным генералом, когда тяжелый июльский зной спал и примолкли уже огромные вздохи оркестров на вагнеровском народном фестивале в Байрейте; люди отдыхали, готовясь к вечерним концертам.
– Пригласите ко мне Геринга, генерала Бломберга и Канариса, – сказал Гитлер задумчиво. – Это интересный вопрос, и мы должны принять единственно правильное решение.
Бломберг, представлявший армию, отказался высказать свое мнение первым.
– Адмирал – истинный авторитет в испанских вопросах, – сказал он, – вероятно, следует послушать его мнение.
– Мнение одно, – ответил Канарис, зная, что сейчас он выступает против Бломберга, – мнение единственно разумное и нужное рейху: немедленная помощь испанским борцам против большевизма.
– Адмирал прав, – сказал Геринг, – мы таким образом поддержим сражение против Коминтерна – это первое, и, второе, получим театр для великолепного спектакля, где стреляют не холостыми пулями, а трассирующими: я опробую в Испании мою авиацию. Маневры таят в себе элементы игры, а сражение с республиканцами есть генеральная репетиция битвы, которая предстоит нам в будущем.
Назавтра в министерстве авиации был создан секретный штаб «В». Через три дня начальник штаба «В» генерал Вильберг лично отправил в Испанию первую партию «юнкерсов». Затем в Бургос был переброшен корпус «Кондор».
Канарис занялся своим делом. В абвере был организован сектор из двух подразделений. Первое снабжало франкистов оружием через «фирму Бернгарда», второе – через подставных лиц – «снабжало» оружием республиканцев. Но если первое подразделение отправляло автоматы последних моделей, то второе поставляло оружие заведомо бракованное, прошедшее специальную обработку в мастерских абвера.
Испания стала полигоном гитлеризма. Асы Геринга учились здесь искусству войны с родиной Исаева. За те два года, что Исаев провел при штабе Франко, встречаясь и почтительно раскланиваясь с «сеньором Гулиермо», он поседел: люди быстро седеют, когда им приходится быть среди тех, кто воюет с друзьями твоей родины, да и с твоей родиной тоже, – сбивали-то и советских летчиков – единственной страной, которая, отвергнув политику «невмешательства» Лондона и Парижа, открыто помогала республиканцам в их борьбе с фашизмом, был Советский Союз.
– Звоните по этим двум телефонам каждые полчаса, – сказал Хаген радисту, который был приписан к их развед-центру. – Объясняйте, что пресс-атташе германского посольства фон Штирлица настойчиво разыскивает его друг Август.
– Слушаюсь, гауптштурмфюрер.
Хаген поймал себя на мысли, что он хотел в штирлицевской усталой манере сказать телефонисту: «Да будет вам… Зачем так официально, вы же знаете мое имя». Но потом он решил, что телефонист еще слишком молод, и он не стал ему ничего говорить, а сразу пошел в кабинет, где его ждал Ян Пальма.
– Знаете, об университете мы поговорим позже, а сейчас меня будет интересовать Вена.
– Что конкретно вас будет интересовать в Вене?
– Вы.
– Я был в Вене шесть раз.
– Меня интересует тот раз, когда вы там были во время коммунистического путча.
– Если вас интересует эта тема, поднимите правительственный официоз – в нем печатались мои статьи.
– Они были напечатаны лишь после вашего возвращения в Ригу. Я их читал. Меня интересует, что вы делали в Вене – не как журналист, а как личность.
– Это разделимые понятия?
– Для определенной категории лиц – бесспорно.
– И говорите-то вы в полицейской манере: «категория определенных лиц»… Не диалог, а цитата из доноса…
Хаген засмеялся:
– Это свидетельствует о том, что я как личность неразделим с профессией, которой посвящаю всю свою жизнь.
– Браво! Я аплодирую вам! Браво!
– Итак… Вы в Вене…
«А он ничего держится после той оплеухи с Мэри, – отметил Пальма. – Или он все-таки имеет что-нибудь против меня?»
– Бог мой, ну опросите обитателей кафе «Лувр». Там сидели все журналисты, немецкие в том числе.
– Они уже опрошены, милый Пальма.
– Значит, они вам подтвердили, как я проводил в «Лувре» свободное время?
– Почти все свободное время. А где вы бывали по ночам?
– Как где? У женщин. В вашем досье это, наверное, отмечено…
– И ночью второго февраля вы тоже были у женщин?
– Конечно.
Вена, 1934
В ту ночь он был не у женщин. В ту ночь нацисты загнали восставших в заводской район; выхода за город оттуда не было. Решили уходить подвалами и проходными дворами к Дунаю. Там никто не ждал восставших, оттуда можно было рассредоточиться по конспиративным квартирам или скрыться в пригородах.
Пальма утром видел, как в центре нацисты расстреляли двух повстанцев – пьяно, со смехом и жутковатым интересом к таинственному моменту смерти. Он бросился в те районы, где еще шли бои. Пройдя фашистские патрули – представителей иностранной прессы здесь не ограничивали в передвижении: в Вену съехались журналисты из Парижа, Лондона, Белграда, Варшавы, – Пальма оказался в самом пекле. Шуцбундовцы – и коммунисты, и социал-демократы, засев на крышах домов, сдерживали нацистов, пока люди спускались в подвалы.
– Можно мне с вами? – спросил запыхавшийся Пальма у высокого старика с забинтованной головой, который вместе с молчаливым парнем помогал людям спускаться по крутой лестнице, которая вела в подвал.
– Кто вы?
– Я из Риги, журналист… Я пишу о вас честно, я хочу, чтобы…
– Нет, – отрезал старик. – Нельзя. – И махнул рукой тем, кто в арьергарде сдерживал нацистов: им было пора уходить, потому что «коричневые» подкатывали крупнокалиберные пулеметы.
– Покажите-ка ваш паспорт, – попросил Пальма тот парень, что помогал старику. Его немецкая речь показалась Яну чересчур правильной, и он решил, что это не австрияк, а берлинец.
Пальма протянул паспорт, тот мельком просмотрел его и сказал:
– Лезьте. Мне будет стыдно, если вы потом предадите этих людей.
– Зачем, товарищ Вольф? – спросил голубоглазый старик с забинтованной головой. – Нам не нужны чужие. Зачем?
– Затем, что при иностранце им, может быть, станет неудобно нас расстреливать, если они все-таки успеют перекрыть выходы к Дунаю.
Они тогда шли проходными дворами и подвалами долго, почти шесть часов. Женщина, которая брела впереди Пальма с девочкой лет трех, вдруг остановилась и стала страшно смеяться, услышав растерянный голос голубоглазого старика:
– Товарищ Вольф, иди ко мне, тут стена, дальше хода нет!
А люди, двигавшиеся сзади, все напирали и напирали. Пальма тогда поднял девочку на руки и начал ей что-то тихо шептать на ухо, а женщина все смеялась и смеялась, а потом увидела дочку на руках у Яна и заплакала – тихо, жалобно.
– Зачем все это? – шептала она сквозь слезы. – Зачем? Карла убили, папу убили, а нас тут хотят задушить… Зачем это? Пусть бы все было, как было, чем этот ужас…
…Вольф вылез из подвала первым. Следом за ним, хрипя и задыхаясь, вылез голубоглазый старик с забинтованной головой.
Вдали высверкивал Дунай, в котором электрически синели звезды. Выстрелы были слышны по-прежнему, но теперь где-то вдалеке. Старик сказал:
– Надо увозить людей за город.
– Увозить? – спросил Вольф.
– Конечно.
– А разве уйти нельзя?
– Нельзя. Люди устали. А на них охотятся. Их перестреляют на дорогах.
– Пускай позовут латыша, – устало сказал Вольф. – Он был где-то рядом с нами…
…Они шли вдвоем по маленьким темным улочкам.
– Зачем вы здесь? – спросил Вольф. – Только для того, чтобы писать в газету, или вам хочется аплодировать победе «правопорядка»?
– Мне хочется оплакивать поражение антифашистов.
– Куда вы пишете?
– В свою газету, французам и англичанам, в «Пост».
– «Пост» не тот орган, где оплакивают коммунистов.
– Почему же? Мертвых там оплакивают, и с радостью.
– Пальма… Ян Пальма… Я где-то слышал эту фамилию.
– Возможно, вы слышали фамилию Пальма-отца, а я – Пальма-младший. Последний раз мы виделись с папой двадцать лет назад.
– Это какой папа Пальма? Шпион из Индии?
– Разведчик, я бы сказал… – несколько обидчиво ответил Ян, – всякий дипломат негодует, когда его легальную профессию смешивают с нелегальной…
– Что это вы так откровенно со мной говорите? – спросил Вольф. – Сыновья должны биться насмерть за достоинство отцов.
– Спасибо за совет. Я учту его. Но использовать на практике, увы, не смогу – человек должен отстаивать свое личное достоинство: только тогда сын жулика может стать пророком, а сестра блудницы – святой.
Вольф хмыкнул, полез за сигаретами:
– Если у вас есть желание стать пророком – достаньте грузовик.
Пальма вытащил из кармана бумажник, открыл его:
– Двести фунтов.
– И у меня полтора.
– Купим машину. Марксистская формула «деньги-товар» не может не подействовать здесь, пока коммунисты не победили, – улыбнулся Ян.
– Эта формула не сразу исчезнет, даже когда коммунисты победят, – ответил Вольф.
Вольф увидел вывеску: «Похоронное бюро». Сквозь жалюзи пробивался свет. Вольф пересек дорогу и распахнул дверь.
Владелец похоронного бюро – маленький толстенький человек с изумительно розовым, здоровым цветом лица, но совершенно лысый – сидел возле телефона:
– Да, да, хорошо господин. Катафалк у вас будет сегодня к утру. Да, господин, я правильно записал ваш адрес. Я знаю этот район, господин.
Он положил трубку, бросился навстречу вошедшим:
– Пожалуйста, господа! У вас горе? Я соболезную, я готов помочь вам.
Снова зазвонил телефон, и хозяин, сняв трубку, ответил:
– Слушаю вас. Да, милостивая дама, я записываю. Берлинштрассе, пять. Сколько мест? Ах, у вас погибло трое! Да, госпожа. Сегодня же у вас будет катафалк. Примите мои соболезнования.
Он положил трубку, развел руками и сказал:
– Господа, тысяча извинений. У меня сегодня очень много работы. Я слушаю вас. – Он раскрыл тетрадку, готовясь записать адрес, куда нужно прислать похоронный катафалк.
В это время снова позвонил телефон.
– Слушаю. Да, господин. К сожалению, я могу принять заказ только на вечер. Одну минуту, сударь. – Он зажал трубку ладонью и, распахнув ногой дверь, ведшую во внутренние комнаты, крикнул: – Ильза, тебе придется самой повести катафалк.
– У меня разваливается голова, – ответил женский голос. – Я работаю вторые сутки. Я не могу, милый, моя голова…
– Твоя голова развалится после того, как мы кончим работу, – хозяин похоронного бюро рассмеялся. Вдруг он оборвал себя, вероятно, смутившись перед вошедшими, и сказал скорбным голосом: – Да, господин, катафалк будет у вас вечером, я записываю адрес.
Положив трубку, он поднялся навстречу Вольфу и Яну, но в это время снова зазвонил телефон.
– Пошли, – сказал Пальма, – тут ничего не получится.
– Минуту, – остановил его Вольф, – погоди.
Они дождались, пока хозяин кончил разговаривать с клиентом – на этот раз его просили о конном катафалке.
– Нам нужны две машины, – сказал Вольф.
– Когда похороны, господин?
– Хоть сейчас.
– Увы… Вы же видели мой объем работ… Если бы не хорошая организация похоронного дела, у нас бы обязательно вспыхнули эпидемии… Столько трупов… Я могу похоронить ваших…
– Друзей…
– Друзей… Какое горе, какое горе… Я могу похоронить их завтра – между тремя и пятью пополудни.
– Мы хорошо заплатим, если вы поможете нам сейчас, – сказал Пальма.
– Очень сожалею, сударь, очень сожалею…
Они шли по совершенно пустой улице, когда их остановили трое патрульных. Старший, очень высокий человек со шрамом на щеке, картинно козырнув, приказал спутникам:
– Проверьте документы.
– Слушаюсь, господин Лерст!
Пальма достал свой паспорт. Лерст увидел латышский герб, снова козырнул – ему, видимо, нравилось это – и спросил Вольфа:
– Вы тоже иностранец?
– Да.
– Можете идти. Только осторожнее. Здесь еще стреляют бандиты.
Когда патруль отошел, Пальма спросил:
– Какой у вас паспорт?
– У меня вовсе нет паспорта, – ответил Вольф. – Давайте завернем налево, там, кажется, таксомоторный парк.
– Ничего себе нервы, – ухмыльнулся Пальма.
– А у меня их нет, – тоже улыбнулся Вольф, – как и документов.
«Центр. …После того как он достал грузовик в латышском посольстве и лично провез семьи восставших через нацистские патрули в лес, я обратился к нему с предложением отправиться в Прагу для встречи с Борцовым, который доставил деньги, собранные МОПРом, столь необходимые для спасения наиболее активных шуцбундовцев. Он принял это предложение, спросив меня, кто я на самом деле. Понимая, что встреча с Борцовым у него неминуема, я сказал ему, что являюсь представителем МОПРа. Он долго раздумывал, видимо, колебался, прежде чем подтвердил свое согласие отправиться в Прагу и провезти через границу чемодан с деньгами, чтобы обеспечить спасение шуцбундовцев. Вольф».
Шифровка Вольфа была доложена руководству. В тот же день, двумя часами позже, в Ригу ушло задание: срочно установить личность журналиста Яна Пальма, сына известного дипломата и разведчика, работающего ныне послом на Востоке.
Бургос, 1938, 6 августа, 9 час. 27 мин.
– Ну, а из отеля, как мне помнится, – продолжал Пальма, наблюдая за тем, как торопливо записывал его слова Хаген, – я сразу же уехал на вокзал, купил билет и отправился в горы – отдыхать и кататься на лыжах.
– В горы?
– В горы.
– В какое именно место?
– Суходревина, по-моему. Это между Братиславой и Веной. Так мне сейчас кажется.
– И вы категорически утверждаете, что с Уго Лерстом в Вене не встречались?
«Что он пристал ко мне с Веной? Я ведь действительно не встречал там Лерста. А если встречал, то, значит, все эти годы он держал меня под колпаком, – быстро думал Пальма, пока Хаген записывал свой вопрос. – Нет, я Лерста там не видел, это точно. Я видел там тысячу лерстов – это было самое страшное».
Он вспомнил, как лерсты, похожие на него лерстенята и лерствятники ворвались в подвал, где прятались женщины и дети, и как они врезались в толпу со своими дубинками, и как в первое мгновение ему показалось, что это все спектакль, что это все в шутку – и быстрые взмахи рук, и крики, и тела на полу, и сладкий запах крови, и сухие выстрелы, почти неслышные в этом вопле. Только когда он увидел, как женщина вытащила за ноги трупик ребенка и стала играть с ним, будто с куклой, – только тогда Ян понял, что все это значит…
– Повторяю: впервые с Лерстом я встретился значительно позже.
– И в Прагу вы из Вены не ездили?
– Значит, Прага вас тоже интересует?
– Интересует, Пальма, интересует.
Прага, 1934
Пражский отель «Амбассадор» был забит журналистами в тот солнечный, теплый, совсем не февральский день. Здесь проходила пресс-конференция советского писателя Борцова. Маленький черноволосый человек в профессорских очках, весело щурясь, оглядывал зал и рассеянно прислушивался к очередному вопросу корреспондента «Фигаро» из Парижа.
– Вы прибыли сюда только с одной целью, мсье Борцов? – спрашивал журналист. – Только с целью встретиться с вашими издателями? Или у вас есть какие-то иные задачи?
– Задач у меня много, а цель одна: встретиться с издателями моих книг в Чехословакии. Вы информированы совершенно правильно.
– Испытывают ли писатели в России гнет со стороны режима? – спросил журналист из Швейцарии.
– Писатели фашистского, порнографического или расистского толка в нашей стране испытывали, испытывают и будут испытывать гнет со стороны пролетарской диктатуры.
– Я представляю «Тан», мсье Борцов. Скажите, пожалуйста, что вас больше всего волнует в литературе?
– А вас? – улыбнулся Борцов.
– Меня волнуют в литературе вопросы любви и ненависти, террора и свободы, младенчества и старости!
– Здорово! Вы помогли мне ответить. Считайте эти слова моим ответом на ваш вопрос. Вы, видимо, писали в юности новеллы, не так ли?
– Я не писал новелл в юности. Просто, как мне кажется, эти темы в сегодняшней России запрещены, ибо существуют, насколько мне известно, лишь две темы, санкционированные Кремлем: коллективизация и индустриализация.
Борцов ответил, по-прежнему снисходительно посмеиваясь:
– И коллективизация, и индустриализация невозможны без столкновения любви и ненависти, юности и дряхлости, террора и принуждения. Кстати, какие книги советских писателей вы читали?
– Кто кого интервьюирует, мистер Борцов? – спросил журналист из «Вашингтон пост». – Мы вас или вы нас?
– Демократия предполагает взаимность вопроса и ответа.
– Вы женаты?
– Я женат, но правильнее было бы спросить: «Вы влюблены?»
– Вы влюблены, мсье Борцов?
– Я отвечаю на свои же вопросы лишь самому себе.
– У вас есть дети?
– Нет.
– Какое человеческое качество вы цените превыше других?
– Талантливость.
– Ваш самый любимый писатель?
– Вопрос деспотичен. У меня много любимых писателей. Одного писателя любить невозможно – это свидетельствует о вашей малой начитанности.
– Правда, что вы являетесь резидентом Коминтерна в Европе? – спросил корреспондент «Берлинер цайт».
– Лично мне об этом неизвестно.
– Я представляю здесь газету «Жице Варшавы», – сказал молодой журналист, поднимаясь. – Пан Борцов, вы утверждаете, что представляете свободную литературу демократического государства. Не видите ли вы парадокса в том, что утверждаете себя свободной личностью, в то время как в вашей стране отсутствует многопартийная система?
– По-моему, вы смешиваете свободу личности с многопартийной системой. Эти понятия между собой не связаны, хотя я убежден – исторически они развивались параллельно. Строго говоря, свобода личности может развиваться и при многопартийной, и при однопартийной демократии. Вопрос в том, как относиться к понятию свободы личности. С моей точки зрения, свобода личности – суть свобода развития заложенных в личности задатков. Вопрос о том, сколько партий ссорятся в парламенте, не имеет отношения к развитию задатков в индивидууме. Сколько партий в Советском Союзе? Одна. Сколько партий в Соединенных Штатах? Две. Следовательно, по вашей логике, в Соединенных Штатах в два раза больше демократии, чем в Советском Союзе? Сколько партий во Франции? Шестнадцать. Следовательно, во Франции свободы в восемь раз больше, чем в Соединенных Штатах? Счет в математике начинается с единицы, а не с двойки. Я взорвал ваш вопрос. Я не дал вам развернутого ответа. Я считаю своим ответом на ваш вопрос книги моих друзей, советских писателей, мои книги… Может быть, поначалу вам следует прочитать книги моих друзей. Тогда мы будем говорить на равных, тогда вы будете доказательны.
– Могу я просить мистера Борцова о личной беседе? – поднявшись, спросил Пальма.
– Просить можно кого угодно и о чем угодно, – улыбнулся Борцов. – В двенадцать часов ночи я буду у себя в номере, милости прошу. Еще вопросы, господа?
Бургос, 1938, 6 августа, 9 час. 49 мин.
Штирлиц на всякий случай проверился: свернул в маленький переулок и подождал, не покажется ли сзади хвост. Он в общем-то был уверен в том, что чист, но, поскольку сейчас он ехал на квартиру, куда раз в месяц приходил резидент советской разведки, известный Яну Пальма как Вольф, в Лондоне – как Бэйзил, а Исаеву – как Василий Ромадин, Штирлиц был особенно тщателен: хвост мог притащить за собой Вольф, а это было равнозначно обоюдному провалу.
Сегодня на рассвете, когда Хаген разыскал его и сообщил, что найдено тело Лерста и что пришло предписание брать Пальма как человека, подозреваемого в убийстве, Штирлиц успел позвонить по известному ему телефону и сказать, что «вчера он условился о встрече с девушкой из кабаре „Лас Брохас“, но, к сожалению, дела помешают ему воспользоваться заказанным для них номером». Это был пароль, который означал для Вольфа, сидевшего в горах у партизан, сигнал тревоги и вызов в Бургос, на Калье де ла Энсенада. Здесь было удобно, потому что старый дом имел два выхода – и на шумную улицу, где можно затеряться в толпе, и в тихий переулок с тремя проходными дворами.
Штирлиц пришел на встречу за две минуты до условленного времени. Дверь ему открыла Клаудиа. Испанка, она содержала эту квартиру уже полгода, не сомневаясь, что работает на разведку Гейдриха. Штирлиц несколько раз принимал здесь своих испанских «гостей» и дважды дипломата из итальянского посольства. Штирлиц написал в свое время рапорт в Берлин, что работает с Клаудией, – несколько раз он возил ее на корриду, брал в горы, когда ездил ловить рыбу. Женщина была влюблена в него, хотя считалась обрученной с офицером, воевавшим на фронте.
– Добрый день, моя прелесть, – сказал Штирлиц, погладив ее по щеке, – идите к себе и не высовывайте носа: я жду гостя.
Он постоял в сумрачной, пахнувшей темнотой прихожей, пока Клаудиа ушла в дальнюю комнату, придвинул к двери стул, чтобы услышать, если дверь откроется, и сел на маленькую софу возле вешалки, сделанной из оленьих рогов.
Направо была «жилая» комната Штирлица, а налево – ателье: здесь, в Испании, он начал заниматься живописью. Это была единственная возможность отдохнуть: цвета Испании таковы, что сами по себе просятся на холст. Штирлиц писал маслом и гуашью. Когда он стоял у мольберта, наступало расслабление, и он ощущал цвет, форму и солнце, все время солнце: такова уж Испания – здесь во всем чувствуется особое, желтое, синее, дымно-серое, раскаленно-красное, голубоватое, белое солнце…
«Вася придет через полторы минуты, – устало подумал Штирлиц, закрыв глаза. – Не Вася. Вольф. Какой, к черту, Вася?! Нельзя позволять себе даже в мыслях называть его Васей… Ну и что мы сделаем – даже вдвоем – за то время, которое нам отпущено? Нельзя, чтобы Дориана увезли в Берлин. Черт, отчего так болит желудок? Эти бесы в кабаках здесь легко продаются, могут сыпануть какой-нибудь гадости проклятому немецкому дипломату, который никак не соглашается подвербоваться ни к грекам, ни к мексиканцам… Самые могучие разведки мира! Зуд в простате, а не разведки, а ведь как суетятся… Кто, интересно, через них работает? Мои шефы из СД или Лондон? Или Париж? Или?… Гробанут ведь за милую душу от чрезмерного энтузиазма…»
Штирлиц открыл один глаз и посмотрел на часы. Прошло полторы минуты. В дверь постучали. Штирлиц поднялся и негромко сказал:
– Вводите. Не заперто.
Он сказал это по-итальянски: о том, что вокруг него вертелись «римляне», он написал в свое время официальный рапорт Лерсту и получил его санкцию продолжать встречи. На всякий случай, пока они с Вольфом не ушли в комнату и не включили музыку, здесь, возле лестничной площадки, стоило соблюдать осторожность.
Вольф был в больших очках и в берете, гладко обтягивавшем его шевелюру, голова поэтому казалась лысой. Он специально подбривал виски очень высоко, чтобы сохранялась эта иллюзия, когда приходил из отряда, где была рация, в Бургос.
Они обменялись молчаливым рукопожатием и пошли в комнату, окна в которой были забраны толстыми деревянными ставнями – даже днем здесь поэтому бывало прохладно.
Вольф выслушал Штирлица молча, тяжело нахмурившись.
– Это страшно, – сказал он. – Я уж не говорю о том, что в Берлине бедняге Дориану будет крышка…
– Эмоциональную оценку я бы дал более конкретную, – хмыкнул Штирлиц. – Нас с тобой ожидает аналогичная крышка. Какие предложения?
– Никаких.
– Смешно выходить на связь с центром только для того, чтобы сообщить им эту новость. Надо входить с предложениями.
– Выкрасть Дориана можно?
Штирлиц отрицательно покачал головой.
– Даже если мы пойдем на риск устроить нападение на твою контору?
– Когда Хаген почувствует, что вы одолеваете, он пристрелит Дориана. Кофе хочешь?
– Нет. Воды хочу.
– По-моему, у Клаудии нет холодной воды. У нее всегда есть холодный тинто[1].
– Угости холодным тинто.
– Сейчас схожу на кухню.
Штирлиц убавил громкость в старинном граммофоне, но Вольф остановил его:
– Пусть играет, я люблю это танго.
Штирлиц вернулся через минуту с холодным глиняным кувшином и двумя стаканами.
– Смотри, – сказал Штирлиц, – этот высокий граненый стакан похож на…
– Да… Только у нас из таких пьют водку…
– Слушай, а в Барселоне есть немецкий «юнкерс»?
Вольф долго пил красное вино. Он делал маленькие глотки, глядя при этом на Штирлица, и тот заметил, как в уголках четко очерченного рта его товарища появилась улыбка. Вольф поставил стакан на стол, достал из кармана платок, вытер грани так, чтобы не остались следы пальцев, закурил и сказал:
– Ты чрезвычайно хитрый человек.
– Ну и как ты оцениваешь это мое качество?
– Я оцениваю его самым положительным образом, несмотря на то что ни в Барселоне, ни в Мадриде «юнкерсов» у республиканцев пока нет…
Прага, 1934
Борцов спросил:
– Вы проверились?
– Что, что? – не понял Пальма.
– Никто за вами не шел?
– Так я же спросил на пресс-конференции, могу ли я вас навестить, и все слышали ваш ответ.
Борцов перевел шкалу приемника на другую станцию – передавали последние известия из Вены.
– Это все верно, – сказал он, медленно стягивая через голову галстук, – только выходить вам отсюда придется с саквояжем, в котором лежат деньги, много денег, и провозить их вам придется через границу – нелегально, вот в чем вся штука. Сунут вам провокацию тут – что тогда?
Пальма усмехнулся:
– Мне говорили, что ваши люди очень боятся провокаций в демократических странах.
– Где, где?
– Ну, здесь… На Западе…
– А вы не боитесь?
– Не боюсь.
– Ну, ну…
Борцов подвинул носком туфли большой, свиной кожи портфель к ноге Яна. Пальма заметил, что Борцов не расставался с этим портфелем и на пресс-конференции в «Амбассадоре».
– Это для Вены?
– Да.
– Чьи это деньги?
– Наши.
– Чьи? – повторил Пальма.
– Это деньги наших людей… Они собрали их в ячейках МОПРа. Наши люди живут еще далеко не так хорошо – я имею в виду материальный аспект, – как нам хотелось бы. Но они помогают товарищам по классу.
– Может быть, все-таки сначала сделать так, чтобы ваши люди жили лучше других, а потом уж стали помогать товарищам по классу?
– Тогда не надо вам трепыхаться с этим портфелем… – жестко сказал Борцов. – Я его отвезу назад, и, как говорят ваши американские контрагенты, «все о'кей».
– В Вене убьют шуцбундовцев, если я не привезу денег…
– Да? – удивился Борцов. – Что вы говорите?
– Вы умеете бить апперкотом.
– Это как?
– Это удар снизу, скрытый, – ответил Пальма.
– Очень не люблю бить, Ян. Не мое это дело. Да и не ваше. Впрочем, хотя отец старался учить вас обратному.
– Откуда вам это известно?
– Это нам известно от Лизл…
Пальма силился припомнить, кто такая Лизл, но не мог. Он вопросительно посмотрел на Борцова.
– Ну, Лизл, из Кента…
– Бог мой, откуда вы знаете старуху?! Может быть, вы по совместительству служите Шерлок Холмсом?
– Я не служу Шерлок Холмсом, – медленно ответил Борцов, – а вот товарищ Вольф будет ждать вас на венском вокзале завтра в тринадцать пятнадцать и как раз ему надо передать эти деньги.
– Он серьезный человек?
– Вполне.
– А почему вы мне об этом говорите? Я читал шпионские романы, там все происходит иначе. Если вы не боитесь, что нас услышат из-за радио, то объясните, отчего вы так доверительно говорите мне про Вольфа?
– Я говорю с вами так откровенно по целому ряду причин.
– Каких именно?
– Во-первых, я знаю, что вы были честным парнем в Вене.
– Вольф вам рассказал про машину?
– Машина – ерунда. Благотворительность в вашем обществе – одна из форм хобби. Просто вы ничего не публиковали ни в Риге, ни в Париже, ни в Лондоне, как я мог заметить.
– Я много писал им.
– Тем лучше. Это хорошо, если в газетах не печатают ваши репортажи из Вены, – значит они объективны.
– Это все?
– Почему все? Мне о вас рассказывал руководитель вашего дискуссионного кружка в университете.
– Вы знаете нашего старика?!
– Знаю.
– Что он вам еще про меня рассказывал?
– Много. Он рассказывал, например, как вы хотели построить баррикады на лондонских улицах во время всеобщей забастовки.
– Построю. Очень скоро построю.
– Ну и плохо.
– То есть как плохо?
– Когда баррикады строят люди вроде вас, мы называем это левацким авантюризмом. Если вам скучно и хочется сильных ощущений – поезжайте на Полинезию… Танец живота, стрельба из лука, охота на тигров и другие рассказы…
– Это несерьезный разговор.
– Если вы хотите серьезного разговора, то я просил бы вас уговориться с Вольфом: чем вы сможете помогать нам в будущем?
– Вы предлагаете мне стать русским шпионом?
– «Русский шпион» – понятие, имевшее смысл лишь до двадцать пятого октября семнадцатого года. Тогда была Российская империя. Сейчас Советский Союз.
– Интересно, кличка у вас для меня припасена?
– Если вы решитесь помогать нашей борьбе с фашизмом – псевдоним вы себе выберете сами.
– Неужели вы серьезно думаете, что я соглашусь быть шпионом – даже ради любимых мною советских республик?
– Значит, вам предстоит драться с Гитлером в одиночку.
(«Высказывания рейхсканцлера Гитлера, изложенные перед главнокомандующим сухопутными войсками и военно-морскими силами во время посещения генерала пехоты барона Гаммерштейн-Эквода на его квартире.
Цель всей политики в одном: снова завоевать политическое могущество. На это должно быть нацелено все государственное руководство (все органы!).
1. Внутри страны. Полное преобразование нынешних внутриполитических условий в Германии. Не терпеть никакой деятельности носителей мыслей, которые противоречат этой цели (пацифизм!). Кто не изменит своих взглядов, тот должен быть смят. Уничтожить марксизм с корнем. Воспитание молодежи и всего народа в том смысле, что нас может спасти только борьба. И перед этой идеей должно отступить все остальное (она воплощается в миллионах приверженцев национал-социалистского движения, которое будет расти). Всеми средствами сделать молодежь крепкой и закалить ее волю к борьбе. Смертные приговоры за предательство государства и народа. Жесточайшее авторитарное государственное руководство. Устранение раковой опухоли – демократии.
2. Во внешнеполитическом отношении. Борьба против Версаля. Равноправие в Женеве, но бессмысленно, если народ не настроен на борьбу. Приобретение союзников.
3. Экономика! Крестьянин должен быть спасен! Колонизационная политика! Повышение экспорта в будущем ничего не даст. Емкость рынков мира ограничена, а производство повсюду избыточно. В освоении новых земель – единственная возможность снова частично сократить армию безработных. Но это требует времени, и радикальных изменений нельзя ожидать, так как жизненное пространство для немецкого народа слишком мало.
4. Строительство вермахта – важнейшая предпосылка для достижения цели – завоевания политического могущества. Должна быть снова введена всеобщая воинская повинность. Но предварительно государственное руководство должно позаботиться о том, чтобы военнообязанные перед призывом не были уже заражены пацифизмом, марксизмом, большевизмом или по окончании службы не были отравлены этим ядом.
Как следует использовать политическое могущество, когда мы приобретем его? Сейчас еще нельзя сказать. Возможно, отвоевание новых рынков сбыта, возможно – и, пожалуй, это лучше – захват нового жизненного пространства на Востоке и его беспощадная германизация…»)
Бургос, 1938, 6 августа, 9 час. 57 мин.
Хаген откинулся на высокую резную спинку стула и рассмеялся.
– Великолепно, дорогой Ян, я преклоняюсь перед вашим умением импровизировать! Вы ловко прячетесь за спины баб и за пьянки в ночных барах. Браво, Пальма!
– Воспитанные люди у меня на родине обращаются к малознакомым людям с обязательной приставкой «господин». Кроме того, если вы ведете допрос, извольте ставить конкретные вопросы, герр Хаген, а не играть со мной в кошки-мышки.
– Мой дорогой Пальма – по-моему, у вас на родине существует такая формула учтивого обращения к знакомому, – я просил бы вас помнить, что здесь все решаю я: о чем, когда и каким образом мне вас спрашивать. И если я уличу вас в неоднократной лжи, это затруднит вашу участь – как бы не обернулось горем ваше пребывание на этой земле! Итак, еще раз: вы с Лерстом не видались – ни в Праге, ни на пресс-конференции Борцова, о которой вы почему-то решили умолчать сейчас, ни позже?
Он виделся с Лерстом. Он только сейчас вспомнил, что именно Лерст проверял его документы, когда он пересекал границу второй раз и прижимал к себе саквояж, набитый долларами, и старался быть равнодушным и насмешливым, но ему это не очень-то удавалось, и он ощущал, как мелко дрожит левая нога и медленно леденеют руки.
Он только сейчас понял, отчего позже, в Лондоне и Бургосе, лицо Лерста казалось ему мучительно знакомым.
«На границе Лерст был не в форме. Он был в штатском. Я даже могу сказать, что на нем был серый костюм, – подумал Пальма. – А ботинки на нем были, кажется, малиновые…»
Он возвращался в Вену через Берлин, и Лерст проверял документы на немецкой границе. Рядом в купе сидел толстый, с одышкой, весь потный пожилой еврей. Лерст заставил еврея подняться, вывернул его карманы, долго разглядывал документы, а потом лениво уронил их на пол.
– Подними, – сказал он, закуривая.
Еврей опустился на колени, быстро собрал документы и хотел спрятать их в карман.
– Верни их мне. Я еще не кончил смотреть твои документы.
Человек послушно вернул документы Лерсту, и тот снова уронил их на пол.
– Подними.
– У меня больное сердце…
– Да? – участливо спросил Лерст. – Тогда тебе придется выйти из поезда для медицинского переосвидетельствования.
– Нет, нет, я здоров, – залепетал еврей, – пощадите мои годы… Позвольте мне ехать… Меня ждет внучка в Вене… Пощадите…
– Вы же не щадите германский народ, – сказал Лерст, – когда вывозите из рейха деньги и ценности! Нет, милейший, ты задержан. Иди вперед и не шути!
Лицо этого толстого, потного, несчастного плачущего еврея сделалось мучнистым, и он привалился к двери. Двое эсэсовцев в форме, что стояли рядом с Лерстом, подхватили его под руки и поволокли по коридору.
– Он контрабандист, – пояснил Лерст пассажирам, – приношу извинение за эту невольную задержку.
Пальма так сжал ручку саквояжа, в котором лежали деньги, что пальцы его побелели. Одно мгновение он был близок к тому, чтобы подняться и спросить этого нациста, на каком основании он арестовал невинного. Но он не поднялся и не задал этого вопроса. Наоборот, он заставил себя улыбнуться, закрыть глаза и притулиться к стене, словно выбирая самое удобное место, чтобы подремать остаток пути до Вены…
Такие очень боятся интервью, да и вообще встреч с прессой, казалось тогда Пальма. Не может ведь он творить свое зверство и не бояться огласки! Если бы этот наци узнал, что он, Пальма, из рижской и лондонской газет, он наверняка вернул бы в купе этого несчастного толстого, потного еврея с громадными, иссиня-черными глазами. Так казалось тогда Пальма, и это не представлялось ему наивностью.
– Что вы смеетесь? – спросил Хаген.
– Это я над собой смеюсь, – ответил Пальма. – Над своей наивностью. Отличительная черта человечества – варварская, нецензурная наивность. А тех, кто прозрел, либо распинают на кресте, либо превозносят пророком, либо обвиняют в ереси.
– Я понял, – сказал Хаген. – Это интересная мысль, но какое отношение она имеет к той ахинее про ваших словацких баб в горах, хотел бы я знать?!
– Прямое: только когда проводишь много времени в обществе веселых женщин и никакие другие суетности тебя не обременяют, начинаешь серьезно думать о главном. А вы? О чем вы сейчас думаете, бедняга? Верить или не верить, что я в Праге не был, а прожил у лесничихи в Высоких Татрах, пока ее муж водил немцев по горам в поисках оленя, – не так ли? И бить вы меня не можете – нет у вас инструкций, как я понял. И вы отправили за инструкциями вашего коллегу с мрачной физиономией. Разве не так? А я устал и больше не хочу с вами разговаривать. Ясно?
Хаген ударил Пальма в подбородок, и тот упал со стула. По тому, как Хаген ринулся к нему – с растерянным лицом, стукнувшись об угол стола, Пальма понял, что этот кретин ударил его не по инструкции.
«Тайм-аут, – подумал Пальма. – Я буду последним болваном, если не заработаю себе тайм-аут на этом его срыве».
И, застонав, он закрыл глаза…
«Юстасу. Можно ли выяснить срок вылета самолета из Берлина? Каким кодом будет поддерживаться связь с самолетом из Берлина и Бургоса? Ждем ответа срочно. Центр».
Эту шифровку Вольф получил сразу же после того, как Штирлиц расстался с ним. Он покачал головой: если самолет уйдет из Берлина сегодня или даже завтра, Штирлиц будет бессилен сделать что-либо. На это нужно дня три как минимум. А этих самых трех дней нет: Берлин, видимо, торопится вывезти латыша. План Штирлица был заманчив, и Вольф оценил его холодное математическое изящество. Но с самого начала он верил только в налет на гестаповское «хозяйство» в горах. Он понимал, что это риск, но тем не менее он считал, что этот путь – единственный.
…Штирлиц, увидев Пальма, лежавшего на софе с разбитым ртом, немедленно пошел к радистам и передал шифровку на Принц-Альбрехтштрассе Гейдриху, что «гость захворал» и в течение трех дней будет нетранспортабелен.
Причем шифровку эту он заставил подписать Хагена, перепуганного и жалкого.
– Я покрываю вас, – сказал он Хагену, – в первый и последний раз, запомните это!
– Он глумился надо мной, штурмбаннфюрер…
– Руками? Или каблуками ботинок? Или пресс-папье?! Вы понимаете, что поставили дело на грань срыва?! Вместо того, чтобы продемонстрировать наше спокойное всезнающее могущество и на этом сломить его, вы начали его бить! Вы понимаете, что с вами будет, если я подтвержу Гейдриху, как вы себя вели с ним – без санкции на то руководства?! Идите, Хаген, и отдохните, а то вы не сможете дальше работать – с этакими-то нервами…
Пальма лежал, закрыв глаза.
«Видимо, главное, – неторопливо размышлял он, стараясь думать о себе со стороны, – что будет интересовать в моем деле Хагена, – это Лерст, весь цикл наших взаимоотношений. И „мессершмитт“… Он бережет это про запас – я там уязвим… А о том, что со мной будет дальше, лучше пока не думать. В одиночестве опасно размышлять над такого рода делами. Можно запаниковать. А это дурно. Надо в такой ситуации решать локальные арифметические задачки: это помогает чувствовать себя человеком, который может драться… Во всяком случае, который старается это делать… Когда же мы с Лерстом встретились по-настоящему? И где?»
Лондон, 1936
В клуб «Атенеум» он пришел рано утром, когда еще в залах и каминных было пусто. Сев за маленький столик возле окна, он спросил кофе со сливками и развернул газету. На второй полосе была напечатана его статья «Возрождение из пепла». Это была его третья статья из европейского цикла после большого турне по Германии, Франции, Бельгии и Голландии. Он писал о том, что политика фюрера отнюдь не так агрессивна, как это тщатся доказать его противники. Он писал о серьезных проблемах, стоящих перед Берлином, и утверждал, что фюрер решает их энергично и в точном соответствии с нуждами немецкой нации.
После опубликованной второй статьи к нему позвонили из германского посольства и осведомились, не нуждается ли специальный корреспондент из Риги в каких-либо дополнительных материалах: статистических, экономических, идеологических. Поблагодарив за любезность, Пальма отказался. «Вы станете предлагать свои материалы, а мои коллеги – и в Лондоне и в Риге, – засмеялся он, – обвинят меня в том, что я пою с вашего голоса. Потом у меня есть все материалы: если вы запрещаете продавать в Германии наши левые газеты, то здесь я могу купить даже „Дас шварце кор“». Они еще о чем-то весело поболтали с секретарем посольства, а к вечеру, как раз перед тем, как он собрался уезжать домой, в редакцию принесли приглашение на прием к «имперскому послу Иоахиму фон Риббентропу». Ян позвонил Вольфу. Тот работал здесь под именем Бэйзила. Пальма попросил его прийти в «Атенеум» к девяти часам. Сейчас было уже девять тридцать. Пальма еще раз посмотрел на часы, подписал счет и поднялся из-за стола: в одиннадцать его ждала Мэри – они должны были вместе ехать в загородный клуб фехтовальщиков.
Пальма вышел на улицу. Моросил дождь. Прохожих почти не было: все разъехались на уик-энд. Такси тоже не было, и Ян, раскрыв зонтик, медленно пересек улицу. Заскрипели тормоза, и рядом с ним остановился автомобиль. Вольф открыл дверь и предложил:
– Я подвезу вас, сэр…
Пальма сел на заднее сиденье.
– Почему ты не пришел?
– Ты иногда говоришь, словно дитя. Ну как я, шофер, могу войти в твой аристократический клуб?
– Не я говорю как дитя, а ты плохо подготовлен к работе в Лондоне, Бэйзил, – усмехнулся Пальма. – По уставу нашего клуба я отвечаю за тех, с кем сижу за одним столиком. Неважно – будь ты ассенизатор, король Бурунди или мелкий жулик с Ист-Энда.
– Все равно… Береженого бог бережет, есть у нас такая пословица. Что случилось?
– В общем, ты оказался прав. Все разыгрывается, как ты и предполагал. Они клюют. Сегодня меня пригласил Риббентроп.
– Ого! Это прекрасно.
– Нет, Вольф, это отнюдь не прекрасно.
– То есть?
– Видишь ли… Когда я помогал тебе вывозить коммунистов из Вены, чтобы их не перещелкали наци, – это не расходилось с моим мировоззрением. Когда я спас из Германии ту немку – я делал доброе дело, я спасал коммунистку, приговоренную к смерти. Это все было моим делом… И это было в рейхе, один на один с наци. А теперь эти мои проститутские статьи… Многие отвернулись от меня – и в Риге, и в Лондоне. А это больно, Вольф.
– Что ты предлагаешь?
– Во-первых, я хочу драться против них с открытым забралом…
– Как это понять?
– Я хочу писать правду о Гитлере и его стране, я хочу называть нацизм грязью и ужасом, а не петь ему дифирамбы.
– Это тоже путь, Ян… Это путь конечно же… Только он более легкий и менее результативный, чем тот, который ты избрал сейчас. Будь ты писатель или художник, я бы сказал: да, старина, здесь врать опасно – талант тем велик, что он умеет убеждать в своей правоте. Но ты, увы, не писатель… Ты репортер… Великолепный репортер, и ты служишь минуте, тогда как талант принадлежит веку, если только талант не ленив, не капризен, если он не избалован, а подобен каменщику, который каждое утро начинает класть стену дома… Я бы не посмел просить тебя лгать, не думай… Просто, думается мне, сейчас твое место в драке с нацистами более выгодно в рядах их друзей, чем открытых противников…
Они долго ехали молча. Вольф спросил:
– Тебе куда?
– Меня ждет подруга.
– Между прочим, она не из контрразведки?
– Вряд ли. А если и да – что из этого?
– Я ее не знаю?
– Нет…
– Что с твоим «во-вторых»?
– Во-вторых… И это очень серьезно, Вольф. Ты – патриот своей страны, и это очень хорошо. А я – патриот моей страны.
– И это тоже очень хорошо… Если тебе кажется, что Гитлер не угрожает твоей родине в такой же мере, как и моей, тогда нам лучше не видеться. И, думается мне, никто так не поможет миру в драке с Гитлером, как моя родина… У нас друзей Гитлера нет, а сколько их на Западе? Я не знаю. Я только знаю, что их здесь много, и что они могущественные, и что они могут сделать так, чтобы здешние владыки снюхались с Берлином против Москвы. Это допустимо?
– Не знаю.
– Я тоже. Это и нужно узнать. И сделаешь это ты. И будет ли это предательством по отношению к твоей родине?
– Нет, – ответил Пальма, закуривая, – это предательством по отношению к моей родине не будет, здесь ты прав.
– Вот… И последнее. Ты как-то говорил мне: «Хочу, чтобы хоть кто-то знал обо мне правду…» Ты объявление в газете опубликуй: «Я в шутку перекрасился в коричневый цвет. На самом деле я начал драку с фашизмом не на жизнь, а на смерть. Вы мне верьте, я помогал антифашистам в Вене и Берлине».
– Останови здесь.
– Не сердись…
– За углом живет Мэри. Я не сержусь. Просто я не хочу, чтобы нас видели вместе.
– Ты становишься конспиратором, Дориан, браво…
Мэри прижалась к Яну, шепнула:
– Проведи меня в фехтовальный зал, милый.
– Verboten fur Damen[2].
– Warum?[3]
– Как тебе мой берлинский диалект?
– Я никогда не была в Берлине.
– У меня великолепный берлинский выговор, немцы меня принимают за истинного берлинца. Научись делать мне комплименты, я очень честолюбив.
– У тебя фантастический берлинский выговор, и вообще я обожаю тебя, и ты самый прелестный мужчина из всех, кого я встречала в жизни.
– Во всех смыслах?
Мэри улыбнулась:
– Именно. Почему ты не хочешь взять меня на фехтование?
– Ты же знаешь, в нашем клубе не принято, чтобы дамы посещали зал фехтования.
– Пора нарушить эти ваши дряхлые аристократические законы. Я женщина из предместья, где нет клубов. Мне можно. С кем ты сегодня фехтуешь?
– Лерст, я не знаю, кто это…
Какое-то мгновение, перед тем как Лерст опустил сетку, лицо его казалось Яну знакомым. Но он сразу же забыл об этом, потому что фехтовал Лерст великолепно. Он был артистичен в нападении и совершенно недосягаем в обороне.
«Что он тянет? – подумал тогда Пальма. – Он уже раза четыре мог победить меня. Наверное, ему нравится затяжная игра. Он хороший спортсмен, если так».
– Знаете, – сказал Ян Лерсту, когда они, подняв защитные сетки, обменивались рукопожатиями, – пусть у нас будет турнир из трех боев.
– У вас хороший глаз и точная рука, – ответил Лерст. – Через год мне бы не хотелось драться с вами.
– Не любите проигрывать?
– Очень.
– А это спортивно?
Лерст рассмеялся:
– Вы хотите моей крови, а я – вашей дружбы. Я ее добивался с первого же нашего знакомства.
«Где же я его видел? – снова подумал Пальма. – Я его определенно где-то видел».
– Разве мы с вами встречались? Я запамятовал…
Лерст изучающе посмотрел в глаза Яну и ответил:
– Я имею в виду наше заочное знакомство: это я звонил вам вчера. Я – секретарь германского посольства.
Москва, 1938, 6 апреля, 12 час. 42 мин.
– Какие будут предложения, товарищи? – спросил начальник управления.
– Вариант с подменой самолета, – доложил руководитель отдела, – перспективен со всех точек зрения. Я подготовил семь берлинских адресов, которые могут установить точную дату вылета самолета, его номер и фамилии членов экипажа.
– Я опасаюсь вашего чрезмерного оптимизма, – сказал начальник управления, – они могут отправить этот самолет не с Темпельхофа… Я знаю ваших тамошних людей, это надежные люди, но Гейдрих может отправить самолет с испытательных аэродромов завода Хейнкель, неподалеку от Науэна. Они практикуют это в редких случаях. Канарис, по-моему, именно оттуда летает в Испанию. Что, если самолет они отправят из Науэна? Возможный вариант?
– Вполне.
– У кого есть иные предложения?
– Позвольте, товарищ комиссар?
– Пожалуйста.
– Можно продумать такой вариант: Юстас организует вызов Хагена с их базы в посольство, в центр Бургоса. В это время мы своими возможностями по шифру Гейдриха передаем радиограмму Юстасу с просьбой обеспечить доставку Дориана на аэродром и посылаем туда наш самолет из Барселоны, закамуфлированный под «немца».
– Хорошее предложение, но так мы погубим Юстаса. Он будет скомпрометирован. Мы должны продумать вариант, по которому Хаген, именно Хаген, передаст Дориана нашим людям… А как последний вариант, самый последний – это ваше предложение серьезно.
– Каким следует считать предпоследний вариант, товарищ комиссар?
– Их несколько, предпоследних-то, – ответил начальник управления. – Налет на конспиративную квартиру гестапо – то, что предлагает Вольф. Еще я тут подумывал над самым простым делом: Штирлиц увозит Дориана во время налета республиканских самолетов на Бургос. Самое простое дело… Только нужны две абсолютные гарантии. Первая – самолеты туда прорвутся, и вторая – они точно раздолбают гестаповский домик. Но когда я думал обо всех этих предпоследних вариантах, я каждый раз упирался вот еще во что: как Дориан объяснит своим знакомым столь долгое отсутствие? Хотя, – он тяжело усмехнулся, – сначала его надо вытащить, а потом будем ломать голову над легендой его возвращения. Какие еще мнения, товарищи?
– Разрешите, товарищ комиссар?
– Пожалуйста…
Лондон, 1936
На приеме у чрезвычайного и полномочного посла Германии Иоахима фон Риббентропа собрались активисты Англо-германского общества, дипломаты, видные английские и иностранные журналисты, актеры, представители делового мира. Угощали, как всегда на приемах в германском посольстве, вкусной колбасой, отменным бело-розовым окороком и – в огромных количествах – лучшим мюнхенским пивом.
Уго Лерст, встречавший гостей у входа, поклонился Мэри Пейдж, пожал руку Яну Пальма и сказал:
– Пойдемте, я буду вас знакомить с моими коллегами. Учтите, я никому не говорил, что вы побежденный, я говорил всем, что вы – победитель.
– Напрасно, – заметил Пальма, – я люблю, когда обо мне говорят правду. Во всяком случае, о моих победах и поражениях в спорте.
Мэри засмеялась:
– Не верьте ему, мистер Лерст. Ян не терпит, когда о нем говорят правду. Он страшный честолюбец, он хочет всегда выигрывать.
– Покажите мне человека, который любит проигрывать, – вздохнул Лерст. – Думаете, я люблю проигрывать?
Он остановился возле благообразного старикашки и сказал:
– Мистер Роквон, позвольте представить вам мистера Яна Пальма. Он – бриллиантовое перо Риги, пишет и для ваших газет…
Пальма и Роквон пожали друг другу руки. Лерст пояснил Мэри:
– Мистер Роквон – один из организаторов журнала «Англо-германское ревю».
– А я и не слыхал о таком журнале, – шепнул Ян Мэри так, чтобы его шепот услышал Лерст. – Может быть, я не прав?
– Я тоже не слыхала.
– О нем мало кто знает, – улыбнулся Лерст, – а мне бы хотелось, чтобы об этом журнале знало как можно больше людей в Великобритании.
– Да, подпольный журнал в Лондоне пока еще не в моде. Впрочем, кто знает, что будет через год-другой.
– Я хочу познакомить вас с мистером Риббентропом, – сказал Лерст и подвел Пальма и Мэри к послу.
Риббентроп был одет в строгий черный костюм. В петличке поблескивал маленький золотой значок члена партии.
– Господин посол, – сказал Лерст, – позвольте представить вам друга Германии, журналиста Яна Пальма.
– Рад видеть вас, мистер Пальма.
– Очень рад видеть вас, господин посол.
– Мисс Мэри Пейдж, – сказал Лерст, представляя подругу Яна.
– Здравствуйте, мисс Пейдж. Как приятно, что вы нашли время посетить нас.
– Мисс Пейдж, – пояснил Лерст, – не только любит спорт, не только великолепно поет о спорте, но и представляет собой класс английских болельщиц в спорте.
Мэри поправила Лерста:
– Это не класс, это сословие.
– Вероятно, мисс Пейдж увлекается не только спортом и пением, – заметил Риббентроп, – но и Общественными науками. Различать класс и сословие – удел философов и социологов, но отнюдь не очаровательных женщин.
– В наш век, – ответила Мэри, – женщины все больше и больше тяготеют к политике. Ничего не поделаешь – это теперь модно.
Риббентроп развел руками:
– Что же делать мужчине? Вероятно, долг рыцаря – уступить место женщине.
Пальма хмыкнул:
– Если мы пустим женщин в политику и уступим им место, господин посол, нам будет очень трудно жить дальше. Начнется худшая форма либерального вандализма.
– Я думаю, – сказал Риббентроп, – что вандализм нам грозит отнюдь не от прекрасных дам. Я думаю, что варварство грозит нам со стороны тех мужчин и женщин, которые живут восточнее Лондона, Берлина и – в определенной мере – Варшавы.
К Риббентропу подошел лорд Редсдейл – сухой, словно бы мумифицированный старик.
– Добрый вечер, милорд, – сказал Риббентроп, шагнув навстречу Редсдейлу. – Я рад, что вы нашли возможность посетить нас.
– Добрый вечер, мистер Риббентроп, я всегда посещаю и буду посещать те места, где собираются люди, симпатичные мне и разделяющие мои взгляды.
Редсдейл посмотрел на Яна и полувопросительно сказал:
– Вы сын старого Пальма?
– Да, сэр.
– Это вы временами пишете для «Пост»?
– Да, сэр.
– У вас воистину бриллиантовое перо.
– Благодарю вас, сэр, но пока что я считаю его железным.
– Ну, уж позвольте мне давать оценку вашей работе, – сказал Редсдейл, – и запомните, что я не люблю делать комплименты. Впрочем, вы не женщина, вы в них не нуждаетесь. Надеюсь также, что вы и не гомосексуалист, посему не нуждаетесь в них, как дурной мужчина.
Риббентроп смущенно отвел глаза, а Мэри рассмеялась. Это спасло положение.
– Мы сейчас дискутировали проблему, – продолжил Риббентроп, – о том, кто угрожает цивилизации. Мистер Пальма считает прекрасных дам главной угрозой прогрессу. А я полагаю, что главная угроза – это Восток, и в данном случае я солидарен с мистером Киплингом: «Запад есть Запад, Восток есть Восток, но вместе им не сойтись».
– Как вам сказать, – ответил Редсдейл, – сойтись можно. У нас стало модным забывать традиции «Эмпайр ментелити», традиции имперского самосознания… А ведь в этом мы где-то близки к Востоку, я бы даже конкретизировал – к Китаю. Я анализировал философию китайской императорской власти. Заметьте, Китай называет себя «Срединным царством» и все земли вокруг считает своими владениями. Земли за Амуром и в сторону южных морей – это владения, которые должны принадлежать Китаю, а весь остальной мир – владения, которые могут стать Китаем.
Риббентроп заметил:
– С сожалением должен констатировать, что в Великобритании, в стране, к которой я отношусь с глубочайшим уважением, совершенно не знают о благородных целях фюрера Германии Адольфа Гитлера и принятой им на себя миссии по спасению западной цивилизации.
Пальма сказал:
– Господин посол, по-моему, в Англии не дают себе отчета в том, что расовая теория господина Гитлера в общем-то не противоречит основным принципам британской имперской политики в колониях…
Риббентроп обернулся к лорду Редсдейлу:
– Вот такие люди должны пропагандировать идеи англо-саксонской и арийской общности.
– Господин посол, – Редсдейл пожевал губами, – мистер Пальма воистину блистательный журналист, и я не вижу более подходящей фигуры на пост ведущего политического обозревателя «Англо-германского ревю».
– Милорд, я латыш…
– Дело защиты Европы от большевизма – общее дело всех народов континента… Латыш, представляющий страну, отделившуюся от красных, должен быть рыцарем нашей идеи…
Ян растерянно посмотрел на Мэри, и она, улыбнувшись, чуть заметно кивнула ему головой.
– Я польщен, – сказал Ян, – но…
Риббентроп заключил:
– Давайте без всяких «но». Хотя по-английски «но» звучит «бат», и в этом есть элемент фонетической незавершенности, «абер» произносится более категорично, рвуще, я бы просил исключить «абер» из вашего ответа.
– Мне трудно быть одному в совершенно новом для меня журнале: на кого мне там опираться, кто будет питать меня идеями? Кто сможет предложить мне британский вариант мыслей мистера Гитлера? С моей точки зрения, журнал должен быть не органом германского посольства, а органом друзей англо-германского сближения, этой серьезной и, с моей точки зрения, перспективной идеи.
Редсдейл достал свою карточку и написал дату: «17 июля 1936 года».
– В пятницу мы собираемся у леди Астор в Клайвдене, приезжайте туда…
В Клайвдене, в цитадели той части консервативной партии Великобритании, которая шла с Чемберленом за «умиротворение и крестовый поход против большевизма», в замке у леди Астор, владелицы нескольких газет и журналов, держательницы многомиллионных акций, собрался узкий круг ее друзей.
Редсдейл, наблюдая за партией в гольф, неторопливо шел по огромному, гладко подстриженному лугу к замку, беседуя с Пальма:
– Я скажу вам, Ян, что привлекает меня в этом молодом, необузданном, в чем-то хамском, а в чем-то героическом движении национал-социалистов во главе с Гитлером. С моей точки зрения, само название их партии – национал-социалистская – несет в себе известный вызов практике, каждодневной практике канцлера Гитлера. Я бы не примирился ни с национализмом, ни с социализмом в Германии. И тем не менее я не только примирился с национал-социализмом в Германии, я приветствую это движение. Мой друг и противник Черчилль не хочет понять главного: дети любят играть в странные игры со звучными названиями. Молодое движение, победившее в Германии коммунистов и социал-демократов, сейчас играет в эти взрослые игры с детским названием. Нам нужно держать руку на пульсе этой игры. Когда ребенок повзрослеет и захочет вместо лука взять охотничье ружье, мы, взрослые, должны подготовить ему верную мишень.
– Я понимаю вас, милорд, – сказал Пальма. – Меня только волнует чересчур игривый характер ребенка. Дитя, стрелявшее из лука во все стороны, может точно так же стрелять из ружья, когда повзрослеет… Я уж не говорю о гаубицах…
– Опасения правомочные, – согласился Редсдейл. – Правомочные, если мы не будем работать с этим движением и если мы не поможем движению крепко стать на ноги и осознать свое единство с нашей цивилизацией. Если бы в Германии к власти пришел человек по фамилии… я путаюсь всегда в немецких фамилиях… Господи, да с любой фамилией! И если бы этот человек исповедовал национальный коммунизм или коммунистический интернационализм, но при этом своим главным врагом он называл бы Москву, я бы аплодировал этому движению и старался бы ему всемерно помочь. Надеюсь, вы понимаете, что по своей воле я никогда не сяду за один стол с мистером Гитлером… Это недоучившийся ефрейтор, нувориш без каких-либо устоявшихся моральных принципов… Да и потом он просто дурно воспитан. Но поскольку своим главным врагом он называет Москву, а Москва – это наш главный враг, как я могу не поддерживать Гитлера?
– Я понимаю вас, милорд.
– Я знаю, обо мне шепчутся по углам, – продолжал Редсдейл. – Я знаю, меня называют английским нацистом. Пусть. Наши личные интересы преходящи, интересы Британии незыблемы. Когда-нибудь потомки поблагодарят меня за то, что я так стойко переносил оскорбления в прессе, и за то, что я был так спокоен по отношению к тем, кто не понимал моей позиции. Все определяет в нашей жизни будущее, а никто так верно не знает цену будущему, как старики, которым осталось мало времени на этой суматошной земле.
Редсдейл подвел Яна к группе молодых мужчин:
– Господа, позвольте представить вам Яна Пальма. Да-да, это сын того латышского Пальма, который был здесь послом. Молодой Пальма назначен политическим обозревателем журнала «Англо-германское ревю».
Ян пожал всем руки.
– Дик Джоун.
– Очень приятно. Пальма.
– Майкл Футер.
– Очень приятно. Пальма.
– Джозеф Коуэлл.
– Очень приятно. Пальма.
– Пойдемте, господа, – сказал лорд, – сейчас леди Астор покажет нам занятный сеанс спиритизма. Она увлечена одним прозорливцем.
Редсдейл пояснил Яну, пока они шли по большой каменной террасе в римском стиле:
– Футер и Коуэлл связаны с Руром, они часто бывают в Берлине, могут помочь вам в контактах с серьезными людьми рейха, которые отвечают за промышленность Германии. Мистер Джоун близок к премьер-министру, вам следует прибегать к его помощи лишь в исключительных случаях…
…В темной комнате, уставленной старинной, нарочито грубой черной мебелью, сухонькая леди Астор, единственная женщина среди стариков и спортивного кроя юношей, сидела во главе овального стола. Рядом с ней был мальчик лет тринадцати. Лицо у него было синюшное, нездорово-одутловатое. Мальчик был мал ростом. Руки совсем еще детские, в ямочках, припухлые.
Прежде всего Пальма увидел эти маленькие детские пухлые руки, лежавшие на громадном блюде посреди расчерченного мелом стола.
– Я чувствую, – говорил мальчик, широко открыв глаза, – я чувствую тебя. Кто ты? Войди в меня и скажи всем. Кто ты? Войди в меня и скажи всем. Ну? – Он обернулся к леди Астор. – Ну, – беспомощно спросил он окружающих, – вы чувствуете? Вот он поднимается. Вы видите его? У него сильное, спокойное лицо. Смотрите все! Семь, тринадцать, семь, одиннадцать, семь! Вы видите Ричарда. Смотрите на него. Перед вами не слепок с Ричарда Львиное Сердце, а он сам, наш Ричард. Слушайте, что он говорит.
– Я слышу, – сказала леди Астор, – я слышу, мой мальчик, я слышу его. Вы слышите, что он говорит? «Туда! Смотрите туда, – говорит он, – бойтесь того и бойтесь его так, как я вам это скажу сейчас».
Ян наклонился к лорду Редсдейлу и шепнул:
– У дитяти была истеричная няня?
– Ничего, истеризм полезен Британии, в определенных, конечно, дозах.
– «Бойся Рима», слышу я! – продолжал говорить мальчик. – Бойся Третьего Рима. Слышите вы все? Бойтесь Третьего Рима. Где он? – спросил мальчик, и вдруг руки его стали конвульсивно сжиматься в кулаки, и перестали они быть детскими. – Вот Третий Рим – смотрите, там Третий Рим, слышите вы меня? Слышите, все?
– Россия – Третий Рим, – тихо сказала леди Астор, взяла правую руку мальчика в свои морщинистые, веснушчатые руки, поднесла к лицу и поцеловала.
(«Германия всегда будет рассматриваться как основной центр западного мира при отражении большевистского натиска. Я вовсе не считаю это отрадной миссией, а рассматриваю как обстоятельство, усложняющее и обременяющее жизнь нашего народа, которое, к сожалению, обусловлено нашим неудачным географическим положением в Европе. Но мы не можем уйти в этом отношении от судьбы.
Наше политическое положение обусловливается следующими моментами.
В Европе имеются лишь два государства, которые серьезно могут противостоять большевизму, – это Германия и Италия. Что касается остальных стран, то одни оказались разложенными вследствие демократических форм жизни, зараженными марксистской идеологией и поэтому в ближайшее время рухнут сами по себе, а во главе других стоят авторитарные правительства, прочность которых определяется единственно военной силой, а это означает, что они, будучи вынужденными поддерживать свое господство внутри страны лишь с помощью средств насилия, не в состоянии использовать эти средства для обеспечения внешнеполитических интересов государства. Все эти страны никогда не будут в состоянии вести войну против Советской России с видами на успех.
И вообще, кроме Германии и Италии, только Японию можно считать силой, способной противостоять мировой угрозе.
В задачи настоящего меморандума не входит предсказание того, когда нынешнее шаткое положение в Европе перейдет в открытый кризис. Я хочу лишь выразить в данных строках мое убеждение, что этого кризиса невозможно избежать, ибо он обязательно наступит, и что Германия обязана всеми силами и средствами обеспечить свое существование перед лицом этой катастрофы, защитить себя, и что из этой неотвратимой перспективы вытекает ряд выводов, касающихся важнейших задач, когда-либо стоявших перед нашим народом. Ибо победа большевизма над Германией привела бы не к чему-либо вроде Версальского договора, а к окончательному уничтожению и истреблению германской нации.
Невозможно предвидеть всех последствий такой катастрофы. И вообще густонаселенной Западной Европе (включая Германию) пришлось бы пережить в результате победы большевизма, пожалуй, самую страшную социальную катастрофу, какой никогда на переживало человечество со времен гибели античных государств…
Я ставлю следующие задачи:
1) через четыре года мы должны иметь боеспособную армию,
2) через четыре года экономика Германии должна быть готова к войне».)
(Из меморандума Гитлера.)
Москва, 1938, 6 апреля, 13 час. 39 мин.
«Юстасу. Вам надлежит сообщить о вылете самолета из Берлина Вольфу и проследить за тем, чтобы Хаген передал Дориана тем людям, которые прилетят за ним из Берлина. Это будет наша операция. Центр».
«Совконсульство в Барселоне. Ивану. Подготовьте экипаж из двух антифашистов-немцев для полета в Бургос. Подробный инструктаж получите с Марком, отправленным к вам для руководства операцией. Самолет должен быть немецким. Экипажу с аэродрома не отлучаться. Центр».
«Берлин. Луизе. Вам надлежит выяснить, когда и кто готовит к вылету самолеты Гейдриха, совершающие рейсы на Бургос с аэродрома Темпельхоф. По выяснении немедленно сообщить Фридриху. Центр».
«Мадрид. Степану. Вам поручается возглавить звено истребителей для выполнения специального задания. Согласуйте операцию с республиканскими ВВС. Главная задача: сбить немецкий самолет, который будет следовать из Берлина в Бургос. Директор».
«Мадрид. Стиву. Просьба установить местонахождение Мэри Пейдж. По нашим последним данным, она находится в Лиссабоне, отель „Эксельсиор“. Центр».
«Париж. Луи Жану. Вам следует подготовить место в частном госпитале, где содержатся больные инфекционной желтухой. Палата должна быть отдельной. По нашему сигналу запишите там больного под фамилией Пальма. Дальнейшие указания получите от Жюля. Центр».
Советская разведка начала операцию по спасению Дориана – Яна Пальма. Подчас и не ведая о том, разные люди начали работу, конечная цель которой сводилась к тому, чтобы в течение ближайших суток организовать вывоз Пальма в Париж, где он будет помещен в госпиталь, а оттуда, «когда ему станет лучше», он даст телеграмму в Лиссабон, Ригу и Лондон о причинах своей задержки – невольной и оправданной со всех точек зрения.
Берлин, 1938, 6 апреля, 13 час. 43 мин.
Гейдрих позвонил Шелленбергу.
– Вальтер, – сказал он, – мне что-то не хочется везти к нам латыша самолетом. Может быть, целесообразнее отправить его морем, а? Зайдите ко мне, Вальтер, побеседуем.
Помощник Гейдриха по политической разведке Шелленберг был красив и молод. Ему только что исполнилось двадцать семь лет, но «у этого мальчика – голова седого мыслителя» – так говорил о нем рейхсфюрер. Поэтому Гейдрих, нашедший Шелленберга в университете и приведший его в разведку, любил оттачивать концепцию той или иной своей идеи в спорах с помощником. На этот раз они спорили недолго.
– Вы не правы… Везти его мимо Британии целых пять дней, учитывая нрав Бискайского залива, нецелесообразно, – сказал Шелленберг. – Он странный, медлительный парень, а я боюсь медлительных латышей в море.
– Почему?
– Тут уж мне подсказывает интуиция, – улыбнулся Шелленберг. – Если что-либо произойдет с самолетом – шансов спастись никаких: они летят над горами, а случись что на море…
– Можно дать приказ убрать его в случае опасности.
– Эту возможность я как-то упустил, – рассмеялся Шелленберг, – видимо, из жадности: полученную вещь так обидно терять…
– В общем, надо его вывозить оттуда если не сегодня, то завтра: я очень боюсь, что англичане и латыши поднимут визг, и тогда нам придется долго и нудно беседовать с Риббентропом – он будет требовать доказательств. Он не хочет ссориться с иностранцами. Как будто я хочу этого…
– Хаген прислал радиограмму, что латыш плох и везти его сейчас невозможно.
– Это ерунда. Пусть продолжает болеть в каюте…
– В порт мы его повезем на машине?
– Ничего страшного. Дадут снотворного… Он проснется на море – это хорошая прогулка.
– Можно дать приказ шифровальщикам?
– Да. Пусть он подышит морским воздухом.
– Я выясню, какие суда стоят в портах Испании, группенфюрер.
– Вы дьявол, Шелленберг… Вы опрокидываете мое предложение… Мы потеряем шесть дней, пока отправим туда наше судно. С первым попавшимся отправлять его глупо, вы правы…
– Почему? Пусть его везут пятеро-шестеро наших… Им дадут большую каюту, и все.
– Нет. Нам тогда придется входить в контакт с ведомством морских торговцев: вдруг они завернут корабль в другой порт? В Британию, например, бункероваться?
– Значит, самолет? – спросил Шелленберг.
– Какой-то вы сегодня вялый и неконструктивный. Я хотел спора, а вы играете в поддавки.
– Просто меня мучит изжога, – мягко улыбнулся Шелленберг, – поэтому я так вял. Надо проверить поджелудочную железу: меня очень мучит изжога.
– При чем тут поджелудочная железа? – поморщился Гейдрих. – Вы хитрый и умный, даже когда вялый и с изжогой. Кто, кстати, готовит материалы о «лондонском периоде» Пальма?
Лондон, 1936
На следующий день после выхода журнала, редактируемого Пальма, шеф британской контрразведки генерал Гортон пригласил на завтрак Гэса Петериса, переведенного из Индии в здешнее латышское посольство советником. Гортон, имевший визитную карточку генерала в отставке, часто завтракал с дипломатами – он предпочитал личные контакты и в серьезных делах, особенно поначалу, когда они только завязывались, никогда не доверял сотрудникам, особенно молодым. «Своим чрезмерным старанием, подозрительностью и желанием принести мне в зубах информацию, – говаривал Гортон, – и не просто информацию, а обязательно написанную и подписанную собеседником, они крушат все окрест себя, как слоны в лавке. Агент должен быть окружен уважительной любовью и доверием, а они сверлят его глазами и пытаются ловить на мелочах: не перевербован ли. Я пять лет лелеял одного актера, это очень ценная находка – известный актер, который дружит с нами. Стоило мне поручить во время каникул беседу с ним моим мальчикам – и я потерял агента. Он мне потом объяснил, что его заставили писать свои впечатления и требовали назвать имена тех леди, с которыми он спит…» С Петерисом генерал познакомился через полгода после того, как тот перевелся в Лондон. Неторопливо присматривался к нему; понял здоровое честолюбие умного молодого дипломата и сошелся с ним легко, чувствуя, что Петерис относится к числу тех, кто никогда не изменит присяге, но всегда поможет тем, кто – встречно – может оказать содействие: не столько в карьере, сколько в деле, ибо Петерис понимал, что лишь дело может выдвинуть его в первые ряды, дело, а никак не попытки «сделать карьеру».
– Послушайте, Гэс, – спросил Гортон, – вы хорошо помните Яна Пальма?
– Да, генерал. Мы вместе учились в университете.
– Что вы можете сказать об этом человеке?
– Ничего плохого, кроме того, что мы вместе учились.
Гортон улыбнулся:
– Хороший ответ. Я бы просил, если это не противоречит вашему пониманию чести, проанализировать его пламенную дружбу с германским посольством, с Уго Лерстом и мистером Риббентропом.
– Надеюсь, никаких конкретных подозрений у вас нет?
– А как вам кажется?
– Мне кажется, их не должно быть. Мы, во всяком случае, верим ему.
– Я рад… Ну а если?
– Я хотел бы отвести возможные «если».
– Это похвально, – кивнул головой генерал, – мне нравится, как вы оберегаете честь вашего друга.
– Товарища, – поправил его Петерис.
Генерал внимательно посмотрел на Петериса:
– Да, товарища. Я понимаю. Простите мою неточность. Впрочем, кто знает, где грань между понятиями товарищества и дружбы?
– Грань очевидна, – ответил Петерис, – она зрима. Я не мог быть другом мистера Пальма, потому что он играл в оппозицию, посещал дискуссионный кружок, а мне это всегда претило.
– Я знаю об этом. Нет ничего дурного во внимательном изучении марксизма. Правда, лучше это делать в индивидуальном порядке, нежели коллективно.
– Я тоже так думаю. Я читал и Маркса, и Энгельса, и Ленина. Должен сказать, что манера их мышления кажется мне чересчур прямолинейной, с одной стороны, и слишком заумной – с другой.
Гортон улыбнулся:
– Вы оригинальны в своем воззрении, потому что миллионов восемьсот, симпатизирующих марксизму и Ленину, сейчас придерживаются противоположной точки зрения. Это учение кажется им понятным, преспективным и подсказывающим выход вашему поколению.
– Мистер Гитлер занят этой же проблемой…
– Как вам ответить? – закурив, протянул Гортон. – Мистер Гитлер, по-моему, значительно больший прагматик, и он совершенно не интеллектуален в нашем понимании этого слова. Это и хорошо и плохо… Так вот, я попросил бы вас каким-нибудь образом ознакомиться с той работой, которую Ян Пальма проводит в журнале «Англо-германское ревю». Журнал стал, если вы заметили, популярным, его охотно покупают. Продумайте, пожалуйста, какова – я бы сформулировал так – подкладка дружбы Пальма с Лерстом и Риббентропом.
– Хорошо, генерал, – ответил Петерис. – Я выполню вашу просьбу, но если результаты будут в какой-либо мере противоречить моему пониманию товарищества, я резервирую за собой право к этой теме в разговоре не возвращаться.
– Бесспорно, – согласился Гортон. – Бесспорно. Вы сделаете выводы для себя, как человек, представляющий интересы Латвии на острове… Как долго Пальма будет жить в Лондоне, я, естественно, не знаю, но, если он в Риге откроет филиал своего нацистского журнала, вам следует быть осведомленным о причинах, побудивших его к этому, не так ли?
«Умен, дьявол, – удовлетворенно отметил Петерис, – у него есть чему поучиться – у этого „отставника“. Не я ему должен помочь, а он мне помогает – так его следует понимать… Ай да отставник…»
– Спасибо, генерал, – улыбнулся Петерис, – мне всегда очень приятно встречаться с вами…
– Мы с вами завтракаем, – заметил Гортон, – а не встречаемся. Мясо прожарено великолепно, торопитесь, оно остынет…
…В этой маленькой радиостудии было полутемно. Джаз-оркестр, с которым выступала Мэри Пейдж, еще не собрался. Только контрабасист осторожно притрагивался к витым струнам. Возле рояля сидел молодой парень и наигрывал тихую мелодию.
Мэри сидела с Яном на высоких стульях в самом темном углу маленького зала радиостудии.
– Ты плохо выглядишь, – сказала Мэри, – замучился в своем журнале?
– Нет.
– Или тебя замучила расовая теория мистера Гитлера?
Ян пожал плечами, ничего не ответил.
– Ты довольно лихо пропагандируешь его расовую теорию.
– А почему бы нет?
– Не боишься, что мы станем фашистами?
– Не боюсь.
– Слушай, – спросила Мэри, – зачем ты согласился на все это?
– На что?
– На должность главного редактора журнала, на почетный пост члена правления «Англо-германского ревю»?
– Во-первых, – ответил Ян, – ты мне сама подмаргивала, когда я смотрел на тебя в посольстве. Помнишь? Риббентроп мне предложил работу в журнале, а я посмотрел на тебя. А ты мне стала моргать. Я решил, что ты велишь мне стать главным редактором.
Мэри закурила.
– Правом давать такие советы обладают жены, а я – любовница. Вообще это неплохо звучит: Мэри Пейдж, любовница фашиста.
– Между прочим, – медленно ответил Ян, – если мы не хотим стать фашистами, то надо хотя бы знать, что же такое фашизм.
– Ого! – засмеялась Мэри. – Значит, ты сидишь у них с секретной миссией?
– Почему? Почему я должен сидеть с секретной миссией? Если нацизм – это так плохо, как все говорят, я должен в этом сам убедиться. А если нацизм в общем-то не так уж плохо – то почему бы мне не убедить тебя в этом? Тебя и всех?
– Вены тебе было недостаточно?
– Не совсем.
– По-моему, до Вены ты был ярым антифашистом.
– У тебя неплохая память…
– Иначе я бы не запоминала ноты…
– Только из столкновения двух полярных мнений рождается истина. А истина – это интересная книга…
– Думаешь написать об этом книгу?
– Такая книга пригодится во всех смыслах. – Ян постучал по дереву. – Я бы очень хотел написать такую книгу. Как думаешь, получится?
– А почему нет?
– Потому что я лентяй и мне скучно писать книги. Да и с талантом жидковато. Прозаики чрезвычайно медлительны… Серьезные журналисты – тоже. Я репортер, и мне весело, несмотря на то что меня сделали редактором.
В это время пришли саксофонисты и трубач. Они заиграли песенку, веселую французскую песенку.
– Мэри, – сказал пианист. – Давай порепетируем. Через полчаса запись.
– Я готова, – ответила Мэри, – зачем репетировать?
– На всякий случай, – сказал пианист. – Давай ту, цыганскую, которую инструментовал Дэйвид.
– Пожалуйста, предупреди меня заранее, когда твои друзья национал-социалисты уничтожат всех цыган, евреев и славян. Мне нужно вовремя изменить репертуар, – сказала Мэри, приминая сигарету в пепельнице.
– Хорошо, – ответил Ян, – я буду тебя держать в курсе нашей с мистером Гитлером расовой политики. Тем более что я собираюсь завтра улететь в Берлин.
– Ты зачастил в Берлин…
– Там любопытно.
– Летишь один?
– Нет…
– А с кем?
– С чемоданом.
– Говорят, в Берлине интересная ночная жизнь и масса толстых немок, которые обожают длинных и надменных латышей, вроде тебя.
– Я слышал об этом, – ответил Ян, – и я очень напряженно готовлюсь к тамошней ночной жизни.
Берлин, 1936
Пальма медленно шел по пустынной – в этот час – Шенезеештрассе, размахивая клетчатым баулом. Проходя мимо литой чугунной изгороди, он увидел нарисованный белым мелом скрипичный ключ.
Пальма достал из кармана свой мелок, зачеркнул скрипичный ключ и на следующей металлической трубе нарисовал басовый ключ. Он прошагал еще метров пятнадцать, завернул в маленькую вайнштубе и попросил хозяина:
– Пожалуйста, двойной «якоби».
– Да, господин, – ответил хозяин, стремительно и ловко наливая ему коньяк, – прошу вас.
– Спасибо, – сказал Пальма. – Почему у вас так сумрачно? Хорошо бы включить свет.
– Постоянные посетители моей вайнштубе предпочитают полумрак. Это создает необходимый интим.
– Ну что ж, – сказал Ян, – интим, так интим.
Он выпил коньяк, выкурил сигарету и вышел на улицу. Такси нигде не было. Тогда он медленно пошел в обратном направлении, все так же размахивая своим клетчатым баулом.
Проходя мимо металлической ограды, он увидел свой басовый ключ зачеркнутым крест-накрест. На третьей чугунной тумбе он нарисовал скрипичный ключ перевернутым вниз головой и выбросил мелок в большую урну.
Остановив такси, он сказал:
– Пожалуйста, отвезите меня в имперское министерство иностранных дел, на Вильгельмштрассе…
Через три минуты после того, как Пальма пригласили к Риббентропу, в приемную вошел высокий мужчина с лицом римлянина. Референт Риббентропа поднялся и, выбросив руку в нацистском приветствии, сказал:
– Обергруппенфюрер Гейдрих, сейчас у рейхсминистра редактор нашего лондонского журнала латышский журналист Ян Пальма.
– Хорошо, – сказал Гейдрих, – я подожду. Беседа с Пальма конечно же не менее важна для судеб рейха, чем встреча с шефом главного управления имперской безопасности.
Гейдрих отошел к окну, залитому солнцем, и, заложив руки, прижался лбом к стеклу.
Окна приемной выходили на зеленый дворик министерства иностранных дел. По ровному, на английский манер подстриженному газону ходили голуби. Гейдрих негромко, словно самому себе, сказал:
– Министерство иностранных дел обязано иллюстрировать тягу к миру обилием прикормленных голубей.
…В кабинете рейхсминистра Ян Пальма сидел за маленьким столиком, отхлебывая бразильский кофе из золоченой чашки, и говорил негромко:
– Я благодарен вам, господин Риббентроп, за исчерпывающий ответ. Важно стенографически точно передать ваши слова читающей британской публике.
– Я доверяю вашему бриллиантовому перу.
– Запомнили «бриллиантовое перо»?
– Тяжкий удел министров – запоминать. В данном случае этот удел не был для меня обузой. Мне было приятно это запомнить, дорогой Пальма.
– Господин министр, я хотел бы задать вам вопрос, который, естественно, не будет включен в публикацию. После блистательного выступления фюрера в Данциге куда следовало бы обратить свой взор нам, вашим английским друзьям?
Риббентроп улыбнулся:
– Вы вторгаетесь в сферу государственных секретов рейха.
Пальма ответил – тоже с улыбкой:
– Господин Риббентроп, я снимаю свой вопрос.
Риббентроп поднялся, принес с другого столика электрический кофейник, долил кофе себе и Яну и спросил:
– Ну хорошо, а как думаете вы, куда следует обращать свой взор великой Германии?
– По-моему, на Варшаву.
Риббентроп отрицательно покачал головой.
– Прага?
Риббентроп снова отрицательно покачал головой, а потом прижал палец к губам и сказал:
– Вам, как другу Германии, я хочу посоветовать: не уезжайте сейчас отдыхать, даже если у вас запланирован отдых. А если и поедете, то советую куда-нибудь поближе к Пиренеям.
Гейдрих посмотрел на часы:
– Я сочувствую рейхсминистру. Журналисты с их дотошностью могут замучить насмерть.
И как раз в это время вышел Пальма. Он поклонился Гейдриху и сказал секретарю министра:
– Я просил бы вас записать, что я остановился в «Адлоне», апартамент номер двести семнадцать. Если я понадоблюсь господину рейхсминистру, прошу предупредить заранее, а если этого нельзя сделать, то сообщите, пожалуйста, портье. Я буду оставлять свой телефон или тот адрес, по которому ненадолго уеду.
Гейдрих вошел к Риббентропу. Они молча поздоровались. Гейдрих сказал:
– Мой дорогой Риббентроп перед тем, как я начну мучить вас вопросами координации нашей работы, мне хотелось бы спросить: известно ли вашему ведомству, что журналист Ян Пальма в течение трех лет посещал марксистский клуб в университете?
– Мне неизвестно это, и мне занятно узнать, о чем думал ваш Лерст, когда представлял мне Пальма в Лондоне?
– Лерст не всевидящий. Мой аппарат раскопал на Пальма интересный материал… Мы начали серьезно смотреть за этим газетчиком…
Риббентроп почувствовал, что холодеет: он вспомнил конец беседы с Пальма. Он не мог сказать об этом Гейдриху, он подставил бы себя под удар.
– Нет, я не верю этому, – сказал министр, – мало ли кто грешил в юности марксизмом? Пальма делает в высшей мере полезное для нас дело…
– Тем не менее я отчитал Лерста и поручил ему заняться газетчиком. Он его первым узнал, ему и отвечать…
– Погодите, а что у вас есть конкретно против Пальма?
– Он был с красными в Вене, он контактировал в Праге с русским писателем Борцовым, потом он внезапно воспылал любовью к нам… Я не очень-то верю таким амплитудам… Я верю только в последовательность.
– Он мог метаться…
– Вот мы и займемся его метаниями… Меня редко подводит интуиция, поверьте, мой дорогой Риббентроп…
Бургос, 1938, 6 апреля, 15 час. 44 мин.
Штирлиц отпер дверь комнаты, где лежал Пальма, и, остановившись на пороге, сказал:
– Хватит валять дурака! Я сейчас прикажу забрать отсюда эту тахту, – лежите на полу! Хаген! – крикнул он яростно. – Где Хаген?!
– Он отдыхает, – ответил дежурный по коридору. – Он очень устал.
Штирлиц раздраженно захлопнул дверь, взял стул, придвинул его к изголовью софы и подмигнул Пальма.
– Громко заявляйте протест по поводу Хагена, – шепнул он, – и слушайте при этом меня, я буду говорить очень внятно, хотя и шепотом.
Пальма начал гневно браниться, сосредоточенно глядя в лицо Штирлицу, а главное, на его губы – тот произносил каждое слово округло и четко:
– Республиканцы либо подменят самолет, либо совершат налет на эту богадельню. Если выберут второй путь, я не отойду от вас ни на шаг. Пистолет я вам дам перед самой операцией. Сегодня вечером, когда вернется ваш друг Хаген, мы станем допрашивать вас вдвоем, а может быть, я приглашу еще кого-нибудь третьего. Я буду мучить вас светом: прожектор в глаза – заранее извините меня, дружище, но это в наших общих интересах. Все поняли? Главное, не вешайте носа, все будет о'кей.
– Ол райт, – шепотом поправил его Пальма. – О'кей – это американский вульгаризм…
– Все! – закричал Штирлиц. – Хватит! Мне надоело выслушивать ваши жалобы! Будущее в ваших руках! Ясно?! Даю вам два часа на размышления – потом пеняйте на себя!
«Он здорово постарел за эти два года, – думал Пальма, наблюдая, как на него зло кричит Штирлиц. – Мне трудно, а каково ему, бедняге? Когда мы в первый раз увиделись, он был ведь без единого седого волоска».
Берлин, 1936
Пальма тогда вернулся в «Адлон» и встретил в холле Петериса и Ванга. Они ехали на отдых в Ригу через Берлин. Ян бросился к ним, обрадовавшись, но в глазах у друзей он увидел холодное недоумение, и все сразу понял, и остановился возле них, чуть улыбаясь:
– Привет дипломатам!
– Привет борзописцам, – ответил Гэс. – Или теперь при встречах с тобой следует говорить не «привет», а «хайль»?
– Нет, можете просто называть меня «фюрер», – ответил Ян. – Кого ждете? Пошли ко мне – есть виски.
– Спасибо, – ответил Ванг, – мы ждем приятеля.
– Ну хорошо, ну ладно, – поморщился Ян, – мы разошлись в воззрениях. Но давайте выслушаем друг друга.
– Здесь всюду записывают разговоры, – ответил Петерис, – мне не хочется, чтобы гестапо занесло в свою картотеку мой голос – я брезглив.
– Меня не записывают. Я пропагандист идей Германии. А выслушать друг друга нам стоит.
– Пожалуй, что нет, – ответил Петерис. – Тем более что мы собираемся съездить в Москву, в эту цитадель варварства… Мы боимся бросить на тебя тень.
– Нехорошо так, – сказал Ян. – Недемократично, по-моему. Всякий волен верить в свои идеалы.
– Фашизм стал твоим идеалом? – удивился Ванг. – Я не предполагал, что скотство поддается идеализации.
– Можно подумать, что, вернувшись в Лондон, вы уговорите Чемберлена подписать с Кремлем договор о совместном отпоре Гитлеру, – жестко сказал Пальма. – Вы поохаете, поахаете, расскажете, как вам понравилось в столице социализма, но по-прежнему будете выполнять все указания ваших шефов. Не изображайте из себя принципиалов, парни. Вы такие же мыши, как и я, только несколько благопристойнее.
– Молчать – это все-таки лучше, чем прославлять. Мы – молчим, ты – прославляешь, – сказал Ванг.
Петерис поморщился:
– Пассивная молчаливость – тоже скверная штука.
– Голос не мальчика, но мужа, – сказал Ян. – Так что – зайдем ко мне?
– Ты иди, – сказал Ванг Петерису, – а я побуду здесь. Иди, если тебе хочется нахлестаться с ним виски. Я могу купить себе виски сам. Пока еще могу…
Петерис, однако, не пошел.
Ян поднялся к себе, налил стакан виски, добавил холодной воды из крана, хотел было выпить, но, посмотрев на часы, зло швырнул папку на кровать и тихо, смачно выругался.
А когда он вышел из «Адлона» и скорее машинально, чем по необходимости, «проверился», то сразу заметил за собой хвост. Двое в сером неотступно топали следом. Пальма изменил маршрут – в девять у него была назначена встреча. Он повернул на Унтер ден Линден, возле Пассажа свернул на Фридрихштрассе и остановился около касс кинотеатра.
– Что за фильм? – спросил он кассиршу и посмотрел в бликующее стекло: двое по-прежнему следовали за ним.
– Интересный фильм – шпионы, погони, стрельба…
– Много стреляют?
– Раз двенадцать… Я, правда, не смотрела, я только слышала выстрелы по динамику.
– Двенадцать – это мало.
– Господин хочет купить билет?
– Нет, благодарю: слишком мало стреляют…
«Какие сволочи все-таки мои дружки, – думал Ян, спускаясь в метро, – я отрываюсь от слежки, я подставил голову под нож, а они воротят носы от меня, как от прокаженного. Хотя я и сам поступил бы так же, будь на их месте. И никакие они не сволочи. Но долго играть в фашиста я не смогу – сломаюсь».
Он оторвался от слежки возле остановки «Митте»: на стоянке такси была только одна машина, и он взял ее, и успел заметить, как шпики заметались на площади. Он долго плутал по городу, пока не убедился, что хвост отстал.
Проходными дворами он вышел к Каналу. Его догнал рослый эсэсовец и сказал:
– Вы уронили платок.
– Вы ошиблись, – ответил Пальма, – мой платок у меня в кармане, как мне кажется.
– Простите, значит, я ошибся.
– Спасибо.
– Еще раз простите, но я был убежден, что этот синий платок принадлежит вам.
– Ну, здравствуйте, – сказал Ян, – я испугался, когда увидел вас в форме.
– К ней нужно привыкнуть… Вы – Дориан?
– Да. А вы – Юстас?
– Такой же как вы – Дориан, – хмуро ответил офицер, – пошли, здесь у меня квартира.
«Центр. По данным, полученным через Риббентропа, явствует, что в ближайшее время следует ожидать серьезных акций Гитлера в Испании. Дориан».
«Центр. Шеф абвера Канарис дважды вылетал из Берлина на шесть дней. Удалось выяснить, что он был в Португалии и на островах, принадлежащих Испании.
Дориан передал ценные пленки о работе активистов Англо-германского общества. Высылаю через связь. За Дорианом пущен хвост. Кто инициатор слежки и является ли это профилактической мерой по отношению к иностранцу, установить пока не удалось. Юстас».
На аэродроме Яна провожали Лерст и референт министра.
– Господин Пальма, – сказал Лерст, поднимая бокал с игристым белым мозелем, – нам было весьма радостно принимать вас здесь, в стране ваших друзей. Я пью за ваш благополучный полет и скорейшее к нам возвращение.
– Друзья друзьями, – засмеялся Ян, – а вчера за мной топали двое ваших полицейских.
– За иностранцами у нас следит гестапо, – ответил Лерст, – но за вами не могли следить, это какая-то ошибка.
– За мной начали следить в Лондоне, – ответил Ян, – так что ошибки быть не может: полицейские всюду одинаково тупы и неспособны на выдумку – живут себе по инструкции, и все тут…
– Я проверю, – пообещал Лерст, – может быть, вас спутали с кем-нибудь… Меня, например, часто путали в Лондоне, но тем не менее следили так, что я себя не чувствовал одиноким – даже в кровати…
Берлин, 1938, 6 августа, 15 час. 17 мин.
Они приглашали гостей. Он отвечал за мужчин, она – за женщин. Она обзвонила всех первой. Он договорился только с тремя своими приятелями. Четвертый сказал:
– Милый Вольфганг, я немного задержусь, потому что Рудди ночью улетает, и мне хочется проводить его.
– Я подвезу вас. Это на Темпельхоф?
– Нет. Это в другом месте. Я задержусь, но буду у вас обязательно.
– Ты не мог бы попросить его взять посылку в Бургос?
Он закурил, прислушиваясь, как голос на другом конце провода спрашивал Рудди про посылку. Телефоны в Берлине работали отменно, и поэтому он услышал ответ Рудди: «Скажи ему, что я лечу куда-нибудь на север, не болтай про Бургос!»
– Вольфганг, он летит в Бремен, почему ты решил, что он летит в Бургос?
«Я решил так, потому что знаю, кого он возит в Испанию», – мог бы ответить Вольфганг. Но он сказал:
– Я жду вас, мой друг, в любое удобное для вас время. Марта сделала великолепный айсбайн в баварском стиле, вам понравится.
«Центр. Самолет СД уходит в Бургос сегодня вечером спецрейсом. С какого аэродрома вылетает самолет, неизвестно. Луиза».
В это же время секретарь Гейдриха передал в шифроотдел имперского управления безопасности следующую радиограмму:
«Бургос. Посольство Германии при правительстве генерала Франко. Штирлицу, Хагену. Самолет № 259 под командованием обер-лейтенанта Грилля прибудет за латышом завтра в 9.00. Выделите для сопровождения трех человек. До прилета Грилля разрабатывайте латыша по поводу похищенного „мессершмитта“».
Пока обе эти шифровки шли своим чередом – одна в Москву, а другая в Бургос, – Штирлиц и Хаген уже допрашивали Яна о его участии в похищении нового «мессершмитта». Новую модель самолета угнали из Бургоса за девять часов до убийства Лерста.
– Ты скажешь мне все! – неистовствовал Штирлиц, направив в лицо Яну свет сильной электрической лампы. – Ты поможешь этим и себе, и мне, и Хагену! Ты скажешь, чтобы спасти свою жизнь, иначе я не поставлю и пфеннига за твою голову!
– Что я должен говорить?
– Правду!
– Спрашивайте, только конкретно, и не орите так… У меня голова разламывается.
– Кто из американцев сидел с тобой в баре?!
– Когда?
– Утром, перед тем как Манцер угнал «мессер»?!
– Я уже слышал этот вопрос.
– От кого?
– От Лерста.
– Ну и что ты ему ответил?!
– То же, что отвечу вам: я не знаю его имени, я журналист, а не похоронное бюро, мне не нужны анкетные данные собеседника, мне нужен собеседник…
– Каким образом вы угнали «мессершмитт»? – закурив, спросил Штирлиц. – Давайте по-джентльменски, Пальма. Расскажите все: это в ваших интересах…
– Почему вы думаете, что я имею отношение к «мессершмитту» да и вообще ко всей вашей авиации?!
…Гестапо имело веские причины считать, что Пальма знал многое про авиацию вообще, а уж об этом новом, проходившем боевые испытания в Испании «мессершмитте» – тем более.
Эпопея с самолетами началась год назад. Республиканцам нужны были истребители: фашисты днем и ночью висели над Мадридом и Барселоной. Самолеты закупали всюду: в Польше и Голландии, Швеции и Франции. Закупали их напрямую и через подставных лиц, за доллары и фунты, франки и песеты, а временами за обыкновенные грязно-желтые бруски – за золото.
«Центр. По моим сведениям, фашисты организуют кампанию по продаже старого оружия республиканцам через Бернгардта. Он создал подставную фирму, во главе которой стоит Иозеф Вельтен, агент адмирала Канариса. Вельтен скупает оружие во всех странах, гонит его в Германию, там это старое оружие портят, а потом продают республиканцам. Необходимо послать наших людей для проверки этого сообщения. Необходимо немедленно дезавуировать Вельтена. Дориан».
«Дориану. По нашим данным, фирма Вельтена базируется в Копенгагене. Подтвердите. Центр».
«Центр. В Париже. Дориан».
«Дориану. Кто из людей Вельтена отвечает за продажу оружия? Центр».
На эту шифровку Дориан не ответил: отпала нужда – Вельтен был разоблачен. Однако Гейдрих начал новую комбинацию – на удар он хотел ответить ударом.
Париж, 1937, ноябрь
Моросил мелкий дождь. Виктор Грасс, по паспорту бизнесмен из Миннесоты, наблюдал за тем, как в низкое небо один за другим уходили истребители, купленные им вчера – через подставных лиц – у голландцев.
Он дождался, пока улетел последний «фарман», и опустил воротник дождевика.
Он продолжал улыбаться, когда плотный бритоголовый человек с трубкой, зажатой в сильных зубах, тронул его за локоть.
– Хэлло, – сказал человек, – как успехи?
– Спасибо, – ответил Грасс и неторопливо двинул через поле к стоянке машин.
– Погодите, Грасс, у меня к вам дело.
– Делами я занимаюсь в своем бюро.
– А здесь вы играли в кегли? Или в шахматы?
– Повторяю, если у вас есть серьезные предложения, обратитесь в мое бюро…
– Рю де Ришелье, семнадцать, второй этаж… За вами смотрят немцы, и мне нет смысла лишний раз мозолить им глаза. Да не бегите вы так, у вас ноги длинные, а у меня короткие. У меня в Локарно стоит десять новеньких «капрони», я их могу продать вам.
– Кого вы представляете?
– Себя, – ответил человек и протянул Грассу визитную карточку.
«Питер Маккензи, генеральный директор фирмы „Маккензи бразерс“, бокс 652, Монреаль, 42, Канада».
– Ну и что? – спросил Грасс, пряча карточку Маккензи в карман дождевика. – Откуда самолеты? Цена? Условия? Когда мои люди смогут осмотреть их? Документация?
– Хоть завтра. Ваши люди встретятся с моими техниками в Локарно – я продаю гарантированный товар. Я читал в английской прессе, как испанцы нагрелись с фирмой Вельтена, поэтому я с вас сдеру много денег. Качество предполагает хорошие деньги.
– Хорошо, увидимся завтра утром.
– Ладно. Где? К вам я не пойду – повторяю: за вами смотрят немцы.
– Мы приедем к вам с техниками. Где вы остановились?
– В отеле «Мальзерб». Номер девятнадцать. Когда вам угодно?
– В восемь. Вас устроит?
– Я люблю дрыхнуть. Давайте в девять.
– Договорились.
– В какой валюте будете платить?
– Сначала мы посмотрим ваши аппараты.
– Но если они хорошие?
Грасс усмехнулся:
– Тогда поговорим о цене, а уж после решим, в какой валюте нам будет выгодно платить, а вам – получать.
Грасс остановился возле своей машины, открыл дверцу и сел за руль.
– Спокойной ночи! – сказал он. – До завтра.
– До завтра, – ответил Маккензи и пошел к стоянке такси.
Грасс включил зажигание. Мотор заныл, застонал, но никак не заводился. Грасс закурил, дал стечь бензину, включил зажигание еще раз, но и на этот раз мотор не завелся. Грасс открыл капот, включил лампочку, подергал провода, шедшие от генератора к мотору: все было в полном порядке.
– И у меня нет такси, и у вас авария, – услышал он над ухом голос Маккензи. – Ну-ка, дайте взглянуть, я разбираюсь в технике.
Грасс посторонился, и Маккензи, закинув свою толстую коротенькую ногу за крыло, чуть не целиком залез в мотор.
– Покачайте бензин, – попросил Маккензи, – по-моему, у вас полетел бензонасос.
Грасс сел за руль и начал качать бензин.
– Теперь включайте зажигание!
Мотор заработал. Маккензи спрыгнул с крыла и сказал:
– У вас барахлит помпа. Скажите, чтобы поменяли, а то намучаетесь.
Он посмотрел на стоянку такси – человек сорок мокло под дождем: такси не было по-прежнему.
– Садитесь, – предложил Грасс, – я вас подброшу.
Маккензи тяжело залез в машину, выбросив вперед левую ногу. Он выбросил ее с таким расчетом, чтобы мысок его ботинка, в котором был вмонтирован грубый шприц с моментально парализующим составом, ударил Грасса. Шприц был сделан из легированной стали: гарантия прокола толстой свиной кожи любого ботинка абсолютная. Эта новинка, разработанная в лабораториях Гейдриха, опробовалась уже несколько раз, и результаты были великолепны.
Грасс обмяк – беззвучно, словно подломленный. Маккензи отбросил сиденье, перетащил Грасса назад, сел за руль и погнал машину в маленький коттедж, расположенный в большом парке на набережной Сены.
Здесь Грассу сделали еще один укол, положили в большой багажный ящик с надписью: «Верх. Не кантовать» и отвезли ящик на вокзал – поезд отходил в Кельн.
Берлин, 1937, октябрь
Через двенадцать часов Грасс лежал в соленой купели в подвале гестапо на Принц-Альбрехтштрассе. Маленький толстый Маккензи – штурмбаннфюрер СС Отто Штуба – сидел у его изголовья и время от времени прикасался раскаленным железным прутом к шее Грасса.
– Пока не скажешь, каким образом ваши узнали про Вельтена, я буду мучить тебя, и я добьюсь, что ты заговоришь, но это будет слишком поздно. Лучше тебе начать говорить сразу, тем более что мы знаем про тебя очень многое, почти все. Где вы теперь покупаете самолеты? Грасс, глупо молчать, поверь. Ты человек конченый: если мы даже и отпустим тебя, в Москве тебя все равно поставят к стенке. Разве нет? Но мы тебя не отпустим. Мы тебе предлагаем два варианта: один – полюбовный, так сказать, мирный, а второй – болезненный, неприятный и для меня, и для тебя. Повторяю свои вопросы: от кого вы узнали про Вельтена? У кого ты покупаешь самолеты теперь? Кто еще, кроме тебя, занимается этим делом?
Штуба снова приложил раскаленный прут к шее Грасса. Тот зашелся в крике, на искусанных губах выступила кровавая пена. Штуба прижигал свежие, кровоточащие раны, и лицо его чуть подергивало судорогой: видимо, он испытывал наслаждение от этой своей работы.
Потом Штуба бросил раскаленный прут на кафельный пол, подошел к рубильнику, вмонтированному в стену, включил его и, вернувшись на свое прежнее место, стал наблюдать, как, медленно пузырясь, начала закипать вода в соленой ванне.
Грасс, закричав, потерял сознание. Штуба вколол ему в грудь шприц с тонизирующим раствором. Грасс открыл глаза.
– Ты гнал самолеты и через Германию? – монотонно спрашивал Штуба. – Отвечай: гнал самолеты через Германию?
– Да, – чуть слышно прошептал Грасс.
– На кого они были оформлены?
– На голландскую фирму «Де Граатонберг».
В кабинет неслышно вошел Гейдрих. Он сел в кресло в полутемном углу комнаты.
– А если бы голландцы вас не пропустили? – спросил из своего угла Гейдрих. – Что бы вы тогда делали?
Грасс, видимо, не услышал его. Штуба ударил Грасса в лицо и тихим голосом, совершенно без выражения, повторил:
– А если бы Голландия вас не пропустила?
– Тогда я гнал бы их через Англию.
– Врешь. Англичане не пропускают ваши самолеты. Они не вмешиваются в игры на Пиренеях.
– Через Англию, – повторил Грасс, – это правда.
– Кто у вас есть в Англии?
– В Англии есть человек.
– Что ты о нем знаешь?
– Ничего.
Гейдрих сказал Штубе:
– Покажите ему кино.
Штуба снял телефонную трубку и сказал:
– Где там киномеханик? Пусть включит ленту.
Застрекотал киноаппарат, установленный в соседней комнате. На белой стене возникли зыбкие очертания обнаженного мужчины. Его держали под руки два эсэсовца. Чуть поодаль два других эсэсовца кормили мясом двух громадных доберман-пинчеров.
– Не закрывай глаза, – сказал Штуба Грассу, – смотри внимательно. Я показываю это кино, чтобы сохранить тебе жизнь.
Из своего угла Гейдрих сказал:
– Уберите свет, очень плохая резкость.
Штуба выключил свет, и стало очень четко видно, как эсэсовцы спустили с поводков доберман-пинчеров, а два других эсэсовца отбежали от своей жертвы, и доберманы бросились на обнаженного мужчину, и он начал отбиваться от яростных собак, которые хотели вцепиться ему в низ живота.
– Собаки натренированы, – пояснил Штуба. – Они хорошо натренированы. Они выгрызают половые органы так, что потом у заключенного остается только один путь: в папскую капеллу – кастратом.
Гейдрих, по-прежнему негромко, сказал из своего угла:
– Поясните ему, что здесь нет звука, я бы очень не хотел, чтобы мы проиграли ему пленку. Он тогда услышит, как тот человек – его же профессии – кричит. Это очень страшно слышать.
– Выключите, – с трудом разлепив окровавленные губы, попросил Грасс. – Не надо. Я знаю, что того человека в Лондоне зовут Дорианом. Больше я не знаю о нем ничего.
– Чем он занимается?
– Не знаю.
– Сколько ему лет?
– Я его не видел.
– Откуда он родом?
– Он живет в Англии, но он не англичанин… Он там работал…
– А где он живет в Лондоне? – спросил Штуба.
– В Лондоне его сейчас нет. Он в Испании.
– У красных?
– Нет, у Франко.
Гейдрих стремительно вышел из кабинета, набрал номер телефона и спросил:
– Шелленберг, скажите, пожалуйста, кто из англичан находится при штабе Франко? Военных там нет?… Понятно… Журналисты? Сколько? Пятеро? Ясно. Посмотрите, пожалуйста, по своей картотеке, кто из журналистов был у Риббентропа – то ли в этом, то ли в прошлом году. Спасибо, я подожду. И нет ли этого человека сейчас в Испании?
Гейдрих вернулся в кабинет, подвинул стул к стеклянной ванне, в которой лежал измученный Грасс, и спросил его:
– Какое у вас звание?
– У меня нет звания.
– Какое звание у вашего шефа?
– Я ничего больше не скажу.
– Кого вы знаете из военных?
– Никого.
– Из чекистов?
– Я ничего не скажу, – повторил Грасс и закрыл глаза.
Гейдрих обернулся к Штубе:
– Пойдемте-ка со мной.
Они вышли в соседнюю комнату, и Гейдрих сказал:
– Этого парня надо будет в три-четыре дня привести в порядок, а потом вы заберете его в Голландию и там организуете ему автомобильную катастрофу.
– Я не совсем понимаю, обергруппенфюрер…
– Было бы очень плохо, если бы вы понимали все мои планы, Штуба, – улыбнулся Гейдрих. – Вы красиво завязали эту операцию, надо ее так же красиво развязать. Зачем пугать Москву тем, что мы знаем их Дориана? А этот Грасс – возьмите от него все и увезите в Голландию…
Зазвонил телефон. Гейдрих поднял трубку.
– Слушаю. Ясно… Пальма… Так я и думал. Спасибо. Проинформируйте об этом Риббентропа… Хотя нет, не надо. Я к вам зайду – побеседуем. Лерсту пошлите шифровку: пусть глаз не сводит с этого нашего «друга». И пусть он организует ему интересные встречи, посмотрим, нет ли у латыша связей. А потом, если интересных связей в Бургосе нет, пусть устроит ему поездку на фронт. Ну, об этом позже. Я у вас буду в восемь.
Бургос, 1937, октябрь
Именно в восемь германский военно-воздушный атташе в Бургосе генерал-полковник Кессельринг устраивал прием.
Лерст, улыбающийся, щеголеватый, веселый, подвел к Кессельрингу Яна.
– Генерал, я хочу представить вам нашего друга, военного корреспондента господина Пальма.
– Я читал ваши статьи, они серьезны и объективны…
– Благодарю вас.
– Никто так не ценит объективность, как солдаты…
– Я убежден в этом, генерал.
Лерст и Пальма подошли к следующей группе военных.
Лерст познакомил Яна с генералом Рихтгофеном.
– Рад видеть грозного вождя немецких асов, – сказал Ян.
Рихтгофен вопросительно посмотрел на Лерста.
– Это наш друг, журналист Пальма.
– Очень рад, господин Пальма.
Лерст отвел Яна в глубину зала, к камину. Он задержался на мгновение возле штурмбаннфюрера СС Штирлица:
– Дорогой Пальма, познакомьтесь – это мой помощник, он тоже увлекается индийской филологией.
– Хайль Гитлер! – сказал Штирлиц.
Ян, засмеявшись, ответил:
– Хайль король.
Лерст, Пальма и Штирлиц отошли к свободному диванчику, сели рядом. Лакей принес вина и маленькие бутерброды на черном лакированном подносе.
– «Хайль король» – смешно, – заметил Лерст. – Я понимаю преимущества вашей демократии, но у нас это не может прижиться. Мы знали веймарскую демократию, и весь тот период я могу определить одним словом – беспомощность. А национал-социализм – это динамизм, это концентрация промышленной мощи, это ясная цель. Как результат – мы бьем красных и на земле и в воздухе. И я чаще и чаще задаю себе вопрос: как можно, с вашей прогнившей системой, бороться с коммунизмом?
– Я восхищаюсь динамизмом Гитлера, – ответил Пальма. – Концентрация мощи – это прекрасно. Но рассейте мои сомнения: временами ваша система напоминает спортивный мотоцикл, а наша система – дилижанс. Чем быстрее мотоцикл движется, тем он устойчивее. Победа – это скорость. Ну а если это поражение? Мотоцикл упадет набок. Дилижанс просто остановится. Англия напоминает дилижанс. Она пережила много потрясений, она останавливалась, но не падала.
Лерст закурил:
– С мотоциклом – удачно. Если мы – мотоцикл, то останавливаться в ближайшие годы никак не собираемся.
– И потом мы мотоцикл с коляской, – добавил Штирлиц.
Пальма заметил:
– Ну, разве что с коляской – тогда все меняется.
К Лерсту подошел Хаген, хотел что-то сказать ему, но тот перебил:
– Дорогой Пальма, я хочу представить вам своего второго помощника. Он фехтует значительно лучше меня, зовут его Хаген, и он – отменный спортсмен.
– Когда не пьет слишком много пива, – заметил Штирлиц.
– У вас столько помощников, что мне хочется считать вас не секретарем посольства, а по крайней мере послом, – сказал Ян.
– Всему свое время.
– Мы не спешим, – торопливо сказал Хаген. – Знаете, есть прелестная пословица: «Поспешай с промедлением».
– Хорошая пословица, – согласился Ян.
– Господин Лерст, – шепнул Хаген, – пришла срочная корреспонденция из Берлина. Там есть кое-что для вас.
Лерст поднялся:
– Займите нашего гостя. Нет ничего омерзительнее дипломатических приемов: здесь только шпионам вольготно, а нам, дипломатам, от них жизнь не в жизнь…
Сидевшие рядом в креслах подвыпившие летчики – один немец, другой итальянец – обсуждали преимущества нового «мессершмитта» перед «капрони».
– Хотя это и не патриотично по отношению к моей стране, – говорил итальянский капитан, – но ваш новый «мессер», конечно, значительно лучше. Ваши летчики, видимо, несколько хвастают его скоростью, но скорость тем не менее поразительна. Жаль, что вы его скрываете даже от нас. Хоть бы не хвастали тогда…
– Мы, немцы, – ответил подполковник люфтваффе, – при многих наших недостатках, лишены одного: мы не хвастуны.
Ян, рассеянно обернувшись, заметил:
– Это к вопросу о том, что человеческие недостатки есть продолжение их достоинств?
– Марксистская формулировка, – заметил Хаген. – Или мне показалось?
– Показалось, – ответил Штирлиц. – У них об этом иначе сказано.
– Вы большой знаток марксизма? – удивился Пальма. – Вот моя карточка, заходите при случае – поболтаем о Марксе.
– С удовольствием. А это мои телефоны – звоните.
– Пятьсот семьдесят километров! – продолжал итальянец. – Это скорость, которая сокрушит авиацию мира. Я не верю, что у нового «мессера» такая скорость!
– Единственное, что мы умеем сейчас делать, – хохотнул немецкий летчик, – так это наращивать скорости.
– Даже шестисоткилометровые? – не унимался итальянец.
– При нашем налоговом прессе можно выжать и тысячу километров.
Пальма снова засмеялся:
– Вот так выбалтываются государственные секреты.
Штирлиц уперся взглядом в лицо немецкого летчика. Тот словно замер, поперхнувшись смехом.
– Господин Хаген, вы не знаете, тут есть хорошая охота на коз? – спросил Пальма.
– А я не охотник. Это живодерство бить коз… Несчастные, добрые создания: чем они виноваты, если Бог создал их такими красивыми? Что касается рыбалки – тут я дока. Ловить молчаливых хитрых рыб – это дело мужчин. Я готов составить вам компанию. Штирлиц у нас чемпион по рыболовству, и с ним я соперничать не берусь…
Штирлиц, извинившись, отошел к немецкому летчикy – подполковнику люфтваффе. Как раз его и итальянца лакей обносил сэндвичами. Штирлиц взял с подноса сэндвич и неловко уронил его на колени немца.
– Простите, подполковник, – засуетился он, – пойдемте, у нас в туалете есть мыло, мы замоем пятно…
Он увел летчика в туалет и там тихо сказал ему:
– Вы что, с ума сошли? Болтаете, как тетерев на току! Ваша фамилия?
– Манцер, – ответил летчик. – Вилли Манцер, штурмбаннфюрер! Я не думал, что нас так слышно…
– А итальянец? Вы же не мне болтали, а ему! Вы немец – не забывайте об этом нигде и никогда! Враг подслушивает, а он разнолик, наш враг, весьма разнолик и всеяден.
Манцер побледнел. Штирлиц заметил, что бледнеть он начал со лба, как покойник, и капельки пота появились у него на лице – мелкие, словно бисеринки. «Пьющий, – машинально отметил Штирлиц. – Пьет, видимо, вглухую, один – иначе нам бы уже просигнализировали…»
– Завтра позвоните мне по этому телефону, – сказал Штирлиц, вырвав страничку из блокнота. – Надо поговорить.
Берлин, 1937, октябрь
В восемь Гейдрих зашел к Шелленбергу.
– Едем за город, – сказал он, – попьем. Хочется посидеть в каком-нибудь маленьком крестьянском кабачке – только там я чувствую себя самим собой.
Он сел за руль тяжелого «майбаха» и погнал машину по тихим, пустынным берлинским улицам – город засыпал рано – к Заксенхаузену.
– Сказочная у нас природа, – заметил Гейдрих, когда машина, миновав Панков, вырвалась на пригородное шоссе, – лучше нигде нет. Сосняки, дубовые рощи – прелесть какая, а?
– Я не люблю дубовые рощи, они словно подражают олеографии, – сказал Шелленберг.
– Это не патриотично. Нужно любить дубовые рощи. Пруссия поразительна своими дубовыми рощами. Я люблю их в дождливые дни. Черные стволы и тяжелая упругость зеленых листьев… Как это строго и прекрасно…
– Я люблю море.
– Какое? Южное или северное?
– Южное.
– Шелленберг, я всегда подозревал, что вы плохой патриот. Ну что может быть прекрасного в южном море? Жара? Слюнтявость во всем. Северное море – ревущее, строгое, мужественное, с ним приятно сражаться, когда заплываешь на милю от берега, а валы идут на тебя и норовят утащить с собой – это я люблю.
– Вам надо было родиться морским поэтом.
– Я рожден моряком, я до сих пор вижу море во сне – наше северное, грозное море…
– А я во сне вижу берега Африки, громадные пустынные пляжи…
– Там кругом черные, Шелленберг, как можно?
Вдруг Гейдрих резко затормозил, и Шелленберг сначала не понял, что случилось, только интуитивно уперся руками в ветровое стекло. Что-то желтое, большое перескочило дорогу прямо перед радиатором машины, а второе – но не желтое, а скорее светло-серое – полетело в кювет, и Шелленберг понял, что это олененок, которого задело крылом «майбаха». Гейдрих бросил машину прямо на середине пустого шоссе и побежал к кювету. Олененку перебило ногу, он весь дрожал, и кровь, сочившаяся из открытой раны, обнажившей белую, сахарную кость, была темной, дымной.
– Боже, какой ужас, боже мой, – прошептал Гейдрих.
Он поднял олененка на руки, положил его на заднее сиденье и, развернув машину, помчался обратно в Берлин. Разбудив сторожа ветеринарной лечебницы, Гейдрих послал его за врачом, и дрожь перестала его колотить лишь под утро, когда олененок уснул, вытянув перебинтованную, положенную в шину стройную ногу…
– Едем ко мне, – сказал Гейдрих. – Едем, Шелленберг, мне одному сейчас будет очень тягостно. Глаза этого несчастного не дадут уснуть…
Дома на Ванзее он выпил стакан водки, включил радиолу и долго слушал народные германские песни, изредка подпевая хору, и Шелленберг заметил, что, когда Гейдрих подпевал, в его стальных продолговатых глазах закипали слезы.
Рано утром Гейдрих вызвал Шелленберга. Шеф имперского управления безопасности был, как всегда, сух, до синевы выбрит, и глаза его были недвижны, словно бы остановленные невидимым гипнотизером.
«Совсем другое лицо, – подумал Шелленберг, – вчера он был человеком, а сейчас он слепок с самого себя».
Передав Шелленбергу папки с материалами из Стокгольма и Парижа, обсудив шифровки, поступившие за ночь из Чехословакии, он в конце беседы как бы между прочим сказал:
– А теперь о мелочах… Отправьте тройку верных людей в Бургос и организуйте поездку на фронт для Пальма вместе с парой итальянцев или испанцев – кого не жаль. И пусть на передовой наши люди ликвидируют их: если мы уберем одного Пальма – это может вызвать ненужные сплетни, а так – на войне, как на войне. Это он раскрыл фирму Вельтена, больше некому. Играть с ним сейчас опасно, опять-таки война есть война. Когда нет доказательств, верных, как аксиома, подозрительного человека, который может серьезно мешать, надо убирать, это единственный разумный путь в дни, когда предстоят новые битвы.
– Хорошо. Я сейчас же радирую Лерсту.
– Не надо. Он пытается вербовать латыша, пусть себе… Это надо сделать тихо и спокойно, чтобы не сталкивать лбами Франко с Европой, сейчас это нецелесообразно.
…Газеты Бургоса вышли с большими красными шапками: «Варварство Мадрида продолжается. Вчера под Уэской, в горах, бандиты обстреляли машину военных корреспондентов. Мигель Фернандес Паселья из „Нуэво Диарио“ и Викторио Лучиано из „Пополо дель Италиа“ убиты, латышский корреспондент Ян Пальма, сотрудничающий в британской прессе, тяжело ранен. Попирая все и всяческие нормы международного права, красные обстреливают госпитали, машины журналистов, мирные селения. Гнев испанского народа обрушится карающим мечом на кремлевских марионеток, засевших в Мадриде и Барселоне».
Бургос, 1938, 6 августа, 17 час. 09 мин.
Штирлиц продолжал бушевать. Он не лез с кулаками на Пальма. Он умел бушевать иначе – отходил к окну, сцеплял пальцы за спиной и, переступая с мысков на пятки, вколачивал фразы, словно гвозди:
– Вы сказали, Пальма, что это именно наши люди хотели вас угрохать под Уэской. Вы утверждаете, что в вас стреляли не красные, а коричневые – то есть мы. Почему же вы остались после ранения здесь? Почему вы не уехали в свою родную Ригу? Или, на худой конец, в любимый вами Лондон?
– Я остался потому, что во мне до сих пор живут сомнения, Штирлиц. Окончательные решения я принимаю, лишь когда сомнениям места не остается. Тогда я принимаю единственное решение. Если в меня, друга Германии, стреляют немцы, значит что-то случилось, значит враги пытаются нас поссорить, мягко говоря.
– Какие враги?! – крикнул Хаген и осекся, потому что Штирлиц повернулся и отошел от окна. – Какие враги, господин Пальма? – повторил он тихо.
– Наши с вами, – ответил Пальма. – Наши общие враги…
Штирлиц снова включил лампу и направил яркий свет в лицо Яну.
– Хорошо… Поговорим об общих врагах…
Лондон, 1937, октябрь
Узнав о ранении Яна, Мэри Пейдж приехала в посольство Латвии – за десять минут до того, как клерки закончили свой рабочий день. Сначала швейцар учтиво объяснял этой красивой женщине, что посещение посольства в столь поздний час нецелесообразно, но потом, видя, что все разговоры бесполезны, соединил даму с советником Петерисом, который немедленно согласился принять ее.
– Вы уже знаете? – спросила Мэри.
– Да.
– Вы можете помочь мне получить испанскую визу сегодня же?
– Нет.
– Что говорят врачи?
– Врачи пока молчат. Это же ранение в голову…
– Вы думаете…
– Я думаю, что Ян пролил кровь не на той стороне и не за то дело.
– По-вашему, было бы лучше проливать кровь на стороне красных?
– А подыхать за фашистов?
– Сейчас я не сужу, когда, на чьей стороне и почему он пролил свою кровь, Петерис. Я сейчас просто жалею кровь – его кровь, понимаете? Вы же его друг…
– Мы были друзьями, Мэри. Так вернее. Как мне это ни обидно. Что вы собираетесь делать в Испании?
– Вы задаете дикие вопросы. Я собираюсь быть с ним. Просто-напросто.
– Простите, но меня спросят в испанском консульстве – кто вы ему: жена, сестра?
– Скажите, что сестра.
– Я чиновник министерства иностранных дел, и я не могу лгать: мне дорог престиж родины.
– А жизнь… знакомого? Солгите им что-нибудь… Солгите, что я еду туда как сестра милосердия из Армии спасения…
– Я сострадаю вам, Мэри… Но врать не стану. Это не тот случай, чтобы врать. Постарайтесь понять меня. Впрочем… Если хотите, я попробую связать вас с одним джентльменом, он может помочь вам, только он может…
Генерал Гортон успел внимательно оглядеть Мэри, пока шел ей навстречу по толстому белому ковру, скрадывавшему шаги: казалось, что он двигается бесшумно, как кошка.
– Я понимаю ваше горе, – сказал он, усаживая женщину в кресло возле камина. – В наше время стоицизм был правилом, ныне, в век прагматизма, это исключение – тем приятнее мне помочь вам… Кофе?
– Спасибо.
– Можно спросить чаю… Говорят, правда, что он портит цвет лица.
– Сейчас хорошая косметика.
– Вы сохраняете чувство юмора. Господин Петерис просил меня принять участие в вашей судьбе…
– В судьбе моего друга.
– Мисс Пейдж, вы англичанка?
– По паспорту я латышка… Моя мать – англичанка.
– Видимо, кровь сильнее паспорта?
– Генерал, в госпитале умирает мой друг.
– Не считайте медлительностью внешние ее проявления. Я могу договориться о вашей поездке в Бургос сегодня же. Петерис объяснил вам, кто я?
– Нет. Он просто сказал, что вы можете помочь мне.
– Напрасно он играет в детскую конспирацию. Я из контрразведки империи, мисс Пейдж. У меня корыстный интерес к вашему больному другу. Я хочу, чтобы мой интерес, корыстный, и ваш, бескорыстный, совпали.
– Вы предлагаете мне шпионить?
Гортон отрицательно покачал головой:
– Нет. Я предлагаю вам охранять вашего друга. Если, конечно, он выкарабкается из этой передряги. Говорят, состояние у него тяжелое.
– Он выкарабкается.
– Вы его хорошо знаете?
– Именно поэтому я и убеждена в том, что он выкарабкается.
Гортон улыбнулся:
– Он чувствует, как вы постоянно молитесь о нем.
– Я атеистка.
– Можно молиться и не веруя. Как правило, большинство людей обращается к Богу в минуты трудностей; в дни счастья мы забываем о Нем.
– Я актриса, генерал…
– Разве у актрис не бывает трудностей?
– Я говорю о другом. Я не умею охранять. Я умею петь, и то довольно плохо…
– Охранять любимого надо от друзей – всего лишь. От врагов мы вам поможем сохранить его.
– Почему латыш пользуется таким вниманием британской контрразведки, генерал?
– Я объясню, если услышу ваше согласие помочь мне.
– Вам или той службе, которую вы представляете?
– Я не разделяю два эти понятия, мисс Пейдж. И я, и моя служба отдали себя делу охраны империи от посягательств извне – отныне и навечно.
– Не думала, что разведчики так сентиментальны…
– Я контрразведчик, мисс Пейдж. А мы сентиментальны куда больше, чем вам думается. Во имя империи мы должны положить на заклание друга, если он окажется врагом, враг может сделаться братом, если он оказал помощь Острову – при этом мы сделаны из такого же человеческого материала, как и все остальные.
Неслышная горничная принесла две чашки чаю. Гортон подвинул Мэри сахарницу и спросил:
– С лимоном?
Бургос, 1938, апрель
«Лерсту. Совершенно секретно, напечатано в 2 экз. После выхода Пальма из госпиталя „Санта крус“ агентурная и оперативная разработка серьезно затруднилась в связи с присутствием в Бургосе его любовницы Мэри Пейдж. Все время они проводят вместе. Два раза мне удалось выехать с ним на рыбалку, но на какие-либо откровенные разговоры он не идет, подчеркивая свою приверженность идеологии фюрера, сохраняя при этом определенные сомнения по поводу жестокости нашей внутренней политики. Данные телефонных прослушиваний и наружного наблюдения никаких результатов не дали. Можно также с уверенностью сказать, что никаких компрометирующих контактов он не имеет. Ни с кем из подозрительных или неизвестных лиц не встречался. Прошу санкционировать продолжение работы с Пальма. В случае, если вы санкционируете продолжение работы, прошу разрешить завтра выезд вместе с ним за город на лов форели. Штурмбаннфюрер Штирлиц».
Штирлиц, Вольф и Ян – со шрамом на лбу, бледный еще после недавнего ранения (Новый, 1938 год он встречал в госпитале) – сидели в сосновом, напоенном запахом смолы лесу так, чтобы видеть всех, кто мог подойти к реке, а их чтобы никто заметить не мог: лес был молодой, саженый, частый. В сумках у Штирлица и Пальма уже лежало по нескольку маленьких форелей. Покусывая травку, Вольф говорил:
– Нужны либо технические данные нового «мессершмитта», либо, что еще лучше, сам самолет. Это просит Москва. После того как Ян провалил Вельтена, фашисты поняли, что пришло время испытывать свою новую технику, а не жульничать с продажей чужого старья… А новая техника у них, говорят, весьма серьезная.
– Надо покупать кого-то из летчиков, – сказал Пальма.
Штирлиц покачал головой:
– Мне поручено следить за летчиками. Лерст «отдал» мне весь легион «Кондор».
– Между прочим, он резидент гестапо только по Испании или по Португалии тоже? – спросил Вольф.
– Нет, вопрос с Португалией еще не решен. Я бы сообщил по своим каналам. Летчика нам купить не удастся. Здесь отборный состав.
– Что ты предлагаешь? – спросил Вольф.
– Охрана аэродрома не так чтобы очень сильна… – заметил Штирлиц.
– Ты имеешь в виду наш десант?
– Да.
– Ну а колеблющихся, – Ян продолжал свое, – среди летчиков нет?
– Я таких не знаю, – ответил Штирлиц, – если обнаружится такой колеблющийся, он будет немедленно увезен в Германию, а там его будут лечить от колебаний в концлагере.
– А если нам попробовать создать колеблющегося? – предложил Ян.
– Это интересно, – сказал Вольф.
– Хотя очень рискованно, – добавил Штирлиц.
– Но мы же здесь занимаемся не классическим балетом, – сказал Ян.
– Кстати, о балете, – сказал Вольф, передавая Яну плоскую маленькую коробочку, похожую на жевательную резинку. – Это новая шифровальная таблица. На всякий случай… Если тебе придется связываться с центром непосредственно – выйдешь своим шифром.
Ян сунул таблицу в карман.
– Нет, – улыбнулся Штирлиц, – так дело не пойдет. Сделай себе какой-нибудь тайник, хотя при обыске это мало спасает.
– Ладно, – поморщился Ян, – как это у вас говорят, «кривая вывезет»? Юстас, а помнишь того летчика, который болтал о «мессере» на приеме?
– Это было еще до твоего ранения?
– Конечно.
– У тебя хорошая память…
– Журналистская, – скромно заметил Ян, – а вообще чаще хвали меня – я это люблю… Что из себя представляет этот Манцер?
– Подонок. Есть такая категория людей – «сильные подонки».
– Я сейчас попробую, – сказал Ян, – нарисовать вам его психологический портрет. Если вы согласитесь со мной – тогда мы, можно считать, выиграли партию…
– Рисуй, – согласился Вольф.
– Юстас говорит – «сильный подонок». Это хорошо, что он сильный подонок. Такие разваливаются еще скорее, чем подонки обыкновенные. Сильный, чувствуя, что он теряет – а сильному всегда есть что терять, – пойдет на любое предательство, лишь бы сохранить те блага, которых он добился силой.
Штирлиц лег на теплую землю, поросшую густой травой, и закинул руки за голову.
– Продолжай, – сказал он. – Твое предложение любопытно. Только сделай сноску на то, что я превратил Манцера в своего друга – он стал осведомителем СД. После того приема у Кессельринга.
– Он легко пошел на это? – спросил Вольф.
– Как дитя.
– Тем более я прав, – сказал Ян. – Офицерский корпус, кодекс чести, нелюбовь армии к СС – он имел право послать тебя в задницу. И Рихтгофен поддержал бы его. Значит, либо он ищет приключений и ему льстит возможность узнать то, что не дано знать другим, либо он чем-то скомпрометирован – сильнее, чем той трепотней на приеме.
– Это все? – спросил Штирлиц, не поднимаясь с земли. – Если все, тогда твой психологический портрет неполон. Он еще может быть истым наци, убежденным наци, поэтому он так легко дал согласие быть другом СД. Эту возможность ты отвергаешь?
– Но ты же сам слышал, как он говорил о рейхе: «Налоги выжимают скорости».
– Это ерунда, – заметил Вольф. – Он говорил правду. Он из их элиты, ему можно говорить правду, и даже подшучивать над рейхом ему дозволено.
– В отношении элиты сложнее, – сказал Штирлиц. – Его отец коммерсант, связанный с иностранными фирмами. Таких в рейхе не любят…
– Вот ты и ответил за меня, – улыбнулся Ян, – ты сам не заметил, как дал ответ вместо меня.
– Наверное, все-таки заметил, – сказал Вольф. – Юстас человек зоркий.
– Ну, хорошо, – как бы продолжая рассуждать сам с собой, сказал Штирлиц, – ну, допустим, мы раскопаем что-либо на папу Манцера… А как себя поведет сын?
– Апостолы и те отрекались, а этот – отнюдь не апостол, – сказал Вольф.
– Я смогу через моих швейцарских коллег-газетчиков организовать кое-что для Манцера, – сказал Ян.
Штирлиц поднялся с земли, потянулся и предложил:
– Ладно, пошли ловить рыбу, сейчас будет хороший жор, солнце садится.
…Вернувшись с рыбалки, Штирлиц заглянул к Хагену и сказал ему:
– Послушайте, приятель, я давно хотел спросить: помните, на приеме у Кессельринга я зацепил болтуна-летчика? Я вам еще тогда показал его и попросил обратить внимание. Помните? Манцер.
Штирлиц знал болезненное самолюбие Хагена, и он умел бить в точку, когда имел с ним дело.
– Помню, – ответил тот, – а что?
– Ничего. Ровным счетом ничего. Поступили сигналы, что он в последнее время много пьет – всего-навсего. Я замотался со своими делами, а если у вас есть время и возможность – поглядите за ним. А потом посидим над его делом – вместе. Нет?
«Партайгеноссе Лерст!
Проведенная мною работа дает возможность обратить Ваше внимание на подполковника В. Манцера. Несдержанность в разговорах и частые пьянки заставляют меня просить вашей санкции на установление наружного наблюдения за указанным выше военнослужащим.
Хайль Гитлер!
Ваш Хаген».
Штирлиц посмотрел эту записку перед тем, как Хаген решил нести ее Лерсту.
– Разумно, – сказал он. – Очень разумно. Проверка никогда еще и никому не мешала. Правда, Лерст может спросить о фактах. У вас их нет, кроме моих сигналов. Могли бы, кстати, указать, что я вам подал идею. Ладно, ладно, не дуйтесь… Я щедрый. Мне эти игры уже порядком надоели… Не окажитесь только слишком ретивым – это так же плохо, как быть тюрей.
Он умел говорить с людьми, этот Штирлиц. Он играл партию точно и беспроигрышно.
Хаген, как и рассчитывал Штирлиц, решил продолжить свои наблюдения, не подключая аппарат местного гестапо. Этого только и надо было Штирлицу. Ему надо было оставить Манцера без наблюдения еще две-три недели.
(«Военно-экономические мероприятия можно сохранить в тайне созданием видимости производства обычного военного имущества. Планы производства на случай войны нужно будет доводить только до офицеров военной экономики. Они будут подсудны военному трибуналу за разглашение военной тайны».
Из памятной записки «И.-Г. Фарбениндустри» «Милитаризация экономики» от марта 1935 г.)
«Вольфу. Санкционируем операцию с летчиком. Центр».
Бургос, 1938, 5 августа
…Вода в бассейне была то голубой, то зеленой, и в этой сине-зеленой воде плавали Мэри Пейдж и Пальма.
– А голова совсем не болит, милый? Я не могу спокойно видеть этот твой шрам. Или все же болит?
– Разваливается, когда я не встречаю тебя больше двух дней.
– Слава богу, что ты не сказал: «разваливается, как только я тебя вижу».
– Эти слова – удел супружества, а мы с тобой свободны в любви, как парламентарии.
– Ненавижу слово «супружество».
Пальма засмеялся:
– Что, опошлили идею?
Вокруг них плавали люди, видимо, все добрые знакомые Яна, потому что он перешучивался почти с каждым и ловил завистливые взгляды: женщины здесь, особенно такие, как Мэри, были в редкость.
– Где мы будем сегодня вечером? – спросила Мэри.
– Я живу на первом этаже, и занавески у меня тюлевые, а испанские дети ужасно любопытны. А я тебя так долго не видел: целых восемь часов. Поэтому у детей будет достаточно пищи для любопытства.
– А я живу на втором этаже, гардины тяжелые, темные, барские. Мне жаль бедных испанских детей, мы лишаем их пищи для любопытства.
– До вечера.
– Я жду тебя. Ты сейчас далеко?
– Нет. Недалеко. В пределах Испании…
…Пальма остановил машину около входа в бар и в дверях замешкался, столкнувшись лицом к лицу с толстым человеком, судя по костюму и перстням – торговцем.
В дальнем углу сидел Вольф, одетый, как и Ян, в полувоенную форму иностранных журналистов при штабе Франко. На левом нагрудном кармане был прикреплен металлический значок: «Военный корреспондент».
За столиком, рядом с Вольфом, сидел подполковник из «Кондора» – Вилли Манцер.
– Хэлло, Вилли, – сказал Пальма. – Хэлло, сэр, – кивнул он Вольфу. – Послушайте, Вилли, – весело спросил Ян, – вашего папу зовут Густав? Густав Адольф Манцер?
– Именно так зовут моего папу, – ответил летчик и хотел было выпить коньяк.
Ян остановил его руку:
– Ваш папа деранул в Швейцарию.
– Тише, – сказал Вольф, – тише, коллега… Вы подведете этого парня. Я не решался ему об этом сказать.
– Что? Что! Что?! – спросил Вилли, сразу же переходя на шепот.
– Ваш папа владел парфюмерным магазином во Франкфурте-на-Майне?
– Да.
– Мне только что прислали швейцарские газеты – мы их получаем через Лондон. Вот смотрите. Ваши из гестапо, видимо, получат их завтра.
Вилли развернул газету «Бернские новости». На второй полосе был напечатан портрет его отца. Сверху крупным шрифтом набрано: «Я не хочу нацизма, я хочу свободы». Манцер два раза прочитал статью, потом протер глаза и сказал:
– Бред какой-то!
– А при чем здесь вы? – удивился Ян. – Папа сбежал, ну и черт с ним. Вы воюете, вы делаете свое благородное дело.
– За такого папу, – сказал Вольф, – с этого славного немецкого парня сдерут кожу. Вы не знаете, как это делается у него на родине.
– А если я сейчас пойду и заявлю первым? – спросил Вилли.
– По-моему, это будет очень правильно, – сказал Ян, – и по-рыцарски.
– Вас первым же самолетом отправят в Берлин, – сказал Вольф. – А там – в концлагерь.
– Вы думаете? – спросил Вилли растерянно.
– А вы? – спросил Вольф.
– Да ну, какая ерунда! – сказал Ян.
– Нет, не ерунда, – сказал Вилли.
– Пропуск на аэродром у вас есть? – спросил Вольф.
– Чего ему не хватало дома?! – бормотал Вилли. – Это все бабы! После того как умерла мама, он совсем спятил! Я так и знал, что он выкинет какую-нибудь гадость! Это же конец мне! Конец!
– Пропуск у вас на аэродром есть? – повторил Вольф.
– Я не долечу до Франции.
– Долетите до Мадрида.
– Там красные.
– С новым самолетом вас примут красные, белые и зеленые.
– Они собьют меня, когда я буду подлетать к Мадриду. Высоко в небе с нашими скоростями они меня не достанут, а когда я пойду на посадку, они пристрелят меня.
– Значит, пропуск у вас есть? – еще раз спросил Вольф. – И вы можете вылететь сразу?
– Это трудно, но выхода другого нет, наверное.
– Протащите меня с собой на аэродром, – сказал Вольф, – моим американским читателям будет интересно прочесть этот скандальный репортаж, а потом я вас сведу с папой в Швейцарии. – И он открыл свою папку – там лежала ракетница. – Здесь красная ракета, с ней мы с вами сядем в Мадриде.
– А может быть, я дотяну до Франции?
– Вряд ли, – сказал Вольф.
– Почему? В общем-то можно, – сказал Ян, – хотя рискованно: все решают метры.
Вольф поднялся и сказал:
– Сейчас я вернусь.
– Куда он? – нервно спросил Вилли.
– А черт его знает.
– Чей он?
– Американец. Набит деньгами, с ним не соскучитесь…
Вольф вышел из бара и подошел к газетному киоску. Он купил все английские и французские газеты. Никаких сообщений о сбежавшем Манцере-отце не было. Ожидая сдачи, Вольф яростно почесал затылок, и это увидел сидевший в машине Штирлиц.
Вольф вернулся в бар, подсел к столику и бросил на стол газеты.
– Пока все спокойно, – сказал он, – может быть, эта газета сюда и не дойдет.
– Все равно они узнают, – сказал Вилли. – Не сейчас – так ночью, не ночью – так утром.
– Э, ерунда, – сказал Ян, – я готов за вас поручиться перед Рихтгофеном.
– При чем тут Рихтгофен?! Все будут решать Лерст, Штирлиц и Хаген.
В бар вошел Штирлиц, и Вольф заметил, как Манцер весь сжался.
Штирлиц подошел к их столику, пожал руку Пальма, сухо поклонился Вольфу и подчеркнуто доброжелательно похлопал по плечу Манцера.
– У вас сегодня нет вылета, браток? – мимоходом спросил он.
– Нет, – ответил Манцер, – а что?
– Да ничего, просто я интересуюсь. Пожалуйста, загляните ко мне после обеда. Ладно? Я буду ждать вас к трем часам…
– В посольстве? – тихо спросил Манцер.
– Нет. Ждите меня на аэродроме… Сегодня, кстати, когда уходят транспортные «юнкерсы» в Берлин?
– В шесть часов, – еще тише ответил Манцер. – Или в семь, я забыл… А в чем дело?
– Да ни в чем, – ответил Штирлиц, не глядя на Манцера. – Просто хочу с вами поболтать кое о чем… Чисто дружески.
Штирлиц сел за соседний столик и крикнул официанту:
– Марискос, пожалуйста, и бутылку тинто!
– У вас есть машина? – спросил Манцер.
– Есть, – ответил Вольф. – У меня есть.
– Поехали.
Ян заказал себе коньяку, неторопливо выпил его, взял под мышку газеты, зашел в туалет, сжег там единственный экземпляр «Бернских новостей», а пепел бросил в унитаз.
«Гейдриху. Весьма срочно. На ваш запрос сообщаю, что в день перед побегом Манцера на секретном экземпляре „мессершмитта“ он был замечен в баре „Неаполь“ в обществе Пальма и неизвестного англоговорящего журналиста. Прошу вашей санкции на повальный обыск всех английских и американских журналистов при штабе Франко. Прошу вас также разрешить вербовку Пальма. Поскольку он чудом остался жив после „мероприятия“ под Уэской и не сбежал в Англию, его можно сломить. Лерст».
«Лерсту. Ваши действия считаю разумными. В случае, если Пальма на вербовку не поддастся, вам надлежит поступить решительно и в соответствии с серьезностью момента. Гейдрих».
Узнав об этих радиограммах, Штирлиц сел в машину, на которой обычно ездил Хаген, и понесся в город. Он притормозил в переулке, не доезжая одного квартала до дома, где Пальма снимал этаж. Он прошел к нему дворами и нажал кнопку звонка. Штирлиц понимал, как он рискует. Он мог предположить, что Лерст уже выставил наружное наблюдение где-нибудь здесь, поблизости.
Штирлиц достал из кармана мелок и нарисовал скрипичный ключ «головой» вниз. На минуту он замешкался, словно почувствовал на своей спине десятки холодных взглядов из гестаповской засады. Потом резко повернулся и пошел к консьержу.
– Где Пальма? – спросил он старика. – Давно ли сеньор не приходил?
– Сеньор был с сеньоритой днем, а после они уехали. Сеньор теперь редко ночует дома, у него такая прекрасная рыжая сеньорита…
– Если сеньор придет, позвоните, пожалуйста, срочно мне вот по этому номеру.
И Штирлиц, написав номер телефона левой рукой, правой сунул старику пять песет.
«Лерсту. Завербованный мною консьерж дома, в котором проживает Пальма, сообщил, что на дверях его квартиры появился странный знак. Я выехал на место – на дверях квартиры действительно был нарисован скрипичный ключ. Это свидетельствует о том, что в ближайшие дни следует ожидать его контактов с кем-то из неизвестных нам лиц. Штирлиц».
Он рассчитывал все точно, но в шахматной партии всегда трудно предсказать ход противника. Штирлиц взвесил все, он рассчитал, что либо сегодня он увидит Яна, либо тот сам заметит скрипичный ключ на своей двери и поймет, что нужно срочно уходить. Или, во всяком случае, найдет возможность связаться с ним.
Но вышло все не так, как предполагал Штирлиц, хотя этой своей докладной запиской он вывел себя из-под всяческих подозрений, которые могли возникнуть в ведомстве Шелленберга, если бы Пальма сумел быстро уйти из Испании.
Все получилось бы точно так, как задумал Штирлиц, если бы Пальма не встретил Мэри. Она ждала его на теннисном корте. Он посадил ее в машину, обнял, поцеловал и улыбнулся:
– Теперь я свободен – надолго и всерьез. А ты?
– Да здравствует свобода! – ответила Мэри, и Ян рассмеялся и поцеловал ее в лоб.
– Ты стала республиканкой. Это плохо. У нас может быть только один лозунг: «Да здравствует король!»
– Король и свобода – для меня понятия нерасторжимые.
– Прости, моя прелесть, я забыл, что ты консерватор.
– А я всегда помню, что ты фашист.
Пальма притормозил и сказал:
– Зайдем ко мне, я переоденусь, а то неудобно вечером ходить в грязной куртке.
– Ты меня устраиваешь в грязной куртке, в чистом фраке и просто в купальнике.
– Значит, мы с тобой никуда не пойдем сегодня?
– С каких пор ты стал менять костюмы перед тем, как пойти в здешний кабак?
– Ты, как всегда, права, – согласился Пальма.
И он включил первую скорость, и машина резко взяла с места, и он не увидел того знака тревоги, который заставил бы его в первую очередь сжечь шифровальную таблицу, лежавшую в заднем кармане брюк…
Бургос, 1938, 6 августа, 19 час. 40 мин.
– Пальма, мне надоело слушать вашу ложь, – сказал Штирлиц, выключив свет настольной лампы, направленной в лицо Яну. – А вам, Хаген?
– Мне тоже. Наверное, эта ложь надоела и самому господину Пальма…
– Какой прогресс в наших отношениях: Хаген стал говорить обо мне, как воспитанный человек, – заметил Ян.
– Между прочим, Хаген один из воспитаннейших людей, и я бы посоветовал вам, Пальма, когда вас поселят в Берлине, не акцентировать внимания наших руководителей на том досадном инциденте, который имел место.
– Инцидент – это что? – поинтересовался Пальма. – Это когда бьют по физиономии?
– Нет, положительно латыши – великая нация, – ухмыльнулся Штирлиц, – даже под виселицей не теряют чувства юмора.
– Под виселицей потеряет, – сказал Хаген, – он думает, что все это игры. А это не игры.
– Это далеко не игры, – подтвердил Штирлиц, – в этом мой друг прав, Ян. Я не знаю, сколько вы еще пробудете здесь, но хочу вам дать добрый совет на будущее: начните говорить… Если вам хочется жить – вы станете сотрудничать с нами… Иного выхода нет. Ни у вас, ни, главное, у нас.
– Ну пожалуйста! – удивился Пальма. – Вы кричали на меня и топали ногами, вместо того чтобы сразу сделать внятное и разумное предложение. Я согласен, бог мой…
Штирлиц отрицательно покачал головой:
– Это несерьезно. Хаген не зря спрашивал вас так подробно и о Вене, и о Берлине, и о покойном Уго Лерсте. Вы уходили от ответов, вы – я уже прочитал записи ваших допросов – несли какую-то наивную чепуху про своих подруг, про кабаки и бары и ни разу не дали ни одного правдивого ответа. А сейчас вы говорите мне – «пожалуйста». Кто с вами поддерживает контакт? Какие вопросы интересовали красных? Каким образом и почему вы убили несчастного Лерста?
– Я не убивал несчастного Лерста, я не имел контактов с красными, я не…
Резко зазвонил телефон. Штирлиц поднял трубку и, отведя трубку от уха, дождался, пока замолчит пронзительный зуммер.
– Надо будет сказать связистам, – заметил он, – позаботьтесь об этом, Хаген. Такой сигнал, что порвутся перепонки, если сразу приложить к уху.
– Я скажу им.
– Спасибо… Штирлиц слушает!
Радист сообщал, что на имя штурмбаннфюрера пришла радиограмма из Берлина. Штирлиц и Хаген переглянулись.
– Посмотрите, – попросил Штирлиц Хагена, – если что-нибудь важное, вызовите меня.
Когда Хаген ушел, Штирлиц одними губами прошептал:
– Если они выслали самолет – готовься к вечеру и не паникуй, если меня долго не будет.
Ян кивнул и громко сказал:
– Послушайте, Штирлиц, у меня плохо с головой, право слово. И потом вы открыли мне так много неожиданного, что все это надо обдумать. Позвольте мне полежать – я ведь все же только-только после ранения…
– Я очень сожалею, но придется посидеть здесь, – ответил Штирлиц. – Я хочу вместе с вами вспомнить в деталях, что было вчера вечером. Вы сидели у Мэри Пейдж, в ее номере, не так ли?
– Я лежал в номере у Мэри – если вы добиваетесь точности…
(А Штирлиц с Лерстом в то время шли в сопровождении трех агентов гестапо и нескольких франкистских «гвардия сивиль» по коридору: начался повальный обыск англичан и американцев из журналистского корпуса.
– Здесь живет баба? – спросил Штирлиц портье, шедшего рядом, когда они остановились около номера Мэри.
– Да, сеньор.
– Стоит ли тревожить даму? – спросил один из «гвардии сивиль». – У вас к ней ничего конкретного нет?
– А черт его знает, – буркнул Штирлиц, – пока ничего…
– Ладно, пошли дальше, – сказал Лерст.
Мальчик из ресторана с подносом, на котором были установлены приборы на две персоны, лихо пронесся по коридору, остановился возле Лерста и постучал в дверь номера.
– Здесь живут двое? – удивился Лерст. – Хаген сказал, что тут одна женщина.
– У сеньоры в гостях сеньор, – пояснил мальчишка, – тот, у которого была прострелена голова на фронте.)
…Хаген позвонил Штирлицу от шифровальщиков через пять минут.
– Самолет за латышом вылетает из Берлина.
– Когда?
– Там не сказано когда. Сказано, что вылетает. И прибудет сюда завтра утром, в девять ноль-ноль. Самолет № 259. Под командованием обер-лейтенанта Грилля.
– Рудольфа Грилля?
– Там нет имени.
– А вы разве не знаете Рудди?
– Нет.
– Странно. Он же водит наши спецсамолеты…
– Я никогда не летал на спецсамолетах.
– Еще полетаете. Ну, двигайте сюда. Я передам вам нашего гостя, он не про мои нервы…
– Ага! – засмеялся Хаген. – А вы еще меня бранили…
– Я вас не бранил, а делал замечание по службе.
– Простите, штурмбаннфюрер…
Штирлиц положил трубку и шепнул очень устало:
– Выдай ему концерт. Он сейчас будет тебя бояться. И постарайся поспать – боюсь, что ночь у нас будет хлопотная…
– Хлопотнее вчерашней?
(А вчерашняя ночь была очень душной – менялась погода, с Пиренеев натянуло низкие тучи, неожиданные в это время года. В небе ворочался гром. Лерст сидел на краешке стола, наблюдая, как Штирлиц вместе с испанскими полицейскими осматривал вещи в номере Мэри.
– Какие-нибудь неприятности? – спросил Пальма. – Или вы подозреваете мою подругу в преступлении?
– Нет, что вы, – ответил Лерст, – идет повальный обыск во всем отеле. Если бы мы не зашли к вам, завтра же злые языки обвинили вас в том, что вы – цепной пес германского посольства. Только поэтому нам пришлось сюда влезть, тысяча извинений, Ян, тысяча извинений…
В номер заглянул Хаген и сказал:
– У остальных все в порядке.
– Спасибо. Пожалуйста, произведите личный досмотр господина Пальма, Хаген.
– Прошу простить, господин Пальма, – сказал Хаген.
– Пожалуйста, пожалуйста, это даже интересно, – ответил Ян, – меня еще никогда не обыскивали – особенно друзья, которые только тем и озабочены, как бы оберечь мое реноме…
Он поднялся, подмигнул Мэри и вдруг почувствовал, как на лбу начал медленно выступать холодный пот: он вспомнил, что в заднем кармане брюк лежит та новая шифровальная таблица, сделанная в форме жевательной резинки, которую ему передал Вольф.
– Мэри, – сказал он, отправляясь в ванную в сопровождении Хагена и двух испанских полицейских, – дай мне пожевать резинку, а то у меня от волнения пересохло в горле.
Мэри, завернутая в простыню, усмехнулась:
– Я боюсь, джентльмены будут шокированы, если я встану с кровати, милый. Жевательная резинка лежит у меня в столе.
Штирлиц медленно посмотрел на Яна и все понял. Он открыл письменный стол и протянул Пальма несколько жевательных резинок, потом как-то странно поскользнулся на паркете и растянулся, стукнувшись плечом о край стола. Лерст и Хаген бросились к нему, и этого мгновения было достаточно, чтобы Пальма сунул шифровальную таблицу в рот и одновременно протянул резинки двум испанским полицейским. Те развернули серебряные бумажки и отправили в рот апельсиновые резинки. Штирлиц, потирая плечо, поднялся и сказал:
– А считается, что на паркете нельзя сломать себе шею.
Лерст, заметив, что испанцы еще не начали досматривать Пальма, раздраженно спросил:
– Что вы жуете?
Те открыли рты, показывая ему резинку.
Ян закашлялся и проглотил шифровальную таблицу.
– Я так испугался вашего окрика, что проглотил свою, – сказал он, – теперь у меня слипнутся кишки, и похороны придется организовывать за ваш счет. Хотите пожевать?
– Я не корова.
Лерст пропустил Пальма вперед. Он присел на край ванны: у него была такая манера – приседать все время на края столов, подоконников, кресел. Полицейские обшарили карманы Пальма и передали содержимое Лерсту. Тот просмотрел записную книжку, блокнот, вернул все это Яну и сказал:
– Пожалуйста, извинитесь перед вашей дамой, Ян, но мне необходимо сейчас же перекинуться с вами парой слов.
– Валяйте.
– Не здесь. Давайте уйдем из отеля, так будет лучше.
Когда Лерст и Ян вышли из номера, Штирлиц сказал полицейским:
– Здесь порядок. Пошли.
Он дождался, пока все покинули номер, повернулся к Мэри и долго смотрел на нее, а потом, тяжело вздохнув, тихо сказал:
– Спокойной ночи… Желаю вам увидеть вашего приятеля еще раз.)
Хаген вернулся в кабинет – в обычной своей манере – очень тихо, почти неслышно.
– Кликните кого-нибудь из дежурных, – попросил Штирлиц, – а мы с вами покинем господина Пальма минут на пять.
Когда они вышли из кабинета, Штирлиц сказал:
– Боюсь, что здесь нам с ним не отличиться – он молчит, как тыква, или несет чушь.
– Я же говорил вам…
– Говорили, говорили… Вы умница, приятель… Тем не менее сидите с ним и мотайте его, а я поеду в посольство и договорюсь с Кессельрингом о сопровождении этого самолета здешними истребителями от границы…
– Хорошо. Мне ждать ваших указаний или отпустить его спать?
– Нет… Спать – только в крайнем случае, если у него действительно перекрутились в черепе шарики. А так – работайте. Вдруг вам повезет? Это ж прекрасно, если вы напишете рапорт Гейдриху о вашей победе над латышом.
– Это будет наша совместная победа.
– Да будет вам, приятель… Я вообще в этом деле пятая фигура с краю. Счастливо, я, пожалуй, двину, пока они не разъехались пьянствовать…
– Сегодня, по-моему, нигде нет приемов…
– По-вашему, пить можно только на приемах? Ну и экономный же вы парень, Хаген! То-то я смотрю, вы всегда на приемах хлещете вино на дармовщину… Не сердитесь, не сердитесь, дружочек, не надо на меня сердиться, тем более, когда я говорю правду.
По дороге в посольство – Кессельринг согласился принять его, несмотря на поздний час, – Штирлиц успел заскочить в книжный магазин на Пасео де ля Кастельяна. Он купил все новые газеты и, отдавая деньги хозяину, сеньору Эухеннио, негромко сказал:
– Пусть Вольф ставит на белых петухов, завтра в девять обещают интересный бой. Я заеду к вам через два часа…
Эти слова означали для Вольфа многое: во-первых, становилось ясным, что самолет за Пальма прибудет завтра в девять утра. Во-вторых, Юстас подтверждал целесообразность своей версии – подмены самолета. И, в-третьих, последняя фраза означала, что встреча у Клаудии состоится не завтра, как они оговаривали, а сегодня, через два часа. Они договорились днем, что Вольф не будет уходить в горы, а, наоборот, передислоцирует своих людей в город – на случай непредвиденных обстоятельств.
Кессельринг был весел. Он знал, что ему идет улыбка, он делается похожим на Фрица Кранга, когда улыбается и чуть приподнимает левую бровь. Ему об этом сказал рейхсмаршал, который пересмотрел все детективные фильмы с участием Фрица Кранга, и поэтому Кессельринг старался всегда сохранять рассеянную и надменную кранговскую улыбку, даже если улыбаться ему и не хотелось. А сейчас ему хотелось улыбаться, он был весел, несмотря на дьявольскую неприятность с похищенным «мессершмиттом». Геринг сообщил, что вся ответственность за это возложена на Лерста и вообще на ведомство Гейдриха. Но у него были более веские основания сохранять веселое настроение: республиканцы откатывались по всему фронту, и, как полагали серьезные военные, дни красных теперь уже были сочтены.
– Вас еще не бросили в ваш каземат? – спросил он Штирлица. – Или рука руку моет? Я бы на вашем месте написал задним числом донос на Лерста. – Он засмеялся: – Мертвые все вынесут, они безмолвны.
– Завтра утром мы отправляем в рейх одного человека… За ним выслали наш самолет…
– Я знаю. Я жду Рудди так же, как вы…
– Кого?
– Рудди Грилля. Этот парень учился у меня летать, я люблю его, как сына. Я распорядился, чтобы он задержался здесь на день, я уже получил согласие вашего шефа.
План в Москве был разработан до мельчайших подробностей. Самолеты республиканцев барражируют на границе с Францией, над труднодоступными горными районами. Они сбивают самолет № 259. Он должен быть сбит внезапным ударом, над горами, чтобы исключить возможность радиосвязи с Бургосом. Самолет № 259 – точно такой же марки – вылетает из Барселоны и, пройдя над морем, ложится на курс сбитого эсэсовского самолета. Радисты с борта самолета по коду, переданному Штирлицем, просят доставить Пальма на поле аэродрома. Они принимают его на борт и улетают в Париж, где на аэродроме Яна ждет санитарная машина, которая доставит его в госпиталь для инфекционных больных.
Никто не мог предположить, что из сотен пилотов, совершавших рейсы из Берлина в Бургос, этот рейс будет выполнять ученик Кессельринга, который приглашен военным атташе провести день у него в доме. Тщательно запланированная операция – именно этим личностным, чисто случайным обстоятельством – была разрушена и развалилась, как карточный домик.
Штирлиц посмотрел на часы. Стрелки показывали 22.45.
(«В этом году мы поставили перед собой некоторые задачи, которые мы хотим решить с помощью нашей пропаганды. И важнейшим из инструментов для этого я хотел бы назвать нашу прессу.
Во-первых, постепенная подготовка немецкого народа. Обстоятельства вынуждали меня целое десятилетие говорить почти только о мире. Лишь благодаря непрерывному подчеркиванию воли Германии к миру и мирных намерений мне удалось шаг за шагом отвоевать для немецкого народа свободу и вложить в его руки оружие, которое было необходимо для подкрепления следующего шага. Само собой разумеется, что эта многолетняя мирная пропаганда имеет свои сомнительные стороны. Ибо она может очень легко привести к тому, что в умах многих людей наш режим будет ассоциироваться с решимостью и волей сохранять во что бы то ни стало мир. Но это приведет не только к ложному пониманию целей нашей государственной системы, но и прежде всего повлечет за собой то, что немецкий народ, вместо того чтобы во всеоружии встретить развитие событий, будет пропитан духом пораженчества, который может лишить или лишит наш режим всех видов на успех. Сила обстоятельств была причиной того, что я многие годы говорил только о мире. Но затем появилась необходимость постепенно перестроить психологически немецкий народ и не спеша внушить ему, что существуют дела, которые, если их нельзя разрешить мирными средствами, надо разрешать с помощью силы. Но для этого было необязательно пропагандировать насилие как таковое. Потребовалось освещать для немецкого народа определенные внешнеполитические события таким образом, чтобы его внутренний голос постепенно сам стал взывать к насилию. Это значит, что определенные события надо было освещать так, чтобы в сознании широких масс народа постепенно автоматически выработалось убеждение: если нельзя добиться по-хорошему, то надо пустить в ход силу, ибо дальше это продолжаться не может. На эту работу ушли многие месяцы. Она планомерно разворачивалась, планомерно проводилась, усиливалась. Многие ее не понимали, господа.
Многие считали, что все это какое-то извращение. Это те сверхученые интеллигенты, которые не имеют никакого понятия о том, как надо подготовить народ к тому, чтобы он стоял по стойке смирно, когда начнется гроза…
Господа, моей величайшей гордостью всегда было то, что я создал для себя партию, которая и во времена неудач послушно и фанатично следовала за мной, именно тогда фанатично следовала за мной. Это являлось моей величайшей гордостью и было для меня громадным утешением. Мы должны добиться того, чтобы и весь немецкий народ поступал так же. Он должен фанатично верить в окончательную победу…
Ему надо привить абсолютную, слепую, безусловную и полную веру в то, что в конце концов мы достигнем того, что нам необходимо. Этого можно добиться и достигнуть только путем непрерывного воздействия на силы народа, подчеркивая положительные стороны народа и по возможности избегая говорить о так называемых отрицательных сторонах.
Для этого также необходимо, чтобы в первую очередь печать слепо придерживалась принципа: руководство действует правильно! Господа, мы все не гарантированы от ошибок. И газетчики подвержены этой опасности. Но все мы можем существовать только в том случае, если перед лицом мировой общественности не будем говорить об ошибках друг друга, а сосредоточим внимание на положительном».
Из секретного выступления Гитлера перед представителями немецкой прессы.)
– Послушайте, Пальма, – устало повторил Хаген, – что бы вы мне тут ни пели про вашу несчастную голову, я тем не менее буду повторять свои вопросы: почему вы убили Лерста? Чем вызвано было это неслыханное злодеяние, подвластное судопроизводству рейха? Так что и с формальной стороны все будет соответствующим образом оформлено. Надеюсь, вы понимаете, что здешние власти – уже задним числом – выдадут вас в руки германского правосудия?
– Повторяю: я не убивал Лерста.
– А кто же его убил? Святой Дух?
– Этот мог, – согласился Пальма.
«А ведь сейчас снова начнет бить, – подумал Ян, заметив, как передернулось лицо Хагена. – Что за манера такая? Не может возразить и сразу начинает драться… Между прочим, я сейчас подумал, как наивный идиот. Каким был тогда, на последней германской станции, когда думал испугать Лерста публичным разоблачением его издевательства над тем стариком. К этой швали применимы только зоологические градиенты… А спать я, конечно, не смогу – во мне все напряжено до предела…»
– Я жду ответа, – сказал Хаген. – Я обращаюсь к вашей логике и здравому смыслу. Расскажите мне, что произошло вчера, после того как Лерст увез вас из отеля – от вашей подруги?
(Лерст вчера гнал машину чересчур рискованно: шины тонко визжали на крутых поворотах горной дороги.
– А как звали того журналиста, который сидел в баре вместе с вами и Манцером?
– Все вы знаете обо мне! Кто вам об этом мог донести?
– Друзья, Ян, мои друзья.
– Ага, признались! Я давно подозревал, что вы не дипломат, а шпион!
– Как имя того парня, который удрал с Манцером?
– Черт его знает! То ли Джим, то ли Джек. Эти имена в Штатах так же распространены, как у вас Фриц или Ганс.
– Вы не запомнили его имени?
– Казните – не запомнил.
– Из какой он газеты?
– По-моему, он левый. Такой, знаете ли, яростный левый… Куда мы едем, кстати?
– Недалеко. А откуда вам известно, что он левый?
– Он не скрывал своих взглядов. Мы живем в таких странах, где пока еще можно открыто выражать свою точку зрения…
– Значит, можно первому встречному выражать свою точку зрения?
– Конечно.
– Но это же идиотизм…
– А он у нас традиционен. Гайд-парк, например… Вы же помните Гайд-парк.
– Помню, помню… Когда вы познакомились с ним?
– С неделю… Да, да, с неделю тому назад…
Лерст резко затормозил и отогнал машину на обочину. Справа поднималась отвесная скала, а слева в черную зловещую пустоту обрывалась пропасть. На дне пропасти глухо гудел поток. Трещали цикады. Небо было звездное, низкое.
Лерст вышел из машины, следом за ним вышел Пальма.
– Красота какая, – сказал Пальма, – просто нереальная красота…
– Да, – согласился Лерст, – очень красиво. Хотя я предпочитаю северную, нордическую красоту. А здесь… Ладно, об этом потом. Послушайте, Ян, мои испанские друзья навели справку: за последние полтора месяца ни один иностранный журналист из Штатов сюда не приезжал. Погодите, дослушайте меня. Более того, мы опросили – не прямо, конечно, а через своих людей – ваших коллег из Ассошиэйтед Пресс и из Юнайтед Пресс Интернейшнл… Им тоже ничего не известно об этом ультралевом журналисте из Штатов. И, наконец, главное: ни в одном из отелей Бургоса ни один американец не останавливался за последние полтора месяца.
– Между прочим, я живу не в отеле… А тот парень мог быть канадцем…
– И канадцы не останавливались… И англичане… И русские…
Пальма засмеялся:
– Интересно, если бы сюда приехал русский.
– Тут есть несколько русских, – ответил Лерст, тяжело упершись взглядом в лоб Пальма. – Но не в них сейчас дело. И даже не в том, что местные жители сообщают полиции обо всех своих квартирантах, а вот об этом американце никто ничего не сообщал… Не в этом дело, мой дорогой Ян…
Лерст прислушался: где-то внизу натужно стонал мотор машины. Потом мотор захлебнулся, и стало совсем тихо, только по-прежнему трещали цикады…
– Дело в другом человеке… Я вам нарисую сейчас одну занятную жанровую сценку, ладно? Юный латышский аристократ-англофил, увлеченный идеями марксизма, отправляется на баррикады в Вену и не скрывает в беседах с коллегами антипатий, которые он питает по отношению к нашему движению. Более того, он пишет в своей газете антигерманские статьи. Потом он замолкает на год и вдруг объявляется в Лондоне, но уже не в красной рубашке, а в коричневой форме, похожей на нашу, эсэсовскую. Этот человек пишет теперь прямо противоположное тому, что он писал год назад. Он, правда, не бранит марксизм и Кремль, но он возносит идеологию фюрера и ведет себя как истинный друг национал-социализма. Потом он приезжает сюда, в Испанию, и помогает нам драться с коммунистами, и очень честно пишет о силе нашей авиации, и очень дружит с нашими летчиками, и присутствует при таком головоломном эпизоде, когда коричневый ас неожиданно сменил свой цвет на красный…
– Что касается меня, то я обожаю маскарады.
– Это не смешно, Ян. Как бы вы на моем месте отнеслись к такому любителю маскарадов? На моем месте – я подчеркиваю, потому что я, именно я, дважды брал на себя ответственность и уверял руководство, что юный латыш не может вести такую коварную двойную игру, которая проглядывает во всех перечисленных мною эпизодах. Отвечайте, Ян, прямо: что вы об этом думаете?
– Хорошо, что вы меня сюда вывезли, – ответил Ян, – а то я мог бы подумать, что это допрос.
– А вы и считайте это допросом.
– Мне неприятна мысль, что из-за неумения раскрыть преступление вы решились оскорбить мое достоинство.
– Ян, если мы сейчас не оформим сугубо серьезным образом наши – на будущее – деловые взаимоотношения, я докажу всем, что вы русский агент. Это для вас так же плохо в Европе, как и здесь – за Пиренеями. Я уж не говорю о Германии. Впрочем, и в Англии, и в Латвии с таким же неудовольствием отнесутся к этому, если я подтвержу, что в довершение ко всему вы были и нашим агентом.
– А ведь это шантаж! Я возмущен, Уго, я возмущен!
– Легче, легче! Легче, Чемберлен Иосифович.
– Зачем же оскорблять британского премьера? Я ведь не называю вас Атиллой Адольфовичем.
– А для меня это комплимент.
– Что вы скажете, если я завтра напишу в моих газетах о ваших недостойных предложениях? И об этом возмутительном ночном допросе – тоже?
– Стоит ли?
– Вы меня ставите в безвыходное положение…
– Вы сами себя ставите в безвыходное положение. Я предлагаю вам достойный выход.
– Покупайте послезавтра «Пост», – сказал Ян и хотел, повернувшись, уйти по дороге вниз, к городу, но он увидел, как Лерст полез за пистолетом. Ян в рывке схватил его руку. Они боролись, и Ян старался поднять руку Лерста с зажатым в ней пистолетом вверх. Прогрохотал выстрел, второй… третий… Лерст стал оседать на землю.
Ян обернулся. На шоссе белела фигура: это стояла Мэри. Она медленно прятала пистолет в белую сумку, сделанную из толстой блестящей соломки…
…Через сорок минут после этого Ян и Мэри бегом поднялись в ее номер.
– Не надо брать никаких вещей, – сказал Ян. – Сразу на аэродром. Немедленно…
– Но паспорт хотя бы я должна взять, милый…
– У тебя хорошее самообладание…
Они поднялись на второй этаж и увидели около номера трех испанских офицеров. Мэри остановилась. Ян шепнул:
– А вот это – конец.
– Сеньор Пальма? – лениво козырнув, спросил картинно красивый испанский полковник.
– Да.
– Сеньор Пальма, я прошу вас следовать за нами.
– Можно переодеться?
– Я бы на вашем месте этого не делал.
– Куда мы поедем?
– В штаб генерала Франко.
– И все-таки мне бы хотелось переодеться…
– Как вам будет угодно.
Ян думал, что офицеры пойдут следом за ним в номер, но они остались ждать в коридоре.
«Испанцы и есть испанцы, – успел еще подумать Ян, – рыцари не смеют оскорбить даму. Убить – да, но оскорбить – ни в коем случае».
Он обнял Мэри и шепнул:
– Улетай в Лиссабон. Сейчас же. Или уезжай. На моей машине.
…«Линкольн» с тремя молчаливыми испанцами пронесся по спящему Бургосу и остановился возле штаба Франко. Ян в сопровождении военных прошел через целую анфиладу комнат и остановился в огромном, отделанном белым мрамором мавританском дворике. Где-то вдали слышалась андалузская песня.
– Я не разбираю слов, – обратился Пальма к одному из военных. – О чем она поет?
– Я тоже плохо понимаю андалузский, – ответил офицер. – Я астуриец… По-моему, она поет о любви. Андалузский диалект ужасен, но они всегда поют о любви…
– Ничего подобного, – сказал второй испанец, – она поет о корриде.
– Нет, – возразил третий, – она поет колыбельную песню…
– Под такую колыбельную не очень-то уснешь, – сказал Пальма.
– Ничего, мы, испанцы, умеем засыпать и под марши, – усмехнулся полковник.
Распахнулись двери, и из внутренних комнат вышел министр иностранных дел Хордана в сопровождении военного министра Давила. Он приблизился к Яну и сказал:
– За кровь, которую вы пролили на полях испанской битвы, я хочу преподнести вам этот подарок, – и он протянул Яну золотую табакерку.
Пальма вытер глаза. От пережитого волнения они слезились.
Хордана понял это иначе. Он обнял Яна и тоже – молча и картинно – прижал пальцы к уголкам своих красивых больших глаз.)
Бургос, 1938, 6 августа, 23 час. 05 мин.
Вольф поднялся навстречу Штирлицу.
– Плохо, – сказал Штирлиц. – Все плохо. Надо давать отбой нашим самолетам. Будем решать все здесь. Сами.
– Люди готовы. Скажи, когда выгодней по времени делать налет на вашу контору.
– Это глупо, Вольф.
– Рискованно, сказал бы я, но не глупо.
– Помирать раньше времени – глупо.
– Это верно. Я, знаешь, познакомился в Мадриде с одним поразительным американцем. Хемингуэй, писатель есть такой… Он мне сказал, что главная задача писателя – долго жить, чтобы все успеть.
– Ну, вот видишь, – мягко улыбнулся Штирлиц. – Поступать будем иначе. Какая у тебя машина?
– Та же… Грузовичок.
Штирлиц достал из кармана карту Бургоса и расстелил ее на столе.
– Смотри, вот это маршрут с нашей базы на аэродром…
– Понимаю тебя… Только почему ты думаешь, что твои эсэсовцы остановятся на дороге?
Штирлиц снял трубку телефона, быстро набрал номер:
– Ну как дела, приятель? Что у вас хорошенького?
– Ничего хорошего, штурмбаннфюрер, – ответил Хаген. – Он снова закатил истерику.
– Вы…
– Нет, нет… Он стал орать, что у него плохо с головой. Я не знаю, как они его повезут в самолете…
– Ничего, поблюет маленько. Видимо, им лучше знать, там, в Берлине, если они нас не послушались.
– Просто у кого-то зудят на него руки. Мы сделали главное дело, а пенки теперь снимут ребята на Принц-Альбрехтштрассе.
– Одна контора-то, Хаген. Одно дело делаем. Что ж нам делить? Вы с ним кончайте беседы – заберут его у нас, и бог с ним… Я бы вообще отправил его сейчас на аэродром, на гауптвахту – под расписку. Может, у него и вправду что-то с головой. Пусть уж он там у них, у военных, дает дуба. Как считаете?
– Я его сейчас же отвезу.
– Вам не надо. Зачем? Чтобы были сплетни? Получили радиограмму, и все. Ваша миссия закончена. Поменьше заинтересованности, дружище, всегда скрывайте свою заинтересованность: это, увы, распространяется не только на врагов, но и на друзей. Сейчас половина первого, у меня есть приглашение в одно хорошее место, верные люди. Приезжайте на Гран Виа через полчаса, я обещаю вам хорошую ночь, если уж нам показали кукиш из Берлина.
– А где это?
– От Пласа дель Капуцино – направо. Я вас буду ждать возле бара «Трокадеро». Не в баре, а у входа.
– Спасибо, штурмбаннфюрер, я приеду.
– Латыша отправьте часа через два…
– Я ж тогда буду с вами…
– Отдайте письменное распоряжение: отправить к трем часам под конвоем из трех человек и передать обер-лейтенанту люфтваффе Барнеру.
– Он уже знает?
– Кто?
– Ну, тот обер с гауптвахты?
– Сошлитесь на Кессельринга, у меня же был с ним разговор…
– Может быть, это удобнее сделать вам?
– Какая разница… Вам еще придется иметь с ним дело, он будет к вам почтительнее относиться, если вы сошлетесь на Кессельринга.
– А может быть, нам следует самим отвезти его на аэродром?
– Почему? Скажут, что примазываемся… В общем-то, если хотите, валяйте, я не поеду. А вы сопроводите, чего уж, конечно, сопроводите…
Он нашел точное слово. Он не мог бы больше унизить Хагена, чем предложив ему «сопроводить». Он интуитивно понял, что именно это слово решит все дело. Он научился не ошибаться в своих чувствованиях.
– Я через сорок минут буду у вас, – сказал Хаген.
– Ну и ладно. Жду. Только, черт возьми, может, все же стоит вам его сопроводить, нет?
– Зачем примазываться? Вы правы. Сейчас кончу прослушивать пленку с записями допроса и приеду.
Он знал, что Хаген к нему приедет. Он точно строил свой разговор с ним. Он играл, не готовясь заранее и не расписывая предварительную партитуру вопросов и ответов. Просто, работая с Хагеном, Лерстом, Кессельрингом, он запоминал, анализировал и выверял те черты их характеров, которые в нужный момент могли быть использованы им, Штирлицем.
Он не ошибся: Хаген приехал в условленное время. Штирлиц до этого выпил несколько порций джина, чтобы от него несло алкоголем.
– Вам полагается штрафной, – сказал он Хагену, протягивая ему стакан с виски. Он сыпанул туда немного снотворного и поэтому, куражась, проследил за тем, чтобы Хаген выпил все до дна. В баре было шумно, и две цыганки, которых он пригласил с собой, немедленно взгромоздились на колени к Хагену.
– За нашу нежность и дружбу, – возгласил Штирлиц еще раз. – И до конца. И черт с ними, с теми крысами, которые сидят в тепле и тишине и думают, что они утерли нам нос!
– Черт с ними, – согласился Хаген, – с этими вонючими крысами… Простите, сеньориты, такую грубость, но иначе не скажешь… Как можно сказать иначе про вонючих тыловых крыс, которые пытаются резать наши подметки на ходу?
Штирлиц захохотал, положил локти на стол, смахнул вазу и две рюмки. К ним бросился лакей с замеревшей улыбочкой, собрал битый хрусталь и унес полупустую бутылку.
– Ты заметил, – сказал Штирлиц, – он унес полбутылки себе. Они все страшные жулики, эти цыгане…
– Эй! – крикнул Хаген. – Дайте нам еще виски! Пусть они пьют остатки после нас. Да, прелестные сеньориты?!
Они выпили еще раз, и Штирлиц попросил оркестр сыграть немецкую солдатскую песню. Они заиграли странную песню, и Штирлиц, раскачиваясь, поднялся и, приложив палец к губам, сказал:
– Сейчас я вернусь…
Штирлиц позвонил в гестаповский «домик» из кабины, стоявшей при входе в гардероб.
– Хаген просил спросить, – сказал он, – когда вы думаете отправлять латыша?
– Сейчас вывозим, – ответил ему дежурный, – на аэродроме ждут.
– Посадите в машину пару лишних людей, – сказал Штирлиц, – чем черт не шутит.
– Да, штурмбаннфюрер!
– И оружие проверьте!
– Это мы уже сделали.
– Ну, счастливо. А потом можете отдыхать…
Штирлиц незаметно вышел из телефонной будки. За углом стоял маленький грузовичок. Штирлиц устроился рядом с Вольфом, который сидел за рулем. В кузове было шесть ребят из его группы.
– Быстро, нам их надо перехватить в горах, пока они не выехали в город.
– Мы тебя ждали десять минут.
– Ты думаешь, так легко споить этого буйвола?
Они успели вовремя: машина с Пальма только-только вышла из ворот конспиративного дома гестапо. Конвойный удивленно посмотрел на шофера: на пустом шоссе стоял Штирлиц, подняв руку.
– Что он, контролирует нас?
– Не нас, а Хагена. Они все друг друга контролируют, – ответил шофер, – иначе нельзя.
Он затормозил возле Штирлица и, выйдя из машины, отрапортовал:
– Все в порядке, штурмбаннфюрер, никаких происшествий.
– Это тебе кажется, что никаких происшествий. Быстро перегружайте его в пикап и садитесь туда сами.
– А моя машина?
– Я поеду следом за вами.
Трое конвоиров и солдат быстро затолкали Пальма в кузов пикапа, где сидело шестеро ребят из группы Вольфа.
– Как устроились? – спросил Штирлиц, заглядывая в кузов. – Не тесно?
– Ничего, – засмеялся шофер, – потерпим…
Штирлиц включил свет карманного фонаря. Конвоиры прищурились – Штирлиц нарочно слепил их ярким лучом света. Их и скрутили, пока они были полуслепыми.
Машину гестапо он пустил в пропасть, а сам сел в свою. Ее вел седьмой член группы Вольфа, который тут же перескочил в пикап.
– Будь здоров, Ян, – сказал Штирлиц, – все о'кей…
– Ненавижу американизм… Говори, как истые англичане: «ол райт», – ответил Пальма и заставил себя улыбнуться…
Вернувшись в бар, Штирлиц зашел в туалет. Посмотрел на часы. Было 2.14. Значит, он отсутствовал тридцать три минуты. Он вышел из кабины, дождавшись, в туалет вошел кто-то из пьяных посетителей. Штирлиц сунул голову под кран и долго стоял так, наблюдая за тем, как полупьяный испанец дергался возле писсуара.
Взъерошив волосы, окликнул:
– Сеньор, помогите пьяному союзнику доковылять в зал.
Испанец оглушительно захохотал:
– Люблю пьяных немцев… Вы, когда пьяные, такие безобидные, такие веселые…
– Уж и безобидные, – икнул Штирлиц, – скажете тоже…
Он заставил испанца сесть к ним за стол и выпил с ним на брудершафт:
– Я думал, вы там уснули! – сказал Хаген, сдерживая яростную зевоту. – Я тоже спать хочу. А ты, Розита? Ты хочешь баиньки под перинкой? А?
– В такую жару спать под периной?! – засмеялась Розита. – Пауль, что ты говоришь?!
Штирлиц сказал:
– Хаген, я живу с тобой под одной крышей, и только от девочки узнал, что тебя зовут Пауль. Как тебя звала мама? А?
– Моя мама звала меня Паульхен, а тебя?
– Мы уже перешли на «ты»? Какой ты молодчина, Паульхен! Называй меня Макси… Мама звала меня «М»!
– Мама звала его ослиным прозвищем, – засмеялся Хаген и лег головой на стол. – Спать хочу. Ма!.. Розита, почеши мне шею, а? Да не смущайся ты, пташечка…
– Хаген, тут спать не гоже, – сказал Штирлиц, – это же не наш дом…
– Ничего, ничего, – сонно ответил Хаген и осовело поглядел на испанца. – Правду я говорю, каудильо?
Испанец медленно поднялся из-за стола.
– Я требую извинений, – сказал он. – Я оскорблен.
– Я приношу вам извинения за моего знакомого, который не умеет себя вести, – сказал Штирлиц, – пожалуйста, простите его, дружище. Помогите мне поднять его – он совершенно пьян. Вы где живете? Далеко? Я могу вас подвезти…
– Я живу на Пасео дель Прадо.
– В отеле «Флорентина»?
– Да.
– Меня зовут Штирлиц, а вас?
– Мигель Арреда.
– Я завтра вас разыщу, и вы отхлещете по щекам моего коллегу, и я подтвержу, что вы были правы, а он себя вел по-свински…
– Но он ваш приятель…
– Прежде всего он дипломат. Если не умеет пить – пусть не пьет!
Штирлиц протянул испанцу свою визитную карточку. Тот, поблагодарив, долго рылся в своем бумажнике, пока не нашел свою, напечатанную на сандаловом дереве.
Штирлиц прочитал: «финансист». Адрес. Телефон бюро и домашний.
«Настоящий финансист печатал бы свои визитки на простой бумаге, – машинально подумал Штирлиц, – обидно, если этот сандаловый Арреда жулик: он мой главный свидетель, он – мое алиби».
Попрощались они, как принято у испанцев: долго хлопали друг друга по плечу и спине; со стороны поглядеть – братья.
…Штирлиц будил пьяного Хагена в присутствии помощника посла. Он долго тряс его за плечо, и, когда тот открыл глаза, Штирлиц закричал:
– Где Пальма, паршивец вы этакий?! Вы же обещали отправить его на гауптвахту! Где он?!
– Он там, – ошалело ответил Хаген, – я велел конвою…
– Его там нет! И конвоя нет! А отвечать за вас кому? Мне? Да?!
«Я вышел, – думал он, продолжая кричать на Хагена. – Я вышел чистым. Теперь мне надо брать его под защиту и принимать удар на себя. Это надо сделать на будущее. Это хорошо, если я приму удар на себя, – этот сопляк ничего не поймет, это поймет Гейдрих. Он любит такие штучки – корпоративное братство и прочая галиматья… Ян теперь в безопасности – это главное. И я сработал чисто. Теперь надо отоспаться, чтобы не сорваться на мелочи, потому что я очень устал, просто сил нет, как устал…»
«Центр. Операция проведена. Дориан на месте. Вольф».
«Центр. Вызван в Берлин для дачи объяснений. Хаген разжалован в рядовые. Юстас».
«Мисс Мэри Пейдж,
отель „Амбассадор“,
Лиссабон, Португалия.
Дорогая Мэри! Как всегда, мне везет на приключения. Видимо, это не так уж плохо. Я никогда не думал, что желтуха столь безболезненна, но – одновременно – так опасна. Со свойственной мне мнительностью я каждое утро щупаю печень и жду конца. Я бы спасся виски, но мне категорически запрещено пить. Я скучаю. Без. Тебя. Моя. Дорогая. (Это мой новый стиль – мне нравится рубить фразы, это модно и в духе времени.) Я почти не заикаюсь. Очень хочу отрастить усы. Я видел тебя во сне бритой наголо. Мой отъезд из столицы нашего испанского друга прошел на редкость гладко, без каких-либо неприятностей, и я еще раз понял, что являюсь самым страшным паникером и трусом из всех существовавших на этой прекрасной и бренной земле.
Твой Барух Спиноза по имени Ян Пальма.
Р.S. Французские медицинские сестры носят очень короткие халатики, и это меня нервирует, хотя, как ты знаешь, моя страсть – северная поджарость, но отнюдь не французская спелость. Арриба Испания. Твой каудильо Франко. Париж, госпиталь „Сосьете франсискан“, Пальма.
Денег у меня нет ни пенса – это для сведения.
Твой Крез».
Мадрид – Бургос – Москва
Альтернатива
(1941)
Обо всем и еще кое о чем
1
Начальник генерального штаба вермахта Гальдер, будучи человеком педантичным, делал записи в своем дневнике каждый день. В тот мартовский вечер он вывел своим каллиграфическим почерком следующее:
«19. III.1941.
Совещание: Югославия присоединяется к Тройственному пакту. Английских войск в Греции 18–20 тыс. человек.
Топпе (до сих пор 1-й обер-квартирмейстер во Франции) доложил о своем назначении на должность уполномоченного генерал-квартирмейстера при группе армий „Север“, развернутой для операции „Барбаросса“.
Германн (начальник оперативного отдела группы армий „Ц“). Состоялось обсуждение задач группы армий „Север“. 4-я танковая группа должна наступать вместе с пехотой. Необходимо увеличение сил пехоты по обе стороны шоссе, идущего на Шяуляй. Переброска одной-двух дивизий в район Мемеля. Вопрос о местах для перехода через Неман в начале наступления».
2
«Верховное главнокомандование вооруженных сил.
Штаб оперативного руководства.
Отдел обороны страны.
№ 44142/41.
Ставка фюрера.
Отпечатано 15 экз.
Совершенно секретно.
Только для командования.
Цель маскировки – скрыть от противника подготовку к операции „Барбаросса“… Чтобы выполнить поставленную задачу, необходимо на первом этапе, т. е. приблизительно до середины апреля, сохранять ту неопределенность информации о наших намерениях, которая существует в настоящее время. На последующем, втором этапе, когда скрыть подготовку к операции „Барбаросса“ уже не удастся, нужно будет объяснять соответствующие действия как дезинформационные, направленные на отвлечение внимания от подготовки вторжения в Англию…
Фельдмаршал Кейтель».
3
На пресс-конференции, которые проводил каждую среду в МИДе, на Вильгельмштрассе, шеф отдела печати Шмит, журналисты собирались загодя. Молчаливые официанты с солдатской выправкой обносили гостей пивом и горячими сосисками, а в Берлине весной сорок первого года продукты эти жестко нормировались карточной системой; деловитые журналисты из-за океана, скандинавы, испанцы и швейцарцы экономили карточки на пиво и мясные продукты, совмещая работу с сытным обедом. Поодаль, возле больших итальянских окон, стояли арабы и японцы; арабы морщились от запаха свиных сосисок – Коран есть Коран, а японцы «сохраняли лицо» – негоже сынам Страны восходящего солнца отталкивать соседей, вырывая себе сосиску пожирнее и поприжаристей, и жевать ее, лихорадочно перебрасывая шипучее мясо языком, чтобы не обжечь нёбо.
Штирлиц с любопытством наблюдал за двумя корреспондентами из Москвы, которые старались быть незаметными в толпе своих американо-европейских коллег, но из-за того, что они не хватали, подобно остальным, сосиски, не уплетали их с цирковой быстротой, не глотали жадно пиво, чтобы успеть выпить кружку ко второму подходу официантов и запастись следующей, они в толпе выделялись – словно одетые стояли на пляже.
«Проинструктировали, видно, ребят, – подумал Штирлиц, – не выделяться. Но при этом сказали: „Достоинство прежде всего“. Поди-ка, совмести здесь! Чтобы не выделяться, надо толкать соседей, хватать сосиски, капать пивной пеной на спины коллег и пробиваться сквозь толпу поближе к Остеру, который знает больше остальных журналистов, ибо он близок к Геббельсу».
Шмит появлялся из боковой двери; журналисты, сшибая друг друга, бросались к длинному столу, норовя занять место рядом с шефом прессы, и только американские асы отходили к окнам, чтобы видеть всех собравшихся в зале. Американцы научились получать самую важную информацию после выступления Шмита, когда он начинал отвечать на вопросы: как правило, два или три немецких журналиста спрашивали Шмита по шпаргалке. Соотнося поставленные вопросы с заранее подготовленными ответами Шмита, ребята из Ассошиэйтед Пресс делали более или менее верные прогнозы по поводу очередной внешнеполитической акции Гитлера.
Всякий раз, когда Шелленберг поручал Штирлицу присутствовать на этих пресс-конференциях, чтобы поддерживать контакты с журналистами, которыми интересовалась разведка, Штирлиц прежде всего впивался взглядом в карту на стене, которую открывал помощник Шмита перед началом собеседования. Карта эта была страшная. Коричневое пятно Германии властвовало в Европе. Территории Польши, Чехословакии, Австрии, Дании, Норвегии, Бельгии, Голландии, Франции были заштрихованы резкими коричневыми линиями; Венгрия, Румыния и Болгария, как страны, присоединившиеся к «антикоминтерновскому пакту», были окрашены в светло-коричневые цвета. Резкие черно-коричневые пятна уродовали территории Албании и Греции: там вела войну Италия.
Карта была сделана так, что доминирующая роль гитлеровской Европы подчеркивалась махонькой Англией, нарисованной художником жалостно и одиноко, и далекой Россией, причем в отличие от Англии, где были обозначены города и дороги, Россия представлялась белым, бездорожным пространством с маленькой точкой посредине – Москвой.
Шмит, не отрывая глаз от текста, подготовленного его сотрудниками, прочитал последние известия:
– «Сражения против английского империализма идут по всему фронту. Недалек тот день, когда надменный Альбион будет выбит из всех своих колоний. В недалеком будущем Суэцкий канал – пуповина, связывающая Лондон с Индией, – будет перерезан, и, таким образом, Англия останется без сырья, без резервов, без продуктов питания. Вопрос падения островитян – вопрос решенный, все дело в сроках. Весна или лето этого года будут означать начало европейского мира, после того как Лондон подпишет условия капитуляции, которые мы ему продиктуем. Сражение в Греции и Албании отмечено победоносным наступлением войск великого дуче».
Штирлиц знал, что Шмит сейчас станет говорить, какой монолитной стала Европа, после того как фюрер заставил мир считаться с откровением двадцатого века – с идеями национал-социализма. Он знал, что после «общетеоретического пассажа» Шмит обрушится на Америку, не называя, естественно, ни Рузвельта, ни Белый дом. Он будет говорить о «силах империализма, которые действуют в угоду финансовому капиталу с целью задушить великую европейскую цивилизацию». Все это Штирлиц слыхал уже много раз, и поэтому он поглядывал на Джеймса Килсби из Чикаго: служба гестапо позавчера записала беседу, которую он вел с русским корреспондентом. Килсби – он жил в рейхе недолго и не научился еще осторожности – говорил русскому, что, видимо, следующим ударом, который Гитлер готовит, будет удар по России; он ссылался при этом на своих друзей из вермахта, и, Штирлиц знал, гестапо сейчас наблюдало за всеми контактами Килсби. Русский журналист вел с ним беседу умно и весело. Он говорил Килсби, что в России существует известное агентство ОГГ, но к его сообщениям надо относиться с осторожностью. Американец сказал, что, кроме ТАСС, никакого другого русского агентства он не знает, и полез было за книжечкой, чтобы занести в нее новость. Русский журналист посмеялся: ОГГ расшифровывается как «одна гражданка говорила». Новость только тогда становится новостью, закончил он, когда есть ссылка на серьезный источник информации. Естественно, официальный. Наш парень жил в Германии уже третий год и вел себя точно и выверенно – даже в интонациях.
– Господин Шмит, – поднялся журналист из Лос-Анджелеса, – в центре Европы помимо Швейцарии осталась лишь одна страна, сохраняющая нейтралитет: я имею в виду Югославию. Предстоят ли переговоры на высшем уровне между Берлином и Белградом?
– Мне о факте таких переговоров ничего не известно, – ответил Шмит. – Наши отношения с Югославией строятся на взаимном уважении и полном доверии.
– Можно считать, что нейтралитет Югославии устраивает Берлин? – продолжал допытываться американец.
– Берлин устраивает нейтралитет Швеции и Швейцарии, – ответил Шмит, – мы никому не навязываем своей дружбы.
– Можно ли считать, – негромко спросил Килсби, – что нейтралитет Югославии является следствием ноты Молотова по поводу введения германских войск в Румынию и Болгарию?
– Я давно замечаю, Килсби, – ответил Шмит, – что вы пытаетесь проводить в рейхе пропагандистскую работу, рассчитывая на неустойчивых и политически не подготовленных людей!
«Мое ведомство дало ему инструкции, – понял Штирлиц, – Килсби – кандидат на выдворение».
– Господин Шмит, я пользуюсь официальными документами, – ответил Килсби. – Некоторые швейцарские газеты утверждают, что нейтралитет Югославии стал возможен после обмена нотами между рейхсканцелярией и Кремлем.
– Наши отношения с Россией, – ответил Шмит, – отличаются истинным добрососедством. Введение наших войск в Болгарию и Румынию произошло по просьбе монархов этих стран – они нуждаются в защите от английских посягательств. Еще вопросы, пожалуйста!
«Когда же они начнут? – подумал Штирлиц. – Они должны начать этой весной. Почему наши молчат? Почему мы не предпринимаем никаких шагов? Если Югославия откажется от нейтралитета, значит, весь фронт от Балтики до Черного моря будет в руках Гитлера. Почему же мы молчим, боже ты мой?»
Но по укоренившейся в нем многолетней привычке беседовать с самим собой, отвечать на вопросы, поставленные однозначно и бескомпромиссно, Штирлиц сказал себе, что ситуация, сложившаяся в мире весной сорок первого года, такова, что всякое действие, а тем более открытая внешнеполитическая акция, направленная против Германии, невозможна, ибо она будет свидетельствовать о том, что «нервы не выдержали», поскольку открытого нарушения условий договора о ненападении со стороны рейха не было. Понимая, что Гитлер рано или поздно ударит по его родине, Штирлиц тем не менее отдавал себе отчет в том, что всякое «поздно», всякая, даже самая минимальная, оттяжка конфликта на руку Советскому Союзу. Это была аксиома, ибо успех в будущей войне складывался из цифр, которые печатали статистические ведомства в Москве и Берлине, сообщая данные выполнения планов – выплавку стали, чугуна, добычу нефти и угля, – эти сухие цифры и определяли будущего победителя, а они, цифры эти, пока были в пользу Германии, а не Союза. Но Штирлиц понимал, что резервы его страны неизмеримо больше резервов рейха, а исход будущей битвы в конечном итоге определяли резервы. Штирлица не пугало то, что вся Европа сейчас была под контролем Берлина. Это только на первый взгляд было страшно. Если не поддаваться первичному чувству и заставить себя неторопливо, как бы со стороны анализировать ситуацию, то вывод напрашивался сам собой: конгломерат народов, отвергавших идеи национал-социализма, сражавшихся – в меру своих сил – против вермахта, будучи оккупированными, чем дальше, тем активнее станут оказывать сопротивление немцам; сначала, видимо, пассивно, но потом – Штирлиц не сомневался в этом – все более активно, то есть с оружием в руках. Значит, Гитлеру придется удерживать свои резервы с помощью армии; значит, считал Штирлиц, тылы рейха будут зыбкими, ненадежными, враждебными духу и практике нацизма.
Он все это понимал умом, заставляя себя анализировать ситуацию, проверяя и перепроверяя свои посылы, дискутируя сам с собой, но, когда хоть на минуту душа его выходила из-под контроля разума, как сейчас, когда он снова увидел эту проклятую коричневую карту и маленькую точечку Москвы на белой пустыне России, становилось ему страшно, и пропадали все звуки окрест, и слышал он только свой немой вопрос, обращенный не к себе, нет, обращенный к дому, к своим: «Ну что же вы там?! Делайте же хоть что-нибудь! Понимаете ли вы, что война вот-вот начнется?! Готовитесь ли вы к ней?! Ждете ли вы ее? Или верите тишине на наших границах?!»
…Выйдя из ампирного, с купидончиками, выкрашенными голубой краской, здания министерства иностранных дел, он сел в свой «хорьх» с форсированным двигателем, резко взял с места и поехал в маленькое кафе «Грубый Готлиб». Там никто не обратит внимания на то, что он выпьет не двойной «якоби», как это было принято в Германии – стране устойчивых традиций, тут уже ничего не поделаешь, – а подряд три двойных рюмочки сладковатого коньяка.
Американские журналисты учили его веселой медицинской истине «релэкса и рефлекса» – расслабления и отдыха: двадцать дней в горах, одному, без единого слова – тишина и одиночество. Он, увы, не мог себе позволить этого. Но он мог пойти к «Грубому Готлибу», выпить коньяку, закрыть глаза и посидеть возле окна, среди пьяного рева, грустной мелодии аккордеона и скрипки, и почувствовать, как тепло разливается по телу и как кончики пальцев снова становятся живыми – из онемевших, чужих и холодных.
4
Корреспондент ТАСС по Югославии Андрей Потапенко боялся только одного человека на земле: своей жены. Ревнивая до невероятия, она устраивала ему сцены, включив предварительно радио, когда он возвращался домой под утро – с синяками под глазами, едва держась на ногах от усталости.
– Лапушка, но пойми, – молил он, – я же был на встрече…
– Мог позвонить!
– Не мог я позвонить! Как мне сказать помощнику министра: «Одну минуточку, сейчас я позвоню Ирочке, а то она решит, что я у дам»?! Или что? Посоветуй, как мне поступать, посоветуй! Ты же все знаешь!
– Костюков возвращается домой в семь!
– Костюков бездельник и трус. Он отсиживает на работе, а я работаю! Я не умею отсиживать. Мне платят за статьи, а не за сидение в офисе!
– В офисе! А почему от тебя духами пахнет?!
– Так с ним женщина была.
– С кем?
– Я же сказал: с помощником!
– С ним?
– Ну не со мной же, лапушка…
– Хороши дела – с бабой!
– Как раз с бабой и делаются все дела!
– Я завтра же пойду к поверенному и расскажу, что ты…
Этого Потапенко слушать не мог; он уходил в кабинет, запирал дверь и садился к столу, уставившись в одну точку перед собой, – эта точка была для него, словно буи во время шторма, некий символ спокойствия, за который он должен держаться.
Последние дни он спал по пяти часов от силы. Ситуация обострялась с каждым днем: либо Югославия присоединится к англо-греческим войскам, либо Белград станет союзником Гитлера. О нейтралитете мечтали наивные политические идеалисты: балканский стратегический узел, южное подбрюшье рейха и северное предмостье британского Суэца, должен быть разрублен. Жестокая римская формула «третьего не дано» стала руководством в дипломатической практике весной сорок первого года.
Сегодняшний разговор с помощником министра просвещения, воспитанным в Сорбонне, был важным, особенно важным: казалось, что собеседник Потапенко лихорадочно взывает о помощи.
Естественно, ни о чем впрямую собеседник не говорил; манера его поведения была безукоризненна – веселая рассеянность, добрая монтеневская афористичность, щедро пересыпаемая грубоватыми марсельскими шутками; неторопливая и чуть скептическая оценка всего и вся; подтрунивание над собой и своими шефами, что, естественно, позволяло ему в такой же мере подтрунивать над Потапенко и его шефами, но среди мишуры этих изящных, ни к чему не обязывающих умностей помощник министра несколько раз так глянул на Потапенко и так произнес несколько фраз о судьбе несчастных Балкан, обреченных на заклание, особенно теперь, «когда традиционный защитник моей родины вынужден сохранять улыбку на лице, в то время как его возлюбленную раздевает донага насильник и вот-вот опоганит», что только болван не понял бы цели всей этой шестичасовой встречи, на которую был приглашен Потапенко.
Они сидели в маленькой кафане около «Српского Краля», неподалеку от Калемегдана, тянули «турску кафу», запивая попеременно то холодной «киселой водой», то чуть подогретым виньяком с виноградников Босны, и со стороны казалось, что беседуют обо всякой безделице стародавние друзья, стараясь к тому же понравиться красивой женщине, лениво разглядывавшей собиравшуюся в этой кафане белградскую богему, куда как более вызывающую, чем французскую: уж если богема, так чтоб во сто крат богемистее французской. Приморские славяне, спустившиеся к Адриатике из черногорских ущелий и с дымных, заоблачных вершин, любят быть во всем первыми и достоинство свое чтут превыше всего – даже в том, чтобы у маленького «Актера Актеровича» из «Балаганчика» рубаха была более цветастой и вызывающей, чем у самого знатного парижского шансонье…
5
«Заместителю народного комиссара
иностранных дел
тов. Вышинскому А. Я.
Уважаемый Андрей Януарьевич!
Обстоятельства вынуждают меня обратиться непосредственно к Вам, поскольку ситуация, сложившаяся в Белграде, приобрела характер критический. Однако именно сейчас, с моей точки зрения, эта ситуация может способствовать реальному и деловому налаживанию дружественных взаимоотношений между нашими странами, народы которых – я убежден в этом – являются братскими.
Когда НКИД определенно и резко высказался против введения германских войск в Болгарию, сообщения об этом были напечатаны здесь на первых полосах газет как событие первостепенной важности. А сразу же после того как английские и американские журналисты, аккредитованные при здешнем МИДе, первыми дали в своих газетах сообщения о готовности Советского правительства гарантировать нейтралитет Турции и о том, что мы относимся с пониманием к ее проблемам, здешние дипломатические работники, близкие к тем кругам, которые выступают против капитулянтской линии премьера Цветковича и министра иностранных дел Цинцар-Марковича, подчеркивают в доверительных беседах необходимость заключения пакта о дружбе с Москвой, который может быть единственной гарантией против требования Гитлера о присоединении Югославии к Тройственному пакту.
По слухам, И. Рибар, возглавляющий „левицу“, имел встречу с хорватским лидером, первым заместителем премьера доктором В. Мачеком. Тот в ответ на просьбу Рибара противостоять нажиму Берлина заключением пакта о дружбе с СССР сказал, что лишь договор с Гитлером может дать стране мир.
В правительстве существует сильная оппозиция намерениям Рибара и других левобуржуазных лидеров искать выход из дипломатического тупика в немедленных переговорах с Москвой. Цинцар-Маркович, как утверждают журналисты из газеты „Време“ (издается ставленником Гитлера Грегоричем), говорил недавно о том, что „интерес к нам России не должен дойти до общественности, а особенно не должно созреть впечатление, будто мы в союзе с Россией могли бы прийти к более благоприятному положению. Необходимо иметь в виду, что Россия является нашим самым большим врагом. Мы должны лишь время от времени считаться с Советским Союзом вследствие его к нам близости и величия“.
Однако эта точка зрения, типическая для Цинцар-Марковича и князя-регента Павла, не находит широкой поддержки. (Недавно один из левобуржуазных лидеров, Драгомир Йованович, заявил на митинге: „Мы – страна чудаков; мы сотканы из взаимоисключающих противоречий: наша власть выступает за Германию, наша армия тяготеет к Англии, а все население страны не скрывает своей любви к Советскому Союзу!“)
Целый ряд высших военных, по слухам, поддерживают постоянные негласные контакты с миссией Антони Идена, находящегося по поручению Черчилля в Греции, и с фельдмаршалом Диплом, представляющим британский генеральный штаб. Эти военные, стоящие в оппозиции к Цветковичу (среди них наиболее мобильной фигурой здесь считают начальника ВВС генерала Душана Симовича и танкиста Борю Мирковича), по словам людей, близких к ним, готовы предпринять любые шаги, только бы не позволить Югославии стать официальной союзницей Гитлера. Эти люди настаивают на заключении с Гитлером лишь договора о ненападении. Риббентроп категорически отвергает эту идею. Как сообщил мне болгарский журналист П. Неделков, в беседе с болгарским посланником в Берлине Драгановым Риббентроп заявил, что рейху необходим монолитный балканский тыл, поскольку именно здесь закончится превращение Европы в зону, подвластную – в той или иной мере – практике национал-социализма.
Народ не скрывает антипатии к Гитлеру и открыто выражает свои искренние чувства традиционной любви к нашей стране – об этом громко говорят на улицах, в театрах, кафанах, учреждениях. Правительству будет трудно, почти невозможно объяснить народу присоединение страны к гитлеровскому блоку. Здесь высказывают мнение, что Цветкович не решится пойти на этот шаг. Во всяком случае, он понимает, что этот шаг чреват для него серьезными последствиями.
…Югославия осталась единственной балканской страной, которая не участвует в войне и пока еще сохраняет нейтралитет. От ее позиции, видимо, будет зависеть многое. Поэтому, уважаемый Андрей Януарьевич, я и обращаюсь к Вам с этим письмом: сейчас самый подходящий (и, по моему мнению, последний) момент, когда мы можем путем дипломатического демарша остановить продвижение Германии на Балканах, наладив контакт и оказав поддержку тем силам в Белграде, которые думают о будущем их родины. Меня даже не смущают контакты здешней оппозиции с англичанами – другой силы, которая поддерживала бы антигитлеровские элементы в правительстве, в настоящий момент не существует. Если бы мы более четко высказали свою позицию в связи с требованиями Гитлера о присоединении Югославии к пакту, мы бы нашли в Белграде много серьезных и сильных политиков, готовых установить с нами прочные контакты.
Великий вождь советского народа и всего человечества товарищ Сталин гениально сформулировал в своей исторической работе „Партия до и после взятия власти“, что необходимо „использовать все и всякие противоречия и конфликты между окружающими нашу страну капиталистическими группами и правительствами в целях разложения империализма“.
Ситуация в Югославии сейчас такова, что мы имеем реальную возможность провести в жизнь это указание Великого Сталина.
С уважением
А. Потапенко, корр. ТАСС,
п/б № 654921.
20.III.1941».
6
Вышинский подчеркнул все местоимения «я», «по-моему», «с моей точки зрения» и, сняв трубку «вертушки», позвонил начальнику ТАССа.
– Послушайте, Хавинсон, – сказал он, – у вас, как я погляжу, в Белграде сидят не журналисты, а прямо-таки теневые послы, этакие эмиссары центра.
– Кого вы имеете в виду, товарищ Вышинский?
– Потапенко я имею в виду, – ответил Вышинский и положил трубку.
Вышинский раздумывал, стоит ли сообщить Сталину о том, что среди белградских военных существует «мобильная личность», стоящая в оппозиции к режиму Цветковича, но, зная, как крут бывает Сталин, когда важная информация приходит к нему без достаточно авторитетной проверки, решил поначалу сказать об этом наркому.
Молотов выслушал Вышинского и спросил:
– От кого эти сведения?
Мгновение поколебавшись, Вышинский передал Молотову письмо Потапенко. Нарком прочитал письмо сначала бегло, потом – второй раз – внимательно и цепко, водя остро отточенным красным карандашом по машинописным ровным строчкам, спотыкаясь в тех лишь местах, которые были жирно подчеркнуты Вышинским: «я», «по-моему», «с моей точки зрения».
– Думающий человек писал, – заметил Молотов, мельком взглянув на Вышинского.
Тот чуть улыбнулся:
– Я уже поздравил ТАСС с тем, что у них работают такие инициативные люди. «Теневые послы» – совсем, по-моему, неплохое определение для такого рода журналистов.
– Ну, это зависит от интонации, – сразу же поняв Вышинского, сказал нарком. – Попросите размножить это письмо, я думаю, его стоит показать товарищу Сталину и членам Политбюро. И вызовите Гавриловича. Он ведь не просто посол, он один из лидеров оппозиции в Белграде. Задайте ему вопрос в лоб: нужен им договор с нами или нет?
– Позавчера Гаврилович сказал, что этот вопрос зависит от того, как будут развиваться отношения между Белградом и Лондоном.
– Позавчера у нас не было этой информации, – сказал Молотов и тронул рукой письмо Потапенко. – Перед тем как мы будем докладывать этот вопрос товарищу Сталину, прощупайте Гавриловича: кто такой Рибар? Мера весомости Симовича? И – главное: сломает Гитлер Цветковича или тот сможет устоять и не пойти на требования Берлина?
7
Цветкович почувствовал, как у него занемела рука в локте. «Видимо, растянул сухожилие, когда играл с Миланом, – подумал он. – Если все это кончится, я уеду в Дубровник и полежу на солнце, и все пройдет – без массажей и утомительного лечения токами высокой частоты».
Он надел очки, пробежал текст, напечатанный на немецком, итальянском, японском и сербском языках, быстро подписал все четыре экземпляра документа и, дожидаясь, пока Риббентроп, Чиано и адмирал Ошима так же молча, как и он, подписывают протокол о присоединении Югославии к Тройственному пакту, внимательно осмотрел большой зал и, встретившись взглядом с пустыми глазами купидонов, глазевших на него с высокого лепного потолка, снова вспомнил пятилетнего племянника Милана – драчуна, который так любит возиться с ним на широкой тахте, застланной волосатым крестьянским ковром, присланным в подарок болгарским премьером Георгиевым.
«Господи, о чем я?! – вдруг ужаснулся Цветкович и быстро глянул вокруг себя, словно испугавшись, что мысли его могут быть услышаны. – Как же я могу об этом в такой момент?!»
Он вспомнил – со стремительной четкостью – весь этот март; встречу князя-регента с Гитлером, когда тот терзал свою левую руку, то и дело ударяя по ней белыми пальцами правой, словно проверяя, чувствует ли кожа боль, и, глядя поверх голов югославских представителей, громко отчеканил: «Мы можем ждать еще две недели! Либо – либо! Если Югославия присоединится к пакту, война обойдет ее границы; если же Югославия решит остаться в стороне – я умою руки. Ваше предложение о договоре дружбы – неприемлемо».
Он вспомнил, как после этого разговора в Берхтесгадене германские танки вошли в Болгарию и устремились к югославским границам и как болгарский посол путано и унизительно объяснял ему вынужденность этого шага Софии.
Цветкович вспомнил и то, как представитель Рузвельта полковник Донован, прибывший из Афин, грохотал в его кабинете: «Одумайтесь! Присоединение к Тройственному пакту запятнает вас позором! Мы не останемся равнодушными к этому шагу!» Он ясно увидел лицо британского министра Антони Идена, который прилетел в Белград в те же дни: «Лучше война, чем позор сговора с Гитлером! Мы победим Гитлера – рано или поздно! Мощь Соединенных Штатов и наша воля к победе одержат верх над кровавым фанатиком! Как вы тогда сможете смотреть в глаза европейцам, господин премьер?!»
Все эти видения пронеслись перед глазами Цветковича, и он с трудом подавил вздох и постарался настроиться на происходящее здесь событие, долженствующее изменить ситуацию на Балканах, но с отчетливой ясностью, словно бы отстраненно наблюдая себя со стороны, услышал свои мысли, а думал он о том, что левый ботинок жмет в пятке и что надо бы успеть вовремя принять чесночный отвар после обеда для профилактики желчных протоков, а от этих желчных протоков мысль его легко и странно перепорхнула на проливы, и он вспомнил, как князь-регент Павел рассказывал ему о последней встрече с Милюковым, когда русский изгнанник горько и умно говорил о том, что нерешенная проблема Босфора и Дарданелл еще долго будет маячить общеевропейской угрозой, а потом мысль, неподвластная уже Цветковичу, перенеслась к Иоганну Штраусу, и Цветкович нахмурился, стараясь понять, отчего именно Штрауса вспомнил он сейчас, и он понял, что лицо венского композитора так явственно стало перед ним оттого, что пять дней назад в американском посольстве показывали новый голливудский фильм «Большой вальс» с Граусом в главной роли; именно в этот момент церемония подписания кончилась, и фотокорреспондент «Фёлькишер Беобахтер» Отто Кастенер сделал первый снимок, а скорые на предположения лондонские журналисты прокомментировали морщину на лбу Цветковича как знак трагических переживаний югославского премьера, загнанного в угол «жесткой» дипломатией Берлина.
Под этой же фотографией, перепечатанной в нью-йоркской «Таймс», стояли жирно набранные слова Риббентропа, произнесенные им после подписания протокола: «Отныне на Балканах нет больше нейтральных государств».
«Сандей телеграф» прокомментировал это событие шире: «Итак, 25 марта 1941 года совершился исторический парадокс: Гитлер сделал славянскую страну участницей антиславянского по сути и лишь по форме антикоминтерновского пакта, обращенного прежде всего против колыбели славянства – России».
Через сорок минут после подписания венского протокола, сделавшего Югославию союзницей Гитлера, старомодный «роллс-ройс» английского посла сэра Кемпбелла медленно остановился около белградского министерства иностранных дел, и сухопарый, в традиционном черном смокинге и серых полосатых брюках, Кемпбелл вручил заместителю министра протест Даунинг-стрит против присоединения Югославии к странам оси.
Через полтора часа после подписания венского документа помощник государственного секретаря США С. Уэллес вызвал югославского посла Фотича и вручил ему послание президента Рузвельта: «Если югославское правительство подпишет с Германией соглашение, противоречащее интересам Англии и Греции, которые борются за всеобщую свободу, то я буду вынужден заморозить все югославские активы и вместе с тем пересмотреть американскую политику в отношении Югославии».
– Америка далеко, – ответил посол, – а Германия рядом, мистер Уэллес. Ваши гарантии – это слово; гарантии мистера Гитлера обрели форму сапога: сие реальность. И соглашение уже подписано.
Сообщение из Вены Черчилль принял спокойно, с ироничной улыбкой на похудевшем лице, сделавшемся из-за этого более молодым и здоровым – не было обычной отечности, – и сказал секретарю:
– Чем хуже – тем лучше. Не всегда, естественно, но в данном случае бесспорно. Скажите постоянному заместителю министра иностранных дел, что именно сейчас пора действовать. Он ведь держит руку на пульсе белградской жизни… Пусть его люди помогут нашим югославским друзьям, пусть помогут.
Премьер поднялся из-за стола и валко прошелся по кабинету, поправляя широкий пояс брюк.
– Как всякий немец, Гитлер хочет порядок выразить в протокольной форме. Просто симпатизирующий ему Цветкович не годен; нужен такой Цветкович, который подпишет договор, расстелившись перед Гитлером-политиком. Фюрер не учел балканской амбиции, и на этом мы щелкнем его по носу…
Шеф управления специальных служб Хью Дальтон через полчаса отправил шифровку секретарю посольства в Белграде Тому Мастерсону: «Время работы!» В тот же день генерал Боря Микрович встретился с англичанами.
8
Гитлер не дослушал Риббентропа. Он поднялся, отошел к карте и сказал:
– Теперь мы готовы к последнему сражению: после того как наши войска в течение первых недель апреля сметут английское сопротивление в Греции, мы выйдем всей нашей мощью на рубежи России: дни Сталина сочтены, потому что отныне Европа от Адриатики до Балтики подчинена воле национал-социализма, моей воле. Риббентроп, я поздравляю вас с победой. Я понимаю, как было трудно поставить на колени Югославию – тем выше успех. Точно организованный вами нажим на сербских гегемонов Белграда угрозой акций хорватских сепаратистов-усташей, готовых на отторжение Загреба и создание независимой Хорватии, сыграл свою роль! Это прекрасно: сталкивать лбами славянские племена – таков путь к разгрому русского гиганта!
Гитлер налил себе воды, сделал маленький глоток, на мгновение закрыл глаза, и странная улыбка тронула его лицо. Эта странная его улыбка много раз дискутировалась в западной прессе, и Гитлер, читая выдержки из этих статей, приготовленные для него секретариатом на маленьких листах мелованной бумаги, презрительно фыркал: «смех тирана», «игра в апостольскую доброту», «гримасы политического актера». Он-то знал, когда и почему рождалась эта странная, не зависевшая от его воли или желания улыбка. В минуты высшего успеха его захлестывала огромная, горячая, возвышенная любовь к тому человеку, имя которого было Гитлер. Он чувствовал себя со стороны не таким совсем, каким он представлялся миллионам в кадрах хроники и на тысячах портретов, вывешенных в родильных домах, канцеляриях, спортивных обществах, спальнях и пивных залах. Нет, он видел себя голодным, в мятом сером пиджаке, тогда, давно, когда он впервые встретился с Хаусхофером: тот только что вернулся из Тибета, где он провел годы в поисках таинственной шимбалы, – страны «концентрата духа», страны, где живут боги арианы, увидеть которых и понять может лишь избранный. Хаусхофер сказал тогда молодому фюреру национального социализма, что лишь мессия может стать мессией, и что человек есть не что иное, как выразитель духа, заданного извне, и лишь тот человек, который отринет «прогнившую мораль буржуа» и осмелится выразить свое изначалие, не оглядываясь на предрассудки; лишь человек, который будет говорить то, что является ему, что он чувствует и что вливает в него волнение и азарт; лишь тот, кто скажет открыто: «Жестокость в пути – счастье на привале»; лишь тот, кто поймет высшее, угодное высшим, кто разобьет правду на малую – доступную толпе, и великую – достойную избранных, лишь тот победит в этом мире, раскачавшем свою сущность порядком, который чужд духу разрушения, заложенному в двуногом звере, ибо он призван осознанно служить неосознанной, но постоянной идее величия расы арийцев. И вот он, Гитлер, достиг великой правды, он, которого избивали на улицах, он, на которого рисовали карикатуры, которого сажали в тюрьму, кормили капустными котлетами и вонючим бульоном из протухших костей, – он достиг всего; а может быть, это уж вовсе и не тот отделившийся от него символ, который несет миру неведомое новое, построенное на подчинении порядку, идее и силе, именно силе, ибо ничто так не организует разум, деяние, идею, как точное осознание собственной силы. Лишь осознание великой сущности силы заставит слабого ощутить свою слабость, а сильного сделает еще более сильным. Но примат силы расе арийцев может принести только особо сильная личность. Человек силы станет религией силы, а эта религия, в свою очередь, родит новую нацию – нацию силы. Мессия лишь угадывает то, что ему предписано высшим разумом, саккумулированным в шимбале, а не в детских сказках Ветхого Завета. Прежние мессии проходили со словами всеобщего добра и – гибли на кострах или в катакомбах. Изменить раздираемый противоречиями мир и остаться в веках может лишь тот мессия, который подчинит его высшей логике: «Пусть победит сильный». Лишь мессия силы смог сегодня связать воедино, в один лагерь, арийца, венгра, француза, норвежца и болгарина. Этот конгломерат неравенств подчинен догмату будущей победы сильного. Иерархия целей позволяет жертвовать буквой доктрины – не духом. Придет время, и серб отправится к Ледовитому океану, француз – в Африку, чех – на Камчатку. Но это потом; сейчас все пальцы должны быть собраны в кулак силы – его силы, силы Гитлера, того, который стеснялся своей худобы, желтых угрей на лбу и грязной рубашки с пристегнутым целлулоидным воротничком. Как же ему не обожать человека, который привел свою идею послеверсальского реванша, припудренную догмами национал-социализма, к господству?! Как же не любить ему тот далекий образ, который ныне стал богом Германии?! Как же не преклоняться ему перед Гитлером, поставившим на колени всю Западную Европу?! Кому же любить его особой, трепетной любовью, как не ему?!
9
«Загреб. Столица Хорватского банства.
Первому заместителю премьер-министра г-ну доктору Мачеку, председателю Крестьянской партии Хорватии,
Бану Хорватии д-ру Шубашичу, заместителю председателя Крестьянской партии Хорватии.
Сводка первого отдела королевской полиции.
Реакция коммунистов на присоединение Югославии к Тройственному пакту яснее всего просматривается на основании данных, полученных путем оперативных мероприятий. Сектор „б“ смог установить аппаратуру звукозаписи на квартире профессора Огнена Прицы в то время, когда у него собрались его коммунистические единомышленники: писатель Август Цесарец (хорват), журналист Божидар Аджия (хорват), журналист, редактор „Израза“ Отокар Кершовани (хорват). Единственным сербом является Прица. Все четверо отвечают за идеологическую работу в партии. Все, кроме Цесарца, отбывали десятилетнее тюремное заключение за коммунистическую агитацию. Цесарец неоднократно бывал в СССР, где выпустил ряд книг, изданных потом в Югославии, Франции, Болгарии. В 1938 году вернулся из Испании, где находился в рядах интернациональных бригад.
Обсуждая создавшуюся ситуацию, Цесарец заявил, что „присоединение Югославии к Тройственному пакту стало возможно лишь потому, что в стране отсутствует демократия“. По его словам, „отсутствие демократии неминуемо приводит к блоку с фашизмом“. Кершовани заметил, что „понятие демократии может толковаться по-разному, а наличие у нас Скупщины и нескольких партий даст основание считать Югославию демократической страной в привычном смысле этого слова, в то время как истинная демократия есть инструмент прогресса, который позволяет решать классовые и общественные задачи, стоящие перед человечеством“. Божидар Аджия добавил, что „единственным мерилом демократии является степень привлечения масс к решению задач, стоящих на повестке дня, а не болтовня в дискуссионных клубах“. По предложению Прицы должна быть выпущена листовка, которая призовет народ выступить против „пакта национального предательства“. Цесарец предложил связаться с низовыми партийными организациями, для того чтобы вывести на улицы рабочих и студенчество. „В конкретной ситуации мы должны влиться в общенациональную борьбу по защите хотя бы тех номинальных свобод, которые исчезнут после того, как Гитлер станет диктовать своему югославскому союзнику внутреннюю и внешнюю политику“, – заявил он. Прица сказал, что „демонстрации должны показать Цветковичу и Мачеку неприятие широкими слоями общественности политики национального предательства. Народ поддержит лозунги о расторжении договора с Гитлером и о немедленном заключении пакта дружбы с Советским Союзом“.
К сожалению, Кершовани, Аджия и Цесарец смогли разойтись по городу, поскольку данные звукозаписи были расшифрованы лишь через пятнадцать минут после того, как они покинули квартиру профессора Прицы.
Считаю необходимым задержать означенных членов нелегальной КПЮ, весьма близких к секретарю ЦК Иосипу Броз (Тито).
Генерал-майор Й. Викерт».
Резолюция доктора Мачека:
«Задержать – целесообразно, но при условии, если подобраны материалы, дающие основания на арест. Суд должен быть демократическим, с привлечением прессы. Клеветников надо карать по закону».
Резолюция доктора Шубашича:
«Считаю представленную запись достаточным основанием для ареста».
После того как этот документ с резолюциями Мачека и Шубашича ушел обратно в жандармерию, к генералу Викерту, Мачек попросил своего секретаря Ивана Шоха вызвать чиновника из тайной полиции, который непосредственно курировал «германскую референтуру». Этим человеком оказался полковник Петар Везич.
Внимательно оглядев ладную фигуру полковника, его красивое, словно бы чеканное лицо, Мачек предложил Везичу сесть, вышел из-за своего большого стола и удобно устроился в кресле напротив контрразведчика.
– Мне говорили о вас как о талантливом работнике, господин полковник, – сказал он, – и мне хотелось бы побеседовать с вами доверительно, с глазу на глаз.
– Благодарю вас…
– Вам, вероятно, известно, что мы подписали документ о присоединении к Тройственному пакту?
– Да. Такое сообщение только что пришло из Вены.
– Официальное сообщение?
– Нет. Но у меня есть надежные информаторы в рейхе.
– Эти надежные информаторы, надеюсь, не представляют тамошнюю оппозицию?
Чуть помедлив, Везич ответил:
– Нет. Мои информаторы – люди вполне респектабельные и сохраняют лояльность по отношению к режиму фюрера.
– Ответ ваш слишком точно сформулирован, – заметил Мачек, – для того чтобы быть абсолютно искренним.
– Я готов написать справку о моих информаторах, – сказал Везич. – Судя по всему, мне предстоит порвать с ними все связи – в свете нашего присоединения к Тройственному пакту…
– Вы сами этот вопрос продумайте, сами, – быстро сказал Мачек, – не мне учить вас разведке и межгосударственному такту… Я пригласил вас по другому поводу.
– Слушаю, господин Мачек.
– В Загребе – не знаю, как в Белграде, – заметно оживились коммунистические элементы… Вам что-либо говорят фамилии Кершовани, Аджии, Цесарца?
– Эти имена общеизвестны: хорваты любят свою литературу.
Мачек еще раз оглядел лицо Везича – большие немигающие черные глаза, сильный подбородок, мелкие морщинки у висков, казавшиеся на молодом лице полковника противоестественными, – и тихо спросил:
– Скажите, как с этими людьми поступили бы в Германии?
– В Германии этих людей скорее всего расстреляли бы – «при попытке к бегству». Сначала, естественно, их постарались бы склонить к отступничеству.
– Вы заранее убеждены, что этих людей нельзя склонить к сотрудничеству?
– К сотрудничеству с кем?
– С нами.
– Я такую возможность исключаю, господин Мачек.
– Жаль. Я думал, что вы, зная германские формы работы с инакомыслящими, попробуете спасти для хорватов их запутавшихся литераторов.
– Господин Мачек, я благодарен за столь высокое доверие, но мне бы не хотелось обманывать вас: эти люди умеют стоять за свои убеждения.
– Я рад, что в нашей секретной полиции люди умеют исповедовать принцип и не подстраиваются под сильного, – сказал Мачек, поднимаясь, – рад знакомству с вами, господин Везич.
Везич ощутил мягкие, слабые пальцы хорватского лидера в своей сухой ладони, осторожно пожал эти слабые пальцы и пошел к тяжелой дубовой двери, чувствуя на спине своей взгляд широко поставленных, близоруких глаз доктора Влатко Мачека.
Сразу же от Мачека, не заезжая к себе в полицию, Петар Везич отправился к шеф-редактору вечерней газеты Звонимиру Взику. Хорошенькая секретарша медленно оправила юбку на коленях. («Как же они, стервы, умеют ножки показывать! – подумал Везич. – Врожденное это у них, что ли? Все продумано, словно в операции, которую проводит разведка, а умишко – как у котенка, не больше десяти книг ведь прочитала в жизни, право слово».)
– Добрый день, мне хотелось бы видеть шеф-редактора.
– Господина Взика нет и сегодня не будет.
– Ай-яй-яй, – покачал головой Везич. – Где же он?
– Я не знаю. Он очень занят сегодня.
– Можно позвонить от вас домой?
– К себе или к господину Взику?
– Господину Взику.
– Госпожи Ганны Взик нет дома, – снова улыбнулась секретарша и тронула длинными пальцами свои округлые колени, – нет смысла звонить к ним домой.
«Гибель Помпеи, – горестно подумал Везич. – Или пир во время чумы. Не люди – зверушки. Живут – поврозь, погибают – стадом».
– Я не буду звонить домой, я не стану дожидаться господина Взика – видимо, это дело безнадежное, но вам я оставлю вот это, – сказал Везич, положив на столик возле большого «Ундервуда» шоколадную конфету в целлофановой сине-красной обертке…
Взик был единственный человек в Загребе, с которым полковнику Везичу надо было увидеться и поговорить. Его не оказалось, и Везич только сейчас ощутил усталость, которая появилась у него сразу же, как он покинул кабинет доктора Мачека.
Из редакции Везич зашел в кафе – позвонить.
– Ладица, – сказал он тихо и подумал о телефонной трубке как о чуде – говоришь в черные дырочки, а на другом конце провода, километра за три отсюда, тебя слышит самая прекрасная женщина, какая только есть, самая честная и добрая, – слушай, Ладица, я что-то захотел повидать тебя.
– Куда мне прийти?
– Вот я и сам думаю, куда бы тебе прийти.
– Ты меня хочешь видеть в городе, дома или в кафане?
– Когда слишком много предложений, трудно остановиться на одном: человек жаден. Ему никогда не надо давать право выбора.
– По-моему, тебе хочется не столь видеть меня, как поговорить. Ты чем-то расстроен, и надо отвести душу.
– Тоже верно. Выходи на улицу и жди меня. Я сейчас буду.
Везич увидел Ладу издали: рыжая голова ее казалась маленьким стогом сена, окруженным черным, намокшим под дождем кустарником, – хорваты темноволосы, блондины здесь редкость, рыжие – тем более.
Он взял ее за руку – ладонь женщины была мягкой и податливой – и повел за собой, вышагивая быстро и широко; Ладе приходилось порой бежать, и это могло бы казаться смешным, если бы не были они так разно красивы, что общность их являла собой гармонию, а в мире все может – в тот или иной момент – казаться смешным, гармония – никогда, ибо она редкостна.
Везич и Лада пришли на базар, что расположен под старым городом, возле Каптола, и затерялись в толпе – она поглотила их, приняла в себя, оглушила и завертела.
– Хочешь цветы? – спросил Везич.
– Хочу, только это к расставанию.
– Почему?
– Не знаю. Так считается.
– Чепуха. – Везич купил огромный букет красных и белых гвоздик, отметив машинально, что «товар» этот явно контрабандный, привезли на фелюгах из Италии ночью, и Везич даже услышал шуршание гальки под острым носом лодки и приглушенные рассветным весенним туманом тихие голоса далматинцев. – Не верь идиотским приметам, цветы – это всегда хорошо.
– Ладно. Никогда не буду верить идиотским приметам.
– Пойдем пить кофе?
– Пойдем пить кофе, – согласилась Лада.
– Господи, когда же мы с тобой поскандалим?
– Очень хочется?
– Скандал – это форма утверждения владения. Форма собственности, – усмехнулся Везич и провел своей большой рукой по мягким, рыжим, цвета сена – раннего, чуть только тронутого утренним солнцем, – волосам Лады.
– Где ты хочешь пить кофе?
– А ты где?
– Там, где ты.
– Сплошные поддавки, а не роман.
– Пойдем куда-нибудь подальше, – сказала Лада, – я человек вольный, а господину полковнику надо соблюдать осторожность – во избежание ненужных сплетен.
– Сплетня нужна. Особенно для людей моей профессии. Для нас сплетня – форма товара, имеющего ценность, объем и вес.
– Вот именно, – сказала Лада. – Нагнись, пожалуйста.
Везич нагнулся, и она коснулась его щеки своими губами, и они были такие же мягкие, как ладони ее и как вся она – Лада, Ладушка, Ладица.
10
Цветкович вернулся в Белград в десять часов утра.
Его поезд остановился не на центральном вокзале, а на платформе Топчидера, в белградском пригороде. Возвращаясь из Вены, Цветкович на час задержался в Будапеште. Чуть не оттолкнув встречавших его послов «антикоминтерновского пакта» – Югославия стала теперь официальным союзником рейха, – он подбежал к своему посланнику и, взяв его под руку, тихо спросил:
– Что дома? Какие новости? В поезде я сходил с ума…
– Дома все в порядке. Вас ждет премьер Телеки, господин Цветкович…
– Нет, нет, пусть с ним встретится Цинцар-Маркович. Я сейчас ни с кем не могу говорить. Ни с кем.
– Премьер Телеки устраивает прием в вашу честь…
– Извинитесь за меня. Я должен быть в Белграде. Меня мучают предчувствия.
В Топчидере Цветкович не сел в свой «роллс-ройс», а устроился в одной из машин охраны и попросил шофера, перед тем как ехать во дворец князя-регента Бели Двор, провезти его по центру города.
На улицах, возле кафе и кинотеатров, толпились люди. Цветкович жадно вглядывался в лица: многие улыбались, о чем-то быстро и беззаботно говорили друг с другом; юноши вели своих подруг, обняв их за ломкие мальчишеские плечи; первая листва в отличие от осторожных венских почек на деревьях казалась на ярком солнце сине-черной.
«В конце концов, – облегченно думал Цветкович, – в политике важно лишь деяние; эмоции умрут за неделю, от силы в течение месяца. Сейчас важно удержать толпу, ибо толпа – аккумулятор эмоций. История простит мне вынужденный шаг, а народ будет благодарен за то, что война обойдет наши границы. Политик должен уметь прощать обиду во имя того, чтобы войти в память поколений, – а это в конечном счете и есть бессмертие, к которому стремится каждый, отмеченный печатью таланта».
Министр внутренних дел, который ждал премьера в резиденции князя-регента, молча положил на стол данные, поступившие за последние два часа в управление политической полиции: несколько раз встречались генералы, стоящие в оппозиции; активизировались подпольные организации компартии; около площади Александра была разогнана толпа, требовавшая расторгнуть договор о присоединении к пакту; усилили свои личные контакты с командованием югославских ВВС те сотрудники британского посольства, которые, по данным наблюдений, были связаны с Интеллидженс сервис.
– Ну и что? – спросил Цветкович. – Я проехал по городу; люди заняты весной. Если бы мы присоединились к пакту осенью, когда в парках холодно и молодежи негде заниматься любовью, тогда бы я разделил ваши страхи. Бунты происходят осенью или ранней весной – сейчас март, и в Дубровнике можно загорать.
Пискнул зуммер правительственного телефона, который связывал Цветковича с его первым заместителем Мачеком, хорватским лидером, одним из главных инициаторов югославо-германского сближения.
– Добрый день, мой дорогой друг, – пророкотал Цветкович в трубку, – рад слышать ваш голос…
– Поздравляю с возвращением, господин премьер. Как вы себя чувствуете после всей этой нервотрепки?
– Чувствую себя помолодевшим на десять лет.
– Завидую: в моем возрасте предел такого рода мечтаний – год…
– Как ситуация у вас в Загребе?
– Я определяю ее одним словом: ликование. Люди наконец получили гарантию мира.
– А меня здесь пугают наши скептики, – облегченно сказал Цветкович, глянув на министра внутренних дел. – Пугают недовольством.
– Назовите мне хотя бы одного политика, поступки которого устраивают всех, – ответил Мачек. – Сейчас я прочту вам заголовки газет, которые выйдут завтра. Одну минуту, пожалуйста. – Мачек нажал звонок, и на пороге кабинета появился его секретарь Иван Шох. Прикрыв трубку, Мачек попросил: – Давайте-ка быстренько ваши комментарии, я с Белградом говорю.
Он надел очки, достал из кармана перо, чтобы удобнее было следить за строками и не терять их – Мачек страдал прогрессирующим астигматизмом – и повторил в трубку:
– Сейчас я прочту вам заголовки, сейчас…
Иван Шох появился через мгновение: он отвечал за связь с прессой и выполнял наиболее деликатные поручения хорватского лидера, носившие подчас личный характер.
– «Победа мира на Балканах, – Мачек читал медленно и торжественно, – только так можно определить исторический день двадцать пятого марта. Рукопожатие, которым скреплено присоединение Югославии к Тройственному пакту, это дружественное рукопожатие рейха и королевства, центра и юга Европы!» Это пойдет в «Хорватском дневнике», – пояснил Мачек, – а в «Обзоре» шапка будет звучать так: «Сербы, хорваты и словены от всего сердца благодарят премьера Цветковича за его мужественное решение. Мощь великой Германии надежно гарантирует нашу свободу и независимость – отныне и навсегда!»
– Спасибо, – глухо сказал Цветкович, почувствовав, как запершило в горле, – спасибо вам, друг мой. Я жду вас в Белграде: князь-регент придает огромное значение тому, в какой обстановке пройдет ратификация. Если бы вы, как вождь хорватов, выступили в Скупщине…
– Я выступлю первым, господин премьер. Я не отношу себя к числу скептиков. От всего сердца еще раз поздравляю вас.
– До свидания, мой друг.
– До встречи.
Цветкович медленно опустил трубку и вопросительно посмотрел на министра внутренних дел.
Тот упрямо повторил:
– Загреб – это Загреб, господин премьер, но мы живем в Белграде.
Тихий секретарь неслышно появился на пороге кабинета:
– Звонит посол Германии фон Хеерен…
– Соедините, пожалуйста.
Министр уверенно сказал:
– Он будет спрашивать вас о ситуации в столице.
– А разве возникла ситуация? – удивился Цветкович. – Я ее не видел. Впрочем, министр внутренних дел по праву должен называться министром государственной тревоги.
Как все слабые люди, сделавшие головокружительную карьеру, – семь лет назад Цветкович ходил в драном пальто и друзья собирали ему деньги на ботинки (сейчас он был миллионером, ибо здесь, на Балканах, человек, имеющий власть, становился богатым, тогда как на Западе властвуют люди, имеющие деньги) – югославский премьер видел в очевидном лишь очевидное, и явное для него не таило в себе возможного второго и третьего смысла. Поэтому сейчас, проехав по городу и не увидев там баррикад – а это ему предрекали перед поездкой к Риббентропу, – Цветкович испытал огромное, счастливое, как в детстве, облегчение. А то, что где-то кто-то шумит и выступает против пакта, – это частности: армия и полиция на то и существуют, чтобы навести порядок…
11
«Рейхсминистру Риббентропу.
Премьер Цветкович заверил меня, что правительство удерживает контроль над положением в стране. Незначительные выступления большевистских и хулиганствующих элементов пресечены. Князь-регент Павел, приняв Цветковича, отправился в свою загородную резиденцию Блед. Беседа с итальянским и венгерским послами дает основание предполагать, что ситуация в Загребе также контролируется силами правительства, находя поддержку в кругах хорватских лидеров, особенно председателя партии ХСС Мачека и губернатора (бана) Шубашича.
Хеерен»
12
Позвонив в ТАСС, Вышинский сказал:
– Вызовите в Москву вашего Потапенко, и пусть он объяснит свое поведение. Его сигнал, который мы получили, крепко смахивает на злостную дезинформацию. Либо он мальчишка, самовлюбленный мальчишка, либо он стал объектом игры наших врагов, либо он враг – сам по себе, вне чужой воли…
Пусть консулы позаботятся о том, чтобы Республика не понесла никакого ущерба!
1
Начальник Генерального штаба Гальдер.
«25. III.1941.
Югославия присоединилась к Тройственному пакту.
Вагнер (генерал-квартирмейстер):
Доклад об обеспечении химическими боеприпасами. К 1.6 мы будем иметь 2 млн химических снарядов для легких полевых гаубиц и 500 тыс. снарядов для тяжелых полевых гаубиц.
Подготовка к приему раненых на Востоке. Имеется 50 тыс. коек в качестве госпитальной базы на Востоке (этапные военные госпитали). Они подчиняются командующему армией резерва.
Будет подготовлено 38 санитарных поездов для эвакуации раненых из этих госпиталей в Германию.
Хойзингер:
а) Изменение в директиве по стратегическому развертыванию („Барбаросса“) в связи с новым положением на южном крыле. Изменения в требованиях к ВВС.
б) Сравнение русских и германских сил в отношении готовности. До 20.4 мы гораздо слабее русских. После 20.4 дивизии начнут поступать в таком количестве, что эта опасность будет полностью устранена».
2
В два часа ночи, через день после присоединения Югославии к странам оси, войска главкома ВВС генерала Душана Симовича с помощью инструкторов Интеллидженс сервис, руководимых генералом Мирковичем, захватили дворец князя-регента Павла, радиостанцию, телеграф, канцелярию премьера Цветковича и привели на трон молодого короля Петра II…
3
В шесть часов утра в помещении генерального штаба собрались все лидеры переворота. Бессонная ночь высинила лица, глаза заговорщиков запали и блестели тем особым лихорадочным блеском, который появляется на рассвете, в серых сумерках, после часов любви или творческой удачи.
Симович медленно обвел взглядом лица своих сподвижников: Слободана Йовановича, профессора Белградского университета, идеолога великосербской философии, яростного, несмотря на свой возраст, спорщика, известного всей стране председателя Сербского клуба, Бранко Чубриловича и Милоша Тупанянина, Милана Грола и Божидара Владича, Мишу Трифуновича и Мирко Костича. Он переводил взгляд с одного лица на другое медленно, словно наново оценивая своих друзей, представляющих разные партии, разные общественные интересы, разные возрасты, но одну народность – сербскую.
Разглядывая лица своих товарищей по перевороту, Симович думал о том, что самое трудное, видимо, должно начаться сейчас, когда предстоит сформировать кабинет, распределить портфели и определить политику на ближайшие недели – не месяцы даже и уж тем более не годы. Сейчас, когда власть в Белграде перешла в его руки, когда офицеры ВВС заняли все ключевые посты в Сараеве и Скопле, ситуация в Загребе продолжала быть неясной: лидер Хорватской крестьянской партии Влатко Мачек, являвшийся первым заместителем премьера Цветковича, активный сторонник Берлина, хранил молчание, к телефону не подходил, предоставив право вести переговоры своему заместителю Ивану Шубашичу, хорватскому губернатору.
От позиции Мачека зависело многое: он был неким буфером между королевским двором и хорватскими националистами – усташами, требовавшими безоговорочного отделения Загреба от Сербии. Впрочем, являясь убежденным монархистом, Мачек, как думал Симович, не решился выступить против нового короля, обратившегося к народу с речью по радио: Петр Второй много говорил о единстве сербов и хорватов… Без согласия Мачека генерал Симович пошел на решительный шаг – он принял это решение сразу же, как только регент Павел уехал из королевского дворца: новый премьер решил объявить Мачека своим первым заместителем, не получив даже его формального на то согласия. Сейчас это его решение должно быть утверждено, а уж будучи утвержденным – проведено в жизнь любыми способами. Мачек был нужен в прежнем кабинете как символ верности хорватов югославскому королю; еще более нужен он сейчас, из-за давних своих связей с Берлином.
– Господа… Друзья мои, – глухо сказал Симович. Он хотел откашляться, потому что голос сел во время ночных бесконечных разговоров по телефону с командирами воинских частей, которые занимали узловые коммуникации, но ему показалось, что кашель этот будет дисгармонировать с той торжественной тишиной, которая стояла в прокуренном зале. – Господа, – повторил он и напряг горло, чтобы голос звучал ниже и значительней, – князь-регент отстранен от власти… Здесь, в этом здании… Два часа назад… Правительство Цветковича низложено… Со всех концов страны приходят вести о том, что армия берет власть в руки, не встречая сопротивления. Его величество король Петр Второй поручил мне сформировать кабинет. Однако, поскольку здесь собрались представители разных партий, я хочу, чтобы не монарх, а вы назвали имя кандидата на пост премьера…
– Симович!
– Душан Симович!
– Генерал Симович!
– Симович!
Почувствовав холодок в груди, высокий холодок счастья, Симович закрыл на мгновение глаза, прикоснулся пальцами левой руки к переносью, словно надевал пенсне или вытирал слезы – точно и не поймешь. Все события сегодняшней ночи ушли в прошлое. Они, эти события, имели две стороны – одну, которая будет принадлежать истории, и вторую, которая обязана быть забытой, когда Симович, услыхав от своего друга Бори Мирковича это короткое и страшное «пора!», побелел, сел в кресло и тихо сказал: «А может быть, рано?»

