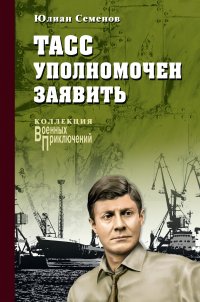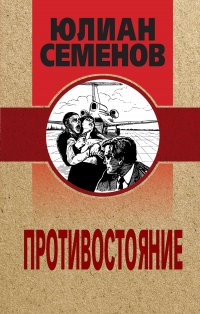Читать онлайн Межконтинентальный узел бесплатно
- Все книги автора: Юлиан Семенов
© Семенов Ю.С., наследники, 2008
© ООО «Издательство «Вече», 2008
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Темп-I
Что это они так резво? – усмехнулся лейтенант Ельчук, наблюдая за тем, как от подъезда дома, где жил третий секретарь американского посольства, стремительно отъехали – одна за другой, по разным направлениям – четыре машины сотрудников ЦРУ, работавших в Москве, понятно, под дипломатическим прикрытием.
– Такой фокус они исполняют второй раз, – задумчиво заметил Гречаев, неторопливо пристегиваясь ремнями безопасности. Судя по всему, гонка предстояла отнюдь не простая, с трюками. – Первый раз это было в эпизоде, когда они прикрывали Трианона…
По рации Гречаеву пришел приказ наблюдать за машиной вице-консула Саймонза; рванули следом, затерявшись в тесном потоке машин.
Полковник Груздев, дежуривший в ту ночь по центру, приказал также проверить, куда отправились все «дипломаты»: второй секретарь посольства Шернер, пресс-атташе Лайбл и представитель военной миссии Честер Воршоу.
Сотрудники ЦРУ гнали по московским улицам, крутили, как хотели, город знали отменно, – профессионалы высокого класса, молодцы, ничего не скажешь, асы.
Возле станции «Университет» Честер Воршоу бросил машину под знаком, запрещавшим парковку, и стремительно побежал к входу в метро; в свою очередь, Шернер резко затормозил возле телефона-автомата на Трубной, неподалеку от ресторана «Узбекистан», снял трубку и быстро набрал номер; дождавшись, видимо, ответа, нервно нажал пальцем на рычаг и набрал номер еще раз, тщательно прикрывая спиною диск.
Лайбл нигде не останавливался, хотя крутил по городу больше остальных; вернулся в посольство, оттуда – через два часа – отправился домой. А Честер Воршоу на Старом Арбате, возле того места, где ранее был антикварный магазин, позвонил из автомата ровно через две минуты после того, как кончил звонить Шернер.
…На этом операция ЦРУ закончилась.
Необходимый экскурс в историю
В последние дни своего президентства генерал Дуайт Эйзенхауэр отчего-то чаще всего вспоминал тот час, когда войска союзников под его командованием высадились во Франции; он даже отчетливо ощущал йодистый запах водорослей, выброшенных тугим, медленным прибоем на серый песок побережья, слышал пронзительный крик чаек (вот уж воистину вопиют души утонувших моряков) и представил глаза раненого мальчика: в них были слезы боли и счастья. Подняв слабеющую руку, ребенок растопырил указательный и безымянный пальцы – «виктори», первая буква заветного слова, вобравшего в себя надежду человечества…
Чем больше проходило лет с того майского дня, когда он, Монтгомери и Жуков встретились как победители, тем порою – особенно когда оставался один (а это случалось редко) – горше ему становилось; утраченные иллюзии послевоенного взаимопонимания союзников, новое противостояние, которое каждую секунду может перерасти в вооруженное противоборство, а это ему, военному человеку, знавшему войну не понаслышке, казалось совершенно чудовищным.
Согласившись выдвинуть свою кандидатуру на выборах, он не мог представить, как трудно придется ему в Белом доме, сколь постоянным, изматывающим и тяжелым будет давление военных и тех групп промышленников, которые получали заказы Пентагона; люди не сумели (а может, не захотели) перестроиться после мая сорок пятого; средства, вложенные ими в заводы, ковавшие оружие для победы над нацизмом, и поныне алчуще требовали продолжения ежедневного дела, ставшего привычным для миллионов рабочих: выпуска самолетов, танков, электроники. Любой резкий поворот неминуемо грозил безработицей, ростом инфляции, новой черной пятницей на бирже.
Эйзенхауэр помнил, как летом сорок шестого года русские пригласили его в Москву, и он стоял на кремлевской трибуне, когда по Красной площади шел парад физкультурников, и переводчик, склонившись к его уху, негромко заметил, что каждый второй участник шествия потерял на фронте отца или брата…
Не легко и далеко не сразу он решился на осторожный поворот курса: от открытой конфронтации с коммунизмом, которая началась сразу же после смерти Рузвельта, к встрече за столом переговоров; в конечном счете Хрущев тоже генерал, потерял на фронте сына, войну знал, как и он, Айк, не по книгам или кинофильмам.
После того как переговоры на уровне послов увенчались относительным успехом, состоялась встреча в Женеве и было решено организовать конференцию глав четырех держав-победительниц в Париже, Эйзенхауэр вызвал директора ЦРУ Даллеса и попросил его прекратить все полеты самолетов-разведчиков У-2 над Советским Союзом.
Вообще-то, он с самого начала довольно скептически относился к этой затее, которая стоила стране тридцать пять миллионов долларов; он никогда не мог забыть, как Даллес, холодно поблескивая узенькими стеклами очков, убеждал его, что в случае непредвиденных обстоятельств самолет рассыплется, исчезнет, превратится в пыль…
– А пилот? – спросил Эйзенхауэр.
– Погибнет, – ответил Даллес. – Все продумано, он тоже исчезнет.
– Но это невозможно! – с трудно скрываемой неприязнью посмотрел он на Даллеса. – Это безжалостно и лишено какой-либо нравственности.
– Мистер президент, – ответил Даллес тихим голосом, – молодые пилоты Центрального разведывательного управления идут на дело с открытыми глазами. С одной стороны, это высокий патриотизм, свойственный людям нашей страны, с другой – если смотреть правде в глаза – бравада отчаянных головорезов, готовых на все… И потом, мы им очень много платим… В случае трагического исхода их семьи не будут знать забот – полнейшая материальная обеспеченность… Но это – крайний случай, мистер президент. Русские не достанут наши У-2, у них нет таких ракет, уверяю вас, риск совершенно минимален…
…Вскоре после того, как газеты напечатали сообщение о точной дате встречи «большой четверки» в Париже, рано утром, что-то около шести (первое, что Эйзенхауэр заметил, когда его разбудили, был косой, какой-то осенний дождь за окном, хотя в эту пору здесь, в Вашингтоне, всегда давила влажная жара), помощник сообщил ему, что с военной базы Адана, в Турции, исчез самолет ЦРУ У-2.
– То есть как это так – «исчез»? – удивился Эйзенхауэр. – Его похитили?
– Нет. Он вылетел, но связь с ним вскоре прервалась…
– В каком направлении вылетел У-2? – спросил Эйзенхауэр, одеваясь. – Запросите маршрут. Полагаю, он не взял курс на Россию?
– Нет, – ответил помощник, – из Лэнгли сообщили, что самолет отправился в направлении Ирана и Афганистана…
– Слава богу, – заметил президент. – Хорошо, что вы меня разбудили, сейчас я приду в Овальный зал…
…Когда стало известно, что У-2 сбит над Свердловском, Эйзенхауэр горько усмехнулся:
– Что ж, можно считать, что встреча в верхах расстреляна… Кому это на пользу? Нам? Вряд ли…
Он помнил, как Даллес, вызванный им в Белый дом, предложил взять на себя всю ответственность и выйти в отставку…
Эйзенхауэр сухо заметил:
– Подписав вашу отставку, я таким образом публично признаю, что в этой стране правит не народ, избирающий своего президента, а Лэнгли, самовольно определяющая политику Соединенных Штатов… К сожалению, я не могу принять вашу жертву, Аллен… В данном случае вы принудили меня пожертвовать своим честным солдатским именем – во имя престижа этой страны…
Эйзенхауэр никогда не мог забыть долгое совещание в Белом доме накануне вылета в Париж, после того как Кремль потребовал от президента – в качестве необходимого шага перед началом переговоров, – официального извинения за случившееся: самолеты-разведчики совершают такого рода маршруты над территорией другого государства лишь накануне запланированной агрессии; с такого рода утверждением было трудно спорить; как генерал, планировавший высадку союзников в Нормандии, Эйзенхауэр понимал справедливость русского требования, но, как президент великой державы, он прежде всего был обязан думать о протоколе, который вобрал в себя – в данном конкретном случае – вопрос престижа Америки…
Он помнил, как вошел в зал заседаний «большой четверки»; Эйзенхауэр полагал, что, обменявшись с русским лидером взглядами, первым подойдет к нему и протянет руку; это вполне можно толковать как некую форму извинения; он увидел лица русских министров Громыко и Малиновского, которые смотрели на него ожидающе, и в их глазах угадывалось подталкивающее доброжелательство; Хрущев, однако, сидел насупившись, головы не поднял, на Эйзенхауэра даже не взглянул; все попытки де Голля найти компромисс к успеху не привели, встреча в верхах закончилась не начавшись. Вернувшись в Вашингтон, Эйзенхауэр ощутил тяжелую усталость и впервые подумал о возрасте: болело под левой лопаткой и ломило колени.
Он попросил помощника выяснить, кто же по-настоящему стоял за расстрелом совещания «большой четверки»; да, понятно, Даллес; но ведь он лишь исполняет задуманное, получает рекомендации, не зафиксированные ни одним документом, и лишь затем проводит их в жизнь.
Конечно же всю правду ему так и не дано было узнать, однако какую-то информацию он получил, и вот сейчас, накануне ухода из Белого дома, все чаще и чаще вспоминая тот день, когда его солдаты высадились в Европе, и пронзительно кричали чайки, и пахло йодистыми водорослями, что лежали на сером песчаном берегу, Эйзенхауэр, неторопливо расхаживая по кабинету, начал диктовать черновик речи – прощание с нацией, некое политическое завещание президента.
– Мы не можем не признаться самим себе в том, что в стране сложилась качественно новая сила, – глухо говорил Эйзенхауэр, то и дело поглядывая на красную лампочку индикатора в диктофоне, – которую я определяю как военно-промышленный комплекс. Эта незримая, нацеленная сила, которая лишена дара исторической перспективы, служит своим сиюминутным интересом и совершенно не думает о том, к чему она может привести не только Америку, но и все человечество, если ее концепция возобладает в этой стране…
Темп-II
Генерал вернулся на площадь Дзержинского с совещания в Кремле достаточно поздно; полковник Груздев дожидался его в приемной, молча протянул красную папку с грифом «Сов. секретно».
Генерал внимательно просмотрел информацию; среди ста двадцати телефонов, по которым могли звонить разведчики ЦРУ (справку уже подготовили, все вероятности были просчитаны на компьютерах), подчеркнул две фамилии, одну из них дважды: профессор Иванов, ведущий специалист по ракетной технике. Основания для этого были: в Кремле только что сообщили, что американская сторона выразила согласие продолжить прерванные – отнюдь не по вине Советского Союза – переговоры об ограничении стратегических вооружений в Женеве.
…Ночью, через восемь часов после разъезда разведчиков ЦРУ по Москве, был зафиксирован выход в эфир передачи Мюнхенского разведцентра; расшифровке, ясное дело, не поддавался.
Утром генерал вызвал Груздева.
– Я вам нужен, товарищ генерал? – спросил тот, входя в кабинет.
Генерал, усмехнувшись, переспросил:
– «Я вам нужен»? – Вопрос таил в себе некую безысходность семейной трагедии. – Где Славин? Если вас не обременит моя просьба, поищите его, он мне очень нужен: вопрос с профессором Ивановым я намерен поручить ему. Сегодня же…
«Не надо плакать в море»
Ирина Прохорова, подруга Славина, нежданно-негаданно получила отгул, полторы недели, и вылетела в Пицунду, к Алябрику, в пансионат «Апсны».
Каждое утро она спускалась на пляж, к самой кромке зеленого, прозрачного моря, и лежала не двигаясь, ощущая, как солнце стягивало кожу; она никогда не обгорала, могла жариться весь день, загар был шоколадный, ровный. «Ты мой гогеновский человечек, – шутил Славин, – нежность моя…»
Первые дни она сразу же засыпала под монотонный, убаюкивающий плеск моря, – работать приходилось с «захлестом», особенно в связи с диссертацией; потом стала брать с собою книгу: почему-то решила учить итальянский; очень понравилось, как там произносят «прего» – «пожалуйста». Славин заметил: «Ты живешь деталью; порою это опасно, рискуешь пропустить главное».
На четвертый день рядом с нею устроилась супружеская пара с маленькой девочкой: поджарый молчаливый мужчина и женщина с красивой седой головой; Ирина краешком глаза наблюдала, как та делала гимнастику, очень утомительную, не менее часа. «Вот молодец, наверняка не менее сорока, а как прекрасно сохранилась, великолепная фигура, а дочурке года два. Роды никак на нее не повлияли, умница, не позволила себе расплыться – трагедия многих женщин…»
После гимнастики женщина долго плавала вдоль берега, а потом начинала играть с девочкой, бросая ей большой гуттаперчевый мяч; та визжала от счастья, гонялась за мячом по пляжу; однажды споткнулась об Ирину, упала на нее; обняв мягкое, податливое тельце – лопаточки словно крылышки, – Ирина ощутила совершенно особый запах младенцев: молоко и цветочное мыло; сладость какая…
– Как зовут вашу доченьку? – спросила Ирина, подняв маленькую над собою.
– Это внучка, – улыбнулась моложавая седая женщина. – Машенька.
Ирина поцеловала девчушку, с трудом выпустила ее из рук – такая доверчивая нежность – и вдруг подумала: «А ведь я моложе этой бабушки всего на шесть лет. Ну, на семь, от силы… А у меня нет такого маленького, нежного чуда… И, судя по всему, не предвидится…»
…Последние слова показались ей до того ужасными, что она резко поднялась с лежака и бросилась в море; плавала профессионально, когда-то выступала по первому разряду; отмахав кролем метров двести, перевернулась на спину: «Только еще не хватало в море реветь…»
«Всякое расставание – это немножечко смерть…»
– Значит, теперь можете угощать только пивом? – усмехнулся Славин. – Дом литераторов тоже включился во всенародную борьбу за трезвость?
– Еще как, – ответил Степанов. – И литераторы тоже. Только по-разному. Плакальщики начали пуще прежнего стенать, что пианство на Руси пошло от Петра, отдал, мол, на поругание чужеземцам святыни, до него все, как один, были трезвенники. «Веселие на Руси есть пити» – от лукавого, фальсификаторов истории, чужеродный заговор против нации. Ну, а те, кого величают авторами «деловых идей», вновь бросились в атаку на нашу бюрократическую неподвижность: пьянство можно по-настоящему победить только в том случае, когда бутылке будет противуположена реальная альтернатива дела; не только сок вместо проклятой бормотухи, но возможность легко получить садовый участок, взять ссуду в банке под приобретение мебели, подписаться на собрание сочинений того писателя, который по душе тебе, а не директивно объявлен «выдающимся», купить в рассрочку машину, легче и проще собрать кучу бумажек на поездку в Болгарию или в Берлин, – пропади все пропадом, когда подумаешь о той волоките, которая ждет, если решил оформиться для путешествия… «Величавость порядка»? Нет, Виталя, это гимн обломовщине! Она весьма и весьма маскируема, незаметно гребет под себя параграфы наших новых законоположений, превращая их не в рычаг, стимулирующий действие, а в традиционную волокиту… Думский дьяк не в Бруклине рожден, а, увы, у нас, в первопрестольной… «Думский», «дума», «подумаем»… Горазды мы на раздумья, когда-то делать начнем?! Смотрел прошлогодний чемпионат футбольных юниоров, когда мы продули?
– Нет.
– Жаль… У меня сердце болело за наших ребят… Но ведь им поставили задачу: все делать наверняка, вносить мяч в чужие ворота; вратарю удар не отбивать, но обязательно ловить мяч, – вот и не было игры; нечто вроде квартального аврала на заводе, когда надо отдать план. Плохо это… Убивает дух инициативы, соревнование, выявление самости игрока… Нельзя планировать футбольное состязание как работу на конвейере; определил стратегию, подготовил команду – и вперед! И в хозяйстве у нас так же: думаем, мудрим, планируем, как довести проект до абсолюта, а вот поступать – боимся, оглядываемся, ждем указания, чтоб потом было на кого свалить… Жизнь – процесс саморегулируемый, а мы хотим втиснуть ее в прокрустово ложе заданной заранее схемы – пусть даже очень точной… Не получится, утопия…
– Ты чего такой злой?
– Не видел ты меня злым. Я озабоченный, Виталя.
– Чем?
– Тем, что на словах все принимают то новое, что мы наметили, а на деле – сплошь и рядом – особой активности не очень-то проявляют, по старинке жить удобней, вечный кайф…
– Факты? – Славин пожал плечами, повторив: – Факты?
– Это я у тебя должен про факты спрашивать. Ты контрразведка, мыслишь определенными категориями, слухи отводишь, и правильно делаешь, до добра не доведут, а я литератор, я кожей чувствую… Между прочим, – он улыбнулся, – мне в Афганистане друзья объяснили, отчего самые вкусные вещи – плов, фрукты, мясо – надо есть руками… Оказывается, именно в кончиках пальцев у нас находятся точки наслаждения. Не смейся, это факт, а не версия, спроси у докторов… Облизывание точек наслаждения угодно нервной системе, некий массаж тех центров, которые регулируют человечье настроение…
– Представляешь, – вздохнул Славин, – если бы мы в ресторанах укрепили таблички: «Товарищ, не забудь облизать кончики пальцев!» Американцы во всех офисах расставили таблички: «Улыбайся!» Ну что ж, улыбка – это хорошее настроение, а оно угодно обществу, сохраняет нервную систему сограждан…
– Бедный Петр, – вновь повторил Степанов. – Он был первым, кто издал на Руси «Правила хорошего тона», после него ни один государь не интересовался тем, как люди ведут себя в обществе, только чтоб молчали и не роптали; Лермонтов не зря выплакал: «Страна рабов, страна господ…» Только я в толк не могу взять, отчего наше могучее телевидение не пригласит Вячеслава Тихонова или Майю Плисецкую и не попросит их вести ежемесячную программу «Хороший тон»? Знаешь, как слушали бы люди?
– Это про то, в какой руке вилку держать, что ли? – деловито поинтересовался Славин.
– Не подкусывай, Виталя, не надо. Черт с ним, в какой руке вилка… А вот кто виноват в том, что у нас на шоссе разбитые бутылки валяются? После туристов в лесу остается грязь, словно какие оккупанты глумились над природой! А в учреждениях – особенно где справки дают – чиновники говорят с посетителями будто с врагами, а не с согражданами, – отчего так?! На идеологических противников из Би-би-си такое не повесишь, надобно себя винить, чужих всегда легче, – оправдание собственного безделья и лености.
– Так ты предложи ввести такую программу.
– Думаешь, не предлагал?
– Еще раз предложи. Под лежачий камень вода не течет.
– Помнишь завет Щедрина сыну?
Славин грустно улыбнулся:
– «Превыше всего цени звание литератора российского»?
– Именно. Литератор – субстанция обескоженная; настырность противна его существу, комплексы грохочут: «навязываюсь», «назойливо»…
– Пиши об этом в своих книгах.
– Писал. Ну и что?
– «Назойливо», Митя, это когда для себя. Если во имя общего дела, тогда надо искать иное слово.
Степанов постучал себя по лбу:
– Тут я это понимаю, Виталий, но здесь, – он положил руку на сердце, – иная субстанция; голова принадлежит обществу, сердце – это твое, и ничего с этим не поделаешь…
Славин вдруг усмехнулся:
– Ты когда-нибудь думал, отчего у Пушкина, да и у других поэтов, чаще всего напарницей героя в любовных утехах бывает пастушка?
– Нет.
– Мне невропатологи объяснили… Тоже от комплекса… С простой, очаровательной, не отягощенной правилами хорошего тона девушкой легче и проще открыть себя, не нужен обязательный политес, нет страха получить отказ, оказаться смешным в глазах света…
– Это ты мне таким образом даешь отлуп?
Славин покачал головой:
– Не-а, Митя, уж если я бью, то наотмашь… Слушай, у тебя нет знакомых на станции техобслуживания?
– Есть.
– Ирина в Пицунде отдыхает, а мне колодки надо поменять…
– Ты же начальник! Тебя шофер возит, – сказал Степанов.
– А в воскресенье? – Славин посмеялся. – Я без Арины как без рук.
– Почему до сих пор не женишься?
– Вопрос не комментируется, – ответил Славин, – тем более он бумеранговый: отчего не разводишься с Надеждой, хоть уж пятнадцать лет живешь раздельно?
– Ладно, поедем в наш гараж, – вздохнул Степанов, – там ребята все мигом сделают… У нас теперь лучшее техобслуживание, Виталя, в кооперативных гаражах: качество и время гарантированы.
– Не поеду, – ответил Славин. – Ты безответственный человек, тебе можно, а я должностное лицо, – была б Ирина, ее отправил.
– Тогда скажи мне, должностное лицо, где записано, что в кооперативном гараже нельзя сделать ремонт машины?
– А где сказано, что можно?
– Вот мы с тобой и пришли к главному: до тех пор пока мы не издадим свод законов, где будет черным по белому напечатано, что можно, а что нельзя, – только тогда по-настоящему раскрутится инициатива и предприимчивость. Мы, Виталя, традиционно горазды на запреты, вот в чем вся штука… А инициатива требует разрешительности… Опять-таки, пусти на телевидение умного юриста, час в месяц, ответы на самые острые вопросы: что можно и что нельзя, со ссылкой на законы и кодексы, – как бы это помогло и рабочим, и бригадному подряду, и руководителям! Ты, кстати, знаешь, что такое «шабашник»?
– Известно – гад и стяжатель.
– Как бы мы без этого «стяжателя» коровники строили и клубы? – вздохнул Степанов. – Так вот, толковый словарь русского языка трактует это понятие совершенно противоположно тому, какой смысл вкладывает в него наша журналистика. Во-первых, «шабаш», столь нервирующий радетелей общинной равности, есть «день молитвы, суббота» – по-древнееврейски; по-нашему же «шабаш» означает «отдых, конец работе, пора роздыха». Истинный же, сегодняшний смысл этого слова я понял из такого объяснения великого филолога Владимира Даля: «По шабашкам на себя работаем», то есть заработок на семью в то время, когда другие гуляют субботу или иной какой праздник… Нет бы заглянуть в словарь, поискать корни, понять изначалие, суть слова, так нет ведь, повторяем, что на слуху, не удосужившись разобраться в истине.
– Любопытно, – заметил Славин. – Это факт, не поспоришь, очень любопытно.
– Мы заложили в это понятие прямо противоположный смысл, понимаешь? У Даля есть еще одно объяснение: «Как солнце в пятницу закатилось, так жид и среди дороги распрягает коней и шабашует»… А наш шабашник именно в пятницу и начинает свое дело – вплоть до понедельника; пока остальные гуляют, он на «Жигули» зарабатывает… А мы его за хорошую работу, которая предполагает высокую оплату, мордой об стол.
– Ты, кстати, не интересовался, что такое «облом»? – задумчиво спросил Славин. – Гончаров ведь не зря взял эту фамилию для своего героя…
– Посмотрю. Интересно.
– Можешь не смотреть. Я помню. «Облом» – это значит «неуч».
– Что ты говоришь?! И про шабашников – тоже знал?
– Как ответить? – вздохнул Славин. – «Впервые услышал»? Или «Конечно, знаю»?
– Правду ответь.
– Убежден, что всякая правда нужна человеку?
– Горький говорил, что не всякая. И я с ним согласен.
– Я тоже… Что у тебя с фильмом?
Степанов махнул рукой:
– Э… Года через два, глядишь, что-нибудь сварганим.
– Ты объясни мне толком, отчего вы снимаете картины годами?! Ведь на Западе такие темпы привели бы кинобизнес к краху, Митя!
– Милый мой, так там же есть продюсер, который может заработать! Там кино не галочка, – мол, сняли еще один фильм о рабочем! Когда я делал первую картину, мой директор, хитрец и умница, гонял меня в Госкино, чтобы я выбивал побольше денег на смету. Я доверчиво ходил. Мне, кстати, именно тогда впервые сказали, что я «слишком настырен»… А я ж не за себя хлопотал, за дело… Ну, выбил я деньги, а потом спросил директора: «Натан, скажи правду, а сколько тебе вообще нужно, чтобы снять фильм?» – «Половина того, что дали». – «Зачем же ты меня заставлял ходить и кланяться?» – «Если б мне верили, Митя, давали деньги в руки, мне бы хватило вам всем платить ежемесячную премию и фильм бы мы снимали за пять месяцев, а не за год. Я ведь живу в кандалах, Митя, я не могу яйца купить, которые должны стоять в кадре на столе, я их обязан заказать в студийной мастерской, чтобы занять рабочих! Чертовы яйца будут делать из дерева и красить нитролаками, каждое яичко стоит пять рублей, десяток – полсотни, а купить за рубль настоящие – не моги, казнят! Костюм артисту я должен шить, купить – опасно, ревизоры замучают, а в комиссионном подобрать – так прямо инструкцией запрещено, угодишь под суд. Каждый мой шаг расписан. Я, Митя, вроде кассира: говорят – плати, плачу, нельзя – молчу в тряпочку…»
– Погоди, но ведь студии выгодно, чтобы картина была скорее снята, Митя! – искренне удивился Славин. – Сейчас-то ведь можно всю эту дикость пересмотреть!
– Ну-ну, – вздохнул Степанов. – Попробуй. Аппарат студии хочет получить премию, Виталя. И это понятно. Все заранее спланировано: когда какую картину сдадут главку. Если я заканчиваю фильм раньше срока, все равно за перевыполнение плана администрации премии не будет, не положено. Какой же им смысл помогать мне? Они заинтересованы в том, чтобы я сдал фильм попозже, у них свой отсчет выгоды. Все приличненько, все спокойненько, исключительная благодать… Куда торопиться? Пусть режиссер еще раз проконсультирует сценарий, есть спорные реплики, кому-то может не понравиться, помозговать никогда не мешает, семь раз отмерь, и все такое прочее… Мое горение неугодно аппарату студии, Виталь, я им поперек горла с моими сроками стану, настырный…
– Вот ужас-то, а?! – Череп Славина, гладко бритый, яйцеобразный, свело морщинами. – Ну, хорошо, если вы все про это знаете, отчего продолжается эта дикость?
– Так ведь все это заинструктировано, десятилетиями расписано по тысячам документов, образовался панцирь, не шелохнешься…
– Предложение?
– Оно вопиет, Виталий. Оно просто, как дважды два: съемочная группа получает деньги на картину. В руки! Под ответственность директора, который живет не в безвоздушном пространстве! В каждой съемочной группе существует партийный коллектив, профсоюз, глаз хватает! Сняли быстрее, экономнее – оставшиеся деньги разделите на премию. Как между членами группы, так и среди аппарата студии. Это все очевидно, как мычание.
– Так отчего не мычим?
– Боязнь поступка… Откуда ж взяться инициативе?!
– Но сейчас-то мы постоянно подталкиваем к ней, Митя!
– А закон? – чуть не застонал Степанов. – Где закон, который бы отменил привычки?! Любой хозяйственник требует гарантий. «Правду» читаешь? То-то и оно. Кто более всего рискует? Тот, кто работает инициативно. Нашим бесчисленным «главначпупсам» инициатива стоит поперек горла. А пока мы их не порушим авторитетом разрешающего закона, обречены на то, чтобы топтаться на месте. Нужен закон, Виталя, – убежденно, с болью, повторил Степанов. – «Ты, директор завода, можешь то-то и то-то, но тебе запрещено то и то». Тогда дело покатится! Но если только графы запретов снова не окажутся трехзначными, – горазды мы на то, чтобы «тащить и не пущать»… На Западе именно этим корят социализм, хотя прекрасно знают, что выражение это пришло в нашу повседневность из русской литературы прошлого века… А нынешние литературные плакальщики ноздрями трепещут: «Раньше было все прекрасно, ура, наши традиции величавы!» Разные у нас были традиции! И глаза на это закрывать чревато бедами: врач, который не хочет видеть болезнь, – преступник.
– Пессимист ты, Митяй, – вздохнул Славин.
– Если бы… Пессимисту – хорошо, у него заранее на все ответ: «Э, что бы ни делали, ничего не выйдет…» А я верю, что выйдет, понимаешь? Верю… Но сердце рвет из-за тех глупостей, которые творят люди, рвущие на груди рубаху: «Я – патриот; поднатужимся, наляжем!» А может, и не глупость это, а саботаж? Не знаю… Ты когда-нибудь ходил по районам наших новостроек после одиннадцати вечера?
– Нет.
– Походи. У Главмосстроя с филенкой туго, двери тоненькие, все слышно… Ты обрати внимание на то, какую музыку в квартирах играют… Джаз Виллиса Канновера… «Голос Америки» именно в одиннадцать начинает его крутить, как раз когда наше телевидение норовит всех без исключения трудящихся – как в детском саду – уложить в кроватки… Итак, ящик выключен!.. По радио передают классическую музыку; дансингов в городах нет; клубы уже закрыты; в ресторан – не водку жрать, а потанцевать под хороший оркестр и кофе попить – нельзя, в десять кончают пускать… А «Голос» именно в это время дает пять минут джаза и минуту информации, да еще какой… Есть люди-совы, Виталя, а есть петухи. Одни поздно ложатся, другие рано, а мы всех под один гребень… Посчитали б, сколько в Москве рабочих со скользящим графиком, кто домой со смены приходит в восемь вечера, а завтра ему на завод только к часу… Ну не хочет он спать! Не хочет! Молодой он! Ему двигаться надо, веселиться, не все ж книге прилежны, увы… Нет, никто эту проблему – с точки зрения социологии – не изучает… Да разве одну эту? Возьми другое: ты занят, и я занят… А надо купить билет на самолет… Значит – с нашими-то очередями, – день потерян. А если организовать службу посредников? Как это сделано во всем мире?! Нет, трать государственное время, только б тот, кто облегчит тебе жизнь, а государству сэкономит миллионы рабочих часов, не заработал лишнюю десятку – «стяжатель»! Эхе-хе-хе! Читал, как обрушились на молодежь за то, что она иностранные майки носит с чужими флагами и мордашками французских кинозвезд? Нет, чтобы травить наших текстильщиков за то, что своих звезд экрана не пропагандируют, свой флаг на майках и своего Гагарина не рисуем, – так нет же, опять-таки воюют со следствием, а не с причиной… Только придурок не купит свое, если оно лучше иностранного…
Славин потянулся с хрустом:
– Что сейчас пишешь?
– Я – накануне, Виталя, только поэтому сейчас с тобой и сижу… Когда начну – уйду в подполье. Я и машинка, нет ничего прекраснее, ей-богу…
Славин посмотрел на часы:
– Не опоздаешь?
– Нет.
– Будешь писать только из Женевы?
– Хочу поездить.
– Но главная цель командировки – переговоры о вооружениях?
– Да, – ответил Степанов. – Так записано в решении…
– Я тебя отвезу в Шереметьево.
– Спасибо… Ирину поцелуй, когда прилетит… Кто-то из французов очень верно сказал: «Каждое расставание – это немножечко смерть…»
Сладость свободного сочинительства!
Закончив изучение архивов, документов Библиотеки конгресса и материалов, опубликованных в «Ньюсуик» и «Форин афферз» о скандальной схватке ракетостроительного концерна Сэма Пима с авиационной корпорацией Джозефа Летерса, режиссер и сценарист Юджин Кузанни работал теперь дома один. Сын переехал к подруге. По ночам, когда Голливуд засыпал и лишь стрельчатая листва громадных пальм, устремленных в провальную жуть черно-атласного неба, шелестела, словно тоненькие металлические стружки, которые сбрасывали с бомбардировщиков ВВС США во Вьетнаме, чтобы вызвать помехи на радарах противовоздушной обороны.
«Хороший образ, – подумал Кузанни, – можно использовать в монтаже; спокойствие ночного Голливуда, одиночество, становящееся привычным, маталлический шелест пальмовых стрел в темноте; встык – такой же звук над Вьетнамом; пейзажи даются на такой же, как здесь, тишине, а потом экран должен взорваться от свистящего рева турбин сверхзвукового бомбардировщика, а после ландшафт исчезнет, поднятый в небо взрывом многотонной бомбы, черной, пахнущей шлаком, безжизненной пылью; на медленном оседании сожженной земли пойдут титры фильма; когда гарь и дым развеются, я покажу иной ландшафт, наш юг, Сан-Диего, безмолвную устремленность баллистических ракет; словно корабли инопланетян, стоят они в скальной пустыне – безнадежность лунной поверхности, тишина, абсолютная, шершавая тишина, и нет уже шелеста пальм, ощущение тотальной, безнадежной выжженности планеты…»
Кузанни взял свой маленький, карманный диктофон – работал только с ним, знай себе наговаривай то, что является перед глазами и явственно слышится в ушах, – еще раз посмотрел на фото сына; какой прекрасный был парень еще год назад, единственный друг, господи, как сложна жизнь наша, и, поднявшись из-за стола, начал неторопливо ходить по кабинету, окна которого выходили в сад; сценарий своего фильма он диктовал так, словно бы видел на экране все, о чем говорил:
– Весна восемьдесят пятою, Нью-Йорк, биржа…
Тяжелый, постоянный, тревожный гул голосов; на огромном бело-красном электронном табло пульсирует экономическая жизнь страны, которая выражена в цифрах, означающих взлеты и падения акций ведущих корпораций. За этими точечными взлетами пунктов специалисты сразу же видят разорение одних, счастье других, надежду третьих.
На табло резко возникают цифры стоимости акций «Авиа корпорейшн»; зафиксировано падение еще на два пункта; взрыв оживления среди присутствующих пугает жесткой немедленностью реакции биржевых маклеров.
Дейвид Ли – президент «Мисайлс индастри»[1], – наблюдая за тщательно просчитанным сумасшествием биржи, обернулся к спутникам:
– По-моему, после этого сэру Питеру Джонсу не подняться.
И быстро двинулся к выходу. Он шел мимо кабин, где сидели маклеры, связанные прямыми телефонами со своими компаниями и клиентами, мимо тех закутков, где обосновались журналисты, и, улыбаясь, слушал их быстрые, кричащие сообщения: «Компания, созданная сэром Питером, зашаталась»; «Самолеты Питера Джонса не нужны больше нашим ВВС?»; «Сегодняшнее падение акций на бирже свидетельствует о кризисе политики сэра Питера!».
Этот же день, три часа спустя.
…Техас, маленькое ранчо миллиардера Питера Джонса – президента «Авиа корпорейшн». Около конюшни – телевизионные установки, где толпятся репортеры газет и фотокорреспонденты; идет съемка вывода коней, их объездки.
Когда увели танцующего каурого жеребца, из конюшни вразвалочку появился ковбой:
– А сейчас наш главный сюрприз: трехлеток Виктори, подарок сэру Питеру от принца Фарука.
На Виктори выехал сам сэр Питер, кряжистый седой старик, чем-то похожий на Жана Габена – в потрепанных джинсах, клетчатой, красно-белой рубахе и замасленной широкополой техасской шляпе.
– Как конь, ребята? Хорош? – улыбнулся Питер Джонс журналистам.
Первый корреспондент:
– Почему принц Фарук подарил вам этого коня?
– Видимо, потому, что любит нашу страну.
Второй журналист:
– Тогда он должен был подарить этого жеребца президенту…
Питер Джонс усмехнулся:
– Он и подарил его президенту. Второй журналист:
– Олицетворяете Штаты с Вашей корпорацией?
– Не навязывайте мне модель ответа, дружище.
Третий журналист:
– Надеетесь быть переизбранным президентом «Авиа корпорейшн» на третий срок?
– Это не моя забота. Это решает собрание акционеров. Я из породы тех стариков, которые подчиняются воле большинства. Если акционеры пнут меня коленом под зад, я уйду. Если же попросят остаться, что ж, останусь.
Первый журналист:
– В истории нашей страны президентом – я имею в виду Штаты, а не корпорацию – на третий срок был избран только один человек, Франклин Делано Рузвельт.
– Мы бы его провели и на четвертый срок, а вот я на четвертый срок не рассчитываю.
Третий журналист:
– Сегодняшнее падение акций вашей корпорации на бирже грозит какими-то последствиями?
Питер Джонс похлопал коня по шее:
– Ответь этому парню, коняга. Ответь ему во весь голос. Мне нельзя – обвинят в неуважении к прессе.
Первый журналист:
– Правда ли, что вы ненавидите президента компании «Мисайлс индастри» Дейвида Ли?
Сэр Питер сокрушенно покачал головой:
– Дейвид Ли – мой друг, молодой, умный, верный друг! Я бы мечтал, чтобы именно он закрыл мне глаза, когда сдохну. Спасибо, ребята! Не пишите о моем коне плохо, других таких больше не будет.
Питер Джонс приветливо помахал журналистам рукой, улыбнулся, въехал в конюшню; ковбои быстро закрыли дверь; осторожно сняли с седла сэра Питера; лицо – пергаментное, желтое, веки судорожно сжаты.
…Тот же день, парк Токсидо, близ Нью-Йорка.
Огромный «кадиллак» Дейвида Ли въезжает в сад, окружающий его дом на берегу озера. Навстречу Дейвиду бегут его дети – семилетняя Джуди и пятилетний Дик. Поднимая детей на руки, он – счастливый, сильный – несет их к бассейну, быстро раздевается, толкает детей в воду, прыгает сам; барахтаются, веселятся, кричат.
К бассейну подошла Мэри, личный секретарь Дейвида Ли:
– Дэйв, на проводе Бонн, будете говорить?
– Кто звонит?
– Генерал Том Вайерс.
– Этот нужен. Переключите аппарат на бассейн и лезьте к нам, будем хулиганить вчетвером.
Дейвид Ли подплыл к телефону, снял трубку:
– Здравствуйте, Том, рад вас слышать. Как погода в Европе? Туман и дождь? Бедные, бедные… Значит, самолеты не летают? – Он рассмеялся. – Слушайте, Том, видимо, дня через два вам позвонит сэр Питер Джонс. Будьте с ним так же открыты, как со мной. Я загнал его в угол, он шатается, надо подтолкнуть… Мы встретимся с ним послезавтра в Сан-Диего, на испытаниях моих ракет, я пригласил и его, пусть злится…
Мэри, переодевшись, прыгнула в бассейн, подплыла к Дейвиду, поднырнула под него и начала целовать его ноги быстрыми пузырчатыми поцелуями.
…Сан-Диего, испытательный полигон ВВС США.
Сэр Питер Джонс неотрывно наблюдает за торжественной, неземной уже, а причастной космосу церемонией запуска нового типа межконтинентальной ракеты. Вокруг Питера Джонса, припавшего к окуляру телескопа, замерли офицеры и генералы, наблюдающие рождение новой звезды. Чуть в стороне, окруженный толпой военных, стоит Дейвид Ли; объяснения, которые он дает, исчерпывающе кратки:
– Затраты на производство наших космических ракет лишь на первый взгляд кажутся астрономическими. Вложив семь миллиардов долларов в реализацию нового ракетного проекта, мы – в стратегическом плане – не только разденем Советы, но и не будем зависеть от нефти, которая, увы, есть кровь авиации, не правда ли, сэр Питер?
Питер Джонс медленно оторвался от телескопа, улыбнулся:
– Я приехал, чтобы аплодировать твоему успеху, Дейв. Я восхищен и разбит, старой перечнице пора на свалку.
Подойдя к Дейвиду Ли, старик крепко обнял его; потом, обернувшись к одному из офицеров, тихо спросил:
– У вас нет горячего чая?
– Мы пьем только холодную воду, сэр, здесь так жарко.
…Питер Джонс кивнул и направился к выходу из бункера. Рядом, впереди и сзади, тенями двинулись его телохранители.
Он вышел в ночную жару космодрома, прислушался к доверчивой песне цикад, сел в старомодный «роллс-ройс» и помахал рукой провожавшим его офицерам; красные фонари бронированного автомобиля сэра Питера стремительно растаяли в ночи, словно бы их и не было.
Открыв дверцу вмонтированного в спинку сиденья шофера шкафчика, сэр Питер выдвинул два телефона – белый и красный. Сняв трубку красного, он попросил телефонистку на далекой международной станции:
– Пожалуйста, накрутите мне Бонн, моя прелесть, штаб-квартиру генерала Тома Вайерса; затем государственный департамент, отдел Восточной Европы, мистер Харви Джекобс; после этого Пентагон, генерал Киркпатрик. Если его нет на месте, соедините с номером девятьсот семьдесят три сорок два восемьсот сорок семь; потом мне нужен помощник министра здравоохранения Лодж, Вашингтон, дистрикт Колумбия, домашний номер семьсот двадцать семь восемьсот сорок четыре пятьдесят пять, и, наконец, Нью-Йорк, двести двадцать восемь сорок три пятьдесят девять, профессор Томас Бинн.
Питер Джонс достал из кармана пиджака две капсулы с лекарством, бросил в рот; телохранитель протянул ему плоскую бутылку.
– А горячего чая у нас нет? – спросил Джонс. – Обыкновенного горячего чая?
– Мы загрузились холодными напитками, сэр.
Сэр Питер Джонс откинулся на спинку сиденья, смежил веки: лицо совершенно больное, не похоже на то, каким оно было десять минут назад, в бункере.
Зазвонил белый телефон. Телохранитель снял трубку, выслушал абонента, протянул сэру Питеру:
– Государственный департамент.
Питер Джонс кивнул, протянул слабую руку, взял трубку ледяными пальцами. Говорить начал, однако, бодро и весело:
– Здравствуйте, Харви, вас тревожит старая кляча Джонс. Не найдете для меня минут тридцать завтра утром, от десяти до одиннадцати? О’кэй. Спасибо.
Новый телефонный звонок; телохранитель, что сидел рядом, негромко пояснил:
– Профессор Бинн.
Сэр Питер кивнул:
– Доброе утро, дорогой Бинн. У вас уже утро, не так ли? Я славно поработал, но боюсь, что не успею вернуться к двум часам, как договорились, – все-таки шесть часов лёта. Не рассердитесь, если я заявлюсь под ваши рентгены к пяти? Спасибо. Нет, нет, не тревожьтесь, чувствую себя прекрасно.
Джонс снова откинулся на мягкую кожу сиденья, тихонько застонав; телохранители молча переглянулись.
– Здесь где-нибудь есть аптека?[2] – спросил сэр Питер.
– Все медикаменты в машине, сэр, – ответил телохранитель.
– Я спрашиваю, – тихо повторил Питер Джонс, – по дороге на аэродром есть какая-нибудь аптека? Маленькая провинциальная аптека, где дают чертовы бутерброды и торгуют горячим чаем?
…Маленькая придорожная аптека на бензозаправочной станции.
Сэр Питер вышел из туалета, прополоскал рот теплой водой из-под крана, вернулся в уютное, совершенно пустое помещение аптеки-бара, сел за цинковую стойку, улыбнулся фиолетовому негру в униформе «Тексако» и спросил:
– У вас есть горячий чай? Очень горячий чай?
– Кофе, сэр, – ответил негр. – У нас здесь мало кто пьет чай.
– А если я не люблю кофе?
– Очень сожалею, сэр, но здесь нет чая.
Джонс показал телохранителю глазами на музыкальный ящик. Тот опустил монету и нажал кнопку. Он знал, что любит хозяин. Зазвучала грустная песня Чарли Чаплина.
А в машине пронзительно зазвонил красный международный телефон; один из телохранителей подошел к Джонсу, который бессильно обвис на стойке:
– Бонн, сэр. Генерал Том Вайерс.
– Пусть переключат на этот аппарат, – шепнул сэр Питер.
– Какой здесь номер? – спросил телохранитель негра.
– 9742–582, сэр, – ответил тот.
Телохранитель неслышно сорвался с места.
– Как тебя зовут? – спросил Джонс негра.
– Меня зовут Джо Буэд, сэр.
– У тебя красивое имя.
– О да, сэр.
На стойке затрещал телефон; негр схватил трубку:
– Аптека-бар «Сладкая тишина» слушает.
Питер Джонс страдальчески хмыкнул, покачал головой; телохранитель вырвал у негра трубку и протянул хозяину.
– Здравствуй, Том, – прежним, бодрым голосом проговорил сэр Питер. – Я, видимо, разбудил тебя? Прости, но мне нужно, чтобы ты завтра же вылетел сюда со всеми материалами. Ты понимаешь меня? Не совсем? Так вот, наш молодой друг включил счетчик. Мы проигрываем темп. Я жду тебя, Том.
Питер Джонс протянул телохранителю трубку. Тот опустил ее на рычаг.
– Дай-ка мне стакан крутого кипятка, сынок, – попросил Джонс негра.
– У нас нет чистого кипятка, сэр. У нас только горячий кофе.
Джонс вздохнул; телохранитель помог ему подняться; шаркая ногами, старик пошел к своей огромной машине, провожаемый грустной песней Чарли Чаплина.
…Поддерживаемый под локоть телохранителем, Питер Джонс опустился на сиденье машины, и в это как раз время зазвонил белый телефон. Телохранитель снял трубку, выслушал говорящего, прикрыл мембрану ладонью:
– Помощник министра здравоохранения мистер Лодж, сэр.
Питер Джонс молча протянул руку к трубке:
– Дорогой Кони, здравствуйте! Нет, я звоню с юга. О-о, чувствую себя прекрасно! Слушайте, поскольку вы пропустили два заседания нашего совета акционеров, я начну против вас драку. Или же найдите для меня время утром, вместе позавтракаем. О’кэй? Спасибо. Встретимся в Берне-Хаузе.
…В ресторане Бернс-Хауз было тихо и пусто, всего два гостя – помощник министра здравоохранения Кони Лодж и сэр Питер.
– Кого это должно убедить, сэр Питер? – задумчиво спросил Лодж, выслушав старика.
– Это должно испугать, Кони.
– Опять-таки – кого?
– Общественное мнение.
– Общественное мнение делают, сэр Питер. И на удар, который мы обрушим на Дейвида Ли, его «Мисайлс индастри» ответит встречным ударом.
– Бесспорно. Только когда? Фактор времени за нами, да и потом им труднее пугать людей, чем нам. Я и наша корпорация – это самолеты. К нам уже привыкли, самолеты сделались бытом. А ракеты, которые заражают окружающую среду особенно в южных штатах, я подчеркиваю – в южных штатах особенно, – такое не может не содействовать рождению страха.
– Думаете, это помешает «Мисайлс индастри» получить семь миллиардов долларов в конгрессе?
– Вряд ли. Однако это поможет нам получить не меньше. Мы обязаны думать о будущем: тень в пустыне создают саженцы, которым год от роду. Создать тень, – сэр Питер усмехнулся, – аналогично понятию бросить тень, в нашем жестоком деле, во всяком случае. Если вы сможете сориентировать серьезных ученых на такого рода кампанию страха, мои газеты выпустят залп против Дейвида Ли. Немедленно.
– Необходимо выступление двух-трех сильных научных обозревателей, сэр Питер, – задумчиво откликнулся Лодж. – Нужны звезды. И эти звезды должны так и такое рассказать Америке – и не одним лишь южным штатам, на которые вы всегда ставите, но и северным тоже, – что новая ракетная индустрия Дейвида Ли может принести нашей стране, чтобы люди содрогнулись от ужаса. Лишь получив повод такого рода, я смогу начать официальное расследование.
Во весь экран – огромное сердце Питера Джонса. Профессор Бинн оторвался от рентгеноскопа, взглянул на коллег:
– Он обречен. Он может умереть сейчас, здесь, на столе.
– Странно, что он еще ходит. У него лоскуты, а не сердце. Сколько ему? – спросил один из собравшихся на консилиум.
– Восемьдесят. Как вы относитесь к операции на митральном клапане? – ответил профессор Бинн.
– Сколько он стоит?
– Не менее трехсот миллионов. Впрочем, никто этого не знает точно. Но если его выберут на третий срок, он будет стоить миллиард, в этом я не сомневаюсь.
– Выберут его или не выберут – какая разница: он проскрипит полгода. Это максимум.
Бинн отошел от рентгеноскопа к селектору, стоявшему на белом столе, выключил страшную пульсирующую фотографию старческого сердца, нажал кнопку селектора – прямая связь с другим кабинетом, где на хирургическом столе под рентгеном лежал Джонс, – и сказал:
– Одевайтесь, Питер, мы идем к вам.
– Могу я попросить горячего чаю, Бинн?
– Можете. По-прежнему ничего не болит?
– Нет. Ну а если честно: как мои дела?
– Все нормально, Питер. Но бой против Мухаммеда Али вы не выдержите.
Питер Джонс усмехнулся:
– Это меня не волнует. Я его куплю. Он упадет от моего удара в первом раунде. Я ведь стою триста миллионов или вроде этого, не так ли?
Стремительно-испуганные взгляды профессоров; глаза всех устремлены на кнопки микрофонов селекторной связи с соседним кабинетом.
Бинн усмехнулся:
– Я не вру моим пациентам, коллеги. Я их злю. Именно это придает им импульс силы… Да, я позволил ему услышать ваши слова… Для других это может быть шоком, а для сэра Питера всего лишь хорошая психотерапия… Пошли, он ждет…
«Верьте первому впечатлению, но при этом вчитывайтесь в каждое слово документа»
Славин изредка бросал на профессора Иванова быстрые взгляды, особенно в те моменты, когда тот неторопливо просматривал свои записи, сделанные на маленьких листочках плотной, чуть желтоватой бумаги. Крупная голова несколько асимметричной формы казалась вбитой в крепкие плечи – так коротка была его мясистая шея, покрытая бисеринками пота; в зале, где шла защита диссертации соискателем Макагоновым, было душно, но не настолько, чтобы так уж потеть (видимо, крепко пьет, подумал Славин). Говорил профессор командно, порою раздражался чему-то, одному ему понятному, и тогда его голос, и без того тонкий, срывался на фальцет.
– Все мои критические замечания, – продолжал Иванов, – которые я не мог не высказать, ни в коем разе не меняют позитивного отношения к работе соискателя. Мы наработали порочный стиль: если уж хвалить, то, что называется, взахлеб, чтоб ни одного слова поперек шерстки: ура, гений, люди – ниц! Не верю я такой похвале! За ней угадывается неискренность, а в конечном счете полнейшее равнодушие к делу… Жаль, что в нашем ученом совете такого рода настроения по-прежнему бытуют… Как и все мы, я глубоко уважителен по отношению к Валерию Акимовичу Крыловскому: патриарх, всем известно… Но зачем же, – Иванов обернулся к председательствующему, – объявлять выступление Валерия Акимовича с перечислением всех его званий, лауреатств и титулов? Зачем это трясение золотом прилюдно?! Что это за византийщина такая?! А между тем работу соискателя, столь нужную оборонной технике, мурыжили два года! Пока собрали все мнения, утрясли планы, разослали рецензентам… Два года вон! Я извиняюсь перед соискателем за эту замшелую дремучесть процедуры вхождения в науку и прошу его, как человека молодого, не битого еще, не впадать в равнодушный пессимизм. Жизнь – это драка. Увы. Особенно в науке. Пора научиться угадывать таланты, а не строить для них специальную полосу бега с преодолением препятствий. Что создает спортсмена, то губит ученого. Я поздравляю соискателя: он сказал свое слово в науке. Это не перепев знакомых истин, не собрание чужих цитат и схем, это – новая идея, браво!
…Инспектор управления кадров долго листал личное дело Иванова, потом закурил «Приму» и задумчиво заметил:
– Знаете, товарищ Славин, честно говоря, этого человека я не понимаю… Да, все говорят, талантлив, да, пашет за двоих, но моральный облик…
– То есть?
– С женою не живет, снимает где-то квартиру, женщины вокруг него вьются, как мошкара; застолья, тяга к светской жизни, понимаете ли: зимой горные лыжи, летом водные, заигрывание с молодыми, кто только-только начал делать первые шаги в науке… А выступления на собраниях? Крушит всё и всех, как слон в лавке, никаких авторитетов… А ведь ему не сорок, а пятьдесят семь, пора б остепениться…
Славин осмотрел кадровика: в черном костюме, галстук тоже черный, повязан неуклюжим треугольником; рубашка туго накрахмалена, поэтому – из-за августовской жары – воротничок подмок, казался неопрятным, каким-то двуцветным, бело-серым. Смешно, подумал Славин, отец рассказывал, как в конце двадцатых за галстук чуть ли не исключали из партии как буржуазных перерожденцев, а сейчас на тех, кто без галстука и жилета, смотрят как на хиппи. Времена изменились!
– Почему Иванову не подписали характеристику на выезд в Венгрию, на конгресс по радиоэлектронике? – спросил Славин.
– Потому что выговор с него еще не снят.
– За что?
– За грубость и бестактность по отношению к коллеге по работе.
– А в чем выразилась эта грубость?
– Он сказал своему начальнику, что видит в нем фанфарона и беспринципного приспособленца… Заявил об этом публично…
– В связи с чем?
– Я там не был, товарищ Славин… Рассказывают, что профессор Яхминцев, да, да, начальник отдела, выступил против того, чтобы в нашем центре защищал свою диссертацию Голташвили, молодой сотрудник, Автандил Голташвили…
– Тема интересная?
– Говорят, интересная, но сам этот Голташвили фрукт, я вам доложу… Костюмы носит только американские, разъезжает на «фольксвагене», изволите ли видеть, курит только эти, как их, зеленые такие, воняют мятой…
– «Салем», – вздохнул Славин. – Сигареты с ментолом?
– Верно, – ответил кадровик и тоже как бы заново присмотрелся к Славину, сделал это нескрываемо, как-то по-торговому оценивающе…
– По одежке встречаем, – заметил Славин. – Если он ворует этот самый «Салем» или у фарцовщиков покупает – накажут, а коли по закону – какое наше дело? Каждый сходит с ума по-своему… Да и потом «Салем» вкуснее наших сигарет, у нас не табак, а средство для мора паразитов.
– Вы знакомы с ним, что ль? – настороженно спросил кадровик.
– Пока нет. Почему, кстати, вас это интересует?
– Потому что он ваши слова повторяет…
– Значит, думает, – сказал Славин. – Вернемся к бестактности Иванова по отношению к профессору Яхминцеву…
– Мне кажется, Голташвили – повод, товарищ Славин…
– Меня зовут Виталий Всеволодович. Но это – для вашего сведения…
– Сюда уже сообщили… Так вот, Виталий Всеволодович, мне кажется, что свара между Ивановым и Яхминцевым имеет дальние корни… Помните, у нас кибернетику называли буржуазной лженаукой?
– Еще бы.
– А Яхминцев в начале пятидесятых был среди тех, кто громил кибернетику, со всего маху рубил, хоть молод был, только-только в науку входил, на том антикибернетическом гребне его и вынесло наверх, но потом он вовремя сделал шаг в сторону…
– В молодости играли в баскетбол? – поинтересовался Славин.
– Было, – удивленно ответил кадровик. – Как определили?
– «Шаг в сторону» – спортивный термин… Ну, и как Иванов отнесся к тому, что его не пустили на конгресс в Будапешт?
– Сначала ярился, а потом махнул рукой: «Это не мне надо, а науке, хотите плесневеть – плесневейте!» Отпуск взял и на Чегет уехал, кататься с гор. Вернулся оттуда с какой-то латышкой, та пожила у него неделю, и снова – один.
– Иванов не разведен?
– Нет.
– Почему?
– Мать у него… Старушка старорежимная… Категорически против разводов, каждый день в церковь к заутрене ходит…
– Сколько ей?
– Семьдесят восемь… А отец у него был статским советником, командовал железной дорогой в Сызрани… Тридцать седьмой год…
– Реабилитировали?
– Да. Подчистую.
– Вы позволите мне поработать с личным делом товарища Иванова?
– У меня посидите?
– Пожалуй.
– Что-нибудь случилось? – поинтересовался кадровик. – Чепе?
– Чепе, хотя ничего не случилось, – ответил Славин. – Просто обидно, если стоящего человека не пустили на конгресс, ущерб для науки, в этом он прав.
Генерал слушал молча, играя разноцветными карандашами, зажатыми в левой руке; не перебил ни разу, даже когда Славин прибегал к эпитетам, рассказывая о талантливости Иванова, стремительности мышления, неожиданности оценок (эпитетов не любил, предпочитал оперировать фактами), не сделал ни одной пометки, хотя обычно что-то записывал в блокнот; когда Славин замолчал, несколько рассеянно поинтересовался:
– И это все?
– Да.
– Как я могу заключить из вашего доклада, Иванов вам нравится?
– Вполне приличный человек.
– И вы бы рекомендовали его к поездке в Венгрию на конгресс?
– Бесспорно.
Генерал надел очки (на этот раз узенькие щелочки, чтобы удобнее смотреть на собеседника), пробежал страницу машинописного текста, что лежала перед ним, и, не поднимая глаз, спросил:
– Вы бы рекомендовали его для поездки даже в том случае, если бы я сказал вам, что Иванова на работу в Центр исследований двадцать семь лет назад рекомендовал Олег Владимирович Пеньковский? А в Будапешт, на конгресс, прилетал Роберт Баум, связник ЦРУ, встречавшийся в свое время с Пеньковским в Лондоне? Вот, – генерал подтолкнул красную папку, – это кое-какая информация, полученная после очередной передачи неустановленному агенту…
Когда Славин ушел, генерал позвонил Васильеву, который в свое время вел дело Пеньковского: «Александр Васильевич, седая голова, выручай, подошли свои материалы»; тот, понятно, прислал; генерал начал неторопливо пролистывать тома, делая для себя короткие выписки на маленьких листочках толстой, мелованной бумаги…
Вопрос: Как английская и американская разведки обусловили дальнейшую связь с вами после вашего отъезда из Англии?
Пеньковский: Дальнейшая связь рисовалась по нескольким вариантам. Первый: передача указаний по радио. Предусматривался повторный приезд Гревилла Винна, так как в это время готовилась английская промышленная выставка в Сокольниках; я, соответственно, поддерживая с ним связь, мог бы получить указания через него.
Вопрос: Через кого вы должны были передавать собранные шпионские сведения и экспонированные фотопленки?
Пеньковский: На первом этапе работы я должен был это делать через Винна, как в Москве, так и в случае моего выезда за границу.
Вопрос: Какой вывод вы сделали о роли Винна в этом деле?
Пеньковский: Поскольку я удостоверился, что Винн посещает Москву неоднократно в течение года по делам фирмы, то я понял, что на том отрезке времени, пока я работаю в Госкомитете Совета Министров по координации научно-исследовательских работ, – это удобный вид связи с разведками, ибо деловая сторона его приездов была камуфляжем шпионской связи.
Вопрос: Что вы сделали по выполнению задания иностранных разведок после возвращения в Москву?
Пеньковский: Вернувшись из Лондона, я подобрал и сфотографировал ряд научно-технических материалов на двадцати фотопленках.
Вопрос: Кому вы передали эти данные?
Пеньковский: В мае я положил двадцать экспонированных пленок в коробку от папирос и заклеил ее клейкой лентой. Когда прилетел Винн, я его встретил в Шереметьевском аэропорту и в машине по дороге в Москву передал ему коробку с пленками.
Вопрос: Вы передавали через Винна письмо для разведчиков?
Пеньковский: Да.
Вопрос: О чем шла речь в письме?
Пеньковский: Я сообщил им, что приступил к работе: подобрал материал из различных областей промышленности и техники и сфотографировал его на двадцати пленках (это были отчеты о посещениях советскими делегациями различных промышленных предприятий Англии, Америки, Японии), и просил дать оценку этим данным. Я также указал, что пока не имею возможности давать информацию политического и военного характера.
Вопрос: Иностранные разведчики имели с вами связь по радио?
Пеньковский: Да. После отъезда Гревилла Винна из Москвы я получил по радио шифром ответ на свой запрос о том, правильно ли я использовал лист копировальной бумаги для письма к разведчикам. Мне сообщили, что я из блокнота ошибочно вырвал лист, который считал копиркой, а в действительности это была прокладка, то есть обычная бумага, и поэтому из моей попытки ничего не получилось. Разведчики сами расшифровали причину моей неудачи. Это было первое радиосообщение, которое я принял.
Вопрос: Вы были в Англии еще раз?
Пеньковский: Да. Я вылетал в Лондон в служебную командировку.
Вопрос: Состоялись ли у вас встречи с иностранными разведчиками в этот приезд?
Пеньковский: Да.
Вопрос: С кем из разведчиков вы встречались?
Пеньковский: В этот раз я встретился с четырьмя разведчиками: Александром, Майлом, Ослафом и Грилье. Кроме того, меня познакомили с разведчиком по имени Радж.
Вопрос: О чем шла речь?
Пеньковский: На этих пяти встречах был разбор материалов, полученных от меня, и дана им оценка. Мне разведчики сказали, что из этих технических материалов можно сделать очень интересные выводы. Меня обучали пользоваться радиопередатчиком дальнего действия, инструктировали по фотосъемке, спрашивали о моих знакомых, кого я знаю из числа сотрудников нашего посольства…
Вопрос: Вы были руководителем делегации. Что же в это время без вас делали члены делегации?
Пеньковский: Члены делегации занимались своим делом по плану. Каждая группа имела своего руководителя по профилю работы. Я же возглавлял делегацию в общем.
Вопрос: Значит, вы много времени уделяли «работе» с иностранными разведчиками?
Пеньковский: Да. Днем я работал в посольстве или ездил по делам делегации, а вечерами встречался с иностранцами.
Вопрос: Кроме сведений, которые вы передали в пакетах через Винна, на встречах с разведчиками вы сообщали им ряд сведений устно?
Пеньковский: Да.
Вопрос: Какое имели значение для разведок сведения, которые вы сообщали им устно?
Пеньковский: Поскольку разведчики задавали вопросы о моих знакомых – где они работают, что они мне рассказывают, – я считал, что к этим лицам проявляется определенный интерес, и я рассказывал то, что я слышал от этих лиц о германской проблеме и по другим политическим вопросам. Я должен сказать, что вопросы задавались целеустремленно и я старался давать такие же ответы.
Вопрос: Как оценивали те материалы, которые вы передавали?
Пеньковский: По-разному. Некоторые сведения носили общий характер, а они больше интересовались конкретными материалами и не от руки написанными. К тем материалам, которые я написал на шестнадцати листах, они отнеслись критически, как к неподтвержденным источникам, в их числе была записка по ракетам на трех страницах. Они не сказали, что не верят всему этому, но ждали от меня конкретных данных, заснятых на пленку.
Вопрос: Разведчики не говорили, почему они вам не верят? Может быть, вы их очень обильно снабжали материалами и это вызывало сомнения?
Пеньковский: Вы, очевидно, не так меня поняли. Первый раз в Лондоне я передал информацию для того, чтобы заинтересовать разведчиков и показать, что я располагаю определенными возможностями. Это были материалы общего характера. Позже, когда я стал обильно снабжать разведку материалами, имевшимися у меня по линии Госкомитета, разведчики говорили, что я провожу большую работу, и высоко оценивали ее как с точки зрения объема, так и с точки зрения важности полученных материалов…
Вопрос: Вы проходили во время встреч с разведчиками инструктаж по шпионской деятельности?
Пеньковский: Да, они меня наставляли, учили формам и методам работы.
Вопрос: Чему, в частности?
Пеньковский: Обучали использованию оперативной техники. Контролировали, как я понимаю, устройство техники, радиопередатчика, приставок к нему и к приемнику, как я пользуюсь инструкцией.
Вопрос: Вам предлагали способы безличной связи?
Пеньковский: Об этом меня подробно инструктировали в Париже. На встречах в Лондоне мне говорили, что это наиболее безопасный вид связи, объясняли преимущества этого способа и примерные места, где бы желательно иметь эти тайники. О тайнике «номер один» в этот раз разговора не было.
Вопрос: Что это за тайник?
Пеньковский: Он находился на Пушкинской улице, в подъезде дома № 5/6, между магазинами «Мясо» и «Обувь», это почти напротив театра оперетты; с правой стороны при входе в подъезд была батарея отопления, окрашенная в темно-зеленый цвет. Эта батарея укреплена на специальных крюках. Между батареей и стенкой имелся просвет шириной примерно пять-шесть сантиметров. Мне показали месторасположение этого дома на плане Москвы. Нужно было сообщение для закладки в тайник поместить в спичечную коробочку, обернуть голубой бумагой, заклеить целлофановой лентой и обмотать проволокой, при помощи которой подвесить коробочку на крючок сзади батареи отопления. После чего следовало дать соответствующие сигналы, о которых подробно сказано в обвинительном заключении.
Вопрос: Кто подобрал этот тайник?
Пеньковский: Иностранные разведки.
Вопрос: А конкретно?
Пеньковский: По инструктажу я понял – особенно по фамилиям людей, которым я должен был звонить, – что к этому тяготеет американское посольство и что этот тайник должен обеспечиваться представителями американского посольства в Москве.
Вопрос: О каких еще возможностях связи шла речь в Лондоне?
Пеньковский: В Лондоне шла речь о поддержании связи через женщину по имени Анна. Ее фамилию я узнал уже после ареста: Анна Чизхолм, жена второго секретаря английского посольства в Москве.
Вопрос: Какие условия связи с Анной были предложены вам?
Пеньковский: Мне было предложено встречаться с нею в обусловленный день. Такими днями были каждая пятница определенных месяцев в тринадцать часов на Арбате, район антикварного магазина, и каждая суббота других условленных месяцев в шестнадцать часов на Цветном бульваре, где Анна обычно гуляла с детьми. При необходимости я должен был посетить в это время указанные районы, не подходя к Анне. Анна, увидев меня, должна следовать за мной на расстоянии, а я по своей инициативе обязан выбрать место для передачи ей материалов. Для этой цели я выбирал в основном подъезды домов в переулках, прилегающих к Арбату или Цветному бульвару. Я шел на расстоянии тридцати примерно метров впереди Анны, то есть на расстоянии, позволяющем меня видеть, заходил в тот или иной подъезд и передавал материалы Анне Чизхолм, заходившей туда вслед за мной, или получал от нее.
Генерал откинулся на спинку кресла; его острый, аналитический ум реагировал на слово, будто эхолот, фиксирующий океанские глубины.
У Пеньковского была радиосвязь, подумал он, постоянные контакты с Гревиллом Винном по работе в Госкомитете координации научных работ, выезды за границу, возможность встреч с разведчиками на приемах в посольствах… Зачем его нужно было светить встречами с Анной Чизхолм на бульваре?
Видимо, наши контрагенты никогда не разыгрывают только одну карту. Они держат запасной вариант; наверное, у них тогда появился запасной вариант, которым они, видимо, дорожили больше Пеньковского… Хорошо, возразил он себе, а если руководство торопило их? Подгоняло? Требовало ежедневной информации? Ведь Пеньковский имел выходы на святая святых, на высшие государственные секреты… Но тогда выходит, что каждый завербованный ими человек заранее обрекается на провал? Значит, они совершенно не ценят свою агентуру? Тоже не вяжется, возразил он себе. Люди они прагматичные, считают каждый цент. Пеньковский – не цент. Это был большой капитал, очень большой. Почему они так к нему отнеслись? Хотя прагматизм в первую очередь предполагает рассуждение о собственной выгоде: если я, «икс», держащий на связи чиновника такого уровня, как Пеньковский, снабжаю Лэнгли, а значит, и Белый дом, практически ежедневной информацией из Москвы, обо мне говорят как о выдающемся специалисте разведки. Отсюда – рост в карьере, авторитет в сообществе, возможность выхода на новые рубежи в иерархическом аппарате ЦРУ. Значит, агент – некая ступенька в служебной карьере?
Генерал сунул в рот сигару, усмехнулся. «Тебе жаль бедных агентов, – сказал он себе, – существуют вне радостей жизни, в постоянном, изматывающем душу ужасе предстоящего провала; актер, отработавший на сцене два акта – не ахти уж какое время, – потом долго сидит у себя в гримуборной без сил, весь в поту, а тут приходится без отдыха играть двадцать четыре часа в сутки… Во всем и везде тотальная, изматывающая душу подконтрольность; это делает агента развалиной, неврастеником, тяжелобольным человеком…
Нет, – ответил себе генерал, – мне не жаль агента, хотя я и считаю его самым несчастным человеком на земле: каждый выбирает в жизни свой путь; человек, посмевший обидеться на Родину за то, что ему не дали новый чин или обошли наградой, и ставший из-за этого изменником, – какая уж тут жалость? Неужели, получив от Пеньковского имена, данные, характеристики, которые интересовали Лондон и Лэнгли, они перестали его щадить? Или замыслили новую операцию, расплатившись им, Алексом[3]?»
Генерал отложил сигару и снова углубился в чтение…
Вопрос: Кто из представителей иностранных разведок кроме названных вами пяти человек встречался с вами во время вашего второго приезда в Лондон?
Пеньковский: Во время второго приезда в Лондон на второй или третьей встрече я встретился с англичанином, неизвестным мне до этого, который знал немножко русский язык и был, как мне кажется, по характеру обращения к нему разведчиков руководителем какой-то секции английской разведки. Содержание его разговора было более конкретное, он интересовался моей жизнью, работой, бытовыми условиями, моим настроением, состоянием здоровья, членами моей семьи, возможностями дальнейшей работы в Советском Союзе. В заключение он пожелал мне успехов в работе.
Вопрос: Какое задание вы получили от иностранных разведчиков во время этих бесед?
Пеньковский: Несмотря на то что мною уже было передано много материалов и фотоотчетов к ним, я получил задание продолжать фотографировать, поскольку это представляет интерес. Кроме того, я получил задание чаще встречаться со своими товарищами – военнослужащими, интересоваться вопросами военного характера…
Вопрос: Как была обусловлена дальнейшая связь с разведчиками после вашего отъезда из Лондона?
Пеньковский: Во-первых, была предложена односторонняя радиосвязь. Во-вторых, было сказано, что г-н Винн поедет на французскую промышленную выставку, которая состоится в Москве в августе 1961 года, не помню точно, кажется, в конце. Вот эти два канала, и третий канал – Анна Чизхолм.
Вопрос: Передавали ли вы что-либо через Винна иностранным разведчикам в этот раз?
Пеньковский: Я дважды передавал пакеты через Винна. В них были: письмо, экспонированные фотопленки, поломанный фотоаппарат «Минокс». От Винна я дважды получал фотопленку к фотоаппарату «Минокс», мне также был передан новый фотоаппарат взамен поломанного, коробка из-под конфет «Драже», которая должна была использоваться для передачи в ней материалов шпионского характера.
Вопрос: Уточните, какие указания содержались об условиях связи при помощи коробки конфет?
Пеньковский: В эту коробку конфет я должен был заложить соответствующие материалы или пленку и в шестнадцать часов посетить Цветной бульвар в любой день, исключая дождливую погоду. Подойдя к детям Анны, обратить внимание на ребенка (а их у Анны было трое), сделать такой жест любви к детям – дать ребенку коробку конфет. Шоколадные передавать не рекомендовалось, так как они дорогие и на это могли обратить внимание прохожие.
Вопрос: Вы выполнили указание иностранных разведок о передаче сведений через Анну Чизхолм?
Пеньковский: Да, это указание я выполнил, я передал ей коробку конфет с четырьмя фотопленками, на которые сфотографировал четыре отчета Госкомитета по КНИР.
Вопрос: Расскажите об обстоятельствах передачи коробки.
Пеньковский: В какой-то день, не помню, в воскресный или рабочий, в первых числах сентября, в обусловленное время – шестнадцать часов – я прибыл в этот район, без всякого труда нашел указанное место и увидел там Анну, гуляющую с детьми. Подойдя, я сел на скамейку, где сидели дети, один ребенок или двое, сейчас не помню, а один играл в песке. Я потрепал ребенка по щеке, погладил по голове и сказал: «Вот тебе конфеты, кушай». Анна все это видела.
Вопрос: Сколько на вид было лет ребенку?
Пеньковский: Дети были маленькие, так, примерно от четырех до восьми лет. Старший ребенок был школьного возраста, а остальные – дошкольного.
Вопрос: Анна сидела на той же скамейке, что и дети?
Пеньковский: Да, но я сел не рядом с Анной, а на противоположный конец скамейки, ближе к детям. Все произошло буквально в течение нескольких минут; затем я встал и ушел. С Анной никакого разговора у меня не было.
Вопрос: Таким образом, для маскировки шпионских связей использовались даже дети Анны?
Пеньковский: Да, выходит, так.
Вопрос: Когда и для какой цели вы прибыли во Францию?
Пеньковский: Во Францию я вылетел руководителем делегации советских специалистов, которые должны были побывать на советской промышленной выставке и посетить ряд фирм по профилям своей специальности.
Вопрос: Вы использовали эту командировку для продолжения своей преступной шпионской деятельности?
Пеньковский: Да, я использовал ее для этого.
Вопрос: Когда вы прибыли в Париж?
Пеньковский: Я прибыл в аэропорт «Ле Бурже» 20 сентября 1961 года, где меня встречал г-н Винн. Я с собой привез пятнадцать экспонированных фотопленок и передал их в машине Винну. С аэропорта «Ле Бурже» мы поехали в гостиницу, которая находилась в районе нашего посольства в Париже. Там был для меня забронирован номер. В машине Винн сказал, что моя встреча с иностранными разведчиками будет дня через два-три и он покажет мне место, где будут меня встречать. В этот раз Винн в район конспиративной квартиры меня не возил. Он только подвез меня к мосту через Сену, который находился недалеко от гостиницы, и сказал, что на другом конце моста меня встретит кто-то из моих знакомых. Так оно и было.
Вопрос: Какой характер носили материалы, заснятые на пятнадцати фотопленках, переданных вами Винну?
Пеньковский: Эти материалы носили экономический и политический характер.
Вопрос: А сведения военного характера содержались в них?
Пеньковский: Военного характера они не носили. Военную информацию я давал устно.
Вопрос: Кто из разведчиков присутствовал на этих встречах?
Пеньковский: На этих встречах присутствовали пять разведчиков, которых я называл: три английских и два американских, и со всеми ними я встречался пять раз.
Вопрос: Назовите этих лиц.
Пеньковский: Ослаф, Радж, Грилье, Александр, Майл.
Вопрос: Какой характер носили эти встречи?
Пеньковский: Эти встречи носили конспиративный характер, и на этих встречах опять был сделан упор на изучение шпионской техники. Я изучал два радиопередатчика, контейнеры для закладки шпионских сведений в тайники, различные по своему устройству. Вот какие основные задачи решались на этих встречах.
Вопрос: Были ли разговоры о ранее переданных вами материалах?
Пеньковский: Да, был разговор по анализу переданных мною материалов. Кроме того, разведчики интересовались моими знакомыми из числа работников советского посольства в Париже, составом нашей советской делегации.
Вопрос: Опознавали ли вы знакомых по фотокарточкам?
Пеньковский: Да, мне был предъявлен фотоальбом для опознания лиц из посольства.
Вопрос: А кроме сотрудников посольства вы кого-либо еще из знакомых опознавали?
Пеньковский: Для опознания мне были показаны фотокарточки сотрудников торгпредства, советских представителей – экономистов, техников-специалистов, которые бывают во Франции.
Вопрос: А о военнослужащих шла речь?
Пеньковский: Да, они спрашивали, кого я знаю из военнослужащих. Я встретил одного знакомого, которого немножко знал и который там работал военно-морским атташе. Вот о нем была речь.
Вопрос: Вы встречались в Париже с Анной Чизхолм?
Пеньковский: На предпоследней встрече с разведчиками на конспиративной квартире я увидел Анну; я был удивлен тем, что она в Париже. Мне сказали, что она в Париже проводит свой отпуск. Тогда же у нас с Анной были вновь уточнены места и время встреч.
Вопрос: Были ли выработаны другие виды связи с иностранными разведками? кроме связи через Винна и Анну?
Пеньковский: Да, тогда же подробно обсуждался вопрос использования предложенного мне тайника «номер один» и были разговоры о выборе мест для устройства мною других тайников.
Вопрос: Какие еще кроме тайников виды связи были предложены вам разведчиками?
Пеньковский: Мне был предложен еще один способ связи, которым можно было пользоваться при необходимости и при невозможности использовать уже прежние варианты связи. Для этого я должен был двадцать первого числа каждого месяца в двадцать один час прибыть в район гостиницы «Балчуг» и по заранее обусловленному паролю войти в связь со связником для получения через него указаний или для передачи ему шпионских материалов.
Вопрос: Какой был обусловлен пароль?
Пеньковский: Я должен был прогуливаться по набережной с папиросой во рту, а в руке держать книгу или пакет, завернутые в белую бумагу. Очевидно, описание моего внешнего вида должно было быть известно тому, кто придет на связь. Ко мне должен подойти человек в расстегнутом пальто, также с папиросой во рту, который скажет: «Мистер Алекс, я от ваших двух друзей, которые шлют вам свой большой, большой привет». Подчеркивание дважды «большой, большой» и «от ваших двух друзей» было условленностью.
Вопрос: На каком языке должен происходить разговор?
Пеньковский: На английском.
Вопрос: Была ли договоренность в Париже об установлении связи в Москве с кем-либо из американских дипломатов?
Пеньковский: Нет, в Париже мне об этом ничего не говорилось. Я узнал об этом из инструктивного письма, полученного от Гревилла Винна в июле 1962 года, и по тем фотокарточкам, которые мне тогда же были показаны Гревиллом Винном.
Вопрос: А когда вы узнали имя Джонсон?
Пеньковский: Имя Джонсон я узнал из того самого письма, которое получил 2 июля 1962 года через Гревилла Винна, в день его приезда в Москву.
Вопрос: Как обусловливалась возможность вашей встречи и опознания Джонсона?
Пеньковский: Мне было сообщено, что Джонсон прибыл в Москву недавно, как будто, если память не изменяет, на должность второго секретаря американского посольства по вопросам или культуры, или сельского хозяйства (я сейчас точно не помню). В письме было сказано, что я должен ознакомиться с личностью Джонсона по его фотокарточкам, которые мне покажет Гревилл Винн, и что впоследствии я смогу с ним встречаться на официальных дипломатических приемах, куда меня будут приглашать.
Вопрос: Кроме фотокарточек, какие были установлены условности опознания вами Джонсона?
Пеньковский: Я прошу прощения. В Париже был разговор, что в последующем если будет выходить на меня новое лицо для поддержания связи, то у него должна быть защепка на галстуке, инкрустированная красными камешками.
Вопрос: Следовательно, в Париже об этом был разговор?
Пеньковский: Да. Я прошу прощения, я забыл о содержании этого разговора, но он был общего характера, без связи с Джонсоном или кем-либо другим.
Вопрос: Джонсон – это настоящая фамилия?
Пеньковский: Нет, его настоящая фамилия Карлсон.
Вопрос: А когда вы об этом узнали?
Пеньковский: Я об этом узнал в последующем, когда с ним познакомился.
Вопрос: Какие задания вы получили от разведчиков в Париже?
Пеньковский: В Париже я получил задание продолжать фотографирование технических материалов в Комитете, причем стараться фотографировать материалы послевоенного периода, последних лет.
Вопрос: Какое еще задание у вас было в Париже?
Пеньковский: Я получил задание быть готовым к принятию инструкций по радиопередаче, внимательно их изучить на базе той практической подготовки, какую я получил во время пребывания в Париже, и быть готовым к принятию самой техники.
Вопрос: Получили ли вы задание на расширение своих знакомств с военнослужащими Советской Армии и Военно-Морского Флота?
Пеньковский: Да, мне было предложено расширить круг таких знакомств.
Вопрос: Для какой цели?
Пеньковский: Для получения от них различной военной информации, которую мне нужно было запоминать и передавать разведчикам.
Вопрос: Еще какое задание вы получили?
Пеньковский: Получил подтверждение поддерживать связь с Анной. Это было связано с тем, что г-н Гревилл Винн длительный период не приедет в Москву. Так оно и вышло.
Вопрос: Интересовались ли иностранные разведчики какими-либо документами военнослужащих Советской Армии и Военно-Морского Флота?
Пеньковский: Иностранные разведчики спрашивали, какие у меня возможности доступа к документам военнослужащих. Я сказал, что могу попросить у товарищей под каким-либо предлогом удостоверение личности, просто в порядке любознательности. Ужиная с одним офицером (фамилию его я не помню), я попросил у него удостоверение личности и затем описал его в донесении…
…Над замечанием Пеньковского о том, что фамилию офицера он не помнит, генерал сидел особенно долго, а потом снял трубку телефона и снова набрал номер генерала Васильева:
– Александр Васильевич, к вам на этих днях Славин подъедет, можно?
«Нигде так грустно не думается, как в самолете»
После того как в Вене вышли дипы[4], в первом классе стало совершенно пусто; вылет отчего-то задержали на три часа. Когда взлетели, Степанов пересел к иллюминатору, вмонтированному в запасную дверь, и отчего-то неотвязно вспоминал своего давешнего приятеля Мирина, его патологический страх перед самолетом. Тридцать лет назад, кончив МГИМО, он был распределен на работу в ВЦСПС, приходилось летать с делегациями чуть ли не ежемесячно; забивался в хвост, убедив себя, что в случае аварии именно там есть шанс остаться в живых: наивная вера в сопротивление массы металла неуправляемой и стремительной силе удара об землю; Степанов приводил ему статистические данные: больше всего погибают на дорогах, казалось бы, самый привычный и безопасный вид транспорта – автомобиль; потом – море, кораблекрушения; железнодорожные катастрофы, а уж затем авиация – самый безопасный способ передвижения второй половины двадцатого века.
Мирин слушал его не перебивая, кивал, вроде бы соглашаясь, а потом заметил: «Я прочитал в “Фигаро” отчет о трагедии на Тенерифе; мне врезалась в память лишь одна фраза: на летном поле собирали “фрагменты трупов”. Представляешь? Или ты лишен фантазии такого рода?»
Свой самый лучший рассказ, посвященный авиакатастрофе, Мирин назвал «Спешу и падаю». И после этого вообще перестал летать – только поезд.
«А наши дети, – подумал Степанов, – не очень-то ездят в поезде; самолет для них сделался бытом, словно метро или автобус; новая концепция, созданная техническим гением времени, но не понятая и поэтому не объясненная еще человечеству философами (производство всегда опережает сознание), втянула поколение, родившееся в шестидесятых, в новое ощущение времени, словно в воронку; что-то выйдет из этой гонки от самого себя?! А может, за собою самим! Правы ли дочери мои, Бемби и Лыс, когда говорят о необходимости самим пройти то, что прошел я и что для меня есть аксиома, данность, “дважды два”. Лишь тогда они примут мои советы осознанно, а не приказно. Видимо, все же они в этом не правы; если что и надо скупердяйски экономить, так это время. В нем выражается личность, именно оно составляет субстанцию памяти, хранит в себе слово, пейзаж, формулу, то есть создавшего это моральное богатство человека. Зачем же тогда транжирить время попусту?! Я советую лишь то, что лежит на поверхности: прежде всего нужно быть физически крепкими; академик Микулин, заземляясь на ночь, создав свою теорию здоровья, думал не только о долголетии, но и о том, как творить лучше и больше; нельзя обращать внимание на мелочи, как бы они ни были обидны; художник Кончаловский во времена оно отказывался смотреть книги отзывов на его выставках, загодя организованное мнение, стоит ли попусту раздражаться?! Организованность во всем и всегда, сколь бы эта истязающая самодисциплина ни казалась изматывающей; если эти основоположения творчества не по силам – валяй замуж, тоже прекрасно; я еще не считаю себя старым, но уже мечтаю о внуках. Или внучках, какая разница, малыши одинаково прекрасны…»
Степанов вдруг близко увидел чуть выпуклые, беззащитные от близорукости глаза Игнасио Лопеса; в его мадридской квартире на каллье доктора Акунья, 19, он жил в семидесятом, когда в Испании только-только открылось представительство советского Черноморского пароходства и Сережа Богомолов был не чрезвычайным и полномочным послом, а заместителем морского агента. Жизнь есть жизнь – камуфлируются не только африканские бабочки, легко меняя окраску крыльев, но и дипломаты: фашистская диктатура шла к концу, надо было держать руку на пульсе больного общества. Лопес тогда представлял «Совэкспортфильм»; цензура Франко, однако, запрещала ему показ практически всех лент, кроме развлекательных программ о цирке и старой оперетты «Сильва».
Игнасио тогда писал большой пейзаж – в Москве кончил Суриковский институт, – говорил, что это любимая его сердцу Галисия, испанский север, а Степанов явственно видел Россию, где Лопес провел двадцать три года. Он мечтал отправить в Москву сына, Андреаса: «Только там можно научиться ремеслу»; жена его, русская, несостоявшаяся актриса, ушла от него, выступала в газетах с интервью о «коммунистической тирании», а он не мог жить без второй родины, рвался туда постоянно, и Андреаса наконец привез с собою, сломив с помощью Степанова все ленивые, убивающие душу бюрократические преграды; с утра и до ночи заботливо поучал парня, как себя надо вести, что говорить, какие музеи посещать, а тот старался поскорее уйти в свой закуток, брал флейту и часами играл тягучие мелодии Индии.
Лопес ждал, что сын будет спорить, возражать, приоткроется хоть в малости, но тот молчал, гладя длинными пальцами флейту, дожидаясь того момента, когда отец, махнув рукой, замолчит; поднимался, уходил к себе, закрывал глаза, лицо становилось отрешенным, маска какая-то, и прикасался губами к дудке: мелодии не было, лишь невысказанная тоска, безысходность, отчаяние…
Лопес, однако, не знал, да и не мог знать, что в те годы, когда сын, мальчиком еще, жил в семье матери, чего только бедняге не приходилось слышать об отце; он защищал его, особенно в детстве; бедный цыпленок, что он мог сделать?! Самое страшное случалось, когда мама начинала плакать: сыновья больше жалеют матерей, чем дочери, те уже с раннего юношества готовятся к своему; тяга к своей семье у них неизбывна и затаенна – естество, ничего не попишешь.
Андреас не мог слышать, когда про его отца говорилось то, что вообще не вправе было быть произнесенным вслух: высшая тайна взаимоотношений между женщиной и мужчиной, которые дали жизнь ребенку, изначально предполагает некие «темные ямы». Существует всеобщий, непознанный микрокосмос…
Однажды, после очередного разговора про то, каким чудовищем был его отец, у Андреаса началась истерика. На другой день рано утром мать отвела его к женщине, которая (так она писала о себе в газетном объявлении) «изгоняла дьявола и возвращала душевное спокойствие». Колдовские обряды, страшное бормотание старухи с огненными глазами, увеличенными толстыми стеклами очков, ее сухие руки, сжимавшие виски Андреаса, испугали его; ночью он проснулся в слезах, закричал что-то; тело его при этом изогнулось, став каменным.
Наутро он не мог подняться, голова раскалывалась, глаза постоянно слезились; мать испугалась, целовала его лицо сухими губами, шептала что-то нежное и тихое; отчим поехал в универмаг; привез мальчику американские электронные игрушки, набор красок, альбом дли рисования, флейту; Андреас смотрел на все это сказочное богатство без интереса, погасшими глазами; поздно ночью, когда все уснули, он взял флейту, прикоснулся к ней губами, закрыл глаза и начал играть какую-то странную мелодию. Проснувшись, мать не сразу поняла, что мальчик подбирает мелодию «Подмосковные вечера». В России, когда Андреас был совсем еще маленький, они с Лопесом жили у бабушки Прасковьи Лукиничны, в Удельном, там эту песню часто пели, да и по радио передавали чуть не ежедневно.
Через два дня мать позвонила Лопесу (она жила с новым мужем в Севилье) и попросила забрать Андреаса к себе: «Пусть он поживет у тебя, надеюсь, это не очень тебе помешает. У тебя достаточно друзей-художников, в случае нужды предоставят ателье на пару часов».
Лопес забрал сына, проводил с ним все время, но совершил такое же преступление, как и его бывшая жена: он начал рассказывать мальчику, отчего он расстался с мамой; именно после этого Андреас и попросил, чтобы отец определил его в колледж, где дети живут круглый год, уезжая к родителям лишь на летние каникулы. Там он еще больше изменился, стал молчаливым, слова не вытянешь; из класса – к флейте, а оттуда – в спальню. Когда Андреас колледж закончил, научившись играть на рояле, скрипке и саксофоне, Лопес решил пристроить его в Московскую консерваторию. Он провел с ним месяц в Союзе, повсюду таскал за собою, а потом, оставив немного денег, улетел на кинофестиваль в Сан-Себастьян.
Андреас остался у Степанова, за городом, в доме, что он снимал для семьи на лето; однажды утром Надя молча протянула ему две странички, исписанные странными, налезающими друг на друга строками; Андреас исповедовался своему другу о том, что в Москве скучно и пусто, бабы, как одна, жирные, «смотрят на меня сальными глазами; как и во всем мире, взрослые здесь живут собою, плевать им на детей; на земле царствует безнравственность; дети – заложники, скорее бы назад, сил нет».
…Степанову бы поговорить с парнем: как-никак испанец, Дон Кихот, герой Пио Баррохи, живет в мире представлений, реальность кажется вымыслом, верит только себе, лишь своя мысль является истиной в последней инстанции, а Степанов позвонил в Мадрид, Лопесу, и сказал – в ярости, – что парня у себя держать не станет. «Почему?» – спросил тот. Степанов прочел ему письмо Андреаса; Лопес долго молчал, потом ответил потухшим, чужим голосом: «Хорошо, пусть улетает… Только…» – «Что?» – «Да нет, ничего… Это действительно он написал?» – «А кто же еще в моем доме станет писать на испанском?»
И Андреаса отправили в Мадрид. В международном зале Внукова (Шереметьева тогда еще не было) он достал из рюкзака свою флейту, устроился на полу, возле стойки, и заиграл одну из своих тягучих, безнадежных мелодий – крик какой-то бессловесный, отчаянный, словно вопль раненого оленя…
А в Мадриде выяснилось, что парень болен – тяжелая форма шизофрении. «Но я же хотел ему добра, – говорил спустя несколько лет Степанову Лопес; они тогда пришли в “Хихон”, бар артистов и художников на авениде Хенералиссимо, сели к окну и заказали “хинебру”, – я ведь отдавал ему себя, свой опыт! А может быть, надо было молчать?! Пусть бы все шло, как шло? Может, он бы тогда не сдвинул?!»
…Франко умер, картины Хуанма, лежавшие на складе, вышли на экраны, весь Мадрид повалил на «Броненосца Потемкина» и «Чапаева», прокат дал Лопесу миллион, он положил Андреаса в лучшую клинику, но медицина была бессильна; Лопес стал каким-то потерянным, много пил, умер от рака легких – за два месяца, не успев переписать завещание на сына; все досталось бывшей жене, которая его ненавидела.
«Если бы не Лопес, – подумал вдруг Степанов, – никогда бы Юджин Кузанни не получил свою премию на кинофестивале в Сан-Себастьяне; все те, с кем я говорил о нем, были добрыми знакомцами несчастного Лопеса, он делал добро всем, кому мог, а сам… Господи, сколько же имен надо вычеркивать в телефонных книжках… Отсчет начался в шестьдесят восьмом с Левона Кочаряна; лучше Мандельштама не скажешь: “У меня еще есть адреса, по которым найду мертвецов голоса…” Как же бился за публикацию его подборки в журнале “Москва” Поповкин! И его телефон давным-давно вычеркнут; а ведь жена осталась. Не оправдывай себя тем, что дружба определяется двумя единицами – ни больше ни меньше; просто-напросто воронка нового времени поглощает не только молодых, она вбирает всех, без разбора, ритм человечеству задан костоломный, день сплющен просыпанием и обрушиванием в сон. Суета, суета, суета…»
…В Женеве Степанов сразу же поехал в отель «Эпсом», неподалеку от озера, и Дом прессы рядом; хозяин сбросил цену для журналистов со ста пяти до восьмидесяти франков, а номер оборудован кухонькой с электроплитой и холодильником; можно пойти в соседскую «мигрошку»[5] и купить бумажную сумку с едой – яйца, плавленые сырки, нечерствеющие булочки. Кто-то из друзей горестно пошутил: «Когда я обедаю, меня не оставляет мысль, что я жую зимнюю обувь для жены; любой ужин в ресторане – это съеденная рубашка для брата или какой другой подарок; сколько их надо купить, бог ты мой?!» Только за границей начинаешь понимать бедных работников Госплана – пойди спланируй на всех…
…Дрю Зэлл из «Чикаго сан» остановился в том же отеле; до этого они со Степановым встречались неоднократно; устроились в лобби, попросили кофе, горестно заметили, что еще пять лет назад вместо кофе взяли бы виски; возраст подкрадывается незаметно; голова работает лучше, чем раньше (многолетний опыт не только рождает холодный стереотип тупого и неразумного отталкивания – сие от характера, а не от количества прожитых лет, – но и заряжает огромной информацией, которая обычно альтернативна, то есть лишена догматической зашоренности), но печень сдает, и почки ни к черту, и постоянный страх по поводу того, что утром будет раскалываться затылок, не натянешь кеды из-за того, что опухнут ноги, и боль в пояснице станет горячей, пронзительной, тут уж не до пробежек, глотай аспирин с баралгином и успокаивай себя тем, что через пару часов отпустит, можно наконец сесть к машинке: чем меньше отпущено времени, тем страшнее понимаешь, как много не сделано. Воистину пассивность творчества преступна – нельзя уносить с собою то, что нужно отдать твоим читателям…
За окнами шел мелкий дождь; пузырились лужи; мертвый свет неоновых реклам тускло отражался в мокром асфальте.
– Ваша пресса не понимает Америку, – грустно заметил Зэлл. – Вы лишены сострадания, обычного человеческого сострадания. Не хотите понять, что люди, которые готовили предвыборную программу Рейгана, заранее заложили деньги в ракетный космический комплекс, он ничего не может с этим поделать. Вопрос в том, чтобы авторитет президента Соединенных Штатов хоть как-то сдержал бешеных, а их в моей стране очень много, вы даже не представляете, сколько их, мистер Степанов. Рейган в нынешней взрывоопасной ситуации, особенно после первого раунда переговоров, не самый худший вариант; в его штабе есть здравомыслящие политики.
– Ну-ну, – усмехнулся Степанов. – Полагаете, он изменил свое мнение по поводу «исчадий ада»?
– Делайте скидку на то, что он актер… Эмоции и все такое прочее… Но заметьте: после того как пришел Горбачев, он ни разу более не позволял себе таких высказываний… В конечном счете во время ноябрьской встречи он старался сделать все, что мог… Нынешние переговоры – это следствие, в какой-то, конечно, мере, того впечатления, которое произвел на него ваш лидер…
…Позвонили из миссии США, пригласили Зэлла посмотреть материал, полученный по спутнику: выступление государственного секретаря Шульца о начале прерванного раунда переговоров; тот сказал, что он не один, а с русским коллегой; продиктовал имя и фамилию, вернулся к столику:
– Сейчас ответят, компьютерная справка у них работает отменно.
Ответили быстро: «Будем очень рады русскому гостю».
…Охранники миссии – все как один филиппинцы или таиландцы, толком не поймешь, – показали, куда надо запарковать машину; в приемной Зэлла и Степанова встретил заместитель постоянного представителя, провел в кинозал.
– Видимо, речь может пойти о новой встрече двух лидеров, теперь уже в Штатах, – заметил он, дружески присматриваясь к Степанову. – Мы с большим оптимизмом выслушали Шульца, он был весьма сдержан.
«А как относится к такого рода возможности военно-промышленный комплекс? – подумал Степанов. – Или ЦРУ? Для них встреча в Женеве не была подарком… А теперь эти переговоры… Каково-то им?»
После просмотра поднялись на третий этаж, в столовую. Пришел шеф миссии, засвидетельствовал свое почтение – в рубашке, рукава завернуты, словно у техника по ремонту автомобилей, весел и доброжелателен: «Хорошо бы как-нибудь позавтракать, буду рад вашему звонку…»
Зэлл продиктовал телефон «Эпсома», заметив при этом:
– Надеюсь, завтракать будем не в этой казарме?
Американский представитель снова улыбнулся:
– Здесь делают прекрасный омлет, не гневите бога, Дрю! А выезжать в город я сейчас не могу: мы очень и очень ждем новостей из Белого дома; от того, как сейчас здесь пойдут переговоры о ракетном потенциале, зависит будущее. Как думаете, мистер Степанов, Кремль готов к серьезному диалогу, когда ваш лидер прилетит в Штаты?
– Полагаете, я отвечу «нет»? – вздохнул Степанов. – Здесь, в Женеве, во Дворце наций, после того как уехал Геббельс, наш Литвинов провозгласил концепцию диалога… Со всеми… Кроме нацистов, понятно… Пятьдесят один год тому назад… Вы считаете политику, как экономисты, тогда как мы склонны обращаться и к тем позициям, которые создала история. Мне кажется, что экономизм вашей политики более грешит пропагандистским ажиотажем, порою чрезмерно эмоциональным, чем наша склонность к историческим ретроспективам; ее конечно же можно бездоказательно ошельмовать, но исключить из серьезного исследования предмета политики невозможно.
– Вы оптимист? – спросил американский представитель; лицо его было усталым, особенно глаза.
– Да, – ответил Степанов. – А в Штатах много оптимистов?
– Это уже эмоции, – ответил Зэлл. – Все то, что не поддается подсчету, эмоционально. Во всяком случае, я не удивлюсь, если у нас дома будет предпринято нечто такое, что помешает оптимизму. – Он обернулся к представителю: – Разве нет?
Тот вздохнул, похлопал его по плечу и поднялся:
– Но коммент, Дрю, но коммент[6]. Извините, я должен вернуться к себе.
Сладость свободного сочинительства-II
Со Стивом Гринбергом, голливудским продюсером, Юджина Кузанни связывали годы дружбы; он был благодарен ему за то, что тот – еще семнадцать лет назад – финансировал его полет во Вьетнам, хотя сам был убежден в необходимости помощи Сайгону, борющемуся против ханойского тоталитаризма. Он же – спустя три года – запустил картину Юджина Кузанни о палестинцах на территории, оккупированной Израилем.
Кузанни тогда грустно пошутил:
– Стив, а я не пущу вас по миру? Израильтяне не простят вам отступничества: я ведь намерен поддерживать палестинцев…
Стив Гринберг пожал плечами:
– Я не знал, что вы расист…
Кузанни удивился:
– Можете обвинять меня в чем угодно, только не в расизме…
– Я американец, Юджин, я не отделяю свою судьбу от судьбы Америки. В отличие от моих предков я протестант. И не считаю Израиль своей второй родиной. Как консерватор, патриот этой страны, я считаю доктрину Вашингтона на Ближнем Востоке весьма рискованной. Так что не вяжите меня с израильским лобби, обижусь.
– Смотрите, я предупредил… На вас могут потом крепко нажать весьма влиятельные люди.
– Ну и прекрасно. Плохо, когда не замечают. Если жмут, значит, ты состоялся, возможен диалог, а это уже бизнес, что и требовалось доказать. Знаете, есть смешной анекдот, когда два инвалида войны, повесив на грудь плакатики, вроде как у наших безумных пикетчиков, пошли по благотворительным обществам с просьбой о денежной помощи. На груди одного было написано: «Я – американец, сын фермера, потерял на войне слух», а другой тряс плакатиком: «Я – иудей, сын раввина, потерял на войне дар речи». Помогали, понятно, сыну фермера, истинному американцу; кто-то из сердобольных заметил еврею: «Зачем вы пишите о вероисповедании? Смените плакатик». Тогда сын фермера, потерявший на войне слух, заметил иудею, лишившемуся дара речи: «Они нас учат коммерции, Симон, как тебе это понравится?!»
– Смешно, – заметил Кузанни, – только я не понял, к чему вы мне все это рассказали?
– К тому, что я посылаю в Иерусалим вторую съемочную группу, которая будет делать фильм, прямо противоположный вашему…
…Когда Юджин Кузанни пришел к Гринбергу с идеей сделать ленту о схватке между двумя китами военного бизнеса – ракетчиками, связавшими себя с доктриной молниеносного удара по России, и владельцами авиакорпорации, поставившими на иную военно-политическую концепцию, – продюсер не сразу дал ответ, посоветовался с юристами, пригласил на ленч отставного генерала, который поселился в Сан-Диего, но связей с Пентагоном не прерывал, встретился с ведущими обозревателями газет и лишь после этого сказал Кузанни, что готов финансировать сценарий:
– Поглядим, что из этого получится, Юджин. Если я почувствую в сценарной записи вашего будущего фильма хорошую кассу – рискну; в стране есть силы, которые выступают против космического бизнеса… Появится желание – читайте мне сценарий по эпизодам, обещаю слушать, вы мастерски проигрываете будущую ленту, я словно бы растворяюсь в зрительном зале…
– Купите мне время на радио, буду читать радиосценарии, куда как дешевле, чем вколачивать баки в рисковый кинобизнес.
Гринберг покачал головой:
– Я же просил вас не учить меня коммерции, Юджин. Выгода от радиосценария мизерна. А работать на рекламу вашего имени я не намерен – без соответствующей компенсации. И получить эту компенсацию я должен в моих кинозалах, где станут крутить вашу ленту… Если конечно же я окончательно решу вложить в нее деньги…
Первые эпизоды Гринбергу понравились; поинтересовался, кто прототипы Питера Джонса и Дейвида Ли; выслушал ответ, заметив:
– Как я понимаю, хотите сделать некий сплав игрового и документального кино?
– Именно.
– Рискованно.
– Любой эксперимент несет в себе элемент риска.
– Верно. Видимо, многое будет зависеть от актеров, которых вы пригласите… Кто из звезд согласится войти в ваше предприятие?
– Я хочу поставить на совершенно неизвестных людей, Стив.
Гринберг покачал головой:
– Не годится. Вы пока что не Феллини, на вас не пойдут. Пойдут на звезд мирового класса.
– Поскольку я намерен делать сплав игрового кино с хроникой, звезды разрушат ощущение правды, – возразил Кузанни.
– Наоборот. Люди верят звездам, это пророки, каждое слово которых – истина в последней инстанции… Если Марлон Брандо сыграет сэра Питера Джонса, а Пол Ньюмен – Дейвида Ли, касса обеспечена.
– Ньюмен участвует в движении против космических войн, он не станет работать роль автора космического проекта.
– Почему? – Гринберг искренне удивился. – Не надо путать профессию с позицией. Пол Ньюмен вправе сыграть Дейвида Ли так, как он его видит; хорош мистер Ли или плох – другое дело, главное в том, что только личность может сыграть личность. Плохо, если страной правят медузы; личностям прощают ошибки; личность, Юджин, прежде всего личность, остальное рассудит время… Давайте-ка почитайте мне новые эпизоды, я переключу телефоны на секретаря…
Кузанни достал из кармана хрустящие листки бумаги, похожие на пергамент, и разгладил их своей тонкой, словно у девушки, ладонью:
– Нью-Йорк, штаб-квартира «Авиа корпорейшн».
…Питер Джонс сидел на председательском месте, закрыв глаза; казалось, он дремлет, тогда как все члены совета директоров концерна с напряженным вниманием прислушивались к тому, что говорил генерал Том Вайерс, только что прилетевший из Бонна:
– Созданный в Европе ракетный щит против русской военной угрозы конечно же внес свою коррективу в стратегию обозримого будущего. Авиация теряет ключевую роль в той концепции противостояния коммунизму, которая отводилась ей какие-то два десятилетия назад. Если корпорация Дейвида Ли получит ассигнования в том размере, в каком планируется, я не вижу другого выхода, кроме как созыв дружеской конференции за этим столом, во главе которого сядут сэр Питер и Дейвид Ли. Если мы сможем выработать новую доктрину защиты демократии, соединив воедино достижения авиации и ракетостроения, тогда, полагаю, начнется новая эра развития… Если десять лет назад шести тысяч самолетов ВВС США, из которых две тысячи триста были произведены на заводах вашей корпорации, хватало для защиты рубежей свободного мира, то ныне…
– Перестаньте, Том, – не открывая глаз, раздраженно заметил Питер Джонс. – Мы же серьезные люди… Свободный мир, не свободный мир – все это словоизвержения. Смотреть надо в корень вопроса: Дейв Ли, начиная с конца семидесятых годов, пошел на нас в атаку. Сначала он выпустил залп против родственного нам «Лок-хида», да, да, именно он, пора называть вещи своими именами, надоело танцевать на паркетном полу, покрытом скользящим лаком… А потом его люди раздули скандал в прессе и на телевидении по поводу катастроф наших самолетов в Германии… Бонн отказался от приобретения моих «зет-два», чистый убыток двести миллионов долларов. И вы предлагаете мне сесть за один стол с этим сукиным сыном?! Если мы не сможем переломать ноги Дейвиду Ли, мне придется свертывать производство, лишить работы четверть миллиона американцев и в конечном счете на предстоящем собрании акционеров открыто признаться в грозящем нам банкротстве… Чтобы этого не произошло, нужна новая доктрина, философское обоснование необходимости боевой авиации, которая не уничтожает все окрест, как ракеты мистера Ли, но в случае нужды поражает пересечение улицы Горького, – он усмехнулся, – и Тверского бульвара. Давайте будем щадить людей, как своих, так и противника. Там обитают вполне живые существа, они тоже хотят иметь надежду на выживание после предстоящей схватки. Дейв Ли такого рода надежду им не дает. Я даю. Это тот козырь, который вполне можно бросить на стол. Учесть надо и то, что лишь с самолетов в тыл противника забрасывают десант. С ракеты не бросишь. Итак, дело за доктриной. Кто это будет делать, какой университет, не знаю. Убежден лишь в том, что мой друг Том Вайерс сможет подсказать ученым такие детали новой модели возможной битвы с коммунизмом, которые докажут примат стратегической авиации, а не бессмысленность ракетной катастрофы… Видите, врачи дают мне полгода жизни, а я думаю о будущем… Мистеру Ли сорок два года, а он не отягощает себя кошмарными представлениями о том, что грядет, возобладай его точка зрения. Вы привезли с собою материалы, Том, которые можно сразу же запустить в дело? Вам отпущены часы, не дни – слушание в конгрессе начнется через две недели. Можете сесть в библиотеку с нашими профессорами?
– Я готов, – ответил Том Вайерс и устало улыбнулся. – Только сначала бы мне хотелось съездить домой и принять душ. Сюда я приехал прямо из аэропорта, проболтавшись одиннадцать часов в самолете.
…Нью-Йорк, сорок вторая улица; возле светофора в автомобиль генерала Тома Вайерса села Мэри, личный секретарь Дейвида Ли.
– Вы славно выглядите, Мэри, – заметил генерал, – очень рад вас видеть… Поскольку со временем у нас жестко, пожалуйста, передайте Дейву: старик поставил на блок науки и Пентагона, – он усмехнулся, – который представляю я… Разработка доктрины милосердия: авиация может выиграть войну, не разорвав шарик в клочья, тогда как ракеты несут тотальное уничтожение человечества. Видимо, у Питера есть сторонники в сенате и конгрессе. Допускаю, что он поддерживает контакты с вице-президентом Бушем – все-таки профессионал, отсутствие избыточных эмоций, как у Рональда, способность трезво оценивать ситуацию…
– Какие университеты он подключает? – спросила Мэри.
– Об этом я узнаю через час, когда начну работать.
– Вечером я получу имена?
– Полагаю, что да. – Он протянул ей микродиктофон. – Здесь запись совещания в совете директоров.
– Спасибо, Том. Остановите, пожалуйста, возле такси…
…Нью-Йорк, штаб-квартира Дейвида Ли.
– Ну что ж! – Дейвид Ли потянулся с хрустом; улыбка шальная, неожиданная, как у десятилетнего шалуна, только глаза не смеются. – Наука так наука. Тем более вкупе с Пентагоном. Пусть себе. А мы пообедаем с друзьями из Лэнгли, правда, Мэри? Как перспектива? Пусть накроют здесь, в гостевом зале. Все должно быть предельно скромным, никаких роскошеств, невидимки этого не любят… Во всяком случае, в рабочее время.
…Гостевой зал корпорации; за огромным овальным столом сидели Дейвид Ли и директор управления разведывательной информации (ЗДИ) Джим Патрик, работающий в Нью-Йорке под крышей вице-президента «Уорлд иншурэнс компани».
Стол был накрыт, как и просил Ли, скромно: салат, фрукты, никакого алкоголя, только вода «эвиан», два стэйка, три сорта сыра к кофе. И все.
– Из того, что говорил старец, – заметил Патрик, кивнув на маленький диктофон, лежащий возле Дейва, – две позиции весьма сильны, не стоит закрывать на это глаза. Первая – милосердие… Мир действительно устал от жестокости, люди мечтают о том, чтобы предстоящая ночь была спокойной, сколько можно играть на нервах человечества?! Вторая: его концепция десанта в России… Это будет многим по душе и у нас, Дейв, хорошо, что вы меня вовремя проинформировали… Люди, отвечающие за «Свободу», тоже хотят дополнительных ассигнований, работа по разложению тыла противника требует щедрых капиталовложений… Таким образом, идея сэра Питера и мечты моих коллег, занятых идеологическим противоборством Кремлю, смыкаются… И я не убежден, что старец поставил только на науку и военных, он достаточно мудр, чтобы игнорировать мое ведомство. Убежден, что ищет подходы. Он их найдет. И наши идеологи бросятся к нему, как к отцу родному, потому что времени им практически не осталось…
– То есть? – удивился Ли.
– Объясняю. Если русские преуспеют в реформе, тогда «Свободе» будет практически не к кому апеллировать. Сейчас Россию губит, как они говорят, уравниловка… Понимаете смысл этого слова?
– Вполне.
– Видите, как хорошо… А ныне русские начинают реформу, которая базируется не на голых отчетных цифрах, а на реальном деле, результат которого обязан быть подтвержден не словесами, но товарами на прилавках магазинов, новыми марками автомобилей и видеоприемников, свободным правом строительства коттеджей и кардинальной перестройкой системы сервиса, который в России чудовищен. То есть все люди получат возможность включиться в орбиту общегосударственного дела, которое сулит получение реальных денег.
– Хорошо, что вы меня просветили, Джим. Предложения?
– Я бы предпочел послушать ваши.
– Они достаточно просты. Мне нужно получить – естественно, от вашей самой доверенной агентуры в Москве – последние данные о русской ракетной системе, о финансировании разработки их новых систем ПВО… Собственно, это нужно в первую очередь вам, – уточнил Ли, – чтобы было с чем идти и к вашему директору, и – в случае нужды – к президенту. Я помогу вам в выходе на Белый дом…
– Что вы подразумеваете под словами «самая доверенная агентура»?
– Уровень. Что здесь, что там, Джим, прежде всего ценится уровень. У вас есть такой человек?
Джим Патрик, могучий ЗДИ, улыбнулся:
– Неужели вы думаете, что я отвечу, если даже такой агент у меня есть?
– Я попробую вас убедить в том, что ответ угоден не столько мне, Джим, сколько этой стране и делу демократии.
– Валяйте, – сказал ЗДИ, – я весь внимание…
– Ну а дальше? – спросил продюсер Гринберг.
– Не знаю, – ответил Кузанни. – Об этом знают только два человека: Дейв Ли и сэр Питер Джонс… Дьявольщина какая-то, я уже не могу говорить просто «Питер Джонс», только «сэр»…
– Магия слова, нашедшего свой образ… Конечно, Марлон Брандо был бы на месте, но он берет за роль два миллиона, вряд ли я на это пойду, хотя окончательное решение примем, когда вы закончите запись сценария… Мне интересно, Юджин, мне весьма любопытно узнать, что будет дальше, значит, вы на пути к успеху…
– В таком случае, – усмехнулся Кузанни, – у вас есть реальная возможность помочь мне пройти этот путь за максимально короткое время.
– Вы хотите куда-то поехать? – полуутверждающе спросил Гринберг.
– Точно.
– Куда?
– На переговоры в Женеву.
– Хорошо, я закажу вам билет и отель на берегу озера. Неделя? Десять дней?
– Две недели, Стив, не будьте скупердяем.
– Не видели вы настоящих скупердяев, Юджин. Хорошо, две так две; если что-нибудь придумаете – звоните, я пока буду здесь…
…Художник, видимо, тем и отличается от всех иных смертных, что правда жизни, складывающаяся из эпизодов, запавших в его память мимолетных встреч (в свое время Кузанни снимал для телевидения выездку коней на ранчо директора «Локхида» во время раскрутки дела об орехах[7]), обрывков фраз, анализа литературы, поездок по миру, бесед с учеными, бормотанья шлюхи с Клиши про то, что грядет конец мира (шальная мулатка, у которой он провел ту ночь, почувствовала в нем не скотское желание, а мужскую одинокую нежность, поэтому открылась ему, читая «Апокалипсис»: «Ведь это уже было, а как похоже на то, что нас ждет, правда?»), передач теленовостей, воспоминаний об ушедших друзьях и ночных – тревожных и не подвластных фантазии – видений, рождается под его пером (кистью, камерой) совершенно заново, в наиболее концентрированном, что ли, виде. Уровень таланта, таким образом, определяется не только мерой приближения к правде, но и даром предвидения, вне и без которого истинное искусство невозможно; холодное бытописательство не волнует более человечество; люди жаждут «откровения от завтра», даже если речь идет о событиях столетней давности.
…Так и Кузанни силою своего дара угадал тенденцию, не зная, понятно, всех тех подспудных, глубоко упрятанных перипетий предприятия, начавшегося на Нью-Йоркской бирже месяц тому назад.
Продолжением акции, действительно начатой в Нью-Йорке не вымышленным фантазией сценариста Дейвидом Ли, а одним из вполне реальных боссов ВПК США Сэмом Пимом, сделавшим ставку на космическое вооружение, был повторный выброс американских разведчиков, работавших в Москве по документам, выданным государственным департаментом Соединенных Штатов, которые, однако, подчинялись не придуманному заместителю директора ЦРУ Джиму Патрику, а вполне реальному ЗДРО – заместителю директора разведывательных операций ЦРУ США, получившему указание в связи с началом женевских переговоров об ограничении ракетных вооружений срочно организовать информацию, дающую возможность торпедировать возможное соглашение.
Именно так – он получил указание; Сэм Пим был человек крутого норова, хотя справедливый, в бирюльки не играл, задачу определял бескомпромиссно. «Я должен получить ассигнования, – сказал он ЗДРО, встретившись с ним на нейтральной почве. – Успех в Женеве этому, ясное дело, помешает. Там сидит ваш человек, Чарльз Макгони, его брат член нашего совета… Вооружите Макгони такой информацией, которая заставит наших “голубей” повременить с каким бы то ни было соглашением… Мы должны провести через конгресс все дела до новой встречи на высшем уровне… А там видно будет… Как вы это сделаете, я не знаю, но то, что вы это должны сделать, – убежден».
Говорить столь резко у Сэма Пима были весомые основания: двадцать семь лет назад именно его адвокатские фирмы вытащили ЗДРО (тогда еще начинающего дипломата) из скверно пахнувшей истории – приходилось отслуживать; закон сцепленностей, от этого не убежишь, как ни старайся.
Единственным, кто мог «организовать» нужную информацию, был агент Н-52, законсервированный ЗДРО последние шесть лет, невероятно ценный источник информации; что ж, жизнь есть жизнь, она диктует нам поступки, а не мы ей, увы… Жаль агента, но ведь себя-то жаль еще больше, разве не так?
…«Генерал-лейтенанту…
Вчера в 21 час 33 минуты четыре машины, принадлежащие работникам ЦРУ, служащим в посольстве США в Москве, на большой скорости выехали из ворот и направились по разным маршрутам.
Автомобиль марки “мерседес”, принадлежащий Честеру Воршоу, с тремя пассажирами свернул на набережную; возле магазина “Ганга” из машины выскочил работник консульского управления Питер Юрс и направился к будке телефона-автомата; Воршоу продолжил движение по набережной, на большой скорости доехал до Лужников; там из машины вылез Ирвинг Кранс и также побежал к будке телефона-автомата; Честер Воршоу, не дожидаясь его, выехал к Новодевичьему монастырю и вернулся в посольство, нигде более не останавливаясь; Юрс и Кранс, сделав два телефонных звонка каждый, вернулись в посольство городским транспортом.
Водители второй и третьей машин (“паккард” и “форд-гренада”) проехали соответственно по Садовому кольцу до разворота за Смоленской площадью, затем по Кропоткинской, мимо бассейна “Москва” и через центр вернулись в посольство; вторая машина потом отправилась на ВДНХ; возле метро “Проспект Мира” из “форда-гренады” вышел пассажир (сотрудник ЦРУ Роберт Майер), сел в последний момент в вагон поезда, следовавшего от “Проспекта Мира” к “Комсомольской”.
В посольство Роберт Майер вернулся на такси через сорок девять минут после того, как ушел из-под наблюдения».
Генерал снял очки и поднял глаза на Славина:
– Ну и что вы на все это скажете? Майер ведь в это время не в пинг-понг играл, а получал информацию. Или закладывал тайник. Ваши предложения, Виталий Всеволодович…
Работа!
– Ну, хорошо, хорошо, – вздохнул Славин, не отводя глаз от капелек пота на мясистой короткой шее Иванова, – согласен, вы правы, но я все-таки считаю одной из наших главных болезней прожектерство, Георгий Яковлевич. «То плохо», «это не годится», «здесь глупим», «тут ерунду порем» – все верно, я могу еще с дюжину наших неполадок перечислить. Предложения? Меня интересуют предложения. Впрочем, почему именно меня? Нас с вами, общество в целом.
– Знаете ли, я расчетчик, а не философ. Не замахиваюсь на модель общества… – Улыбка на асимметричном лице Иванова была какой-то неестественной, вымученной. – Я словно акын: что вижу, то и пою. Я вижу, например, как мы сплошь и рядом из-за кумовства, блата, некомпетентности прицельно расстреливаем науку, вот и говорю об этом на каждом углу, наживая себе врагов… Могучих, надо сказать, врагов…
– Это опять-таки констатация факта, – досадливо заметил Славин. – А я жду предложений.
– Так ведь предложение Маркс сформулировал, Виталий Всеволодович! Лучше не скажешь: «От каждого по способностям – каждому по труду». А мы вместо этого постулата, несущего в себе высшую интеллектуальную ценность, ибо он благодаря своей универсальности приложим к каждому трудящемуся человеку, обрушились в общинную концепцию: «Все равны; если у меня нет дачи, то пусть и у соседа не будет». А ведь сосед, у которого и дача и машина, вместо того чтобы водку лакать дал пять рационализаторских предложений, которые сэкономили заводу миллион рублей. Конечно, вымпел ударника коммунистического труда получить приятно. Однако на сатиновый вымпел передовика производства туфли жене не купишь, а на советские дензнаки – вполне… Если, конечно, есть связи в сфере торговли, с тем особенно, кто распределяет фонды итальянской обуви… Допустим, я директор института, – улыбнулся Иванов. – Хотя такое вряд ли допустимо… Тем не менее… Я знаю, чего ждет промышленность. Я просчитал, какую прибыль получит институт, если заказ промышленности будет реализован в максимально короткий срок. Что я должен сделать?
– Работать, – усмехнулся Славин.
– Что значит «работать»?! Я должен согласовать идею в главке, Госплане, Главснабе, Минфине, Госстандарте, Госкомцене, академии! На это уйдет по крайней мере полгода… Так?
– Год.
– Я взял оптимальный вариант, – вздохнул Иванов, – со ссылкой на то, что моя отрасль особая, передовой рубеж науки, нам все же легче. А я сейчас про директора института одежды фантазирую.
– Тому надо полтора года.
– Хорошо мыслите, – кивнул Иванов. – Я отчего-то полагал что представитель центральной прессы должен защищать существующее, ограничиваясь замечаниями косметического свойства.
– Газеты редко читаете.
– Что верно, то верно.
– Зря. Ну, поехали дальше…
– Поехали. Утвердил я тему, поставили ее мне в план. И все! Сиди, мозгуй, кропай, – зарплата идет, чего волноваться?! А ну позволь мне пойти в вашу газету и напечатать объявление: «Научно-исследовательский институт приглашает на замещение вакантных должностей старшего научного сотрудника, младшего научного сотрудника и лаборанта сроком на два года по теме: “Создание покупаемых фасонов отечественной обуви”. Оплата труда – по способностям, от трехсот до тысячи рублей в месяц. Деньги, отпущенные государством на разработки фасонов сроком на год, если успели сделать качественные предложения и они внедрены в производство через восемь месяцев, распределяются между научными сотрудниками и рабочими в зависимости от их вклада в общее дело». Представляете, сколько бы мне пришло заявлений?! Но ведь у меня, у директора, даже статьи такой нет – на оплату услуг прессы! Я жульничать должен, чтобы такое объявление напечатать! Я обязан вовлекать в преступный сговор бухгалтера, кассира, профком – вот вам и нарушение закона. Допустим, сошло с рук. Предположим, три человека, отобранных по конкурсу, разработали новый фасон и прекрасную технологию… За полгода… Осталось десять тысяч рублей Я обещал распределить их между теми, кто внес серьезный вклад в дело, которое сэкономит стране сотни миллионов. Думаете мне позволят распределить эти деньги между десятью светлыми головами? Ха-ха-ха! Давно я так не смеялся! Общинной модели мышления угодно выдать премию тысяче сотрудников – по пятнадцать рублей, зато все равны, никаких обид! Бюрократ построил себе роскошный храм из инструкций: любое дело можно погубить, никто работы не спросит, только была бы соблюдена инструкция! А их у нас миллион! Пример номер два. В моем отделе работают двенадцать человек Из них пять – настоящие инженеры, остальные – люди в науке случайные. Как я, начальник отдела, могу от них избавиться? Никак! Гарантированное право на труд!
– Вы против этого права?
– За! Двумя руками за! Но позвольте мне, начальнику отдела, платить пятерым светлым головам за их труд, за реальный взнос в дело, а не за тот стул, на котором они сидят! Конечно, при нынешней системе хозяйствования статистике куда как просто сводки составлять – никаких забот, знай крути арифмометр!
– Предложение? – снова повторил Славин.
– О главном я уже сказал. В начале нашего разговора. Нас душит скафандр бюрократического аппарата. Дайте руководителю задание и деньги. И, понятно, срок. Жесткий срок. Но позвольте мне, руководителю, стимулировать рост светлых умов для страны! Светлые умы и золотые руки – в результате ненормированной заинтересованности – давали бы народному хозяйству миллионную экономию. Тем, кто мыслит, тем, кто горит делом, позвольте мне платить так, как они того заслуживают!
– Вы, руководитель отдела, точно знаете, чего они заслуживают?
– Бесспорно!
– Ну а если руководитель – дурак? Такое возможно? Или человек со скверным характером? Или пристрастный? Или самовлюбленный? Или хам? От такого рода ситуации вы гарантированы?
– Ну вот, – вздохнул Иванов, – все возвращается на круги своя. Конечно, не гарантирован! Конечно, есть риск. Конечно, проще оставить все как есть. Знаете, какая у нас у всех болезнь?
– Не знаю.
– Мы хотим всё заранее продумать. А такое невозможно.
«Он говорит, как Степанов, – подумал Славин, – его словами; у всех наболело, все об одном и том же…»
– Когда Циолковский начинал свое дело, – продолжил Иванов, – его объявили психопатом: чугунка еле-еле ходит, а он на небеса замахивается! Руководитель, к вашему сведению, это тоже талант! А мы ищем таланты не в живом деле, а в анкетах. Папа с мамой в порядке? В порядке! Выговоров не имел? Нет! Иван Иванович к нему благоволит? Вроде бы да. Пойдет! Через полгода видим: дурак дураком, тьма и чванство! Но снять не моги! Неудобно, только назначили, нас не поймут, надо с человеком поработать, не боги горшки обжигали… Во всяком деле важно начать, Виталий Всеволодович. Определить границы риска, точно знать конечную цель – и всё! Ура, вперед! Эксперимент – явление саморегулирующееся! Он отсекает дурь, если у тех, кто его проводит, есть права! На пустом месте инициативу не создашь. Либо бытие определяет сознание, либо – в пику этому положению, по догме Ватикана, – сознание определяет бытие. Я, знаете ли, противник расхожего: «Надо повышать сознательность!» Ну-ка, повысьте сознательность у рабочего на конвейере, если он не убежден, что в зависимости от того, сколь тщательно он заворачивает свою гайку, в конце года получит премию – и не двенадцать рублей, а пятьсот! «Человек есть то, что он ест!» – тоже, кстати, не Ватикан придумал, а наши великие предки! Мы все больше считаем, как, не уплатив, сэкономить, а надобно исходить из другого: как бы поскорее да получше получить, уплатив за отличную работу процент с прибыли. Все остальное – болтовня и химера.
– Скажите, Георгий Яковлевич, а вот можно просчитать, хотя бы приблизительно, какой урон был нанесен делу из-за того, что вы не поехали на конгресс в Будапешт?
– Можно, – машинально ответил Иванов, продолжая, видимо, думать о своем. – Тысяч на сто, считаю.
– Слишком уж круглая цифра, – заметил Славин. – Почему именно сто тысяч?
Иванов неожиданно поднялся со стула (как легко движется, что значит спортсмен):
– Погодите, погодите, а откуда вам известно, что меня не пустили?
– Так я в институте не только с вами говорил… Мир слухами полнится.
– А чего ж вы тогда со мной беседуете? Я же хам и разложенец! Клинья под меня бьете?
– Это не по моей части. Я, наоборот, и в падшем ангеле стараюсь найти черты непорочной девы. Нет, меня действительно интересуют реальные потери, если они были…
– Извольте… Наука ныне вне обмена идеями невозможна… Согласны?
– Вполне.
– Трата денег на повторение того, что уже где-то изобретено, – государственное преступление. Так? – атакующе спросил Иванов.
– Государственное преступление предполагает следствие и суд.
– Именно.
– Кровожадный вы.
– Нет. Я справедливый. И если моей стране наносят урон, это, полагаю, вполне подсудное дело. Доброта, знаете ли, бывает порою хуже воровства… Продолжаю… На конгрессах такого рода, какой был в Будапеште, собираются не болтуны, а люди компетентные. На Западе деньги на турне просто так не выпросишь, там все контролируется конечным результатом дела… У нас эта поездка была запланирована за два года еще… Кого тревожит, что лишь я, простите, не хвалюсь, стал определенного рода монополистом в моей проблематике? Никого. «Пошлем другого, из того же отдела, какая разница?!» Ну и послали профессора Яхминцева, который был и остается идейным противником моей концепции; в науке он случаен, не горит ею, а работает по теме, утвержденной в плане. То, о чем я мог говорить с испанскими, канадскими, чешскими и японскими коллегами, он не может. Идеи, рождающиеся в моей отрасли науки, патентуются на Западе не менее чем на сто тысяч долларов. Пару-тройку идей я бы наверняка привез, тем более меня там ждал Роберт Баум, владелец патентной фирмы, держит руку на пульсе передовой науки…
– Сам-то он исследователь?
– Нет. Бизнесмен. Но за одного такого неисследователя я бы трех наших кандидатов наук отдал…
– Откуда вы его знаете?
– Он к нам трижды приезжал в Дубну и Новосибирск на конгрессы… Серьезно говорю, тройку б любопытных идей я оттуда привез…
– Значит, если следовать вашей логике, убыток составил триста тысяч, а не сто, – заметил Славин. – Мне ваш директор сказал, что на ваше имя поступило новое приглашение, в Софию. Поедете?
– Пошел за билетом, – жестко усмехнулся Иванов. – Где продают?
– Почему не ставите вопрос о снятии взыскания?
– Потому что не считаю себя виновным.
– Почему же тогда не апеллировали?
– Потому что сначала надо провести закон о словесной градации между грубостью и констатацией факта. Яхминцева я считаю паразитом на теле науки, отказываться от моих слов не буду. За границу не рвусь, мне и тут хорошо.
– А ущерб? – тихо спросил Славин. – Вы спокойно относитесь к тому, что страна терпит ущерб из-за того, что вы не встречаетесь со своими коллегами? Как-то эта позиция не очень вяжемся с тем, что вы говорили в начале нашей беседы, Георгий Яковлевич.
– Резерв прочности… Слыхали такую формулировку? Каждому металлу, сплаву, станку, ракете, человеку отпущен резерв прочности… Начну метаться – сосудик лопнет, и вся недолга… А так я в прекрасной форме, работаю с удовольствием, не стыдно смотреть на свое отражение в зеркале. Захотят разобраться – разберутся. Унижаться не намерен.
– Поиск правды не есть синоним унижения.
– Вы меня извините, Виталий Всеволодович, но, думаю, такого рода вопрос особого интереса не представляет. Вы не компетентны его решить, потому что мои разногласия с Яхминцевым выражаются языком математических уравнений. Нас могут рассудить специалисты, да и то далеко не все… Вы по профессии кто?
– Аналитик, – усмехнулся Славин. – И поэтому было бы славно, попробуй вы все-таки пробить себе поездку в Софию.
…Домой Славин вернулся в два часа ночи; за город, в свой маленький домик, не ездил теперь, темп работы не позволял, ночевал в Москве. В вестибюле, открыв почтовый ящик, сразу же увидел бумажку с почты; он ненавидел эти бумажки трясучей, плохо сдерживаемой ненавистью; словно бы нарочно всё придумывают так, чтобы доставить клиенту неудобство, да и самим работникам почты (зарплата маленькая, одни старушки дело тянут, бедолаги) тоже: «Получите заказное письмо в… с… и до…»
«Хорошие вы мои, нет у меня времени приходить на почту за заказным письмом, это ведь Ариша пишет, она человек обстоятельный, сколько раз ее просил посылать обыкновенные конверты; я завтра в восемь уеду, обедать буду в ЧК или вовсе не буду, если Константинов отправит на выезд. Обидно же, любимая пишет, каждая ее весточка как солнечный лучик… Отправь шофера отдела – потребуют доверенность, а ее надо оформлять два дня! Господи, до чего же мы нерасторопны в своем желании во всем и везде добиться абсолютного, то есть отчетного порядка: письмо вручено, час, дата, подпись…
Лежит бедное Аришкино письмо – умное и нежное, она их прекрасно сочиняет – вместе с какими-нибудь повестками, кляузами, пустыми поздравлениями; чувства, отданные бумаге, хранят человеческое тепло; как же сейчас холодно Аришиным словам в темной комнате почты, где свалены кипы конвертов; бедненькая моя подружка, нежность ты моя с головой мыслителя…»
«Журналистики вне киномонтажа отныне не существует!»
«Как и всякий профессиональный литератор, я жаден не от скупости, но от вполне естественного любопытства, стремления увидеть как можно больше своими глазами…
Прилетел я в Женеву именно в тот день, когда открылась выставка импрессионистов из частных коллекций; в полупустых залах – тихих, освещенных нежностью весеннего солнца – можно было всласть подумать о том, отчего этих жизнелюбов поначалу подвергли такой массированной травле, кто водил рукою наемных писак, утверждавших, что живопись Ренуара и Матисса – мазня и дань дурному вкусу нуворишей, им, видите ли, нравится держать в своих гостиных картины тех, кто восстал против академической, раз и навсегда утвержденной официальной живописи. Со всеми ее атрибутами: эполеты, развевающиеся знамена, приукрашенные до приторности лица императоров с маршалами и заданно-счастливые улыбки подданных, приветствующих очередную победу на поле битвы…
Но потом я спросил себя: стоит ли тратить время на исследование извивов этой критической мысли, старательно отслуживающей щедрому заказчику подбором цитат и компоновкой доказательств, радующих каменные сердца унылых традиционалистов, когда перед тобою красота, вечная, как дружба и любовь, когда ты ощущаешь дуновение ветра с реки, восторгаясь раскованными позами людей, приехавших на загородный пикник, и когда ты не в силах оторвать взгляд от прелестных глаз ренуаровской красавицы?!
Растворение в человеческой красоте и неизбывности мира особенно важно, если незадолго перед вылетом в Женеву, на переговоры о том, можно ли предотвратить уничтожение цивилизации, мне разрешили посмотреть на тех, кто определяет будущее земли как реальность нашей звездной системы…
Мне стало особенно тревожно за беззащитное человечество, когда я, замерев перед Гогеном, вспомнил тот час, когда подъехал к подножию горы Шайенн, штат Колорадо; оттуда, из штолен, пробитых в скальных массивах, Вашингтон получит первый сигнал о ядерном ударе; здесь находится Объединенное командование аэрокосмической обороны Америки; тут круглосуточно собирается информация с датчиков на борту спутников и радиолокационных станций во всем мире, чтобы на ее основе произвести немедленную оценку любой возможной угрозы.
Через несколько минут результаты этого анализа будут переданы президенту для принятия решений о том, когда и как отдать приказ об ответных ударах.
Однако, чем дальше, тем больше работа в штабе аэрокосмической обороны становится предметом растущей тревоги. Все чаще говорят о возможности запуска ядерных ракет на основании сигналов, которые могут быть неправильно истолкованы.
Те, кто скептически относится к ядерной политике страны, опасаются, что ошибки, допущенные людьми или машинами, могут привести к тому, что ложная тревога неисправных датчиков будет похожа на сигнал о нападении. Это, как они считают, может вызвать ошибочную оценку, которая будет передана в Вашингтон и побудит президента принять решение запустить американские ракеты для ответного удара. Вот так и начнется ядерная война.
Командующий сигнальным комплексом утверждает, что подобные ошибки исключены и ложная тревога не может привести к катастрофе. Решения, принимаемые в недрах этой горы в непосредственной близости от Колорадо-Спрингса, должны измеряться минутами и секундами. При появлении вражеских ракет наземного базирования траектория полета до США займет от тридцати до тридцати пяти минут; в случае если ракеты будут запущены с подводных лодок, это время сокращается до восьми минут. В таких условиях, сказал генерал ВВС Джеймс Хартингер, “не может быть сомнений в правильности оценки командующего”.
Генерал заметил, что его главная задача – обеспечить Вашингтон “своевременным, недвусмысленным, надежным предупреждением” о том, что налет русских на Северную Америку начался. Он должен лично оценивать каждый из пятисот запусков ракет и спутников, производимых странами мира за год. “Я верю в непогрешимость нашей системы датчиков, компьютеров, наших людей, оперативных методов, и следовательно, я на сто процентов уверен в правильности своих оценок”, – утверждал он.
Относительно ложных тревог в прошлом Джеймс Хартингер заявил, что ошибки были быстро установлены. Он уверен, что нет даже “одного шанса на миллион”, будто ложная тревога может привести к выводу о начале вражеского нападения.
Со времени ложных тревог в 1979 и в 1980 годах, продолжал он, сто сорок миллионов обработанных компьютерами сообщений – в среднем шесть тысяч семьсот в час – переданы без единой ошибки. “Именно такого качества работы мир вправе требовать от нас”, – заключил генерал Хартингер.
Критики, однако, давно уже опасаются, что именно ошибки могут привести к непреднамеренной ядерной войне, особенно в связи с усилением современного оружия. Герберт Сковилл, бывший помощник директора агентства по контролю над вооружениями и разоружению, неоднократно подвергал сомнению решение президента Рейгана о развертывании ядерных ракет MX на том основании, что страх по поводу упредительного удара противника именно по этим ракетам может способствовать ложному толкованию данных систем предупреждения и в результате просчета привести к ядерной войне.
Артур Мейси Кокс, специалист по контролю над вооружениями, недавно заявил, что эта система достаточно часто генерирует ложные сигналы тревоги, а в напряженной обстановке международного кризиса возможности просчета неминуемо возрастут.
Однако в докладе, опубликованном сенатором Барри Голдуотером (республиканец, от штата Аризона) и сенатором Харри Хартом (демократ, от штата Колорадо) после ложных тревог в 1980 году, говорилось: “Никоим образом не приходится утверждать, что США были близки к развязыванию ядерной войны в результате инцидентов, имевших место 3 и 6 июня. Система, по сути дела, сработала верно, и, хотя механическая электронная часть давала ошибочную информацию, человеческий элемент правильно оценил ее и предотвратил какие бы то ни было непоправимые действия”.
Скептики в основном находятся среди противников рейгановских планов увеличения военных расходов, его предложений по возобновлению ядерного сдерживания, спорной программы “MX” и тем более развертывания вооружений в космосе. Они не обладают особым влиянием в правительстве, имея лишь незначительную поддержку в конгрессе, который санкционировал решение начать программу (на двадцать миллиардов долларов) по усовершенствованию системы предупреждения и связи.
…Объясняя, как работает система предупреждения, офицеры заявили, что через несколько секунд после того, как вражеские ракеты поднимутся из своих шахт и включатся их двигатели, заработают консольные дисплеи с зелеными экранами, затрещат высокоскоростные телетайпы и в центре предупреждения о ракетном налете, в космическом вычислительном центре, на командном посту закипит работа. В то же самое время дежурные офицеры в Вашингтоне, командование стратегической авиации в Омахе и другие командные посты во всем мире придут в состояние готовности. Со своего места на втором ярусе трехэтажного командного поста командующий увидит на одном из двух экранов во всю стену след полета ракет. За ракетами будут смотреть секунда за секундой по мере того, как они станут проходить по своей тридцатиминутной траектории до США.
На другом экране данные восьмидесяти семи компьютеров в штабе могут обозначить позиции вражеских подводных лодок в Атлантике или на Тихом океане, орбиты разведывательных спутников русских.
Когда вся картина предстанет перед командующим и его штабом (сбоку и за спиной у которых похожие на телевизоры консоли), он возьмет трубку бежевого телефона для сверки с дежурными офицерами в центрах, подающих информацию на командный пост или на позиции датчиков во всем мире.
Генерал проведет с другими старшими командующими так называемое совещание по оценке угрозы и передаст свое мнение национальному командному центру в Пентагоне для передачи президенту, где бы тот ни находился. Если офицеры в центре сочтут это необходимым, они созовут совещание о ракетном ударе с участием президента. Такое, правда, пока еще ни разу не проводилось…
…Матисс умер уже после войны, а состоялся как гений в конце девятнадцатого века; непрерывность процесса преемственности благотворна – без старого мэтра не было бы Пикассо, Ларионова, Шагала; разрыв возможен, когда доктор перерезает пуповину новорожденного, провозглашая появление нового чуда – человека; разрыв объясним, когда доверчивый лик любви исказила гадкая маска измены; все другое от лукавого, наваждение.
Думает ли кто-то в недрах горы Шайенн о Матиссе как о символе, объединяющем в себе два века? Не знаю, не убежден.
…А ведь здесь круглосуточно работают три смены, по двести пятьдесят человек каждая, плюс еще шестьсот пятьдесят человек вспомогательного персонала.
Чтобы оградить комплекс от диверсантов, повсюду стоят контрольные посты. Каждый, кто входит вовнутрь, подвергается проверке вооруженным постом за пределами тоннеля, ведущего в комплекс, и потом снова при входе в помещения. Особо секретные зоны обозначены специальными знаками. Как рассказывают офицеры, все работающие здесь подвергаются регулярной проверке психологами.
Диверсия извне затруднена, так как комплекс в горе в основном сам обеспечивает себя всем необходимым. Собственным энергопитанием, обеспечиваемым шестью дизельными генераторами, и собственным запасом воды, продовольствия и других припасов на тридцать дней. Вентиляция устроена таким образом, чтобы защитить от радиоактивности.
Важнейшая информация попадает на командный пост с центра предупреждения о ракетных налетах и с космического вычислительного центра. Оба они расположены поблизости от командного поста, в зданиях, построенных на мощных источниках, чтобы абсорбировать ударную волну от ядерного взрыва снаружи.
“Сырые” данные, поступающие в центр предупреждения о ракетных налетах – слабо освещенное помещение размером в обычную жилую комнату, до отказа набитое аппаратурой, – попадают сюда с двадцати четырех датчиков во всем мире, включая три спутника, способных вести наблюдение за любой точкой в Северном полушарии.
Один из здешних офицеров сказал, что система дает примерно пять ложных тревог в год. Ложная тревога может быть вызвана лесным пожаром где-нибудь в Сибири, обнаруженным инфракрасными спутниками…
Офицеры заявили, что приняты меры во избежание ложных тревог, вроде тех, которые имели место в 1979 и 1980 годах. В ноябре 1979 года один техник заложил в какой-то сектор системы в целях проверки учебную ленту, имитирующую массированный налет. По ошибке данные попали в эфир и послужили основанием для сигнала тревоги.
Сейчас подобного рода проверки производятся за пределами горы Шайенн.
В июне 1980 года компьютерный микроэлемент дважды сбился и стал передавать ложные сигналы о ракетных налетах.
В октябре 1981 года президент Рейган огласил план на сто восемьдесят миллиардов долларов, призванный вдохнуть новую жизнь в американские ядерные средства сдерживания. Из этой суммы двадцать миллиардов долларов предполагалось израсходовать на средства связи и управления, а остальное должно было идти на оплату оружия.
Комплекс в горе Шайенн первоначально был задуман для управления действиями по защите от вражеских бомбардировщиков, в расчете на то, чтобы выдержать ядерную бомбежку.
Но точность и взрывная мощь ракет делают его уязвимым. Генерал Хартингер сказал: “Гора Шайенн не может считаться неприступной в силу точности и мощности МБР. Но наша система обнаружит их, и мы сумеем выполнить нашу главную миссию”.
Какую?
Сообщить президенту о том, что через тридцать минут наша планета погибнет?
…Закон киномонтажа будет определять журналистику и литературу – чем дальше, тем больше. Я не отношу себя к тем, кто считает фильм или голубой экран злейшим врагом прозы; наоборот, самые талантливые ленты и передачи ТВ несут на себе печать высокой литературы; “Войну и мир” или Хемингуэя не отбрасывают в сторону, когда Си-би-эс начинает показ вестерна, а если и отбрасывают, то такого рода люди не должны особенно тревожить тех, кто ответственен за гуманность планеты. Думать надо о тех, кто читает Стендаля и Сервантеса, а не впивается взором в скачущих ковбоев. Они, читающие, определяют мир и его сущность.
Однако же литература (а журналистика есть ее важнейшее подразделение, “морской десант”, сказал бы я) не может не думать о том, что принес в мир кинематограф. Ограниченность времени для реализации замысла и количество мест в кинотеатре понудили режиссеров и писателей создать качественно новую школу монтажа, когда одна короткая деталь заменяет многие страницы текста и сотни метров пленки, вызывая при этом адекватное чувство читающего зрителя.
Поэтому я и закончу свой репортаж тем, с чего начал: тихое солнце Женевы, выставка импрессионистов на берегу озера, глаза ренуаровской женщины, не отпускающие тебя – столько в них невысказанной доброты, преданности и нежности, – и одновременно с этим совсем неподалеку переговоры, которые могут открыть путь к диалогу лидеров или же забаррикадировать его.
Признаюсь, мне стало страшно и пусто, когда я посетил здание, где идут эти переговоры; в особняке заседают люди, которые – по своей дипломатической обязанности – могут содействовать тому, чтобы Ренуар, Матисс и Гоген сгорели, как и вся эта тихая Женева, Париж, Нью-Йорк, Москва, или же остались жить; такие же, как и мы с вами, только в накрахмаленных рубашках и галстуках; человечество доверило им себя; справятся ли эти люди с такой поразительной по своей ответственности задачей?
Юджин Кузанни – специально для “Нью-Йорк трибюн”».
Работа-II
О непознанное таинство пересекаемости характеров, ситуаций, случайностей! Однако же сплошь и рядом в результате этой кажущейся неуправляемости жизненного потока складывается некая жесткая схема, обретающая смысл и форму логической необходимости.
…Повторный запрос, отправленный Лэнгли в Москву по поводу информации агента Н-52 (руководство ЦРУ требует ускорения работы; готовится доклад Белому дому, необходимы самые последние данные о ракетном потенциале Советов; наши аналитики допускают, что агент имеет доступ к устаревшим материалам; сведения об ударных силах русских, отправленные им, расходятся с теми, которые ЗДРО передал Чарльзу Макгони, представляющему нашу службу на женевских переговорах; срочно затребуйте у Н-52 самые последние, наиболее секретные документы), был сразу же доложен резиденту; тот вызвал заместителя, молча показал ему расшифрованный текст; увидев, что заместитель дважды прочитал текст, произнес лишь одно слово:
– Поторопитесь.
Тот пожал плечами:
– Мы работаем на пределе сил.
– И тем не менее поторопитесь, пожалуйста.
…Операция по закладке тайника (закамуфлированного под булыжник) прошла успешно, от наблюдения удалось оторваться, однако агент Н-52 в условленное время на связь не вышел, сообщив по запасному каналу, что не мог вернуться из-за города, и просил заложить этот же контейнер послезавтра, в месте, обусловленном «вариантом Д».
Попытка забрать тайник с места закладки (аллея в Сокольниках) не увенчалась успехом: в непосредственной близости от условленного места проводила оздоровительные занятия физкультурой группа пенсионеров.
Было принято решение выбрать тайник сегодня; для этого подготовили операцию с одновременным выездом четырех машин, как и в тот день, когда Н-52 был «расконсервирован».
Однако же контейнер и на этот раз не удалось изъять: как раз у места закладки сидели два молодых человека; рядом валялись яичная скорлупа, обертки от плавленых сырков и бутылка из-под лимонада.
…Дело в том, что за три часа перед тем, как разведчики ЦРУ в Москве начали операцию по изъятию «булыжника», именно в это место Сокольнического парка пришли студенты института иностранных языков Алексей Покодаев и Виктор Челищев, отправленные перебирать помидоры на овощную базу.
Покодаев заметил в деканате, что лучше б объявили в газете, что каждый двадцатый помидор будет отдан перебирающим овощи, – от бабок и дедов не было бы отбоя; ему ответили, что он, видимо, подвержен влиянию чуждой идеологии накопительства, а наш вуз, многозначительно добавили в комитете комсомола, отнюдь не технический, сознательность прежде всего, твое будущее решит характеристика.
Отработав на базе, ребята купили сырков и лимонада, сварили четыре яйца и, получив от бригадира кулек с помидорами и огурцами, отправились поужинать на пленэре; Покодаев, склонный к гиперболам и обобщениям, начал развивать мысль о том, что овощные базы созданы подпольной организацией типа мафии специально для того, чтобы грабить страну, ибо логика подсказывает, что куда выгоднее иметь хорошие склады гастроному или совхозу, чем плодить ненужные административные единицы. Продукты гниют на миллионы рублей – хозяина нет, категория интереса отсутствует, заработать честно нельзя – только жульничая, списывая гниль тоннами. Челищев, будучи человеком разумным, выдвигал ленивые контрдоводы про необходимость контроля и дружной борьбы с хищениями путем поднятия уровня просветительной работы; поинтересовался, был ли Покодаев в новом дансинге, райком комсомола распределяет билеты, говорят, хорошая музыка.
Покодаев растянулся на траве, махнул рукой: «Они в этом дансинге попляшут пять минут, а потом заводила в жилете и галстуке выходит на круг и говорит: “Ну а теперь поспорим, ребята! Тема злободневная: Какие нам нужны ВИА?”».
Любившему во всем обстоятельность и комфорт, Покодаеву было неудобно лежать. Оглянувшись, он увидел камень; положить на него куртку – вполне удобная подушка, лежи – не хочу.
Он потянулся за камнем, подтолкнул его к себе и сразу же поразился бумажной легкости булыжника…
…Через тридцать минут шпионский контейнер был в КГБ: четыре тысячи рублей сотенными ассигнациями, три золотых кольца, инструкции, написанные шифром, и зажигалка с вмонтированной фотокамерой.
Через тридцать две минуты на место закладки контейнера в Сокольники была направлена оперативная группа. Через пятьдесят семь минут в КГБ приехал заместитель начальника отдела МУРа. Молодой капитан с застенчивым девичьим лицом, румянец во всю щеку; резкий шрам на шее никак не вязался с его обликом – мягким, каким-то по-детски наивным; Славину даже показалось, что парень вот-вот запоет, причем обязательно по-украински, самый мелодичный язык из всех народов в стране – утверждают не кто-нибудь, филологи.
– Иван Михайлович, у нас к вам срочное дело, – сказал Славин. Подумав опять же, что это имя и отчество совершенно не подходят капитану – ему бы каким-нибудь Олесем или Антошею быть, а не Иваном Михайловичем. – Скажем, вам попало кольцо преступника. Его должны передать другому преступнику, от него вполне может потянуться цепь к главарю банды, которого вы давно ищете. Что можно сделать, чтобы это кольцо каким-то образом звенело, светилось?
– Сначала я посмотрел бы на это кольцо, – ответил капитан, – а уж потом давал ответ на вопрос.
Славин подвинул ему три кольца, не прикасаясь к ним, поинтересовался:
– Брать в руки обязательно?
Капитан ответил вопросом:
– Предполагаете, что камни или металл меченый?
– Это как – «меченый»?
– Очень просто. В ювелирном предприятии можно пометить камень лазерной точкой, ни один комиссионный не возьмет в продажу – краденое… Возьмет, конечно, – поправился капитан, – но я об этом буду знать загодя, когда начнут выписывать квитанции тому, кто принес кольцо на комиссию.
– Как долго надо метить камень?
Капитан посмотрел на часы:
– Завтра это сделают за пять минут, сейчас фабрика кончила работать.
– А если она начнет работать?
– Пять минут, – повторил капитан, – дело пустяковое.
– Адрес фабрики какой?
– Так там же никого уж нет…
– Дежурный есть? – заметил Славин. – У нас всё, всегда и везде начинается с дежурного. Мои коллеги поедут с вами, не откажетесь помочь?
– О чем речь, конечно…
– Последнее: что можно сделать с золотом, чтобы и оно оказалось меченым?
– Не знаю. Как латунь закамуфлировать под золото, могу рассказать, а вот что сделать с золотом – затрудняюсь.
– Хм, а от латуни на пальце остаются следы?
– Конечно… Кожа потеет, будет синий след.
– А что? – задумчиво, словно бы самого себя, спросил Славин. – Тоже дело. Женщина, которой подарили такое кольцо, обидится на мужчину, если он ей вместо золота всучил латунь, правда?
– Я бы обиделся.
– Вот видите, – улыбнулся Славин. – А сколько времени уйдет на то, чтобы покрыть золото слоем латуни?
– Пустяки, минутное дело…
…Капитан уехал с оперативной группой на аффинажную фабрику; подразделение Славина связалось с Гознаком и отправило туда с нарочным сорок купюр достоинством сто рублей каждая; деньги вернули через пятьдесят девять минут; бригаду, обслуживавшую лазерное устройство на фабрике, удалось собрать за полтора часа; еще двадцать минут ушло на оформление закладки меченых денег и колец в контейнер. Славин, как всегда внешне ироничный и невозмутимый, мучительно, до боли в сердце, ощущал, как медленно тянется время; он был убежден, что его люди повеселятся в Сокольниках всласть, но всегда помнил телеграмму, отправленную Лэнгли Леснику во время операции по Нагонии: «Нам показалось, что в Парке Победы находились чужие, поэтому мы не вышли на связь; следующий обмен информацией состоится так, как обусловлено в инструкции».
…Через два часа десять минут, когда сумерки сделались прозрачными, резко высветились грозовые закраины на раскалившемся за день небе, контейнер был возвращен на место; «гуляки» с аккордеоном и гитарой, шумя и балагуря, двинулись по аллее к выходу из парка.
…Когда на небе трескуче разорвали ситец и хлынул дождь, из ворот американского посольства выехали три машины; возле остановки «Комсомольская» один из разведчиков стремительно вбежал в станцию метро; соблюдая все меры проверки, трижды поменял линию, входил и выходил из вагона в самый последний момент, перед тем как двери начинали по-змеиному шипуче закрываться, доехал до «Сокольников», отправился в парк, там поднял «булыжник» и выбежал на шоссе, где именно в эту минуту притормозил свой «плимут» Питер Юрс.
Включив на полную мощность радио, Юрс положил ладонь на ледяную руку своего молодого сотрудника:
– Молодец, старина. Поздравляю. Хорошая работа.
Экспертиза, проведенная специальной группой ЦРУ в посольстве, дала заключение, что к «булыжнику» из посторонних никто не прикасался, контейнер вскрыт не был, инструкции, драгоценности и деньги лежали именно так, как и были упакованы.
Через шесть дней сторублевая купюра была получена молоденькой кассиршей в универмаге на «Комсомольской»; девушка бюллетенила, поэтому на инструктаже, который проводила заведующая секцией по поводу возможного пуска в обращение фальшивой ассигнации, не присутствовала; вечером, после того как она передала выручку и новенькая купюра зазвенела, в универмаг сразу же выехал Славин.
– Погодите, солнышко мое, – повторил он девушке, – вам нечего волноваться, вы ни в чем не виноваты… Я о помощи вас прошу, больше ни о чем… Давайте с вами вместе начнем вспоминать, ладно?
– Ну не помню я, не помню, понимаете?! – Кассирша чуть не плакала – лицо испуганное, глаза мечутся. – Их же сотни проходят, и все бегом, бегом! А сколько десантников?!
– Кого?! – удивился Славин.
– Десантников, – повторила она. – Это кто за колбасой из Рязани приезжает, мы их «плюшевым десантом» называем…
– Занятное название, – усмехнулся Славин, – в точку… Они тоже сотенными расплачиваются?
– Нет, эти все больше засаленными, мятыми десятками.
– Ну а часто у вас платят сотенными?
– Бывает.
– Значит, редко?
– Бывает, – повторила девушка. – Не часто, но бывает…
– Вас как зовут?
– А что?
– Ничего. Меня зовут Виталий Всеволодович. А вас?
– Люба.
– Красивое имя.
Девушка вздохнула, потом неожиданно усмехнулась:
– Все равно никто замуж не берет.
– Очень надо?
– Конечно… Двадцать лет…
– Если вспомните, кто вам платил сто рублей и за что, – возьмут. У меня глаз хороший и рука легкая…
– Может, чеки посмотреть? – предложила Люба. – Там же должно быть указано, сколько я сдачи с сотни дала…
– Умница, – сказал Славин. – Мужа какого хотите? Блондина? Или брюнета?
– Непьющего хочу, – вздохнула Люба. – Чтоб зарплату приносил и не хулиганил.
…Груздев, приехавший со Славиным, кончил отматывать стометровую ленту кассы; нашел копию чека; сторублевых купюр в обращении было две; одну уплатили за спортивный костюм, на другую дали девяносто пять рублей сдачи.
– Вспомнила, – сказала Люба. – Мужчина шерстяные носки покупал, ровно пять рублей, белые с красной каемочкой.
– А спортивный костюм кто брал? – спросил Груздев.
– Женщина с сыном.
– Сын взрослый?
– Не-а, лет пятнадцати, на Андрея Миронова похож.
– Да?! – радостно удивился Славин. – Значит, это его сын, Вадик…
– Так у него ж дочь! – Впервые за весь разговор глаза у Любы стали живыми. – От этой самой радистки, Кэт…
– Нет, у него и сын есть, – убежденно повторил Славин. – Хороший парень, такой черненький, курчавый…
– Значит, не его. Тот был рыжеватый какой-то…
– А мужчина, что носки покупал? Он какой был? – пробасил Славин. – Тоже рыжий?
Люба покачала головой:
– По-моему, нет… Бугай какой-то… Головища здоровая.
– Пот все время утирал, да? – тихо спросил Славин, ощутив холод под ложечкой.
– Ой, верно, – Люба обрадовалась, – мокрый был, как из бани.
Из десяти фотографий, предъявленных Любови Архиповне Воздуховой, незамужней, 1965 года рождения, русской, комсомолке, она сразу же ткнула пальцем в фотографию Иванова:
– Вот он. Я ж говорила, бугай…
«Прекрасная неожиданность встреч»
За границей у людей прессы, как правило, три стиля работы.
Первый характерен тем, что журналист с раннего утра обкладывается свежими выпусками ведущих газет и журналов страны пребывания, желательно и соседних стран. Тщательно анализирует их, соотносит важнейшие политические комментарии с теми новостями, которыми закончился ночной выпуск здешнего телевидения, затем берет ножницы, делает вырезки, расфасовывает статьи, заметки, интервью и курьезы по темам, садится к машинке (или берет в руки перо), чтобы сконструировать заметку в свой орган печати, сделав предварительно два-три звонка к тем парламентариям (или их помощникам), предпринимателям, руководителям банков, у которых он несколько раз до того брал интервью: на Западе знакомым людям отвечают охотнее.
Второй стиль отличим от первого тем, что газетчик начинает утро с беглого просмотра газет – за кофе с рогаликом и джемом. Потом он отправляется в город, чтобы встретиться с самыми разными людьми, собирает диаметрально противоположные мнения, не гнушается беседами с открытыми противниками, давая им вволю высказаться: не поняв логику того, кто не приемлет твою позицию, трудно оперировать своими доводами, – новая форма борьбы с ветряными мельницами, эффектно, но неубедительно, читатель ныне ушлый, век информационного взрыва, у каждого третьего свой план спасения мира.