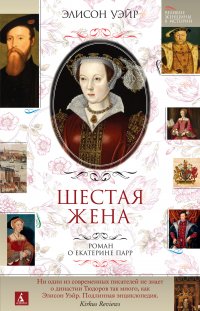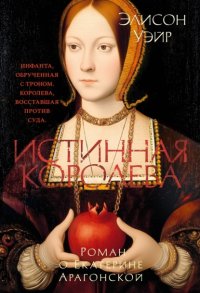Читать онлайн Трон и плаха леди Джейн бесплатно
- Все книги автора: Элисон Уэйр
INNOCENT TRAITOR
by Alison Weir
Copyright © 2006 by Alison Weir
All rights reserved
© К. Ересько, перевод, 2013
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
Королевский дом Тюдоров в XVI веке
Пролог
14 ноября 1553 года
Все кончено. Суд завершился, и я снова в Тауэре, который совсем недавно был моим дворцом, а теперь стал моей тюрьмой.
Я сижу на своей постели, судорожно вцепившись пальцами в расшитое шерстяное покрывало. Зажженный огонь весело потрескивает в очаге, но меня бьет дрожь. Теперь я осуждена как изменница, и в ушах у меня не перестают звучать громогласные слова лорд-председателя, приговаривающего меня к сожжению на костре или отсечению головы – на выбор королевы.
Эти жуткие слова, которые любой выслушал бы с содроганием, особо страшны для меня, проведшей на этой земле всего шестнадцать лет. Я должна умереть, только начав жить. Но как бы это ни было страшно, меня пугает не сама смерть, а вид казни. Я вдруг с ужасом замечаю пляшущие в камине языки пламени, чувствую, как затылок покрывается гусиной кожей, и мне становится дурно от обычно приятного запаха древесного дыма. Я готова закричать. Я мечусь от горя, снова и снова слыша эти слова, и не могу поверить, что они и впрямь были сказаны мне.
Не моя воля, но Твоя, Господи. И воля королевы, конечно.
Я с готовностью признаю, что совершила преступление и заслуживаю смерти за свой поступок, но то, что на него меня толкнули мое сердце и воля, я стану отрицать до последнего вздоха. До моего последнего вздоха. О Боже!
И все же она сказала, что верит мне. Королева приняла мое объяснение и сказала – я хорошо это помню, цепляюсь за ее слова, как тонущий моряк цепляется за обломок корабля, – что приговор будет простой формальностью. Она явно на меня разозлилась, но все же благосклонно заметила, что моя юность многое извиняет. Ей должно быть известно, что заговор был порожден не мной, что я оказалась орудием чужих преступных намерений.
Могу ли я ей верить? Она дала мне обещание, свое королевское обещание, слово королевы. Я должна твердо об этом помнить, когда меня охватывает смятение, как сейчас, в этой чистой и мирной комнате, среди привычных вещей. Я должна верить этому обещанию, я должна.
Я ложусь на кровать, глядя невидящим взором в деревянный полог. Пытаюсь молиться, но давно знакомые слова ускользают от меня. Я изнурена и обессилена, чувствую себя разбитой, словно кусок льда. Все, чего мне хочется, – это уснуть, чтобы на некоторое время отдалить этот ужас. Но сон не идет, как я ни призываю его. Вместо того, в тысячный раз, я начинаю вспоминать, как оказалась здесь. И в этом мучительном наваждении я слышу голоса, наперебой взывающие ко мне.
Они все мне знакомы. Все они сыграли роль в моей судьбе.
Фрэнсис Брэндон, маркиза Дорсет
Брэдгейт-Холл, Лестершир, октябрь 1537 года
Роды начинаются у меня во время прогулки в парке. Внезапно из моего чрева изливается поток жидкости, и пока камеристка бежит за полотенцами и помощью, тупая боль из поясницы смещается под ложечку. Вскоре все они – повитухи и фрейлины – окружают меня, проводят сквозь огромные ворота дворца, ведут наверх по дубовой лестнице, снимают с меня мои изысканные одежды и облачают в просторную родильную сорочку, искусно вышитую на запястьях и горловине. Потом меня укладывают в постель и суют к губам кубок сладкого вина. Вина не хочется, но я отпиваю немного, чтобы угодить им. Две мои старшие фрейлины садятся рядом, мои сплетницы, они должны скоротать со мной тяжкие часы родов, развлекая болтовней. Их задача – веселить меня и подбадривать мой дух, по мере того как боли станут усиливаться.
И они усиливаются. И часа не проходит, как тупая боль, сопровождающая каждую схватку, становится острой, точно от удара ножом, подлого и безжалостного. И все же я могу это терпеть. В моих жилах кровь королей, что придает мне сил лежать тихо, подавляя рвущиеся наружу крики. Вскоре, даст Бог, я возьму в руки своего сына. Моего сына, который не умрет так рано, как те две крохи, что лежат под плитами приходской церкви. Они умерли, не начав даже садиться или ползать. Я не отношу себя к сентиментальным натурам, наоборот, я знаю, что многие считают меня чересчур сильной и волевой для женщины – мегера, как назвал меня однажды мой муж, во время одной из наших бесчисленных ссор. Но в самой глубине моего сердца таится местечко для этих двух крошек, которых я потеряла.
Совершенно естественно, что третья беременность часто заставляла меня тревожиться, проверяя, зажили ли былые раны или еще ноют. Знаю, что мне следует запретить себе подобные слабости. Я – племянница короля Генриха[1]. Моя мать была принцессой Англии и королевой Франции. Я должна выносить боль этой потери так же, как и мои роды, – с королевским достоинством, отвергая нездоровые страхи, которые, как уверяют повитухи, могут нанести вред ребенку у меня в чреве. Нужно стараться думать о хорошем, а я существо по-настоящему жизнерадостное. На этот раз, я чувствую нутром, Господь даст нам сына и наследника, которого мы так отчаянно желаем.
Проходит еще один час. Промежутки между схватками становятся короче, но боль пока терпима.
– Кричите, если нужно, миледи, – уговаривает повитуха, в то время как ее помощницы суетятся вокруг со свечами и тазами с водой.
Мне хочется, чтобы они все ушли и оставили меня в покое. Мне хочется, чтобы они впустили хоть немного свежего воздуха в эту зловонную душную комнату. Хотя на дворе день, здесь темно, ибо окна завешены гобеленами и крашеным сукном.
– Мы должны быть уверены, что дитя не простудится от сквозняков, миледи, – пояснила повитуха, распорядившись сделать это. Затем она самолично обследовала гобелены, дабы убедиться, что ничто из изображенного на них не сможет испугать ребенка.
– Разведите огонь, – командует она своим помощницам, пока я лежу и сражаюсь с болью. У меня вырывается стон. Здесь и без того жарко, и я потею как свинья. И ей, конечно, об этом известно. По ее кивку мне на лоб кладут смоченный водой лоскут. Однако от этого не становится легче, ибо простыни мокры от моего пота.
Я подавляю еще один стон.
– Кричите, сударыня, – снова говорит повитуха.
Но я не кричу. Я не собираюсь позориться. Признаться, больше всего меня беспокоит, как сохранить достоинство, отвечающее моему происхождению и положению. Но, лежа здесь, точно животное, силящееся вытолкнуть из себя своего детеныша, я не отличаюсь от любой рожающей потаскухи. В этом нет ничего возвышенного. Я знаю, что богохульствую, но Господь был более чем несправедлив, когда создавал женщину. Мужчинам достается все удовольствие, в то время как нам, несчастным женщинам, достается вся боль. И если Генрих думает, что после всего этого я еще буду…
Что-то происходит. Боже милосердый, что это? Господи Иисусе, когда же это закончится?
Повитуха откидывает одеяла, затем сорочку, обнажая мое распухшее напряженное тело, лежащее на кровати, с согнутыми коленями и разведенными бедрами, сует в меня свои опытные пальцы и удовлетворенно кивает головой.
– Если не ошибаюсь, этот молодец теперь уже поторапливается, – сообщает она моим фрейлинам, трепещущим от волнения, и торжественно провозглашает: – Все готово! Тужьтесь, миледи, тужьтесь!
Я собираю все свои силы, делаю глубокий вдох и с натугой выдыхаю, зная, что конец близок. Снова прижимаю подбородок к груди и тужусь, как мне велят, изо всех сил. И чудо происходит. Я чувствую, как внутри меня, в потоке крови и слизи, скользит маленький мокрый комок. Еще одна потуга, и он попадает в руки повитухе, ждущие его, чтобы немедленно завернуть в дорогой дамаст. Мельком вижу личико, похожее на сморщенный персик, и слышу крик, напоминающий мяуканье и говорящий о том, что ребенок жив.
– У вас красавица-дочь, миледи, – нерешительно произносит повитуха. – Здоровая и крепкая.
Мне следует радоваться, благодарить Господа за благополучное рождение здорового ребенка. Я, напротив, падаю духом. Все было напрасно.
Королева Джейн Сеймур
Хэмптон-Корт, Суррей, октябрь 1537 года
И вот началось, эти роды, которых я, мой муж король и вся Англия ждали с таким нетерпением. Вначале показалась кровь, затем всполошившиеся повитухи загнали меня в постель, боясь, как бы чего не вышло. Разумеется, все предосторожности были предприняты, чтобы избежать несчастья. Еще с начала лета, когда дитя впервые шелохнулось у меня во чреве и я появилась на публике в просторном платье, по всей земле возносят молитвы за мое благополучное разрешение. Мой муж нанял лучших врачей и повитух и щедро заплатил гадалкам, чтобы те предсказали пол ребенка: все с уверенностью пообещали, что родится мальчик, наследник английского престола. По настоянию Генриха я избегала появляться на государственных приемах, проводя эти последние месяцы в роскоши и безделье, и любой мой каприз, любая прихоть немедленно исполнялись. Он даже послал в Кале за устрицами, которых мне вдруг страстно захотелось. Я объелась ими до тошноты.
Многие беременные женщины, как говорят, погружаются в состояние эйфории по мере того, как их драгоценное бремя тяжелеет, как будто природа нарочно дает им краткую передышку перед предстоящим суровым испытанием и заботами материнства, которые за ним последуют. Но я не испытываю подобного блаженного умиротворения или радости ввиду ожидающей меня, волею Божией, блестящей будущности. Страх неотступно преследует меня. Я страшусь родовой боли. Страшусь того, что станется со мной, если я рожу девочку или мертвого ребенка, как две мои злосчастные предшественницы. Страшусь своего мужа, который, несмотря на всю его преданность и заботу обо мне, все же человек, внушающий трепет даже сильнейшим. Как он вообще мог проникнуться чувством к жалкому и невзрачному существу вроде меня – выше моего скромного понимания. Мои фрейлины если и осмеливаются говорить об этом, то шепотом: мол, он любит меня, потому что я представляю собой полную противоположность Анне Болейн, этой черноглазой ведьме, которая семь лет кормила его посулами невиданных плотских утех и обещала родить сыновей, но подвела его в обоих случаях, как только он сдвинул небо и землю, чтобы надеть ей на голову корону. Не могу думать о том, что он сделал с Анной Болейн. Ибо хоть ее и признали виновной в измене – она спала с пятью любовниками, один из которых был ее собственный брат, – ужасно сознавать, что мужчина способен отрубить голову женщине, которую держал в объятиях и некогда любил до умопомрачения. И еще ужаснее сознавать, что этот мужчина – мой муж.
Поэтому я живу в страхе. Сейчас меня страшит чума, которая свирепствует в Лондоне с такой жестокостью, что король повелел не подпускать ко двору никого из города. Проведя в своих покоях последние шесть недель, согласно обычаю королев Англии, с одной только камеристкой из прислуги, в волнениях о неминуемых родах, я была во власти всевозможных мнимых тревог, так что это отчасти облегчение – сосредоточиться на событии, происходящем в действительности.
Генриха здесь нет. Он уехал на охоту, следуя своей привычке и страсти, хотя и обещал мне не удаляться более чем на шестьдесят миль. Я была бы тронута его заботой, если бы не знала, что это его советник рекомендовал ему не уезжать дальше в такое время. Но я все равно рада, что он уехал. Иначе у меня была бы еще одна причина для беспокойства. Мне невыносимо его навязчивое и одновременно трогательное желание, чтобы этот ребенок был мальчиком.
Уже полдень, и боли повторяются с нарастающей силой, хотя повитуха говорит мне, что пройдет еще несколько часов, прежде чем ребенок родится. Я молю Господа, чтобы эта пытка побыстрее закончилась и чтобы Он послал мне избавление, потому что мне кажется, я больше не вынесу.
Хэмптон-Корт, 12 октября 1537 года
Прошло уже три дня и три ночи, и мои немногие силы на исходе. Никогда в жизни не приходилось испытывать подобной муки. Ни молебны, ни торжественные службы с просьбами о заступничестве, творимые в Лондоне по приказу короля, не помогают мне, ибо помочь тут нельзя. Есть только я и боль. Я не помню, почему я здесь. Я только знаю, что если закричу как можно громче, то кто-то должен будет избавить меня от этой боли.
Один раз я услышала, как спешно вызванные врачи перешептываются о том, чью жизнь им сохранять – матери или ребенка. Даже тогда мне было все равно, хотя один из них предлагал вырезать ребенка из моего чрева. Это не имело значения, коль скоро означало избавление от боли. Но с тех пор миновали часы, годы, а я по-прежнему страдаю. Они не исполнили своей ужасной угрозы.
Сейчас ночь. Я едва замечаю темноту за окном. Занавесь отодвинули в сторону, чтобы впустить свежего воздуха в комнату, которую мои роды наполнили зловонием. Врачи и женщины окружают мою постель, будто стая безумцев. Я готова испустить дух, но они мне не позволят.
Повитуха зажимает мне нос носовым платком, посыпанным перцем, что заставляет меня яростно чихать. Внезапно боли возобновляются, нарастают, немилосердно уничтожая меня. Не имея сил даже для крика, я открываю рот в немой гримасе. Что-то происходит, меняется ритм моего тела, непреодолимая сила побуждает меня толкать, тужиться. Они все торопят меня, умоляют. И я напрягаюсь, делая одно последнее гигантское усилие, я отталкиваю от себя боль; моя судьба теперь в моей власти. Потом внутри меня что-то рвется – как будто разрывает надвое.
– Здоровый, прекрасный принц, ваше величество! – ликует повитуха. Но мне все равно. У меня одно желание – спать.
Фрэнсис Брэндон, маркиза Дорсет
Брэдгейт-Холл, октябрь 1537 года
Возгласы, доносящиеся снизу со двора, возвещают о возвращении охотников и пробуждают меня ото сна. Уже поздний вечер. Должно быть, я проспала несколько часов. Моего мужа нет.
Рядом с кроватью стоит тяжелая дубовая колыбель, вся выкрашенная яркими цветами, с резным гербом Дорсетов: два единорога в горностаевых шкурах, скрепленные золотым обручем. Внутри лежит мое дитя, уже туго спеленутое и спящее крепким сном. Подле колыбели, в сиянии свечи и пляшущих отблесках огня, сидит няня, миссис Эллен, подрубая швы на крохотном шелковом чепчике. Вновь закрыв глаза, я слышу приближающиеся шаги. Все, что угодно, но только не объяснять Генри, моему мужу, что я снова его подвела.
Но он уже знает. Едва он появляется в комнате, я понимаю это по выражению его лица. Муж уступчив во многих вещах, но это задевает его гордость, его достоинство дворянина.
– Девочка, – резко бросает он, – и опять все заново. Не понимаю, почему Господь так немилостив к нам. Мы регулярно ходим к мессе, мы жертвуем бедным, мы живем по-христиански. Что еще мы можем сделать?
Я сажусь, благодарная судьбе за то, что роды прошли без разрывов. Лежа на спине, я неизбежно оказалась бы в невыгодном положении. Даже теперь Генри высится надо мной точно пародийное воплощение мужества.
– Девочка, по крайней мере, здорова, – холодно говорю я, – и, милостью Божьей, у нее будет брат. Я помню свой долг. А вам, сударь, сыну какого-то маркиза, не пристало напоминать мне, королевской дочери, в чем он состоит.
По его глазам я вижу, что он, против собственной воли, восхищается моим достоинством и выдержкой. Знаю, что даже сейчас, измученная родами, я для него желанна и мила, хотя и не красива в общепринятом смысле. Ему нравятся мои каштановые волосы с красноватым отливом – волосы Тюдоров, по его словам, и я подозреваю, что это одна из привлекающих его черт. Он считает, что у меня чувственные губы, он восторгается моими темными бровями, вздернутым носом, моим решительным подбородком. И хотя за четыре года я трижды рожала, мое тело, тело двадцатилетней женщины, с полными грудями и широкими бедрами, все еще способно возбуждать его, особенно эти груди, разбухшие с беременностью. Но сейчас он думает не о плотских утехах, в которых я обычно с удовольствием участвую. Нет, Генри смотрит на свою малютку-дочь и не может не улыбнуться, ибо она так похожа на своего августейшего внучатого дядю, короля: у нее такие же золотисто-рыжие волосы, решительный маленький рот и сине-зеленые глаза, взгляд которых, хотя ей всего несколько часов от роду, кажется необычайно смышленым.
К своему удивлению, замечаю, что мрачные и тонкие его черты искажаются усмешкой.
– Девица недурна, – отваживаюсь я заметить.
Он кивает, выпрямляясь. В его глазах зажигается огонек холодного расчета.
– И правда. Мы подыщем ей блестящую партию, которая принесет славу в наш дом. А пока, Фрэнсис, нам нужно побыстрее сделать ей брата. Как только ты оправишься, конечно.
– Конечно, – соглашаюсь я. – Я уже сказала, я помню свой долг.
– Всегда можно совместить приятное с полезным, – ухмыляется он.
Самый тяжелый момент позади. Мы оба оборачиваем в шутку ужасное разочарование.
Нашей пока безымянной дочери – мы спорим, потому что Генри хочет назвать ее Катериной в честь своей матери, а я – Фрэнсис или Джейн в честь королевы, – сегодня неделя. Она примерный ребенок, с жадностью сосет кормилицу и спит как по часам. Плачет она редко. Спокойная. У меня же никакого покоя – мучает боль в разбухших грудях и еще молоко, протекающее сквозь повязки, которые накладывает мне повитуха. Она уверяет, что через несколько дней молоко перестанет течь, однако для меня это слишком долго.
Сегодня свежо и холодно, но солнечно. К вечеру небо в моем окне золотится румянцем заходящего солнца. Под этими бескрайними небесами раскинулись плодородные угодья поместья Брэдгейт, простирающегося насколько хватает глаз. Я сижу в кресле, глядя на сверкающее озеро и на девственные просторы за ним. Вдали я различаю соломенные крыши хижин.
Мне нравится это место. Я знаю, что иные считают наш брак неравным, но есть в нем и преимущества, и не последнее из них – мужественный супруг-единомышленник, разделяющий мои надежды и стремления. Ну и конечно, этот старинный замок красного кирпича, с башенками, с внутренним двором и сторожевой башней у ворот, с богато и по последней моде обставленными комнатами, с зелеными садами и беседками, где так приятно гулять.
Внезапно у меня возникает желание прогуляться. Я не из тех, кто любит сидеть дома за вышиванием или чтением, к чему обычно поощряют девочек моего круга. Я люблю прогулки, верховую езду и охоту. И мне уже до смерти надоела моя душная спальня.
– Плащ! – требую я.
Вопреки запрету госпожи повитухи, я выберусь на улицу, хотя бы ненадолго. С помощью одной горничной я преодолеваю ступени и затем, набравшись храбрости, выплываю из дому, надеясь, что повитуха с осуждением глядит в окно. Но она, конечно, и не посмеет остановить меня.
Проходя через внешний двор, благодарю Бога, что роды не причинили мне вреда. Я знавала женщин, долго и тяжело страдавших от их последствий. Но я сильная. Я чувствую себя почти так же, как прежде.
Теперь я иду в тени большой сторожевой башни. По краям стены, встающей передо мной, возвышаются две высокие башни, возведенные отцом Генри, вторым маркизом Дорсетом. Они придают замку величие. Пройдя под аркой, оставляю слева арену для турниров и прохожу в дверь в стене, которая ведет в чудесный сад, где летом обыкновенно цветут розы. Присаживаюсь на каменную скамью и любуюсь ярким осенним солнцем, бросающим красные блики на кирпичи стены.
Но я не долго наслаждаюсь свободой. Не проходит и пяти минут, как на дороге раздается топот конских копыт. Всадник одет в зеленое и белое: цвета Тюдоров. Каковы бы ни были вести, что он принес, они представляют большую важность, это уж точно. Поднявшись, я тороплюсь обратно домой, где обнаруживаю, что муж уже собрал всех наших домочадцев в главном зале.
– Великая новость, Фрэнсис, – говорит он мне. – Все должны это узнать.
Мы вдвоем усаживаемся на помосте, пока шеренги спешно созванных лакеев, горничных, дворецких, конюхов, пажей, камердинеров, кухонной челяди и подносчиков расступаются, чтобы дать дорогу королевскому посланцу. Просторный зал с дубовыми балками под крышей и обитыми гобеленом стенами гудит от гула возбужденных голосов; все, от чопорного дворецкого до младшего поваренка, тянут шеи, чтобы услышать, что скажет гость.
Забрызганный грязью гонец падает пред нами на одно колено. И пусть его слова предназначаются нам обоим, но склоняется он предо мной – племянницей самого короля.
– Добрые вести, милорд, миледи, – восклицает он. – Королева разрешилась прекрасным принцем, и весь Лондон – нет, вся Англия – ликует! Его величество посылает вам эту радостную весть, а также справляется о вас, миледи. Он просит вас и милорда приехать ко двору, как только вы оправитесь от родов.
Я бросаюсь на колени, благодаря Господа за эту весть, которой королевство ожидало без малого тридцать лет. После двух неудачных браков и злосчастной ссоры с папой мой дядя, король Генрих Восьмой, все-таки обрел сына и наследника. Династия Тюдоров продолжилась, и страна наконец избавлена от угрозы гражданской войны. Это чудесно, но за внешней радостью я прячу жгучее разочарование от того, что Бог не дал сына мне – мне, которой сын был не менее желанен, чем королю этот принц, и не только потому, что моему мужу нужен наследник титула. В глубине моего сердца, как и в сердце моего мужа – я в этом уверена, – давно живет безмолвная, преступная надежда, что судьба в конце концов оставит короля без наследника мужского пола и тем самым проложит моему сыну дорогу к трону. Ибо моя мать, Мария Тюдор, дочь Генриха Седьмого и младшая сестра его величества, не только передала мне кровь королей, но также и право притязать на корону. Тем не менее эти желания нужно прятать поглубже, потому что сама мысль о подобном опасна. У короля есть наследник, и мы должны радоваться.
– Хвала Господу! – пылко восклицаю я, с удовлетворением отмечая, что все присутствующие следуют моему примеру и валятся на колени. – Я немедленно пошлю его величеству наши сердечные поздравления, а также подарок на крестины принца. Как его назовут?
– Эдуард, миледи, потому что он родился в канун праздника святого Эдуарда Исповедника.
Подходящее имя, поскольку святой Эдуард Исповедник был королем Англии. Я бы не отказалась назвать Эдуардом своего собственного сына.
– А что же королева, моя дорогая тетушка? – спрашиваю я, про себя недоумевая, почему Джейн Сеймур, эту бесцветную безмозглую корову, Всемогущий одарил сыном, а я родила никчемную девчонку.
– Она здорова, миледи. Говорят, королева быстро оправилась после затяжных и тяжких родов – вскоре она встала и принялась писать письма с радостной вестью. Крестины уже состоялись. Дочь короля, леди Мария, была крестной матерью, а крестными отцами – архиепископ Кентерберийский и герцоги Норфолк и Саффолк. Его величество, смею вас уверить, счастливейший человек на свете.
Мы отпускаем гонца, приглашая его подкрепиться на кухнях, и просим слуг вернуться к своим обязанностям. Когда мы покидаем зал, направляясь в наши личные покои, слышим, как все с волнением обсуждают эту ошеломительную новость. Но, поднимаясь вместе по лестнице, мы с Генри ничего не говорим друг другу. У меня все не укладывается в голове – бывшая фрейлина Сеймур, эта чопорная и двуличная замарашка, исполнила то, что не удалось ни великой герцогине Екатерине Арагонской, ни великой шлюхе Анне Болейн, – родила королю здорового сына. Как же я ей завидую: она подарила мужу наследника и тем самым обеспечила свое будущее в качестве жены и королевы, а также место в сердце моего дяди. Меня в бешенство приводит подобная несправедливость. Почему же мне суждено рожать только больных недоносков и девчонок?
Догадка осеняет меня внезапно, словно вспышка молнии. Может быть, Бог посылает нам дочерей нарочно, дабы по-иному возвеличить дом Дорсетов. Теперь мне кажется, что воля Его яснее ясного.
– Итак, его величество наконец-то обрел сына, – говорю я. – И не успеешь оглянуться, как этому сыну понадобится жена.
Расчетливость, читающаяся во взгляде Генри, говорит о том, что он отлично меня понимает.
– Да, – улыбаюсь я. – Ты верно уловил, куда я клоню. Не может быть более подходящей партии для благородного принца Эдуарда, ты согласен, муженек?
Конечно он согласен. Он честолюбив мне под стать. Он сильнее, чем я, желает выдвинуться и прославиться, но при его происхождении это совсем не удивительно. Я родилась в королевской семье; Генри должен был цепляться за любую возможность, чтобы вскарабкаться наверх. Не следует забывать, что его прабабка, Елизавета Видевиль, признанная красавица своего времени, однажды отхватила себе короля, ни больше ни меньше: короля Эдуарда Четвертого, моего прадеда. Мой муж пошел в эту хваткую женщину. Он без церемоний разорвал свою помолвку с одной знатной особой, чтобы заключить более выгодный брак со мной. И с тех пор мы вместе непрестанно строим планы возвышения нашего дома. Теперь, кажется, трон уже совсем близок.
– Я так это и вижу, – произносит он. – Но ты ведь знаешь, что этот путь сопряжен с опасностями. Король – гордый человек и очень честолюбивый. Он, скорее всего, станет искать блестящую заморскую партию для принца, такую, которая укрепила бы выгодный союз или принесла бы ему новые земли. А еще он подозрителен; случись ему пронюхать о наших планах, он решит, что мы уж делим его наследство. Мне не нужно напоминать тебе, Фрэнсис, что ожидание смерти короля – это измена. Нам придется действовать очень осторожно.
– Я не сомневаюсь, что нам удастся это осуществить, – говорю я ему. – Или ты трусишь? Мне нужно знать, что мы с тобой заодно, Генри.
– Конечно, – отвечает он, и его глаза полны восхищения. – Ты считаешь, я не рад буду видеть свою дочь королевой? Я уверен, что твоя смелость и моя осмотрительность помогут нам хорошо разыграть наши карты.
Эта мысль уже не кажется столь дерзкой. Она и в самом деле не лишена смысла. В наши дни принцы не всегда женятся на заморских принцессах: вспомните Елизавету Видевиль, Анну Болейн и Джейн Сеймур. Все они не королевского рода. Но наша кроха имеет большое преимущество перед этими знатными дамами: она из хорошей семьи. В ее жилах течет кровь Тюдоров.
Генри довольно улыбается и запечатлевает на моих губах легкий поцелуй.
– Ты справилась лучше, чем думаешь, – нежно произносит он. – И когда ты будешь подле королевы, держи ушки на макушке, как и я, когда поеду ко двору, ибо его величество наверняка вскоре начнет присматривать подходящих невест для сына.
Я уже погрузилась в обдумывание открывающихся возможностей. Чувства разочарования как не бывало.
Остановившись, чтобы отворить дверь в наши покои, Генри оборачивается:
– Думаю, ты права. Назовем малышку Джейн, в честь королевы. Леди Джейн Грей. Звучит по-королевски!
Миссис Эллен
Брэдгейт-Холл, декабрь 1537 года
Не проходит и трех недель после рождения моей маленькой леди Джейн Грей, как мы узнаем, что королева умерла. Подробности нам приносит взмокший и забрызганный грязью гонец, который мчался во весь дух, неся нам эту новость. Семь дней, как поведал он нашим потрясенным домашним, она лежала в родильной горячке, сразившей ее на следующий день после крестин принца. Придворные говорили, что ее прислуга чересчур потакала ее страсти к разным яствам и, поскольку король не мог ни в чем отказать матери своего сына, любое ее желание удовлетворялось, как бы неразумно оно ни было.
– Мы было подумали, что она выздоравливает, – продолжал гонец. – После того как духовник соборовал ее, ей как будто стало лучше. Она даже села в кровати и беседовала с его величеством, к его великому облегчению. А он смог порадовать ее сердце вестью о том, что, пока она болела, он сделал ее брата, сэра Эдуарда Сеймура, графом Хартфордским. Однако в тот же вечер болезнь вновь вернулась, и она впала в беспамятство. Король, обезумев от горя, велел епископам возглавить шествие всего клира через Лондон к собору Святого Павла, где они молили Господа пощадить королеву. Но улучшения не наступило.
Он умолк. Милорд и миледи спокойно ждали, чтобы он продолжал, но иные из слушавших едва сдерживали слезы. Королева пользовалась большой любовью у простых людей Англии, ненавидевших Анну Болейн, эту злосчастную ведьму, которая околдовала короля, заставила себя полюбить. И от одной мысли о бедном сиротке принце у любого сжималось сердце.
– Король, – продолжал гонец, – отказался от поездки на охоту, чтобы остаться в Хэмптоне, поскольку не мог уехать от жены, находившейся в таком состоянии. Потом ей стало немного лучше, и при дворе разнеслась весть: доктора сказали его величеству, что, если королева продержится ночь, появится надежда на ее выздоровление. Но вечером короля срочно вызвали к ее постели, где он оставался до конца, рыдая и заклиная ее не покидать его. Мы все были несказанно удивлены, что он, боящийся, как всем известно, болезней и смерти, оставался с ней до конца. Он воспринял ее уход с воистину христианским смирением и теперь станет маленькому принцу и отцом и матерью.
К тому времени по щекам моим струились слезы. У меня никогда не было своих детей, и меня зовут «миссис» только из почтения к моей должности няни, но я всегда любила малышей, и мне больно думать об этом несчастном крохе, обернутом в золотую парчу, лежащем в своей просторной резной колыбели, среди великолепия и роскоши, и все же лишенном того, что необходимо каждому ребенку, – материнской любви. И принц иной раз достоин жалости.
Ну а моя госпожа, наоборот, приняла эту трагическую весть совершенно бесстрастно. Я наблюдала, как она стоит и слушает слова гонца, прямая и величавая, в своих одеждах кармазинного бархата. Глядя на нее, ни за что не подумаешь, что она сама только встала после родов, ибо она стройна, как прежде, и полна сил. И двух недель не прошло, а она уж гарцевала в седле. Конечно, она сказала все, что полагается, насчет бедной королевы, но это не от чистого сердца. Она никогда не имела для нее ни времени, ни сочувствия. Чего вы хотите от женщины, которая, сдав свое дитя кормилице, с тех пор едва к ней заглядывает? О, я знаю, что у аристократов так принято, у них считается ненормальным, если мать растит собственного ребенка. Помню, какой шум поднялся, когда Анна Болейн захотела сама кормить леди Елизавету[2]. Но я, послужив старшей няней в трех благородных семействах и повидав там довольно, могу утверждать, что большинство матерей любят своих младенцев и хотят о них заботиться. Эти жестокие порядки с непременными кормилицами, качалками и прочим навязали мужчины, и я знаю почему. Это нужно для того, чтобы молоко иссякло и они со своими женами могли наплодить побольше сыновей. И конечно, нельзя допустить, чтобы мать слишком привязалась к ребенку, которого вскоре отошлют в ученье или выдадут замуж. Мир, в котором мы живем, без всякого сомнения, ужасен. Но я сомневаюсь, что леди Дорсет поддержала бы эту мысль.
Позже мне случилось находиться на кухне. Это моя обязанность как няни леди Джейн – присматривать за приготовлением пищи для детской и следить, чтобы соблюдалась должная чистота. В огромных кухнях Брэдгейта всегда жарко и шумно, но я, будучи родом из семьи йомена – мой отец продал свою маленькую ферму и основал успешное торговое дело в Лондоне, – чувствую себя здесь как дома, когда бегаю из пекарни в буфетную, в мясные и масляные кладовые, в людскую, болтаю и перешучиваюсь с Уильямом Йейтсом, главным поваром, и с армией его подручных. Здесь нет ни изощренности, ни утонченности, а одна тяжелая работа и настоящая взаимопомощь, пусть иногда обстановка и накаляется, среди этого пара и жара от ревущих печей. В любом благородном доме кухни – это также место, где работники узнают все о своих хозяевах, ибо слуги имеют привычку разгонять скуку во время работы, сплетничая о господах, которые являются для них бездонным источником вдохновения, и даже обсуждая их сугубо личные дела. Признаться, мне иногда кажется, что мы, слуги, больше знаем о жизни лорда и леди Дорсет, чем они сами.
В тот день гонец, повеселев после нескольких стаканов эля, повел весьма задушевную беседу с господином Йейтсом, и я подслушала ошеломительную новость.
– Ходят слухи, – говорил он, – что господин государственный секретарь Кромвель опасается, как бы принц не умер во младенчестве, подобно многим, и что он уже поторапливает его величество жениться снова, ради его подданных и королевства.
– Думаете, король согласится? – спросил господин Йейтс.
– Говорят, что он уже женился, – был ответ, – а королеву-то еще даже не похоронили.
Возможно, подумала я, его величество заботится о несчастном сиротке… Я искренне на это надеялась.
С той поры минуло два месяца, и никто больше не заговаривал о новой женитьбе короля. Возможно, в конце концов, это были просто слухи. А принц Эдуард, говорят, растет и здоровеет, чему маркиз и маркиза весьма рады.
– У него теперь собственные покои, – сообщает миледи во время очередного визита в детскую, который она наносит ежедневно перед обедом, дабы взглянуть на свое дитя в колыбели, раздать указания либо отчитать – в зависимости от настроения. Вчера она жаловалась на миссис Маллори, нанятую мной кормилицу, которая, очевидно, оскорбила ее, не успев сделать реверанс, когда маркиза вошла в комнату. На прошлой неделе она осталась недовольна тем, как отполирован стол. Но сегодня она расположена поболтать. И поскольку этой детской заправляю я, она снизойдет до того, чтобы поболтать со мной даже о короле – разумеется, в пределах моего понимания.
– Его величество издал строжайшие распоряжения насчет уборки комнат принца, – говорит она мне. – Стены и полы теперь будут мыть три раза в день, дабы держать помещение в чистоте и беречь от заразы. И все посетители должны тщательно проверяться, чтобы не принесли какую-нибудь опасную болезнь. А когда принца отнимут от груди, то его пищу станут проверять, дабы убедиться, что она не отравлена.
И смотрит на меня выразительным взглядом, как всегда. Но я не умею угадывать мыслей своей госпожи. Хочет ли она, чтобы я установила тот порядок в моей детской? Или она удивлена дотошностью короля? Она придирчивая хозяйка, и я никогда не знаю наверняка, сумею ли угодить ей. И все же под моей опекой маленькая леди Джейн чувствует себя прекрасно. И как может быть иначе – ведь я люблю ее, как родную, и с радостью отдала бы за нее свою жизнь, если потребовалось бы. Чего не скажешь о ее матери, которая, кажется, едва ее замечает.
– Король назначил леди Маргарет Брайен воспитательницей к принцу, – продолжает маркиза. – Она нянчила леди Елизавету, а теперь будет воспитывать принца Эдуарда, пока ему не исполнится шесть лет и не начнется его обучение. Маркиз говорит, что король часто навещает сына и весьма доволен тем, как он развивается. Он сам вникает во все мелочи. Одежду для принца выбирают с его одобрения, он указал срок, когда следует отнять его от груди, и предложил средства, облегчающие прорезывание зубов.
Слава богу, ни он, ни лорд Дорсет не суют свой нос сюда ко мне. Такие дела куда лучше доверить женщинам. Но моя госпожа, разумеется, все видит по-другому. Ее августейший дядя представляется ей образцом совершенства. Она им так гордится! По моему же скромному мнению, которое я всегда держу при себе, он – чудовище. Преступная мысль, но это дела не меняет. Мужчина, способный отрубить голову своей безвинной жене, – чудовище. Я не слишком уважала Анну Болейн, однако всякому разумному человеку было ясно, что никакой вины за ней нет. Все было нарочно подстроено, чтобы от нее избавиться, потому что она видела его насквозь и не умела держать язык за зубами. Пятеро любовников, да куда там! При ее-то жизни, всегда на людях, ей бы хоть одного затащить к себе в спальню. Она была не дура, чтобы идти на такой риск. Я не могу без содрогания вспоминать о том, что с ней случилось. Говорят, она мужественно встретила свой конец. Каково это – глядеть в лицо своему палачу, зная, что ты ни в чем не виновата?
Моя жизнь в Брэдгейте проходит однообразно, но я этому сердечно рада. Наша детская, расположенная в башне восточного крыла, по всему уступает покоям принца Эдуарда, но в ней чисто и тепло, и моя маленькая госпожа – гордость и радость для всех, кто ей прислуживает, то есть для меня, миссис Маллори, двух девушкек, качающих колыбель, и двух горничных. Она уже улыбается нам, своим верным слугам, во весь рот. При виде ее крохотного треугольного личика, выглядывающего из пеленок, мое сердце тает. Она очень развитый, веселый и в то же время послушный ребенок. Слава богу, теперь она спит всю ночь и не тревожит кормилицу.
Иные сочли бы за большую честь служить в таком доме. Окрестности Брэдгейт-Холла впечатляют своим великолепием. Он стоит на краю Чарнвудского леса, в гористой местности, среди крутых холмов, гранитных скал и ущелий. Благородный олень водится в его угодьях и заповедниках. Ястребы и коршуны бдительно несут дозор с высоты своих гнезд.
Этот красивый замок, возведенный отцом маркиза в первые годы правления нынешнего короля, недавно перестроили. Он славен своим богатством и роскошью; чтобы выставить напоказ состояние и положение Дорсетов, не жалели труда. Один только главный зал имеет восемьдесят футов в длину. Богатые гобелены украшают стены, шкафы ломятся под весом золотой и серебряной посуды, в высоких окнах бриллиантовым блеском горят гербовые витражи. Милорд и миледи живут на широкую ногу. Столы в главном зале каждый день накрывают на две сотни персон, не меньше. Всякий раз ставят и лишние приборы, ибо Дорсеты любят устраивать приемы, и за трапезой всегда присутствуют важные гости и члены их свиты. Кроме того, законы гостеприимства требуют давать стол и кров всякому проезжему.
В присутствии гостей маркиз и маркиза торжественно восседают за высоким столом на помосте, а мы, их домочадцы, сидим согласно чину за столами внизу, стоящими во всю длину зала. Во время трапезы на галерее играют музыканты, а бесчисленная армия лакеев снует туда-сюда, подавая блюда, приготовленные в шумных раскаленных кухнях, что находятся за ширмами с богатой резьбой.
В редких случаях, когда нет гостей, трапеза Дорсетов проходит в их летних или зимних покоях в восточном крыле, но стол непременно сервирируется с большой роскошью. Миледи всегда помнит о своей королевской крови.
Служить здесь выпадает не каждому, и, наверное, мне, женщине простого происхождения, нужно почитать это за счастье, но я не за тем сюда пришла. Я пришла, потому что призвана заботиться о детях. И сейчас – речь об одном из них.
Да, здесь все обставлено пышно и с размахом, в Брэдгейте, но есть и скрытая сторона. Я не слишком люблю Дорсетов. Миледи – гордячка, и сердце у нее холодное; я знаю, что я ей не чета, но – как я уже говорила – мать есть мать, и я считаю, что для матери дурно проявлять столь мало любви к своему малышу. А лорд Дорсет, этот думает только о своем возвышении, а она за него горой. На самом деле мне кажется, что в их браке она главная. Оба они люди жестокие. Если бы не привязанность к их дочери, я бы, наверное, от них ушла. Однако теперь мое сердце безраздельно принадлежит этой славной крошке, так что выбора у меня не остается.
Брэдгейт-Холл, декабрь 1539 года
Моей маленькой леди Джейн уже исполнилось два года, и с рождения она живет в трех башенных комнатах, которые составляют ее детскую. На верхнем этаже располагается ее спальня, ниже находится комната, которую я делю с ее горничными, а на первом этаже – большая комната с деревянной обшивкой по стенам и окнами в деревянных рамах. Мебель в этой части дома по сравнению с остальными покоями совсем ветхая и малочисленная. Леди Джейн спит на дубовой кровати под старинным расписным балдахином. Ее младенческие молитвы возносятся за молельным столиком в нише окна. Платье и белье Джейн хранятся в огромном сундуке у стены, а ест она за простым столом, покрытым белой скатертью, и сидит – как все мы – на простом стуле. Пища у нас простая – отварное мясо, рыба и овощи, а также неизменная дневная порция хлеба, эля и похлебки. И ее мать приказала, чтобы она съедала все, до последней крошки.
Как только малышка стала подниматься на ножки и делать первые шаги, ей дали круглые деревянные ходунки на колесах и разрешили носиться, булькая от смеха, по длинной, обитой гобеленами галерее, которая тянется во всю длину восточного крыла.
– Смотри, Неллен! – кричит она, топая по деревянному полу.
Ее чепчик сбился и болтается на завязках, рыжие кудри растрепались, щечки раскраснелись от усилий. У нее есть собственный щенок спаниеля, и ей позволяют играть с озорной трехлетней дочкой повара, Мег. Однажды Джейн имела несчастье на полной скорости врезаться в свою мать, когда они с Мег с веселым визгом мчались по галерее. Леди Дорсет, приведшая гостей взглянуть на семейные портреты, которые там выставлены, в гневе запечатлевает на невинной щеке Джейн жгучую пощечину. Ребенок застывает в изумлении, затем цепенеет от ужаса, прежде чем разразиться громким плачем. Я хватаю ее, бесцеремонно вытаскивая из ходунков, и уношу прочь, бормоча извинения и страшась еще пуще прогневать леди Дорсет.
– Ну же, детка, – бубню я, вернувшись в детскую, и смачиваю водой бедную горящую щечку. – Теперь будет легче. – Дрожь младенческих губ утихает, слезы высыхают на нежной коже.
Милорд никогда не бывает столь жесток. Изредка, когда непогода удерживает его дома, не позволяя ехать на охоту, он, случается, проведет часок с дочерью в галерее.
– На! – кричит он, кидая ей тряпичный мяч. Иногда он дает ей, взвизгивающей от смеха, погоняться за собой в ее колеснице. Однако подобные случаи редки, ибо Дорсеты не из тех, кто позволяет дождю или даже граду и снегу мешать своим забавам, и их чаще всего можно видеть верхом, во дворе, в окружении егерей и возбужденно лающих собак. И посему Джейн, проводя почти все время в детской или в садах, за свое младенчество почти совсем не видела родителей – гораздо реже, чем любой другой ребенок, которого прежде поручали моим заботам.
Посещения леди Дорсет хотя и регулярны, но кратки и все больше мельком.
– Отучите ее сосать палец, – велит она.
Или, когда у леди Джейн резались зубки:
– Если она не перестанет хныкать, то останется без ужина.
Леди Джейн никогда не была трудным ребенком, и нет нужды ее часто распекать, но госпожа, кажется, настроена вымуштровать ее до совершенства, какого немногим человеческим существам удавалось достичь. В присутствии матери Джейн обязана стоять руки по швам, молча, с почтительным видом, опустив голову и потупив глаза. Если к ней обратятся, она должна отвечать смиренно и внятно. Миледи не терпит неповиновения, и если малышке случится, по детской слабости, заерзать на месте или захихикать, видя, как ее щенок сделал лужу на полу, то окрик последует тотчас же.
Самое ужасное, и для Джейн, и для меня, произошло в тот день, когда Джейн, как свойственно многим маленьким детям, укусила Мег во время их стычки, и отец Мег рассказал об этом миледи, которая немедленно за нами послала.
– Миссис Эллен, я не желаю слышать, что моя дочь ведет себя как дикарка, – холодно сказала она.
– Конечно, миледи, – отвечала я, в надежде, что этим дело и кончится. – Сожалею, миледи. Больше этого не повторится.
– Уж будьте уверены, – мрачно пообещала она. – Джейн, поди сюда.
Слыша гневные интонации в голосе матери, девочка испуганно ткнулась лицом мне в юбки, но леди Дорсет схватила ее, перегнула через свое колено и, рывком подняв ей подол, задала ей крепкую порку, в течение которой Джейн вопила от страха и боли. Я же могла только стоять и смотреть, сжимая кулаки за спиной, сдерживаясь, дабы не выхватить ее из материнских когтей. Затем миледи поставила ее на ноги.
– Если я еще раз услышу, что ты опять кого-то покусала, выпорю тебя еще больнее, – сурово сказала она, грозя пальцем. Джейн ничего не ответила, только все продолжала всхлипывать. Бедняжка, она еще слишком мала, чтобы понимать слова матери.
– Уведите ее, миссис Эллен, – приказала леди Дорсет. – Я не желаю сегодня больше видеть эту невоспитанную девчонку.
Я поспешила прочь, злясь на себя за то, что даже пальцем не пошевелила, дабы уберечь Джейн от такого наказания.
Возможно, маркиза так и не почувствовала естественного родства со своим ребенком, потому что бедняжка не родилась мальчиком, как она надеялась. Но маркизе едва исполнилось двадцать три, и у нее обязательно будут еще дети. Она никогда не показывала Джейн своей любви и наверняка даже не задумывается, дает ли ребенку повод любить ее саму. Разумеется, дитя обязано любить и почитать своих родителей, но миледи словно не понимает, что тут участвуют обе стороны. Я опасаюсь, что, если Джейн вдруг ее невзлюбит, маркиза обвинит во всем дочь.
Я, конечно, всячески стараюсь защищать Джейн от жестокости ее матери.
– Когда твоя матушка придет сегодня в детскую, крошка, – говорю я ей, – ты сделай реверанс и жди, пока она с тобой заговорит. Держись прямо и не таращи глаза, потому что это невежливо.
Трудно ожидать чего-то большего от двухлетнего ребенка, но у леди Дорсет непомерно высокие требования.
Однажды миледи является позже обычного, когда Джейн уже обедает. Усевшись за стол, маркиза устремляет свой орлиный взор на девочку. Джейн пробует рыбу.
– Не хочу, – бурчит она с полным ртом.
– Мы не должны отвергать то, что даровано нам Господом, – говорит ее мать. – Ешь.
Джейн угрюмо глядит на нее и начинает размазывать еду ложкой по тарелке.
– Ешь! – приказывает миледи.
Джейн качает головой. Ее большие голубые глаза наполняются слезами.
– Не смей мне перечить! – кричит леди Дорсет. – Ешь, а не то я тебя выпорю!
Джейн громко ревет. Я решаюсь навлечь на себя гнев моей госпожи.
– Сударыня, – встреваю я, – позвольте, я ее уговорю.
– Уговорите? Она должна исполнять, что ей велят. Вы ее распустили, миссис Эллен. – Она оборачивается к всхлипывающей девочке. – Иди сюда.
– Миледи, – возражаю я, – прошу вас, позвольте ей успокоиться. Она не может есть в таком состоянии.
– Она ослушалась меня и должна быть наказана, – шипит ее милость. – А вы бы лучше поостереглись спорить с теми, кто стоит выше вас. Не забывайте о своем положении в этом доме.
Поднявшись, она хватает Джейн за плечи, впиваясь жестокими пальцами в нежную плоть, и сдергивает ее со стула.
– Я тебе покажу, как не слушаться! – грозит она, тряся девочку. – Ты попросишь прощения, а затем все съешь. Тебе понятно?
Джейн, от испуга лишившись речи, ловит ртом воздух.
– Отвечай! – повышает голос леди Дорсет, но Джейн лишь продолжает молча дрожать, и на нее обрушиваются две пощечины, одна за другой. Слышится визг. Я едва не бросаюсь к Джейн, но свирепый взгляд моей госпожи заставляет меня застыть на месте. Я не смею далее возбуждать ее гнев, ибо дело может закончиться моим увольнением, чего никак нельзя допустить. Оттого что я люблю Джейн, словно свою плоть и кровь, мне невыносимо даже помыслить о разлуке с ней, равно как и о том, что будет с ней, окажись она без защиты преданной няни: мать с каждым днем становится к ней все строже.
Я наблюдаю, молча страдая и сознавая собственное бессилие, а маркиза тем временем бросает плачущую дочь обратно на стул, дает ей ложку и командует:
– Ешь!
И Джейн ест, поливая рыбу солеными слезами, что бегут у нее по щекам. Затем, когда леди Дорсет уходит, ее тошнит, и она до вечера спит у меня на руках, обессилев от слез и рвоты.
– Образование у Джейн, – объявляет моя госпожа, – будет не хуже, если не лучше, чем у дочерей короля леди Марии[3] и леди Елизаветы. Она познакомится с классическими трудами древних, а также станет изучать историю, математику, теологию и Священное Писание. Она овладеет языками, полезными для ее будущей роли в жизни. Кроме того, мы пригласим учителей танцев и музыки. А вы, миссис Эллен, вы научите ее вышиванию. Не следует пренебрегать женским рукоделием. Кроме того, Джейн усвоит придворный этикет. Она научится безупречным манерам, одеваться и держать себя как принцесса. Ей следует привить сознание ее высокого происхождения. Она рождена для великих дел.
Все это кажется слишком обременительным для такой крохотной девочки. Глядя на заостренное, сердцевидное личико Джейн, с веснушками на носу и серьезными глазами под темными бровями, я думаю, выйдет ли из нее красавица. Не самое важное качество для брака по расчету, но полезное. Говорят, что король, подыскивая себе заморскую невесту, постановил, что должен увидеть девушку, прежде чем заключать с ней брак.
Леди Дорсет полна решимости исправить данное от природы.
– Надо что-то делать с этими веснушками, миссис Эллен, – требует она. – Мы должны найти средство.
Из тех примочек и мазей, что мы уже испробовали, ни одна не помогла.
– Самое привлекательное в ней – это ее волосы, – заявляет миледи. – Те же по-тюдоровски рыжие, что и у короля.
Однако она недовольна тем, что у Джейн они вьющиеся и непокорные. Они и вправду плохо поддаются попыткам упрятать их под чепчик. По моему скромному мнению, им нужно позволять спадать свободно, чтобы они золотым облаком играли на ветру. Но миледи ни за что на это не согласится.
– Джейн слишком мала для своего возраста, – говорит она. – Она чересчур тощая. От этого она кажется хрупкой, но это только кажется. – Маркиза знает, о чем говорит, ибо неоднократно убеждалась – когда находился повод разложить Джейн у себя на коленях и высечь ее, протестующую и извивающуюся, – что ребенок силен и здоров. Кроме того, она умна и чрезвычайно развита для своих лет, но миледи, вообще-то ценящей женскую образованность, развитость Джейн представляется преждевременной, чего, конечно, нельзя поощрять.
– Ученая дева – не самый большой капитал на брачном рынке, – заявляет она, – мы должны воспитать в ней скромность, дабы преодолеть этот недостаток.
– Разумеется, – соглашаюсь я, но, в отличие от леди Дорсет, не стану в этом усердствовать. Она права, что девушке не пристало дерзить и умничать, но у меня нет желания сломить ее дух.
Сегодня состоялся один из редких визитов лорда Дорсета в детскую. Как у многих отцов, у него с дочерью мало общего. Потрепав ее по голове и назвав ее «моя славная кобылка», он удаляется. Он с удовольствием предоставляет жене целиком заниматься ее воспитанием, пока Джейн еще не достигла брачного возраста, который наступает между двенадцатью и четырнадцатью годами. Тогда-то он вдруг заинтересуется ею ради тех благ, которые может принести ему брачный союз. Я молю Господа, чтобы он не забыл о ее собственном благе и счастье, когда придет время выбирать ей мужа.
Брэдгейт-Холл, 1540 год
– Добродетель, – говорит мне миледи, – это результат в равной степени образования и воспитания. – Джейн еще не исполнилось три года, а мать уже дала ей азбуку, чтобы носить на ленточке на шее. На ее гладкой деревянной дощечке красивым черным шрифтом выведен алфавит, простые числа и «Отче наш», и Джейн должна, с моей помощью, все это выучить. По счастью, батюшка обучил меня чтению, так что я могу помогать ей с уроками.
Каждый день мы с ней садимся и проходим все от начала до конца, повторяя снова и снова, чтобы, когда леди Дорсет призовет нас в пять часов, ребенок был готов ответить заданное без запинки, потому что иначе мать обязательно влепит ей жгучую пощечину. Это случалось и раньше и за гораздо менее серьезные преступления. Мы спешим по галерее в зимние покои, где нас ожидает миледи. Маленькие ножки Джейн бегут в два раза быстрее моих, чтобы не отставать. Мы опаздываем, потому что я заставила ее повторить урок лишний раз, дабы мать не имела повода придраться. Когда мы входим, Джейн, вцепившись в книжку, держит ее перед собой и читает вслух, водя маленьким пальчиком по буквам, вырезанным на гладкой дощечке. Леди Дорсет кивает, отпуская нас. Ни критики, ни похвалы у нее не находится.
Несмотря на свой юный возраст, Джейн достаточно сведуща в вопросах веры. Официально Дорсеты привержены католической доктрине[4], утвержденной королем после того, как он назначил себя главой церкви в Англии, но в душе – говоря по секрету – я думаю, что они, как и многие другие, испытывают тайные симпатии к реформаторам и даже, я подозреваю, к таким, что распространяют учение Мартина Лютера и его сторонников-протестантов. Лютер осмелился оспорить сами церковные таинства, а в Англии сегодня опасно выражать еретические взгляды. За это сжигают на кострах. Король свято блюдет традиции в том, что касается религии, хотя он и рассорился с папой – или епископом Римским, как нам велено называть его с тех пор, как наш всемилостивейший монарх стал главой церкви Англии.
Джейн, которую водили к мессе с младенчества, знает латинский чин богослужения, хотя вряд ли она понимает, что это все значит. Ее научили почитать Богоматерь, Блаженную Деву Марию, и молиться о себе и о других. Ей даже объясняли чудо мессы, когда Дух Святой, в момент вознесения Святых Даров, воплощается в тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Подобно всем маленьким детям, она принимает эти объяснения без лишних вопросов, и в сердце ее уже зародилась должная и подлинная любовь к Создателю. Я верю, что вскоре ей уготовано стать поистине благочестивой девочкой.
– Его величество король, – торжествующе объявляет миледи в один из холодных январских дней, – венчался в Гринвиче с леди Анной Клевской. Я вызвана ко двору исполнить свой долг: новая королева оказала мне честь назначить меня своей фрейлиной.
В тот же самый день все домашние собираются во дворе, чтобы посмотреть, как она, в великолепном наряде благородного красного бархата, закутавшись в меха, садится в экипаж, готовая отбыть к югу. Ее экипаж сопровождают еще две повозки – для дам ее свиты, горничных и двоих пажей.
– Какая миледи красивая, – шепчет Джейн в восхищении. – Я хочу быть как она, когда вырасту.
– Будешь, моя прелесть, будешь, – обещаю я, гладя ее по голове.
– Прощайте, – говорит леди Дорсет собравшимся, а дворецкий подает ей меховую накидку и корзину с дорожными закусками и напитками.
Лорд Дорсет подносит жене бокал вина на дорожку. Выпив, она наклоняется и целует его в губы. Он бормочет что-то, чего я не могу разобрать, и они оба улыбаются. Потом миледи вспоминает, что у нее есть ребенок.
– Будь хорошей девочкой, Джейн, – говорит она.
– До свидания, миледи, – отвечает Джейн.
– Да хранит вас Господь, – шепотом подсказываю я.
– Да хранит вас Господь, – повторяет она. Маркиза одобрительно кивает, экипаж трогается и медленно выезжает со двора. Джейн, стоя рядом со мной, машет, как положено, вслед матери – пока карета, миновав ворота, не скрывается из виду. Но миледи даже не оборачивается.
В отсутствие миледи лорд Дорсет стремится проводить время с дочерью. Ему быстро надоедает слушать ее чтение, поэтому он решает учить ее верховой езде.
– Скоро я сделаю из нее настоящую охотницу, миссис Эллен, – обещает он.
Я иду вслед за ними на конюшни. В самом дальнем стойле ждет под седлом коренастый пони в яблоках, совершенно восхитительная лошадка, как нельзя лучше подходящая для новичка.
– Ее зовут Фиби, – говорил милорд с улыбкой.
Джейн опасливо протягивает руку, чтобы погладить гриву и морду пони.
– Красавица Фиби! – восклицает она.
Милорд поднимает Джейн на спину пони, где она сидит, держа поводья и широко улыбаясь. Мы смотрим, как грум берет лошадь под уздцы и выходит с ней во двор, где водит ее по кругу, чтобы Джейн привыкла к шагу пони. Девочка чувствует себя при этом как рыба в воде.
– Смотрите, сэр! – кричит она отцу, проезжая мимо нас. Ее рыжие кудри прыгают в такт движений лошади, юбка разметалась по крупу.
– Хорошо! – отзывается лорд Дорсет, а мне говорит: – Она молодец.
– Простите мою дерзость, милорд, но вам следует позволять ей ездить верхом регулярно, – осмеливаюсь предложить я.
– Отличная идея, миссис Эллен! – отвечает он. – Она станет ездить каждый день по часу, я этим займусь.
И он занялся. Если не мешает непогода, то Джейн каждый день разъезжает во дворе на своем пони, учится ездить иноходью, рысью, брать препятствия и прямо сидеть в седле. Она это любит, и отрадно наблюдать, что они с Фиби так подходят друг другу. Кроме того, уроки верховой езды дают лорду Дорсету возможность лучше узнать свою дочь, и так приятно видеть, как он хвалит ее за отвагу.
– Ну чем не Диана-охотница, – говорит он с улыбкой, когда Джейн появляется в своей новой маленькой амазонке и шляпе с пером – наряде, который он сам для нее заказал. – Сегодня, дочка, мы поедем кататься вместе.
– О, сэр, – тревожусь я, – прошу вас, будьте осторожны. Вокруг такие опасности: скалы и откосы…
– Не волнуйтесь, миссис Эллен. Со мной ребенок будет цел и невредим. Верно, Джейн?
И он выезжает на своем могучем скакуне, ведя под уздцы лошадку Джейн. Два часа спустя они, конечно, возвращаются: она румяная и веселая, он довольно улыбается ей, глядя сверху вниз. Но я замечаю боль, тенью промелькнувшую в его глазах, и точно знаю: он, наверное, в тысячный раз жалеет, что его малышка не мальчик.
Первые вести от миледи мы получаем только спустя месяц после ее отъезда. Однако дворцовые слухи быстро разносятся повсюду, достигая и наших глухих краев, и замок уже кишит сплетнями. Мне приходится напоминать слугам и горничным, чтобы они придерживали языки в присутствии леди Джейн, и все же я уверена, что кое-что из происходящего ребенок успел уяснить. В конце концов, мы все взбудораженно обсуждали появление новой королевы всего несколько недель назад, а теперь о ней молчок.
В замке, если не во всей Англии, каждый уже знает, что четвертый брак короля складывается не лучше предыдущих трех. Будь его величество обычным человеком, его бы засмеяли за неудачи в супружеских делах. Все вокруг судят и рядят – часто в непристойных выражениях, – что же случилось на этот раз, когда он и женат-то без году неделя. Я изо всех сил стараюсь оградить Джейн от этих разговоров. Признаться, мне самой мало что известно – впрочем, как и остальным, – и до возвращения леди Дорсет я не имею возможности узнать побольше о странных событиях, происходящих при дворе.
Наступил март, и миледи возвращается. Едва ее экипаж с отдернутыми кожаными шторками с грохотом вкатывается во двор, милорд созывает всех домашних встречать ее и прислуживать ей. Но когда маркиза выходит из кареты приветствовать мужа, величественная, в бархатном плаще поверх парчового платья, отороченного мехом, и французском чепце с бриллиантами, я замечаю, что она выглядит бледной и больной, а приветствие лорда Дорсета преисполнено необычайной заботы. Когда она поднимает руки, чтобы обнять его, плащ расходится в стороны, и сразу становится ясно, почему у нее такой нездоровый вид. Заметив перемену, Джейн испуганно прячется у меня в юбках. Позже, когда мы возвращаемся в детскую, она спрашивает:
– Что случилось с моей мамой, няня? Почему она так растолстела?
– Боже ты мой, до чего смышленое дитя, – с улыбкой говорю я горничной.
Джейн стоит молча, по-прежнему желая знать, в чем тут дело.
– Твоя матушка снова ждет ребенка, – отвечаю я ей. – Вот и все. Не о чем волноваться. Бог даст, скоро у тебя будет братик, и он станет маркизом Дорсетским после твоего отца.
Джейн слушает с округлившимися глазами.
– А почему я не могу стать маркизом Дорсетским? – спрашивает она.
Я смеюсь. Надо же такое придумать!
– Но, Джейн, ты же девочка, а девочки не бывают маркизами. Так что мы должны молиться, чтобы твоя матушка родила мальчика.
Джейн задумывается:
– Это нечестно.
– Ну, тебе не угодишь, – со смехом замечаю я. – Такова воля Божия. Мы, женщины, – слабый пол, только мужчинам дано править. Оттого ты не можешь быть маркизом и оттого должна во всем слушаться батюшку.
Джейн, кажется, удовлетворена моими разъяснениями. Какой бы смышленой она ни была, она все же пока мала и обычно принимает мои слова без вопросов. На удивление, ее больше волнует происходящее с матерью. Если бы только маркиза заслуживала подобной заботы!
– Когда же родится ребенок? – шепчет Джейн.
– Судя по всему, детка, в середине лета. – Это мало что ей говорит, поскольку у нее нет еще четкого представления о времени. – Ты должна молиться о матушке каждый день, прося Господа даровать ей благополучный исход и здорового мальчика.
– Я буду молиться, – с жаром обещает Джейн. Затем, смотря мне прямо в глаза, она вдруг интересуется, родится ли мальчик и у королевы.
Я резко встаю.
– Нам пора заниматься чтением, – говорю я ей.
В тот день я узнала многие подробности происходящего при дворе. Мы с Джейн, как обычно, вернулись с дневной прогулки, и я усадила ее в спальне вышивать, прежде чем спуститься вниз. И тут появилась миссис Зуш, одна из горничных леди Дорсет, с кувшином вина, предлагая мне распить его за починкой одежды. Миссис Зуш – горничная, чьей опеке вверен гардероб. Всегда нужно что-то шить, и в тот день она чинила прореху на одном из придворных платьев миледи.
И вот миссис Зуш и я, усевшись у огня в детской, повели доверительную беседу. Миссис Зуш ездила ко двору вместе с миледи, и мы приятно скоротали часок, обсуждая последние сплетни.
– Как же я рада вернуться, словами не передать, – заявила она. – Больше четырех месяцев при дворе выдержать невозможно. Все эти важные дамы и господа, готовые передраться за место. А что они говорят друг о дружке за глаза – вы не поверите! И потом – я с утра до ночи на ногах, потому что она по сто раз на дню требует перемену платья. Но короля, кстати, я встречала довольно часто. Ни один мужчина не носит столько драгоценностей, сколько носит он. А толстый какой… Он еще больше растолстел с тех пор, как я видела его в последний раз.
– А королеву вы видели? – полюбопытствовала я.
– Не видела и не слышала. – Она понизила голос. – Ее сослали в Ричмонд. Похоже, он хочет от нее избавиться.
– Но почему? – удивилась я.
– На следующий день после свадьбы весь двор уже знал, – говорит миссис Зуш. – Король не стал делать секрета из того, что она ему не понравилась. Никто не припомнит, чтобы он говорил такие вещи о других женах, даже об Анне Болейн.
– Но что же он сказал? – допытываюсь я, откусывая нитку и встряхивая починенную сорочку Джейн.
– Когда господин Кромвель спросил его величество, как им нравится королева, король ответил, что она нравится ему не так, как прежде. Она не такая красивая, как королева Джейн, и дурно пахнет. Хуже того, он сказал, что она не девственница. Он говорил господину Кромвелю, что ощупал ее груди и другие части тела и уверен, что прежде ее познали другие мужчины, а раз так, то у него нет ни воли, ни желания вступать с ней в брачные отношения.
Я рот открыла, услышав о такой жестокости.
– Как по-вашему, это правда? То, что он о ней говорит?
Миссис Зуш покачала головой, отхлебнув вина:
– Никто этому не верит, потому что королева невинна, как дитя, и, кажется, полагает, что все так и должно быть. При мне леди Рутланд описывала миледи, как она и другие фрейлины удивились, когда ее величество хвалила короля за его доброту. Королева рассказывала, что, приходя в постель, он всегда целует ее, берет за руку и говорит: «Спокойной ночи, милая». А потом, каждое утро, он целует ее и говорит: «Прощай, дорогая». Леди Рутланд и другие ушам своим не поверили, потому что королева, похоже, и не ожидала ничего большего. Потом леди Эджкоум предположила, что ее величество, наверное, еще девственна, на что королева Анна ответила, что вовсе нет, потому как она каждую ночь спит с королем. Дамы сказали ей, что этого мало, если она хочет подарить нам герцога Йорка. Но королева не пожелала больше ничего слышать, говоря, что его величество уделяет ей ровно столько внимания, сколько ей требуется.
Я засмеялась:
– Разве бывают такие наивные женщины? Может быть, она все-таки не настолько глупа?
– По-моему, это у нее все всерьез. Но теперь она совершенно одна в Ричмонд-Паласе, в отдалении от двора. Даже ей должно быть ясно, что он ею пренебрегает. Поговаривают, что он с ней разведется, как с королевой Екатериной. Еще говорят, – и здесь миссис Зуш перешла на шепот, – что ему уж приглянулась другая.
– Кто? – удивленно спрашиваю я, снова наполняя наши стаканы. Еще одной несчастной уготовано принять бремя – и в прямом смысле тоже – королевской любви?
– Племянница герцога Норфолка Екатерина Говард. Совсем юная девочка, пятнадцати лет, но вполне себе развитая, чтобы взволновать старческие чресла. Похоже, католики ее нарочно подсовывают ему, дабы ослабить влияние реформаторов, которые возвысились со времен женитьбы короля на королеве-протестантке.
– И он правда думает на ней жениться, на этой девочке?
– Многие так считают. Его величество, как всегда, поступит по-своему. Только никому ни слова о том, что я вам тут рассказала. Миледи страшно разгневается, если до нее дойдет, что я сплетничаю. Она не потерпит неуважения к своей родне, особенно к королю.
Я заверила собеседницу, что буду осмотрительна, и наш разговор перешел на другие темы. Внезапно мы услышали, как что-то скребется на лестнице за дверью. Мы поднялись посмотреть, решив, что это может быть мышь. Я заметила, что дверь слегка приоткрыта. Распахнув ее, я обнаружила за ней малышку Джейн, которая подслушивала, стоя на коленях, и крайне удивилась моему появлению.
– Негодная девчонка! – напустилась я на нее, разозлившись больше от страха, что она могла подслушать лишнее, чем на ее непослушание. – Сейчас же отправляйся в постель и оставайся там до вечера.
У Джейн задрожала нижняя губа. Не говоря ни слова, она повернулась и стала подниматься по лестнице.
– Надеюсь, она не слышала всего этого, – сказала я, обращаясь к миссис Зуш.
– Или что не станет повторять, – отвечала миссис Зуш. – Миледи убила бы меня, узнай она, что я говорила такие вещи в присутствии леди Джейн.
Ввиду этого мы заговорили о других, менее опасных вещах.
Поздно вечером я заглядываю к Джейн. Она не спит, и в ее широко раскрытых глазах я вижу удивление пополам с недоумением.
– Пришла пожелать тебе спокойной ночи, – говорю я ей. – Хочешь пить, Джейн?
Она садится в постели, не сводя с меня тревожного взгляда, и снова я думаю о том, как много она сегодня успела подслушать. Ее слова подтверждают мои худшие опасения.
– Почему от королевы дурно пахнет, няня? И почему король ощупывал ее тело? Это ужасно. Если бы я была королевой, я бы ему не позволила. Может он отослать ее, потому что она дурно пахнет?
Я сажусь к ней на постель.
– Ты не должна была слушать, детка. Но раз ты слушала и услышала кое-что не подходящее для ушей такой маленькой девочки, то я уж постараюсь объяснить. Говорят, что королю не понравилась королева. Может быть, от нее плохо пахнет. И если так, то это оттого, что она редко моется. И может статься, король отошлет ее, но вовсе не потому, что она плохо пахнет. Для этого ему потребуется найти уважительную причину. И раз он король, то он ее найдет.
Это, кажется, удовлетворяет Джейн. К счастью, она еще слишком мала и ее мысли не задерживаются подолгу на чем-то одном. Больше она не говорит на эту тему, и я радуюсь, что мне удалось предотвратить еще более неуместные вопросы.
– Ну а нам, Джейн, – поучаю я, – не следует говорить дурное о короле, которого Господь послал править нами; так поступать грешно, и за это мы будем наказаны. Ты должна пообещать, что никому не станешь повторять того, что сегодня услышала. Не станешь?
– Не стану, – важно произносит она. – Я обещаю.
– Тогда спокойной ночи, – говорю я, укрывая ее одеялом и целуя. – Благослови тебя Бог.
Наступает середина лета, у миледи подходит срок, когда мы узнаем, что король расторг свой брак с Анной Клевской, причем при полном ее согласии – что, как говорят, он счел для себя нелестным. Ей достались пять великолепных дворцов и солидный годовой доход, в придачу к сомнительной привилегии называть себя «дражайшей сестрой его величества». Далее мы узнаем, что менее чем через месяц после развода наш влюбленный монарх женился на Екатерине Говард, чьи выдающиеся прелести он не в силах не ласкать даже на людях.
Я пытаюсь объяснить произошедшее Джейн, сидя с нею в саду и плетя венки из маргариток.
– Видишь ли, дитя мое, женитьба короля на леди Анне была ненастоящей, и потому архиепископ Кентерберийский сказал, что они вольны расстаться и вступать в брак с другими людьми.
Я избегаю, конечно, описывать, что такое настоящая женитьба, и уклоняюсь от любых упоминаний о личной гигиене леди Анны и мнения о ней его величества. Однако Джейн не проведешь.
– Разве архиепископ Кентерберийский не мог заставить леди Анну мыться? – серьезно спрашивает она, а я просто лопаюсь от смеха. О Боже, Боже! Ну и ребенок! Это сладкая крошка бывает едкой, как лимоны, которые доставляют на наши кухни из Испании, она никогда не перестает удивлять меня.
Леди Дорсет не вернулась ко двору служить новой королеве из-за своей беременности. Вместо того она занялась домом, переставляя мебель в одной комнате, заказывая новую обстановку для другой, и доводит нас до безумия нескончаемым потоком распоряжений.
– Это она вьет себе гнездо, – замечает миссис Зуш. – Она вот-вот родит, помяните мое слово.
Несмотря на кавардак в доме, я люблю это время года, когда лето в самом разгаре. Внутри прохладно, все окна раскрыты, в комнатах сладко пахнет свежей осокой, которой посыпают пол. Огонь больше не ревет в печных трубах; зато камины украшены большими цветочными гирляндами. В садах все цветет и растет, предвещая хороший урожай.
Без лишнего шума леди Дорсет производит на свет еще одну дочь. Роды проходят в течение ночи, не доставляя ей слишком больших хлопот.
На следующий день я веду Джейн повидать ее новорожденную сестру. Она лежит в колыбели рядом с кроватью матери.
– Ее зовут Катерина, в честь королевы, – говорит маркиза.
Джейн, должно быть, понимает, что мать выглядит утомленной и хмурой, потому что разочарована рождением дочери. Тем не менее девочка чудесная, совсем не сморщенная, как это бывает с младенцами. Светловолосая, с большими голубыми глазами и прелестным ангельским личиком. Джейн, разумеется, считает, что она чудо как хороша, и хочет подбодрить мать.
– Она лучше любого мальчика, – заявляет она, но реакция на ее слова не та, что она ожидала.
– Уведите ее, – сердится миледи, – она несет всякий вздор.
Я торопливо вывожу Джейн вон из комнаты.
– Ну ничего, – утешаю я девочку, видя ее испуг. – Ты же хотела как лучше. Твоя матушка просто устала и плохо себя чувствует. Идем-ка наверх, дошивать нашу красивую ночную сорочку для леди Катерины. А у меня в сундуке, может быть, найдутся марципаны.
Успокоившись, счастливая Джейн пускается вскачь по коридору, но затем, вспомнив, что хорошо воспитанная девочка вроде нее должна вести себя прилично, переходит на размеренный шаг. Мое сердце сжимается от боли за нее: она такая взрослая, но совсем еще малышка. И совсем не любима теми, кто должен ее любить.
Леди Джейн Грей
Брэдгейт-Холл, октябрь 1541 года
Мне сегодня четыре года. Миссис Эллен будит меня в шесть часов и велит читать молитвы. Я становлюсь на колени на свою скамеечку и прошу Бога сделать меня послушным и добродетельным ребенком и благословить моих родителей, но сама в это время думаю, что будет днем и что милорд и миледи для меня приготовили. Теперь я большая взрослая девочка, и мне положено есть с ними за высоким столом в большом зале, как всем взрослым. Это очень страшно, потому что нужно помнить так много разных правил хорошего тона, а я обязательно некоторые забуду, и матушка на меня разгневается. Она часто на меня сердится, хотя я изо всех сил стараюсь быть хорошей девочкой, и миссис Эллен уже сто раз мне повторяла, что можно делать, а чего нельзя. За столом нельзя говорить, если только кто-нибудь не заговорит со мной. Нельзя зевать, рыгать, ковырять в носу, вытирать пальцы о скатерть или – что хуже всего – пукать. И перво-наперво я должна помнить, что каждая трапеза – это как Тайная вечеря, так что нужно есть с такими божественными манерами, как будто я сижу в обществе самого Господа нашего.
Все это еще можно запомнить, но есть ведь и многое другое. За столом подают много блюд, но ребенку нельзя впадать в грех чревоугодия и выбирать больше двух-трех за один раз. Жирная пища, говорит миссис Эллен, слишком горячит кровь. И если вдруг у меня заболит живот, я должна сидеть тихо на своем месте и не хныкать.
Я все вертелась во время молитвы, а сейчас не могу завтракать от волнения, так что миссис Эллен, которая возится с Катериной, говорит мне, чтобы я заканчивала, потому что пора готовиться к моему празднику. Я стою смирно, вытянув руки, пока она надевает на меня много-много красивой одежды – я бы сказала, слишком много для столь жаркого дня.
– Таков обычай, Джейн. Ты должна быть одета как полагается, когда ты вместе с родителями. За столом у них будут гости, и нужно быть одетой согласно твоему положению. Леди не жалуется, даже если ей жарко и неудобно.
Прежде всего миссис Эллен облачает меня в батистовую рубашку с длинными рукавами и манжетами, шитыми золотом. Затем она заставляет меня сделать вдох и зашнуровывает жесткий, узкий корсаж, который впивается мне в живот. Следом идет нижняя юбка из гладкого кремового шелка, а поверх – зеленое бархатное платье с тугим лифом, низкой и широкой квадратной горловиной, большой широкой юбкой, открытой спереди, и длинным шлейфом. Оттого что у него широкие дутые рукава, мне приходится расставить руки, когда миссис Эллен надевает мне меховые нарукавники. Затем она застегивает у меня на талии украшенный драгоценностями пояс, к которому подвешен молитвенник. Расчесав мои длинные волосы, она заплетает их в косы и укладывает на затылке в узел. Потом она надевает мне на голову атласный чепец с накидкой из серебряной парчи, а сверху круглый французский капор с черной вуалью. И напоследок – драгоценности: цепочка жемчуга на шею, подходящая к россыпи жемчужин на платье, брошка на грудь и три кольца.
Смотрюсь в зеркало. Я одета совершенно так же, как моя матушка или другая важная дама, и похожа на маленькую женщину. Потом я с некоторым страхом вспоминаю, что и вести себя должна в соответствии со своим видом. В тесном тяжелом платье это будет нетрудно, но я едва могу двигаться. Я не смогла бы в нем бегать, и придется следить за тем, чтобы не споткнуться, наступив себе на шлейф. А чтобы капор не съезжал с затылка, придется высоко задирать подбородок.
Матушка сама выбрала для меня этот наряд. Она сказала, что хочет, чтобы я блистала и чтобы показывала наш дом с лучшей стороны. Я не совсем понимаю, что она имела в виду, но постараюсь. Хотя мне вовсе не нравится эта тяжелая жаркая одежда, жаль, что без нее нельзя обойтись. Как же я буду есть, когда и дышать-то почти невозможно? Как я буду есть, когда я так волнуюсь из-за того, что пойду обедать в большой зал. Какая жалость, что я не могу в своем простом платье и платке носиться по яблоневому саду вместе с Мег, дочкой повара!
Мег смотрит, как меня наряжают.
– Ты красивая, Джейн, – говорит она.
– Мне неудобно, – жалуюсь я.
Жаль, что я не Мег. Ей можно не учить уроков, а вместо того бегать на свободе с распущенными волосами среди полей, красть яблоки в саду и плескаться в ручье. А меня вечно заставляют вести себя, как подобает юной леди. Мег такая счастливица. Мать может отлупить ее, когда она не слушается, но зато потом всегда ее тискает и дарит гостинцы – свежие теплые плюшки или красивые ленточки, а один раз – хорошенького котеночка. Жаль, что моя матушка не такая.
– Что за прелесть это платье, – восхищается Мег. Я догадываюсь, что ей хотелось бы быть на моем месте, а мне хочется сказать ей, что завидовать здесь нечему.
– Ну, теперь беги, Мег, – обращается к ней миссис Эллен. – Ах да, и захвати на кухню вот эти тарелки, будь добра.
Мег уходит, унося тарелки.
Миссис Эллен оглядывает меня со всех сторон. Я не знаю, довольна ли она тем, что видит, или нет.
– Ну, теперь ты готова явиться в свет и пред собственной матушкой, – говорит она мне и ведет меня и Катерину вниз поздороваться с родителями.
Мы делаем так каждое утро, но мне не всегда это нравится, потому что иногда матушка бранит меня за сделанное или несделанное. Чаще всего она придирается по мелочам: заметив выбившуюся прядь волос или грязь под ногтями, она больно меня щиплет или шлепает и отчитывает миссис Эллен за то, что та меня распустила.
Иногда наши родители готовятся к выезду на охоту или к встрече важных гостей и не хотят, чтобы я или Катерина мешались под ногами. В их спальне воняет псиной, потому что собаки всегда ходят за ними по пятам. Обидно, что я терпеть не могу этот тошнотворный кислый запах, потому что люблю саму комнату, с веселым блеском огня в огромном камине, яркими шторами, полированной мебелью и портретами моей родни, которые меня приводят в восторг, особенно один – портрет моего внучатого дяди, писанный с него, когда он был молодым и красивым принцем.
Мы делаем реверанс и стоим, опустив головы, ожидая родительского благословения.
– Доброе утро, – говорит миледи.
– Доблое утло, – пищит Катерина своим детским голоском и тянет к ней пухлые ручки.
– Не сейчас, детка, – улыбается миледи. – Стой смирно, как хорошая девочка.
– Доброе утро, милорд, миледи, – говорю я, стараясь не выдать своего страха перед матушкой и пристально на нее глядя. Она красивая женщина с каштановыми в рыжину волосами и белой кожей, и сегодня на ней платье и капор, как у меня, только темно-зеленого бархата с жемчужной оторочкой, и маленький молитвенник на поясе украшен драгоценными камнями. В своем богатом наряде она похожа на королеву – на снежную королеву, холодную и далекую.
– Джейн. – Ее голос отдает стужей. В нем, как обычно, звучит нота упрека. – Подойди.
Строго оглядев меня сверху донизу, она кивает миссис Эллен и говорит:
– Хорошо.
К Катерине миледи добрее. Она целует ее в голову, треплет пушистые светлые кудряшки и поддерживает ее, пока та, хихикая, переваливается по ковру. Катерина не бывает ни в чем виновата. Мне же вечно достается.
Но сегодня матушка милостива ко мне, и мой страх почти проходит, когда она подзывает меня к себе и дает большую книгу в красном кожаном переплете. Раскрыв ее, я вижу, что она полна ярких картинок, многие из которых сияют позолотой.
– Здесь рассказы и молитвы из Библии, для твоего образования, – говорит батюшка, но я не очень понимаю, что это значит. – Когда-то эта книга принадлежала твоей бабушке, и я надеюсь, Джейн, что вскоре ты сама сможешь читать по-латыни.
– Благодарю вас, миледи, благодарю вас, сэр, – говорю я так вежливо, как только умею. Я взволнована их необычайной добротой и их подарком. В доме не так уж много книг, и я никогда не видела таких чудесных картинок, так что мне не терпится поскорее все их рассмотреть и насочинять по ним своих собственных рассказов. Еще я сильнее прежнего хочу побыстрее научиться читать, чтобы узнать, что же такое настоящие рассказы.
Пора возвращаться в детскую. Матушка отпускает меня.
– Смотри же, веди себя прилично за столом во время обеда, – напутствует она.
– Да, сударыня, – отвечаю я. Я возвращаюсь наверх, прижимая к себе мой бесценный подарок.
Без десяти одиннадцать миссис Эллен велит мне мыть руки и приводить себя в порядок. Потом мы с ней снова спускаемся по главной лестнице в холл, где слуга провожает меня к моему месту за высоким столом на помосте, у нижнего конца, куда сажают детей. Я стою за спинкой стула, пока мои родители усаживаются на своих высоких резных креслах. Затем усаживается все общество, и наш домашний капеллан читает по-латыни молитву.
Передо мной находится большое плоское серебряное блюдо, нож и вилка (с которыми я уже научилась управляться), бокал тонкого стекла из земли, называемой Венеция, маленькая солонка и салфетка, в которую завернута небольшая французская булка. По скатерти разбросаны свежие душистые травы и цветы и расставлены серебряные чаши для мытья рук. Слуга, развернув салфетку, целует ее и раскладывает у меня на коленях. То же самое он проделывает и для старого лорда, нашего соседа, который сидит рядом со мной. По другую сторону сидит миссис Зуш – она смотрит на меня с доброй улыбкой, но ничего не говорит. Многие из людей в зале, кажется, и не заметили моего присутствия.
Вдруг раздаются фанфары, и вносят первые блюда. Тут много кушаний, которые и пахнут и выглядят очень соблазнительно, – мы в детской никогда таких не едим, у нас всегда простая пища. Я выбираю себе очень вкусную жареную свинину, запеченную с пряностями, с начинкой из изюма и сливок, а в следующую перемену блюд прошу кусочек сазана и фиговый пирог. Пока я уплетаю за обе щеки, лакей все наполняет мой кубок вином, которое я не привыкла пить без воды, но так как я пересолила еду, меня мучит жажда, и я пью вино большими глотками. Вскоре у меня начинает кружиться голова и хочется по-маленькому.
Некому прийти мне на помощь. Все болтают и едят, и шум стоит такой, что им приходится кричать, чтобы расслышать друг друга. Миссис Эллен нигде не видно.
Что же мне делать? Меня охватывает паника. Что будет, если я поднимусь и пойду в уборную? Никто пока не вставал из-за стола. Прилично ли это? Крепко сжимая ноги, я в упор гляжу на миссис Зуш, но она лишь снова улыбается мне и отворачивается.
Я больше не могу терпеть. Я чуть не плачу. Какой будет ужас, если я обмочусь на людях. Мне жутко представить этот стыд и позор и наказание, которое затем последует.
Внезапно все общество встает на ноги. Я вздрагиваю. Что случилось? От удивления забыв о своем неудобстве, я слезаю со стула и тоже встаю, хотя моя голова едва виднеется над столом. В зал входит длинная процессия лакеев, несущих на широком золотом блюде огромный, ароматный, источающий пар, окутанный паром окорок. Пожилой джентльмен рядом со мной, заметив мое изумление, наклоняется ко мне:
– Это говяжье филе! Знаменитейшее из английских мясных блюд. Мы всегда приветствуем его стоя. Такова старинная традиция.
У меня чувство, что я сейчас лопну. Но вдруг меня осеняет. Расставив ноги под своими тяжелыми юбками, я как можно тише и медленнее облегчаюсь в осоку, которой посыпан пол. Затем сажусь, в надежде, что никто не заметит лужу, которую скрывают мои юбки. Или, если заметят, я молю Бога, чтобы подумали на одну из собак, которых в зале полно. Они выпрашивают объедки или просто валяются под столами.
Я испытываю огромное облегчение, наконец-то можно расслабиться, и мое бесчестие, кажется, прошло незамеченным. Я поедаю тушенные в красном вине груши и щиплю пирог с марципаном. Распорядитель велит унести тарелки и подавать пряное вино, называемое ипокрас, с вафлями. С трудом одолеваю последнее блюдо. Голова кружится, когда я встаю для молитвы. Меня зовет матушка.
Нетвердой походкой пробираюсь к ней позади гостей и делаю реверанс, моля Бога, чтобы она не заметила моих горящих щек и не обнаружила моего проступка.
– Ты можешь идти, Джейн, – говорит она. – Миссис Эллен поведет тебя на прогулку в парк, а затем садись за вышивание до ужина. Перед сном ты должна еще поучить танцевальные па.
– Да, сударыня, – шепчу я, снова приседая в реверансе. Но теперь я чувствую ужасный, предательский запах, исходящий из-под моих юбок и шлейфа. Она тоже это чувствует и хмурится. Быстро нагнувшись, она щупает бархат, а затем подносит руку к носу. Я опускаю голову от стыда. Я не смею взглянуть на миледи. Я знаю, что она в ярости.
Миссис Эллен маячит где-то позади. Гости за веселой болтовней и не подозревают, что происходит.
Матушка зовет няню.
– Возьмите этого ребенка, вымойте и переоденьте, – очень тихо велит она, – затем приведите ее ко мне в большой кабинет, где я научу ее хорошим манерам.
Миссис Эллен берет меня за руку. Я иду с ней наверх и там ударяюсь в слезы. Пока она меня переодевает, я рассказываю ей, что случилось.
– Неужели ты не догадалась потихоньку выйти? – возмущается моя няня.
– Я думала, мне за это попадет, – хнычу я.
– Теперь тебе попадет гораздо больше. Да и мне с тобой заодно. Ну вот, ты готова. Что ж, идем, чему быть, того не миновать.
В большом кабинете нас ожидает матушка, прямая, хмурая и грозная.
– К счастью, Джейн, твой позор прошел незамеченным для гостей, – холодно сообщает она мне. – Но такая большая девочка, как ты, должна думать головой. Почему ты не спросила разрешения выйти?
Конечно, где же матушке понять, что я так ее боюсь, что готова стерпеть все, лишь бы не прогневать ее. А она забыла, что сегодня мой день рождения и что я первый раз обедала за большим столом. Все, что ей важно, – так это чтобы я думала головой.
– Ты очень дурно себя вела, – говорит она, – и мой долг – наказать тебя за такое поведение.
Я стою перед ней и дрожу. Миссис Эллен – у меня за спиной.
– Приготовьте ее, – приказывает миледи, беря свой охотничий хлыст.
Миссис Эллен с несчастным видом подводит меня к скамье, укладывает поперек и поднимает мне юбки.
– Джейн, ты вела себя недостойно, – говорит матушка, – я просто потрясена тем, что юная леди твоего возраста совершила такой поступок в обществе. Надеюсь, что на будущее ты хорошо запомнишь, как следует держать себя в соответствии с твоим положением. Я верю, что это послужит для укрепления твоей памяти.
Слышу, как хлыст рассекает воздух, и затем чувствую, как он впивается в нежную плоть моих ягодиц. Я закусываю губу, изо всех сил стараясь не заплакать, зная, что это почему-то доставит матушке удовольствие. Но когда я вздрагиваю под четвертым ударом, слезы брызжут сквозь мои зажмуренные веки, и я против своей воли реву.
– Встань, – приказывает матушка. – Оправь платье. Ну, что ты должна сказать?
– Я виновата, сударыня, – всхлипываю я. – Пожалуйста, простите меня.
– Молись Господу о прощении, – отвечает она. – А теперь иди.
Брэдгейт-Холл, февраль 1542 года
Случилось что-то ужасное. Я знаю это, потому что вся прислуга приглушенно перешептывается. Но стоит мне появиться, как они замолкают, и я догадываюсь, что речь шла о чем-то неприятном.
Вскоре я узнаю, в чем дело. Я повторяю алфавит для миссис Эллен, когда в детскую входит матушка. Сделав реверанс, мы остаемся стоять, пока миледи усаживается в кресло с высокой спинкой у камина. Катерина ползает по комнате, лепеча что-то и в счастливом неведении не чувствуя сгустившегося в воздухе напряжения.
– Вы уже наверняка слышали о королеве, – обращается миледи к миссис Эллен, – но есть свежие новости, и ребенку тоже будет полезно послушать: судьба королевы – пример того, что бывает с женщиной, отвергшей добродетель. Джейн в любом случае должна это узнать, раньше или позже.
Миссис Эллен глядит на меня с удрученным видом. Я понимаю, что она уже кое-что знает о том, что говорит матушка. Я боюсь услышать что-нибудь ужасное. У окна Катерина с гуканьем тянется к тряпичному мячику на подоконнике, уйдя в свой младенческий мирок.
– Вокруг развелось много сплетен, и слухи множатся с каждым днем, – начинает матушка, – но позвольте мне изложить вам правду, как я услышала ее от милорда. В ноябре прошлого года, когда его величество и королева Екатерина вернулись из поездки на север, недоброжелатели выдвинули против нее обвинения в неблаговидном поведении. Было произведено расследование, которое, к несчастью, их подтвердило. Оказалось, что ее величество была совращена учителем музыки еще до достижения ею двенадцати лет и что позже она жила со своим кузеном, Фрэнсисом Дирэмом, как будто бы была его женой. Все это происходило, когда она воспитывалась в доме ее бабушки, герцогини Норфолкской. Очевидно, слуги дали против нее показания. Они видели ее голой в постели с Дирэмом в спальне у горничных.
Я в изумлении. Что такое «совращена»? И зачем королеве понадобилось ложиться голой в постель со своим кузеном? Как неприлично с ее стороны! Неудивительно, что теперь у нее неприятности.
Матушка глядит на меня, нахмурясь.
– Запоминай, Джейн. Этот урок ты должна выучить наизусть. Тебе уже четыре года, пора понимать. И мало того что королева была недостойна его величества, она продолжала вести бесчестную жизнь после того, как стала женой короля, сделав Дирэма своим личным секретарем. Затем, очевидно наигравшись им, она вступила в тайную связь с Томасом Калпепером, постельничим его величества. Его величество очень любил Томаса, отчего его поведение выглядит еще более отвратительным. При помощи этой противной леди Рочфорд – вы помните, жены Джорджа Болейна, которая свидетельствовала, что ее муж грешил со своей сестрой, королевой Анной, – королева устраивала по ночам свидания с Калпепером прямо у себя в спальне, и даже во время поездок. Однажды, когда король пришел к дверям ее спальни, чтобы лечь в постель со своей женой, он должен был ждать, пока Дирэм скроется по черной лестнице. В другой раз леди Рочфорд стояла на часах, пока королева принимала Калпепера в своей уборной.
В уборной? Я потрясена. Теперь я совершенно точно знаю, что королева – очень дурная женщина, заслуживающая наказания. Я бы никому не позволила войти ко мне в уборную, пока я там нахожусь. Какой ужас!
– Какое безнравственное поведение, миледи, – бормочет миссис Эллен. – Это неслыханно, так опозорить его королевское величество!
– Вот именно, – угрюмо вторит матушка. – Когда советники сообщили его величеству, что обвинения подтвердились, он разрыдался перед ними и стал призывать меч на голову той, которую так нежно любил. Милорд был при нем и написал, что это было зрелище, достойное жалости, – наблюдать, как мужество изменило королю. В результате королеву посадили под арест в Хэмптон-Корт. Она была в ужасном состоянии, стонала и плакала и один раз вырвалась у своих стражей и побежала в часовню, где король стоял мессу, в надежде смягчить его сердце личной просьбой. Она, наверное, думала, что ее чары спасут ее. Но ее поймали и, визжащую, потащили обратно, не дав приблизиться к нему.
– Она совсем юная, – замечает миссис Эллен.
– Да, – соглашается миледи, – едва семнадцать. Но достаточно взрослая, чтобы отличать дурное от хорошего.
– И все-таки, сударыня, говорят, ее никогда не учили достойному поведению. Я слышала, что ее бабушка пренебрегала ее воспитанием, а теперь вы говорите, что ее совратил учитель музыки, когда она была совсем ребенком. Да, она совершила серьезный проступок, но неужели некому ее пожалеть? Бедняжка, должно быть, вне себя от горя, помня ужасную судьбу, что постигла ее кузину, Анну Болейн.
Я и раньше слышала это имя – Анна Болейн, но его произносили только шепотом по углам, так что я не знаю, кто она и что такого ужасного с ней случилось. Мне бы хотелось вмешаться и спросить, но я не смею, потому что боюсь окрика – или еще чего похуже – от матушки.
– Разумеется, она помнит, – говорит миледи, – и оттого-то так буянила и рыдала на допросах. Она, конечно, все отрицала, но показаний свидетелей, принесенных под присягой, было достаточно, чтобы опровергнуть ее ложь.
– Ее пытали? – грустно спрашивает миссис Эллен.
– Нет. Король отослал ее в Сионское аббатство, где она оставалась все Рождество.
– Я слышала об этом, – кивает миссис Эллен. – Она до сих пор там?
– Нет. – Миледи выдерживает паузу. – Неделю назад парламент издал акт, объявляющий ее изменницей, и постановил лишить ее жизни, всех ее титулов и владений. В прошлую пятницу, несмотря на отчаянное сопротивление, ее доставили на лодке в Тауэр, и там в понедельник палач отрубил ей голову.
У меня перехватывает дух. Это ужасно, ужасно, хуже, чем в самом страшном сне. Палач отрубил ей голову. Как? За что? Она была очень дурная, но не настолько ведь, чтобы рубить ей голову. Меня тошнит. Наверное, было много крови. Я ненавижу кровь. Когда я порезала палец, кровь так и хлестала и было больно. Когда тебе отрубают голову, то это, должно быть, больнее в сто раз. Гораздо больнее, чем когда порежешь палец. Значит, должно быть гораздо больше крови. А что бывает, когда тебе отрубают голову? Ты умираешь, вот что.
Представляя себе все это, я дрожу от страха. Еще я плачу, сама не замечая как. Миссис Эллен, с побелевшим лицом, опускается рядом со мной на колени и крепко прижимает меня к себе. Потом поднимает глаза на матушку:
– Она еще мала, чтобы понять, миледи! Для нее это слишком!
Моя матушка стоит и смотрит, как я всхлипываю. В ней нет ни капли жалости, когда она стоит вот так, в роскошном, отороченном мехом платье и украшенном бриллиантами капоре. Она разгневана тем оскорблением, которое королева нанесла ее крови.
– Джейн, – строго произносит она, – ты родилась в семье, родственной королевскому дому. Люди нашего круга ведут публичную жизнь. Мы обладаем властью, положением, состоянием, но мы также имеем долг и обязанности и, как женщины этой семьи, должны быть безупречны. Если аристократка или королева грешит, подобно королеве Екатерине, она подвергает опасности наследство своего мужа, его титулы, земли и богатства. В данном случае сама королевская династия была под угрозой, ибо, если бы королева родила ребенка одному из этих изменников, она могла бы легко выдать его за ребенка короля, и тогда безродный ублюдок сел бы на английский престол. Жена обязана хранить верность мужу, адюльтер для аристократки является тяжким преступлением и справедливо наказуем смертью. Таков закон.
Я не знаю, что такое «адюльтер», но знаю, что такое «смерть». Едва я подросла, я стала интересоваться, для чего в церкви сделаны склепы, и мне объяснили. Капеллан рассказал мне, что когда Бог решает, что время жизни людей на земле истекло, Он призывает их предстать перед своим престолом в Судный день. Если они были праведные, Он посылает их в рай, где они могут жить вечно и счастливо, с Господом нашим Иисусом, Блаженной Девой Марией, среди святых и ангелов. Но если они были грешники, то Он посылает их в ад, на муки вечные. Капеллан рассказал мне, что ожидает грешников в аду, и я знаю – это правда, потому что в одной церкви в Лестере есть ужасная картина на стене, куда я даже не смею взглянуть, чтобы не видеть жестоких дьяволов, разрывающих плоть грешников своими вилами. Миссис Эллен говорит, я не должна думать об этой картине, ведь я не такая уж великая грешница, чтобы заслуживать вечного проклятия. И если я буду хорошо себя вести, и молиться, и соблюдать заповеди, и получать отпущение грехов, то попаду прямиком в рай.
Миссис Эллен говорила мне, что большинство людей умирают от болезни, или старости, или от несчастного случая, как Сэм-кровельщик, который упал с лестницы и свернул себе шею. Она рассказывала, что храбрые солдаты погибают на войне и что для многих людей умереть – все равно что заснуть, но, конечно, никого нельзя убивать намеренно, отрубая голову, особенно если он ничем этого не заслужил.
Наш король, мой внучатый дядя, приказал казнить королеву. Короли могут делать что только им вздумается – я знаю. Еще меня учили, что короли стоят выше прочих людей и им нужно повиноваться. Я никогда не встречала короля, но слышала о нем много разных историй и видела его портрет, который висит в большом зале. Он, большой мужчина, гигант в роскошных одеяниях, пузатый и рыжебородый, стоит, положив руку на бедро и расставив ноги. Вид у него пугающий, на лице страшная гримаса. По-моему, он похож на людоеда. Может быть, он и есть людоед. Он велел отрубить королеве голову. Но может быть, он сейчас грустит и жалеет об этом.
Теперь мне становится немного легче, хотя есть еще много вопросов, потому что я многого не понимаю. Но матушка уже собралась уходить.
– Дальнейшие разъяснения для ребенка я оставляю на ваше усмотрение, – обращается она к миссис Эллен, задерживаясь в дверях, – но ради бога, пусть держит язык за зубами. Если она когда-либо поедет ко двору, она не должна опозорить нас своей болтовней.
После ее ухода миссис Эллен принимается наводить порядок, убирая мои игрушки перед ужином. Мы с Катериной сидим на полу, и я помогаю ей одевать тряпичную куклу, а сама все думаю об ужасной смерти королевы.
– Давай уложим Полли в кровать, – пыхтит Катерина, встает и ковыляет к маленькой колыбели в углу. Она бережно укладывает куклу и укрывает ее, очень плотно.
– Не с головой. – Я через силу улыбаюсь. – Она не сможет дышать.
– Тебе пора спать, Катерина, – говорит миссис Эллен.
Горничная тащит протестующую Катерину наверх.
Миссис Эллен закрывает сундук с игрушками, разглаживает передник, садится в свое кресло у камина и берется за штопку.
– Ты не должна слишком много думать о том, что произошло с королевой, Джейн, – говорит она мне.
– Это ужасно, – отвечаю я.
– Ужасно, но, я бы сказала, необходимо. Она была очень глупая и очень дурная. Ей следовало наперед знать, как это опасно.
– Но чем она провинилась?
Миссис Эллен складывает крохотную рубашку Катерины, где дырка теперь совсем не видна. Она делает такие мелкие стежки, что они едва различимы.
– Поди сюда, дитя, стань рядом, – зовет она, и я подхожу, кладу ладони на мягкую ткань ее фартука.
– Миссис Эллен, как королеве отрубили голову? – Мне не терпится узнать, но в то же время страшно услышать ответ.
– Топором, Джейн.
– Таким, как Пекинс рубит дрова?
– Таким, но больше и острее.
– Ей было больно?
– Думаю, она ничего не почувствовала. Это очень быстрая смерть.
Я замолкаю. Мне хочется еще кое о чем спросить, но я знаю, что это неприлично – говорить о голых людях.
– А почему королева лежала в постели со своим кузеном? – наконец решаюсь я.
– Наверное, потому, что она считала себя его женой. Женатым людям можно спать в одной постели.
– Но она же была женой короля. Разве можно быть женой двоих мужчин сразу?
– Нет. Но говорят, будто Дирэм признался, что она прилюдно пообещала стать его женой, так что все считали, что это все равно что жена. Королева все отрицала, но она наверняка лгала, потому что люди слышали, как Дирэм звал ее «жена», а она его – «муж».
И все же мне кое-что непонятно.
– Но почему они легли вместе в постель? – Я чувствую, как мои щеки краснеют. – И совсем без одежды?
Миссис Эллен отвечает не сразу. Немного подумав, она говорит:
– Понимаешь, детка, Господь повелел, чтобы мужчины и женщины женились, чтобы иметь детей. Грешно иметь детей не в браке, потому что брак был устроен Господом, чтобы дети рождались и воспитывались по-божески, отцом и матерью. Это понятно?
Я киваю.
– Хорошо. Святое Писание учит, что Бог создал различия между мужчиной и женщиной. У них разные тела. Муж сеет семена из своего тела внутри у жены. Внутри маленького семечка живет маленький человечек, который растет в чреве своей матери, то есть у нее в животе. Там он остается девять месяцев, прежде чем родится. Ну а чтобы посеять это семечко, муж и жена должны раздеться, иначе это будет трудно.
– И как им не противно? – изумляюсь я, чувствуя, что лицо у меня пылает.
– Вовсе нет. По воле Господа, это даже приятно, хотя Он не велел делать этого вне законного брака. Ну вот, а королева изменила королю, поскольку принимала семя от других мужчин. Она совершила ужасное преступление. Она подвергла опасности королевскую династию. Это государственная измена, и наказанием всегда служит смерть.
Я кое-что припоминаю.
– Анне Болейн тоже отрубили голову?
– Помилуй Господи, что за память! – восклицает миссис Эллен. – Да, отрубили, детка, и по той же самой причине, но об этом нельзя говорить. Это было очень тяжело, большое горе для его величества и твоих родителей.
– Но кто была эта Анна Болейн?
– Она была второй женой короля, матерью леди Елизаветы, твоей кузины.
Я много слышала о моей кузине Елизавете. Она старше меня на четыре года, живет в собственном дворце с целой армией прислуги и редко бывает при дворе, потому что все время занята учением. Необычайно умная девочка, по словам моей матушки.
Миссис Эллен треплет меня по руке.
– Я слышала, что сначала он даже видеть ее не мог. Ей было только два года, когда не стало ее матери, и она осталась на попечении гувернантки. Когда она выросла из своей одежды, не было денег, чтобы купить новую, а канцлер Кромвель не хотел беспокоить короля. Но королева Джейн сжалилась над бедной сироткой и приняла ее обратно ко двору, и другие ее мачехи тоже по-доброму к ней относились, а также леди Мария, дочь короля от первой жены, королевы Екатерины. Теперь леди Елизавету всякий раз хорошо принимают при дворе. Говорят, что она никогда не упоминает о своей матери. Наверное, это и к лучшему. И она обожает своего отца, короля. Однако, Джейн, ты должна помнить, что об этих вещах нельзя болтать за стенами этой комнаты, понимаешь?
– Я понимаю вас, миссис Эллен, – серьезно отвечаю я.
В предрассветный час я просыпаюсь с криком, и встрепанная со сна миссис Эллен влетает ко мне со свечой в руках.
– Ну-ну, – шепчет она, баюкая меня в объятиях. – Это просто страшный сон.
Это и правда был очень страшный сон. Он был так похож на явь, что я проснулась, ожидая увидеть, как обезглавленная королева, вся в крови из раны на шее, слепо спотыкаясь, входит в мою дверь.
Фрэнсис Брэндон, маркиза Дорсет
Хэмптон-Корт, июль 1543 года
В толпе, забившей проход к королевской молельне, неприятно жарко. Мы все тут в дамасте и бархате, изрядно потеем и удивляемся неизбывному оптимизму моего августейшего дяди. Ибо сегодня его величество женится в шестой раз.
Стоя впереди рядом с мужем, я прижимаю к носу платок, чтобы не чувствовать запаха пота. Всего в фунте или около того от меня стоит король, в ослепительных золотых одеждах, и женщина, с которой он сочетается священным браком, – Екатерина Парр, леди Латимер. Венчает их этот подхалим архиепископ Кранмер, а среди гостей – высочайшие персоны страны.
Новая королева – это вам не ветреная девчонка вроде Екатерины Говард, но зрелая женщина тридцати одного года, с каштаново-рыжими волосами, миловидная, но не красавица. Еще она хорошая наездница и моя добрая подруга, будучи старше меня всего на пять лет. Два ее предыдущих мужа были стариками, от которых у нее не было детей, так что она хорошо подготовлена, чтобы ухаживать за моим хворым дядюшкой. Родит ли она ему сыновей – это другой вопрос. Поговаривают, что он стал таким немощным при своей огромной туше и больных ногах, что более не способен покрыть кобылку, хотя из кожи вон лезет, изображая жеребца, со всеми своими роскошными нарядами и торчащими гульфиками, больше, чем у любого другого мужчины. Но я подозреваю, что на самом деле он нуждается в теплом участии, которое только женщина может ему дать. Нянька на закате его лет. И я верю, что в Екатерине Парр с ее мягкостью, добротой и всем известной образованностью он найдет то, что ищет.
Однако при дворе хорошо известно, что леди Латимер не всегда бывает такой степенной и уравновешенной. В прошлом году, после смерти лорда Латимера, она влюбилась в лорд-адмирала сэра Томаса Сеймура, младшего брата покойной королевы Джейн. Старший брат лорд Хартфорд, достигший власти исключительно благодаря сестре, которая родила королю сына, теперь один из самых могущественных людей в королевстве. И у меня нет сомнений, что он сохранит свое высокое положение, приходясь дядей будущему королю.
Честолюбивый сэр Томас попросту завидует брату. Он ревнует к его власти и влиянию и не скрывает, что, по его мнению, лорд Хартфорд, известный своими благородными идеалами и скупостью, должен более способствовать продвижению братца. Но правда состоит в том, что смуглый красавчик сэр Томас, несмотря на свою внешность и обворожительные манеры, – беспутный интриган, которому нельзя доверять, совсем не подходящий для высокого поста при дворе. Это знают и лорд Хартфорд, и король. Тем не менее они держат этого юнца за славного парня, и он был назначен лорд-адмиралом, так что его пылкая и отчаянная натура могла найти себе полезное применение.
Сэр Томас не любил леди Латимер, мы все об этом знаем, но он, конечно, понимал, что она составит отличную партию для любого честолюбивого дворянина. Помимо того, было очевидно, что она созрела. И он, несомненно, сообразил, что после двух стариков она будет рада делить постель с молодым и здоровым мужчиной.
Еще и двух месяцев не прошло с тех пор, как мы с Кэт – нет, королевой, как я должна ее теперь называть, – сидели в ее комнатах во дворце и она рассказывала мне, как страстно она влюбилась в Томаса Сеймура.
– Мне пришлось отбиваться от него: он слышать не желал отказа, Фрэнсис, – признавалась она. – А я… я хотела его. А какая женщина не хотела бы? При его красоте и обаянии. Но когда он понял, что не сумеет соблазнить меня, он заговорил о браке. О, Фрэнсис, ты представить себе не можешь, как я обрадовалась. После старцев, которым я была больше сиделкой, чем женой, у меня будет молодой и крепкий муж! А потом король стал проявлять ко мне интерес, и Том сказал, что ему ничего другого не остается, как только уступить. Вскоре его отослали за границу с дипломатической миссией, и его величество начал ухаживать за мной всерьез.
Он не дурак, мой дядюшка. Не то что Кэт, несчастная целомудренная матрона, которая поддалась на уговоры своекорыстного проходимца.
– Когда король сделал мне предложение, – продолжала Кэт, – я заколебалась. Мне не хотелось возлагать на себя тяжесть королевской короны. Признаться, я этого боялась. Не сочти за дерзость, Фрэнсис, ибо он твой дядя, но его величеству не сопутствует счастье в семейной жизни.
– Это правда. Однако здесь не только его вина.
– Нет-нет, – поспешила согласиться она. – Но, почитая его как монарха, я не любила его, как я люблю – любила – Тома. Прости господи, но когда король попросил меня выйти за него замуж, я сказала ему, что скорее предпочту стать его любовницей, чем женой.
Ее чувства можно было понять. В нашем королевстве положение супруги короля сопряжено с большими опасностями. Женщина с сомнительным прошлым совершает государственную измену, если выходит замуж за короля, не уведомив его, что ранее вела порочную жизнь. А после замужества она должна позаботиться о том, чтобы быть, подобно супруге Цезаря, вне подозрений. Поскольку две жены моего дядюшки уже отправились на эшафот, немного при дворе найдется женщин, мечтающих о чести стать королевой.
И все же вот она, Кэт, рядом с моим дядей принимает поздравления гостей и весело сжимает его руку, идя с ним от молельни. Он мужественно ступает вразвалку на своих больных ногах, широкий и величественный в расшитой драгоценными камнями короткой мантии, под руку с Екатериной – миниатюрной в ее малиновом дамасте. В личных покоях, где все готово для праздничного пиршества, жених и невеста, широко улыбаясь, в превосходном расположении духа, протягивают руки для поцелуев, а лорды и леди, как пестрые павлины, кланяются и приседают перед ними.
– Миледи Дорсет, мы рады приветствовать вас, – произносит новая королева, когда я делаю реверанс. – Я была бы благодарна, если бы вы завтра посетили меня. В моем доме необходимы дамы вроде вас.
– Это большая честь для меня, ваше величество, – говорю я под одобрительным взглядом мужа.
– Уж Фрэнсис тебя вышколит, Кэт, – вмешивается король с улыбкой. – Строгая дама моя племянница! – Говоря так, он улыбается мне, и я смеюсь:
– Ваше величество ко мне несправедливы.
Я очень люблю моего дядю, с которым мы весьма схожи характерами. Я знаю, что многие его боятся, но ко мне он всегда относился по-доброму, и я полагаю, это оттого, что я говорю с ним откровенно и знаю, как к нему подойти, я выявляю самое лучшее, что в нем есть. Я еще помню, каким он был задолго до того, как его ожесточили бесконечные неприятности в семейной жизни и страх за судьбу престола, и я до сих пор способна разглядеть что-то от прежнего блестящего молодого атлета сквозь складки жира и распухшее до безобразия лицо.
Король приглашает нас сопровождать его на завтрашней охоте, затем они с невестой отходят к другим гостям. Вдруг я оказываюсь рядом с Анной Клевской, от которой по-прежнему идет запашок и которая приветствует меня на своем гортанном английском, иронически поглядывая в сторону королевской четы.
– Нелегкое бремя взвалила на себя мадам Екатерина! – бормочет она.
– Я уверена, что она справится, – парирую я. – Его величество о ней самого лучшего мнения.
– Такого же мнения он был и о прежней королеве, и о тех, что были до нее, – отвечает Анна. – За исключением меня, конечно. – Она улыбается. – Но я не жалуюсь. И я рада, что мой дорогой брат наконец-то нашел свое счастье.
Не секрет, что принцесса Клевская совсем не огорчилась, когда король так бесцеремонно от нее отделался. Она прилично на этом разбогатела и теперь живет в свое удовольствие вдали от опасных дворцовых интриг. И сохранила голову на плечах!
Натянуто улыбаюсь в ответ. Я не в восторге от германской принцессы с ее колкими замечаниями. Ей все-таки следует помнить, что она разговаривает с племянницей самого короля. И тут Анна внезапно хватает меня за руку.
– Надеюсь, я вас не обидела, – выкручивается она. – Уверяю вас, его величество очень славно со мной обошелся, очень щедро. Я счастлива быть его дражайшей сестрой и жить в этой чудной Англии.
С поклоном я отхожу от нее, думая про себя, что мой дядя не преувеличивал – эта женщина ужасно пахнет. Неужели у нее на родине не принято менять нижнее белье?
Я иду к мужу, который поглощен разговором с моими кузинами, леди Марией и леди Маргаритой Дуглас, подружкой невесты.
– Уверен, что вы рады за вашего батюшку-короля, который сделал такую удачную партию, – обращается Генри к Марии, а я тем временем занимаю свое место рядом с ним.
– Это благодать Божия после того, что было прежде, – отвечает она, тараща на него близорукие глаза.
Марии двадцать семь лет, она на год старше меня; но если я крепкая и здоровая, то она маленькая и тощая, давно увядшая от горя и разочарования, ее мучат хвори, истинные либо надуманные. Сегодня на ней узорчатое платье темно-желтого дамаста с кистями и белыми батистовыми подрукавниками, отороченными бархатной малиновой тесьмой. Ее вьющиеся рыжие волосы с пробором упрятаны под французский капор, тонкие пальцы нервно теребят золотой молитвенник, висящий на ленте, прикрепленной к поясу.
Мне искренне жаль Марию, но я не могу на нее не злиться. У нее была тяжелая жизнь, король и вправду жестоко с ней поступил, когда развелся с Екатериной Арагонской, но девчонка сама проявила непозволительное упрямство, отказавшись признать, что брак ее матери был незаконным[5]. Такая дерзость никому не сходит с рук. Так что король держал ее отдельно от матери, чтобы привить ей послушание. Он не позволял Марии навестить Екатерину, даже когда королева находилась уже при смерти. Вместо того Марию объявили незаконнорожденной, плодом кровосмесительного союза и определили фрейлиной к Елизавете, новорожденной дочери Анны Болейн. Удивительно, но Мария, у которой ее приниженное положение отняло возможность выйти замуж и стать матерью, вскоре нежно привязалась к Елизавете. И отнеслась к ней с сочувствием, когда Елизавету, в свою очередь, объявили незаконнорожденной после падения Анны Болейн. Еще более удивительно, что эти сестры, несмотря на смертную вражду матерей, имеют так много общего и так искренне преданы друг другу. Более того, обе очень любят своего брата Эдуарда.
Младшие дети короля здесь не присутствуют. Принц Эдуард, которому уже исполнилось пять лет, находится в Хаверинге, а леди Елизавета – в Хатфилде. Они пропускают такой веселый праздник потому, наверное, что его величество, как всегда, опасается, что они подхватят какую-нибудь заразу при близком общении с придворными.
Когда я подхожу к буфету, чтобы положить себе на тарелку глазированный марципан и засахаренные апельсины, музыканты в углу начинает играть размеренную павану. Но никто не танцует. Все галдят, кубки наполняются вином, вельможи расхаживают по комнате, сбиваясь в группки. Король сидит на своем троне, новая королева – на кресле справа, и приглашает избранных придворных побеседовать с ними. Время от времени он берет руку невесты, подносит к губам и целует, и его голубые глаза при этом лучатся похотью. При всей его немощи, в моем дяде сохранилось еще многое от молодого Адама, и я не сомневаюсь, что он при первой возможности потащит Кэт в постель.
Я наблюдаю за этими трогательными заигрываниями краем глаза, обсуждая событие дня с Генри и графом Хартфордом, братом покойной королевы Джейн, и вдруг резко переношусь в мир политики, потому что его светлость переводит разговор на животрепещущую тему:
– Вы слышали о договоре, Дорсет?
– О договоре? – удивляется Генри.
– Тогда лучше помалкивайте, – говорит Хартфорд, понижая голос и наклоняясь к нам, чтобы мы могли его расслышать. – Его величество только что подписал договор с шотландцами о помолвке принца с их маленькой королевой.
Я просто сражена. Прошлым летом шотландский король Яков Пятый умер, оставив на шотландском престоле свою малолетнюю дочь Марию[6]. Я знала, что мой дядя строит планы женить на ней принца и таким образом объединить Англию и Шотландию под властью Тюдоров, и мы испугались, когда услышали, что он отправил посланцев в Эдинбург к королеве-регентше просить руки ее дочери, но я никогда не думала, что шотландцы ответят согласием. Это жестокий удар для нас с милордом, давно лелеявших надежду, что Эдуард женится на нашей Джейн, и теперь я через силу выдавливаю из себя улыбку.
– Конечно, – продолжает Хартфорд, – шотландцам это не по нраву, но у них нет сил сопротивляться. Существуют опасения, что вдовствующая королева попытается попросить помощи у Франции, чтобы разорвать договор, но она должна понимать, что это означает войну.
– Она женщина, – замечает милорд, – а женщины не могут судить о таких вещах.
Я хотя и бросаю на него пронзительный взгляд, но не так глупа, чтобы затевать с Генри споры на людях. Он бывает такой бестактной свиньей. Может, я и женщина, но держу пари, что понимаю в этом больше, чем он. Тонкость никогда не была его сильной стороной.
– Когда же состоится свадьба? – спрашиваю я лорда Хартфорда.
– Не ранее чем через несколько лет, конечно. Его величество помнит, что его брат Артур умер, женившись слишком молодым. Полагали, что он надорвался в постели. Но король просит, чтобы королеву шотландцев привезли ко двору, дабы дать ей образование.
– Думаете, шотландцы согласятся? – спрашивает муж.
– Возможно, у них не останется выбора, – хмуро отвечает Хартфорд.
Когда он отходит к другому кружку придворных, мы с мужем наскоро переговариваемся.
– Генри, какой ужас, – бормочу я, – но если мы будем терпеливы, то все, может, образуется. В конце концов, принц еще мал, и много еще воды утечет, прежде чем он сможет жениться.
Милорд кивает, сжимая мою руку.
– К тому же, дорогая, мы знаем, что королевские помолвки часто расстраиваются.
– Я стану молиться об этом, – решительно говорю я.
Ночью, лежа в постели в наших придворных покоях, я не сплю, а размышляю о сложившемся положении. Мой мозг бурлит, я протягиваю руку поверх одеяла и нащупываю ладонь Генри.
– Ты не спишь, муженек? – шепотом спрашиваю я, стискивая ее.
– Спи, Фрэнсис, – стонет он, пробуждаясь от глубокой дремы, которая неизменно следует за удовлетворением похоти.
– Нет, я не могу уснуть. Мне не дает покоя этот договор. Но я надеюсь, что даже сейчас нашу дочь можно сделать королевой.
– Давай оставим это до утра, – бормочет он.
– Нет, Генри, послушай. Если принц женится на шотландской королеве, что будет с нашей Джейн? За кого ей тогда выходить замуж? Партии, равной этой, не отыскать.
Генри поворачивается лицом ко мне и притягивает меня к себе в объятия. Я уютно прижимаюсь щекой к его волосатой груди.
– Не волнуйся, милая, – мурлычет он, – все будет хорошо, я уверен. Вот увидишь.
Его глупая самоуспокоенность злит меня, и я сажусь, дабы лучше объяснить ему свою точку зрения.
– Генри, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы расстроить соглашение с шотландцами, – говорю я ему. – Ты будешь меня слушать или нет?
Вздохнув, он откидывается на подушку:
– Ладно, Фрэнсис. Я слушаю.
– Вам, милорд, следует остаться при дворе. Ваш голос должен вносить раскол в ряды тех, к чьим советам прислушивается король. Вы просто обязаны убедить моего августейшего дядю, что шотландцы – вероломные предатели, которые и не собираются отдавать свою королеву за его сына, а вместе с ней и свою независимость, и что дорога к алтарю будет почти наверняка полита кровью. Конечно, его величество может не прислушаться, но попытаться стоит. Все стоит испытать.
– Я сомневаюсь, что король меня послушает, – говорит он. – И я собирался в Брэдгейт на охотничий сезон. Все уладится само собой.
– Ты бы лучше остался здесь и помог всему уладиться, – твердо говорю я. – Конечно, тебе понадобилось уезжать на охоту, когда так много стоит на карте. Иногда я просто тебя не понимаю. Я не могу давать советы королю: я женщина. А ты можешь. А я со своей стороны подумаю об образовании Джейн. У нее хорошая голова, и ей пойдет на пользу такой режим занятий, как у леди Елизаветы. И поскольку король дает хорошее образование своим дочерям, он, конечно, захочет, чтобы невеста его сына была образованна не хуже. Я привезу Джейн в Лондон и представлю ее его величеству. Мы должны обеспечить ей все преимущества.
– Это не будет для нее преимуществом, если шотландская партия расстроится, – замечает Генри. – Мужчины в большинстве своем не хотят жениться на умных.
– Ерунда! И наша партия не расстроится! – резко возражаю я. – Твой долг об этом позаботиться. А я исполню свой долг. Раз ты беспокоишься, как бы Джейн не стала казаться слишком умной, я продолжу прививать ей женские добродетели, то есть скромность и послушание. Все упрямство – а я знаю, что оно в ней сидит, – будет из нее выбито. Я сделаю ее в первую очередь покорной и смиренной пред волей ее будущего мужа. Тогда она будет готова принять не только великое будущее, которое, без сомнения, ее ожидает, но и любое другое, что Господь пошлет ей, если ты не исполнишь своего долга.
– Фрэнсис, ради бога, умерь свой пыл, – ворчит Генри.
– Я делаю это для всех нас, – говорю я. – Разве ты не хочешь подняться выше благодаря этому браку? Ты ведь не меньше моего хочешь, чтобы наша дочь стала королевой. Я полагаюсь на тебя, Генри. Бог помогает тем, кто помогает себе сам, и с Его помощью мы обязательно это исполним, я тебе обещаю.
Леди Джейн Грей
Вестминстер, август 1543 года
Мои родители прислали за нами, велев всем вместе с прислугой переезжать в Лондон, чтобы поселиться в Дорсет-Хаусе, нашей городской усадьбе у Вестминстера. Дом с внутренним двором построен не меньше ста лет назад, но милорд и миледи недавно и задорого его обновили. Теперь там уютные комнаты с обшитыми льном стенами, богатыми гардинами и полированной дубовой мебелью и наш семейный герб в оконных стеклах. Вокруг дома разбиты сады, но они маленькие, если сравнивать их с садами в Брэдгейте, в окружении чудесных обширных парков и отвесных скал.
Миссис Эллен не слишком здесь нравится.
– Тут нездоровый для вас, детей, воздух, не то что в Лестершире, – ворчит она. – А Лондон такой грязный, шумный, многолюдный. А Вестминстер? Подумать только, сколько болезней кишит в этих темных узких улочках. А дома – некоторые просто лачуги! Нет, это не место для детей, да и вообще плохое место.
Мне так не кажется. Мне нравится Лондон. Здесь так много можно увидеть и услышать, столько всего происходит, столько новых впечатлений. В кои-то веки я разделяю мнение матушки, а не няни, ибо миледи настояла, чтобы нас каждый день подолгу водили гулять и мы могли бы посмотреть город.
После Брэдгейта Лондон кажется мне огромным, но увлекательным. Я зачарованно разглядываю его жителей – богатых купцов и их жен, подражающих аристократам, в бархате и мехах с золотыми цепями; пухлых священников в черных и белых рясах с распятьями, отделанными драгоценными камнями, всегда готовых одарить благословением хорошо одетого ребенка; крикливых уличных торговцев, в грубых домотканых и шерстяных одеждах, сующих мне пирожок, пока миссис Эллен выбирает товар; нищих, лежащих на улицах, оголяющих свои язвы и обрубки, клянчащих подаяние и с благодарностью принимающих от меня пенни. Я уже сбилась со счета, сколько церквей я увидела, в скольких лавках я побывала, сколько мне показали свертков прекрасной материи, сколько всяческих безделушек и сколько улиц мне пришлось прошагать. Я глазела на величественный дворец короля в окрестностях Уайтхолла, развалины старого замка в Вестминстере, сгоревшего много лет назад, прекрасное аббатство, носящее имя святого Петра, где коронуют всех английских монархов, и собор Святого Павла, самое большое здание из всех, что мне когда-либо доводилось видеть. Я никогда не наблюдала столько чудес в одном месте.
Но сегодня особенный день. Батюшка ведет нас в типографию, которую основал мастер Уильям Какстон примерно семьдесят лет назад. Милорд объясняет нам, что раньше она находилась возле Вестминстерского аббатства, но после смерти господина Какстона его печатный станок унаследовал Винкин де Ворд, который перевез его в дом под знаком Солнца у церкви Святой Бригитты на Флит-стрит.
Я с нетерпением ждала этой поездки, ибо уже научилась читать и писать и познала наслаждение, сокрытое на страницах хорошей книги. Я наизусть выучила истории из Книги часов, которую мне подарили на четвертый день рождения. Я вообще читаю все, что подвернется под руку: жития святых, исторические хроники, рыцарские романы, вроде тех, что о короле Артуре, или путешествия сэра Джона Мандевилля. Я поглощаю книги, как обжора – еду.
– Мистер Какстон, – рассказывает милорд, пока мы влезаем в нашу лодку, – был первым, кто стал печатать книги в Англии. Мастерству он обучился в Германии и в Брюгге, и мы ему многим обязаны. Если бы не он, у нас было бы меньше книг для чтения.
По правде говоря, я никогда не видела батюшку, читающим книгу. С ним дело обстоит так: поступай, как я говорю, а не как поступаю сам.
– А мы увидим мистера Какстона? – пыхтит Катерина, когда мы сходим возле Дома кармелитов ниже Флит-стрит и начинаем подниматься на холм.
– Не говори глупостей, – одергиваю ее я. Она еще маленькая и часто несет всякую чушь. – Мистер Какстон был бы самым старым человеком на земле, если бы это было возможно. Он давно уже умер, не правда ли, милорд?
Батюшка кивает:
– Так и есть. Он умер, когда Генрих Седьмой, ваш прадед и отец нашего короля, еще находился на престоле. Теперь другие продолжают его дело.
В типографии нас с глубоким поклоном встречает Роберт Копланд, главный печатник, который ведет нас в главное здание с высокими двустворчатыми окнами. Он показывает нам огромные деревянные прессы, прикрепленные к потолку железными реями, и демонстрирует, как они работают. Он дает нам подержать маленькие комочки сурьмы, серебристого металла, который плавят в формах, чтобы изготовить буквы.
– Ни один другой металл не дает такого ровного литья, – объясняет мистер Копланд. – Но только не пробуйте его на язык, юные леди, – он ядовит.
Нам с Катериной позволяют поместить несколько отлитых букв в гранки – металлические рамки, куда выкладывают текст. Потом нам вытирают испачканные чернилами пальцы.
– Все буквы должны быть одинаковы по размеру и высоте, – говорит мистер Копланд. – Иначе некоторые из них не пропечатаются на странице.
Я замечаю, что батюшка слушает со скучающим видом, а когда мистер Копланд ведет нас в комнату больше первой, где расположены полки, уставленные многими сотнями книг, милорд подавляет зевок.
– Большую часть напечатал мистер Винкин, – говорит мистер Копланд, пока батюшка с тоской оглядывается вокруг. – Он напечатал не менее шести сотен названий. Также у нас тут имеются ксилографии его изготовления. – Он дает нам листы бумаги, где изображены сцены из «Золотой легенды» и «Кентерберийских рассказов». – А здесь у нас первые издания некоторых книг, напечатанных самим Какстоном. Пожалуйста, вы можете взять их с полок и рассмотреть, юные леди.
Батюшка заметно повеселел. Он обнаружил какие-то неприличные гравюры, на которых изображены толстые женщины с голыми грудями.
– Милорд, – говорит мистер Копланд, – я сочту за честь в качестве скромного свидетельства нашего уважения преподнести вам трактат об охоте «Король-охотник», сочинение самого принца Йорка, который погиб в битве при Аджинкорте более ста лет тому назад.
Улыбка на лице батюшки выдает неподдельную радость, и он искренне благодарит за подарок. Мастер Копланд не мог выбрать ничего лучше, чтобы доставить ему удовольствие, ибо охота – главная страсть в жизни батюшки.
– Взгляните сюда, миледи, – говорит типограф. История Трои, в прекрасном переплете, оказывается у меня в руках. – Это самая лучшая книга, когда-либо изданная в Англии. Ей нет цены.
Тут стоят и первые издания других книг: «Игра в шахматы», «Изречения философов», «Смерть Артура» сэра Томаса Мэлори, которую я уже знаю и люблю, и несколько книг какого-то Цицерона. Катерина тоже хочет посмотреть, но ее интересуют только картинки. А я – я хочу читать, погрузиться в мир неизведанных пока чудес.
Довольный мистер Копланд наблюдает за мной, потом снимает с полки еще один том.
– Это вам, миледи, – улыбается он, с поклоном вручая его мне. – Уверен, что вам понравится.
Я смотрю на фронтиспис. Новая копия «Золотой легенды». Я в восторге.
– Благодарю вас, сэр, – говорю я под одобрительным взглядом батюшки. – Это огромное удовольствие для меня.
Катерина выглядит немного расстроенной.
– А для юной леди, – продолжает печатник, – у меня есть буквы.
Он подает ей набор печатных формочек. Она таращит на них глаза.
– Что надо сказать, Катерина? – рычит наш отец.
– Благодарю вас, сэр, – лепечет Катерина.
– Ну то-то же! Возможно, это побудит тебя выучить азбуку.
– Надеюсь, ваша светлость как-нибудь окажет нам честь, посетив вместе с юными леди наш магазин у собора Святого Павла, – говорит мастер Копланд. – У нас там продается много прекрасных книг.
– Обязательно, сэр, – говорит батюшка, выводя нас из типографии. – Благодарю вас, хорошего дня.
Наш краткий визит подошел к концу.
На обратном пути я прижимаю к груди свою драгоценную книгу, рядом подпрыгивает Катерина, весело болтая. Ей уже три года, и она премиленькая, голубоглазая, белолицая, без единой веснушки. Мне страстно хочется, чтобы миссис Эллен нашла средство против моих веснушек и я стала такой же красивой, как Катерина. Катерина на меня не похожа: она любит играть в куклы и качаться на своей лошадке, а не глядеть в азбуку и повторять буквы. Иногда миссис Эллен на нее сильно сердится.
– И почему ты не такая, как Джейн? – спрашивает она. – Джейн – хорошая девочка. Она сидит смирно и учит уроки. А ты – ты непоседа, егоза.
В ответ Катерина только улыбается. Какая она милашка! Матушка говорит, что однажды она, такая красавица, осчастливит какого-нибудь молодца. Обо мне она никогда такого не говорит. Мне твердят, что хотя я должна выйти замуж, дабы увеличить славу и богатство нашего дома, но я слишком тощая, слишком люблю книги, у меня слишком много веснушек, чтобы окрутить мужчину. Так что я решила оставить это все для Катерины. Мне больше нравится сидеть в одиночестве и читать.
Фрэнсис Брэндон, маркиза Дорсет
Вестминстер, зима 1543 года
– Хорошие вести из Шотландии! – кричит Генри, врываясь ко мне в комнату, когда мы с управляющим проверяем счета. Я выпроваживаю беднягу вон, а заодно и моих ошеломленных фрейлин вместе с нашими тявкающими разномастными комнатными собачками. – Слушай, Фрэнсис! Шотландский парламент отказался одобрить договор. Они не хотят, чтобы их королевство управлялось из Вестминстера.
– Слава богу! – торжествую я, откладывая перо и закрывая счетную книгу.
– Король в ярости, – сообщает счастливый Генри, усаживаясь рядом со мной у дубового стола и сжимая мои руки. – Он видит, что его надежды объединить Британию рушатся, и чувствует себя оскорбленным за сына. Теперь он намерен преподать шотландцам урок и приказал лорду Хартфорду собирать армию.
– И правда обнадеживающая весть, – отвечаю я. – Есть ли вероятность, что король выиграет эту войну?
– Мы разбили их при Флоддене, – напоминает мне Генри. – Уничтожили. Но при Баннокбурне нам самим досталось. Все в руках Божьих. И лишь изменник станет ожидать поражения своего короля.
– Но именно на это мы оба и рассчитываем, не правда ли? – шепчу я, улыбаясь. – Будем надеяться, что Бог на нашей стороне.
Генри теперь редко появляется дома. Он постоянно находится при короле, не только ища продвижения и милостей, подобно любому другому придворному хищнику, но также в надежде разузнать какие-нибудь новости о «свадебном деле», как это у нас зовется. Что до меня, я провожу время с королевой, оставив дом и детей на попечении миссис Эллен. Боюсь, что она всех распустит, лишний раз не выпорет и не отругает, как требуется. Миссис Эллен – добрая и опытная няня, но она удручающе мягка.
К моему сожалению, мне не удается забеременеть. В тех редких случаях, когда мы с Генри оказываемся в постели, мы наслаждаемся совокуплением, ибо всегда возбуждали друг в друге страсть, но похоже, что Господь не внемлет нашим молитвам о сыне, иметь которого милорд жаждет больше всего. У других мужчин есть сыновья, говорит он, почему у меня нет? Если я не рожу ему сына, его титул перейдет к Джейн, точнее, к ее будущему мужу. А если наши планы осуществятся, титул поглотит корона, что сулит славному имени Дорсетов забвение. Для Генри эта мысль невыносима. Он хочет, чтобы его династия продолжалась, так что мы не должны отчаиваться. Я утешаюсь тем, что мне всего двадцать шесть лет, а женщины, как известно, способны к деторождению чуть ли не до пятидесяти. Мы не должны оставлять наших молитв – как и наших более приземленных занятий!
С севера поступают катастрофические новости. Армия лорда Хартфорда выступила на север как раз перед Рождеством, дабы, как говорят, «посвататься» к королеве шотландцев. Король приказал опустошить южные области Шотландии, грабить, жечь и убивать, не щадя ни мужчин, ни женщин, ни детей. Хартфорд ревностно следует букве его приказа. Лейт, Эдинбург, Мелроуз, Джедбург – все было разрушено и пожжено на пути наших солдат, идущих через границы к Берику, оставляя за собой след ужасающего разорения.
Столкнувшись лицом к лицу с подобными зверствами, шотландцы только окрепли в своей решимости и заключили союз с Францией, давним врагом Англии. Французы с готовностью согласились предоставить убежище малолетней королеве, которая по матери является француженкой, и ее тайком, под покровом ночи, переправили по морю, к неописуемой ярости моего дяди. Еще менее приятной для него стала весть о том, что шотландцы согласились, чтобы она воспитывалась при французском дворе как будущая невеста юного дофина, а это, к счастью, окончательно расстроило планы его величества женить на ней принца Эдуарда.
Свою радость мы можем выражать только наедине.
– Теперь для нашей Джейн путь свободен, – заявляет Генри, поднимая бокал за будущее. – Но мы должны подождать удобного момента. Хотя мне кажется, что долго ждать не придется. Его величество так оскорблен вероломством шотландцев и французов, что вполне может прийти к мысли об английской невесте для сына.
– Невесте, – подхватываю я, повторяя не единожды сказанное, – в жилах которой течет кровь Тюдоров, кузине самого наследника престола.
Милорд оборачивается ко мне и произносит:
– Я думаю, пора заняться образованием Джейн.
– Я целиком согласна. И королева любезно предложила помочь подыскать ей хорошего учителя. Разумно было бы последовать ее совету. Она проявляет большой интерес к Джейн, и ты знаешь, как усердно она печется об образовании принца и леди Елизаветы.
Признаться, я испытала большое облегчение, когда королева предложила помощь в этом деле, поскольку, хотя читаю и пишу без ошибок, совсем не увлекаюсь книжными науками и мало понимаю в хитросплетениях академических дисциплин. Я получила традиционное образование, меня обучали танцам, верховой езде, музыке, вышиванию и ведению домашнего хозяйства, как и всех девочек благородного происхождения, до того, как возникла эта новая мода учить их тем же предметам, что и мальчиков. И я этому рада – другого мне не нужно. Меня всегда занимали только охота – обычная и ястребиная, – вкусная еда и вино, любовь, наряды и светское общество при дворе.
Что же до королевы, то она как раз имеет репутацию ученой дамы. Она интересуется как новыми веяниями, так и трудами древних греков и римлян, ее хлебом не корми – дай порассуждать на богословские темы. Часто я застаю ее увлеченной дружеской дискуссией о том или ином догмате с архиепископом Кранмером и даже с королем, когда тот в настроении. Ходят слухи – не более того, – что королева, как и Кранмер, втайне исповедует протестантизм. Если это правда, то она очень тщательно это скрывает, ибо мой дядюшка в таких вещах стал консервативен, как никогда. Но она не глупа. Я заметила, что она не упускает возможности осудить папу, что, как ей известно, доставляет удовольствие королю, и всегда уступает, если дело пахнет спором.
Оттого он восхищается ее добродетелью и ученостью. Кроме того, она пользуется популярностью в народе. Тем не менее католическая клика при дворе кинула бы ее на съедение волкам, выдался бы только случай, ибо они боятся, что она симпатизирует реформаторам и, следовательно, может повлиять на короля, а это могло бы привести к еще более крутым религиозным переменам.
Я со своей стороны желаю ей всех благ, поскольку тоже втайне разделяю эти опасные взгляды. Я бы, конечно, никогда не стала с ней откровенничать. Это было бы слишком большим риском для нас обеих. Генри в курсе моих убеждений, ибо мы с ним думаем одинаково, но мы редко говорим об этих вещах, даже в уединении нашей спальни. Стены, знаете ли, имеют уши. А еретиков сжигают на кострах.
Королева Екатерина Парр
Хэмптон-Корт, 1543 год
Мои падчерицы теперь живут со мной.
– Конечно, пусть они будут с вами при дворе, – сказал Генрих, когда я стала умолять его разрешить мне вызвать принцесс к нам. – Приглашайте их, когда захотите.
Все одобряют мое решение принять их под свое крыло; но мне это вовсе не в тягость, ибо я их обеих люблю. Леди Мария всего четырьмя годами моложе меня, и, несмотря на расхождения по вопросам религии – она упрямо держится старой веры и, очень вероятно, догадывается о моих истинных убеждениях, – мы с ней крепко подружились.
Бедняжка Мария! Ей двадцать семь лет, и она никак не хочет смириться со своим девством, и все же она уже выглядит старше своих лет. Она маленького роста и страшно худая, рыжеволосая, как все Тюдоры, у нее пронзительный взгляд, курносый нос и тонкие поджатые губы. В детстве она была премилой крошкой, любимицей родителей, – я помню, как моя мать, служившая когда-то фрейлиной при королеве Екатерине Арагонской, рассказывала, что они с королем души не чаяли в Марии. Но когда ее отец увлекся Анной Болейн, бедная Екатерина впала в немилость, а вместе с ней и Мария, и теперь от ее детской миловидности ничего не осталось – она увяла под гнетом скорбей и несправедливостей, что обрушились на нее в возрасте одиннадцати лет. Разлука с матерью, жестокое обращение отца, угрозы и мстительность Анны Болейн – все это сделало ее ожесточенной и подозрительной.
Также она мне призналась, что ее совесть навеки будет омрачена деянием, совершенным ею после женитьбы короля на Джейн Сеймур, когда она наконец-то почувствовала себя в безопасности.
– Королева Джейн, – рассказывала мне Мария своим глубоким хриплым голосом, – хотела, чтобы я вернула себе любовь своего отца и восстановилась в своих законных правах при дворе, но его величество выдвинул условие, что сначала я должна подписать документ, утверждающий, что брак моей матери был кровосмесительным и незаконным.
Она проговорила это через силу, со слезами на глазах. И мое сердце захлестнула жалость.
– Как я могла предать память моей матери? – плакала она, ломая руки. – Три года я упорно отказывалась признать эту содержанку, Анну Болейн, королевой. Но мужество мое иссякло, здоровье было подорвано, дух сломлен. В конце концов я уступила давлению и угрозам и подписала, и с тех пор у меня не было ни минуты покоя. Я не могу простить себе того, что я сделала в минуту слабости.
Я крепко обняла ее, шатавшуюся от горя.
– Нет, леди Мария, вы не должны себя винить, – тихо сказала я. – Клятва, данная по принуждению, не считается клятвой. Господь простит вам ваше прегрешение. – Мария не слушала. Она вырвалась из моих рук, с глазами, горящими страстью, которую я редко в них видела.
– У меня есть вера, – заявила она. – И ее никому у меня не отнять. Эту веру я получила от матери, и, храня ее, я остаюсь верна и моей матери. Она мое единственное прибежище и утешение.
Однажды в тяжкий миг совершив грехопадение, Мария никогда больше не позволит себе пойти на компромисс в вопросах веры или принципов – я в этом убеждена. Но принц Эдуард, будучи взращен в вере своего отца, что совершенно оправданно, никогда не вернется в лоно Римской церкви. И я боюсь, что Мария, не имея власти, обречена наблюдать, как старые добрые времена, которыми она так дорожит, медленно, но верно уходят в прошлое.
Хотя ей не по нраву новый порядок, Мария все-таки добра и безмерно щедра. Простые люди, помня свою любовь к ее матери и достоинство, с которым она выносила все испытания, любят ее и часто делают ей небольшие трогательные подарки – то корзину фруктов, то отрез ленты. Она обожает младенцев и детей, у нее много крестников, но, к несчастью, ни одного собственного ребенка. Я знаю, что для нее это источник большого горя. Если бы я только могла убедить короля подыскать ей мужа, то замужество преобразило бы ее.
Леди Елизавета – бойкая десятилетняя девочка, весьма уже умудренная по части того, как устроен мир. Она очень умна и сообразительна, и мне доставляет большое удовольствие следить за ее занятиями. Именно я, по просьбе короля, пригласила к ней в учителя Уильяма Гриндала, который составил для нее полную учебную программу, с преобладанием языков. Латынь, греческий, французский, испанский, итальянский, даже валлийский. Помимо других талантов, Елизавета имеет редкий дар к изучению языков, она уже изъясняется довольно бегло на всех, а также много читает классических авторов.
Я была готова окружить Елизавету лаской, помня ужасные обстоятельства, при которых она лишилась матери, но она не тот ребенок, которого так и тянет обнимать и тискать. Если у нее есть какие-то страхи и опасения, то она глубоко прячет их под маской гордой самоуверенности. И все же, пусть она не самая открытая натура, я знаю, что она сильно ко мне привязалась.
– Надеюсь, сударыня, что, в отличие от других моих мачех, вы тут задержитесь, – объявила она на днях в своей надменной манере, когда я, подойдя к ее столу, смотрела, как она, склонившись над книгами, строчит гусиным пером по бумаге. Я тоже на это надеялась, молча вознося мольбу. Я знаю, что пустилась в полное опасностей плавание.
За принца Эдуарда, которому почти шесть лет, король страшно боится. Бедного ребенка держат взаперти в его безупречно чистых покоях, под охраной армии слуг. По моему мнению, Генрих слишком его оберегает. Каждое движение принца подчинено жесткому расписанию. Иногда я осмеливаюсь спрашивать, нельзя ли Эдуарду переселиться во дворец, но…
– Кэт, – говорит мне Генрих, поднося мои руки к губам и целуя их, – я бы предпочел, чтобы мальчик не переезжал сюда, из-за риска подцепить какую-нибудь заразную болезнь. Пусть он время от времени посещает нас, но я хочу, чтобы он жил в деревне. Вот если бы у меня были еще сыновья…
Он игриво на меня посматривает. Между нами существует одно большое невысказанное разочарование. Я, конечно, понимаю, как драгоценна жизнь принца, поскольку от него одного зависит будущее Англии и продолжение династии Тюдоров. Но если бы у нас с Генрихом был сын, как изменилась бы жизнь Эдуарда! И моя тоже. Я бы тогда была спокойна за собственное будущее.
Я бы любила ребенка любого пола, но мужское семя никогда еще не оплодотворяло моего чрева. Мне тридцать один год, и в этом возрасте еще рожают детей, но мне часто кажется, что я бесплодна. Трудно сказать наверняка, ибо мой первый муж, старый лорд Бург, взял меня в жены, когда мне было четырнадцать, он был очень добр ко мне, но брачных отношений у нас не было, поскольку как мужчина он был бессилен. Лорд Латимер был не менее добр, но тоже уже немолод, и супружеский долг ему удавалось исполнить очень редко. Господь, вероятно, определил мне утешать и поддерживать стариков в их немощи!
Ну а теперь, за грехи мои, и не по моей воле – хотя мне кажется, что, в конце концов, я не так уж плохо устроилась, ибо положение королевы не лишено преимуществ (я имею в виду дворцы и поместья, которыми король одарил меня, а также возможность творить добро для людей), – я жена еще одного стареющего мужчины, который, будучи добрым и заботливым мужем, не часто способен совершить акт любви. Я спокойно лежу, раздвинув ноги, позволяя ему делать со мной все, что ему хочется, как мне и подобает, стараясь не замечать этих жалких морщинистых складок плоти, дряблых мышц и зловония, исходящего от его ноги. (Мой долг как жены менять повязки на этой ноге, что я исполняю с большой заботой и такой нежностью, которую только способна изобразить, хотя меня тошнит от мерзкой вони, источаемой гнойными язвами. К счастью, я хорошо научилась скрывать свое отвращение; бедняга, он не виноват в своей ужасной болезни, и он так благодарен мне за помощь.)
Частенько, однако, так случается, что, лежа в широкой постели с гербом Англии, вышитом на пологе, подушках и покрывале, с буквами «Г» и «K», мы только напрасно стараемся. Генрих наваливается на меня всей своей тушей, так что я едва могу дышать, и упирается в меня членом, который обычно только наполовину возбужден, и это позволяет ему не более чем проникнуть внутрь. Затем начинаются отчаянные толчки, сопровождаемые рычанием и пыхтением, но вскоре желание у него ослабевает, вынуждая его отступить со стыдом и с разочарованием. Я понимаю, подобные неудачи – огромное унижение для такого могущественного монарха, которому прежде любая женщина готова была отдаться по одному мановению королевского пальца, и всегда стараюсь сделать вид, что ничего страшного не случилось.
– Наверное, вы устали, милорд, – шепчу я, прижимаясь к нему. – Может быть, у вас болит нога?
– Нет, дорогая, я просто обременен государственными делами, – отвечает он, направляя мою руку к своему мягкому пенису. Иногда это имеет успех, и затем, когда настает время для моих месячных, он принимается с невинным выражением чаще обычного осведомляться о моем здоровье. К несчастью, мне пока нечем его обрадовать.
Итак, у короля пока нет второго сына, чтобы носить титул герцога Йорка, и принц Эдуард очень редко появляется при дворе. Он чересчур серьезный мальчик, успевший уже утратить свою прежнюю пухлость, довольно долговязый. У него узкие глаза и острый подбородок, как у его матери, а в остальном он настоящий Тюдор. Его воспитывают в полном подражании отцу, и в последний раз, когда он был здесь, мне трудно было сдерживать улыбку, глядя, как этот надменный малыш вышагивает по своей комнате и останавливается в величавой позе, любимой королем: ноги врозь, рука на бедре, подбородок высоко поднят.
– Черт возьми! – вскричал он, когда его величество сделал жест, которым обычно сопровождает ругательство. Это позабавило его августейшего родителя, но вызвало гнев его вездесущей гувернантки леди Брайан.
– Ваше высочество, вы забываете, с кем вы говорите! – негодовала она, в то время как король боролся со смехом. – Вы хотите, чтобы бедному Барнаби задали порку?
Поскольку никто не смеет и пальцем тронуть Эдуарда, если он провинится, за него расплачивается его мальчик для битья, Барнаби Фицпатрик. Барнаби – ровесник принца, из числа тех нескольких юных джентльменов, что были избраны для воспитания в штате принца. Эдуард, в наказание, должен смотреть, как его друга порют за то, чего тот не делал, и мучиться.
Однажды я замечаю, что муж внимательно разглядывает черты взрослеющего сына и его золотисто-рыжие волосы.
– Он очень похож на меня, правда? – спрашивает он.
– Ваше величество может гордиться тем, что вы породили подобного себе, – замечаю я.
– И все же я был крепче и выше в его возрасте. – Он явно встревожен.
– Милорд, не гневите Бога. Здоровье принца редко служит причиной для беспокойства, – напоминаю я ему.
– Только однажды, когда в четыре года у него открылась опасная лихорадка, – соглашается он.
– Насколько я помню, тогда он быстро выздоровел, – говорю я. – И он растет весьма подвижным мальчиком.
– Вот это меня и беспокоит, – вздыхает Генрих, глядя в окно, как Эдуард в компании других мальчиков носится за мячом. – Я бы хотел, чтобы он целиком удовлетворял свою страсть к занятиям спортом. Бог свидетель, в его возрасте я так и делал. Но признаться, Кэт, я не смею ему этого позволить, из-за страха несчастного случая. Пока он у меня один – нет.
Мы приблизились к границе опасной территории. Я почитаю за лучшее промолчать, пока острый момент не минует.
– Мне приходится ограничивать его участие ролью зрителя, – продолжает Генрих. – Что печально, поскольку он способен на многое и налагаемые запреты вызывают у него протест. Он уже хорошо держится в седле, но я могу позволить ему упражнять свои умения только на самых смирных скакунах. Он хочет научиться фехтованию, кроме того, нельзя забывать, что ему нужно учиться ремеслу ведения войны. Я знаю, что однажды этот мальчик будет командовать как армией, так и флотом, и ему необходим практический опыт, но я смертельно боюсь, что с ним что-нибудь случится. В то же время я помню, что все принцы должны владеть военными искусствами. Признаться, Кэт, я оказался в довольно затруднительном положении.
Простого решения здесь не существует. Наблюдая толкотню визжащих малышей, я чувствую, как меня накрывает волна жалости к рыжему мальчику, который должен нести такое тяжкое бремя на своих хрупких плечах.
– Но одно все же я могу для него сделать, – говорит Генрих. – Ему уже шесть лет, он слишком долго прожил среди женщин. Нельзя, чтобы он вырос мягким и женственным. Ему пора полностью переходить под начало мужчин.
У меня еще сильнее сжимается сердце от боли за дитя, потерявшее мать при рождении. Теперь это замкнутый мальчик, который редко улыбается, все время помня о своем высоком положении и предназначенной ему великой судьбе. Я решаю обязательно подобрать для него душевного и внимательного наставника, который будет добр с принцем и привьет ему любовь к учению.
В последующие недели несколько ученых мужей рассматриваются для приглашения на эту выгодную должность. Король позволил мне присутствовать во время его бесед с ними, и после мы обсуждаем и сравниваем достоинства каждого из них.
– Каково ваше мнение, Кэт? – спрашивает король.
– Я думаю, что выбор лежит между двумя, сир. Доктор Ричард Кокс и доктор Джон Чик оба хороши.
Он смотрит на меня с недоверием:
– Но они оба из Кембриджа, Кэт. А Кембридж, боюсь, кишит людьми, которые имеют крайне реформистские взгляды или даже разделяют мерзкие догматы Мартина Лютера. Вы считаете, что доктор Кокс и доктор Чик свободны от этой еретической заразы?
Втайне я надеюсь, что нет, но, конечно, не смею об этом сказать. Я это в них подозреваю. Как говорит король, Кембридж кишит такими людьми.
– Ничего об этом не знаю, сир, и, разумеется, никогда не слышала чего-либо дурного об этих блестящих ученых. Я бы не вызвала их сюда, если бы у меня были подобные опасения.
– Тогда я положусь на ваше суждение, Кэт, – говорит он, лаская мою щеку своим пухлым пальцем с кольцом.
– И я уверена, сир, что вы не пожалеете. Ученая репутация этих мужей такова, что мы не можем упустить подобной возможности.
– Совершенно верно, Кэт! – поддерживает он. – Я нанимаю их двоих.
Я мысленно себя поздравляю. Но если бы он вдруг заподозрил… Страшно даже представить, каковы были бы последствия. Я бы, конечно, все отрицала.
Затем мы проводим несколько приятных часов с доктором Коксом и доктором Чиком, составляя программу, которой будет следовать принц. Решено вначале делать упор на чтение, письмо, математику, теологию, грамматику и астрологию. Эдуард – смышленый ребенок, и я уверена, что он быстро станет делать успехи и радовать своего батюшку. Кроме того, я, к своему облегчению, узнаю, что оба его наставника предпочитают лаской, а не битьем прививать детям любовь к наукам.
Также я питаю тайную надежду, что принца еще кое-чему научат, вне королевского ведома. Что эти славные мужи сочтут долгом совести исподволь внушить юному Эдуарду, что, помимо официально одобренных церковью Англии, есть и другие пути к Господу.
Леди Джейн Грей
Гринвич-Палас, октябрь 1544 года
Сегодня чудесный свежий осенний день, и мы плывем вдоль по Темзе из Дорсет-Хауса в Гринвич-Палас. Утреннее солнце залило Лондон золотым сиянием, шпили сотен церквей благоговейно указывают вверх, в небеса. К счастью, на реке не так чувствуется городская вонь. Город величественно встает из-за широких берегов. С реки открывается лучший вид на Лондон.
Я еду в королевский дворец на встречу с самой королевой и трепещу от нетерпения и тревоги. Боюсь, что орлиный взор моей матушки, которая ждет нас во дворце, не пропустит ни единого огреха по части манер и осанки.
Мы с миссис Эллен сидим в открытой кабине роскошной лодки моих родителей. Мы обе безуспешно пытаемся удержаться на тугих подушках флорентийского бархата, пока лодка качается как пьяная, борясь с сильным течением. Над нами деревянный навес с голубыми атласными занавесками, которые сегодня откинуты, дабы мы могли насладиться свежим ветерком. Я бы лучше села на скамью с гребцами, чтобы опустить руки в воду, но я ведь дочка маркиза, так что об этом не может быть и речи. Мы с миссис Эллен нарядились в свои лучшие туалеты. Она говорит, что меня очень красит мое шелковое парадное платье цвета шалфея с нарукавниками из куницы и в тон ему французский капор с золотой тесьмой, но лиф затянут так туго, а бархатный шлейф так тяжел, а ветер вот-вот сорвет у меня с головы капор, в который я отчаянно вцепилась… Няня одета в простое платье дорогого черного шелка.
Несмотря на все неудобства, я так счастлива, ибо королева, освободившись наконец от тяжкого бремени регентства, которое она несла, пока король уезжал воевать с французами, нашла время, чтобы поговорить со мной в связи с моим дальнейшим образованием, и предложила матушке привести меня во дворец.
Пройдя пять миль вниз по Темзе, мы видим длинный Гринвич-Палас: крутые крыши и фасад ярко-красного кирпича, обращенный к реке. Потрясающее зрелище. Я глазею на высокие башни, бесконечные ряды блистающих эркеров, отражающих сияние солнца, пораженная их величием. Это поистине изумительное место.
Мы поднимаемся по ступеням королевского дворца. Камердинер в красной ливрее, расшитой инициалами «ГК»[7], провожает нас в личные королевские покои. Нас окружает невообразимая роскошь: живописные, благоухающие сады, водопады, тенистые беседки, расписные ограды и шесты для геральдических зверей, окружающие ухоженные цветочные клумбы, длинные галереи с мраморными статуями древних богов и богинь, чудесными портретами и картами в рамах, величественные парадные залы с итальянскими гобеленами и турецкими коврами – я не в состоянии охватить всего, мне не верится, что все это великолепие существует на самом деле. Повсюду блистают драгоценные камни, толпы вельмож в своих пышных павлиньих нарядах теснятся по сторонам, надеясь ухватить хоть взгляд, хоть слово или – что ценится выше всего – снискать милость короля, моего внучатого дяди.
Дворец вообще полон народу. Многие с надеждой ожидают в приемных или поспешают по важным поручениям. У каждой двери стоят стражи в бело-зеленых тюдоровских ливреях. Задумчивые или хмурые люди в длинных, отороченных мехом одеждах и черных шляпах ведут серьезный разговор и недовольно расступаются, чтобы дать нам дорогу. Церковники в своих черных рясах тащат охапки пергаментных свитков или увесистые тома. Шныряют мальчишки, у которых, вероятно, нет повода здесь находиться. Время от времени надменно проплывет модно одетая дама в сопровождении служанки.
Одна вещь особенно меня занимает, пока мы торопимся вслед за камердинером. Я замечаю, что во всех дворах кто-то нарисовал по стенам через равные промежутки красные кресты.
– Для чего это сделано, сэр? – спрашиваю я нашего проводника.
Ухмыльнувшись, он поясняет:
– Миледи, это сделано в надежде, что никто не осмелится помочиться на такой священный символ.
Чувствую, как мои щеки вспыхивают огнем. Я сожалею, что не придержала язык, особенно потому, что мы уже достигли королевских покоев и от королевы нас отделяет всего одна или две двери.
Камердинер вводит нас в приемную королевы Екатерины, где еще больше людей, желающих подать петицию, попросить протекции или просто поглазеть на ее величество, если вдруг она явится сюда. Протиснувшись сквозь толпу и распахнув дальнюю дверь с резным цветочным орнаментом, наш спутник сообщает, что только избранным разрешается проникать из этой комнаты в личные покои. До чего же удивительно, что мне, скромному ребенку, оказана бóльшая честь, чем всем этим важным дамам и господам, которые с завистью наблюдают за мной.
За нами закрывается большая дверь. В дальнем конце просторной, украшенной цветами комнаты, на престоле, под балдахином с коронами, стоит трон, покрытый красным бархатом. На троне сидит королева Екатерина, а по обе стороны от нее стоят ее фрейлины. Среди них я замечаю матушку, высокую и надменную, в платье малинового атласа с золотой нитью. Я чувствую, как ее орлиный взор впивается в меня, принуждая держаться с достоинством, подобающим моему положению. Сделав серьезную мину и потупив глаза, я приближаюсь к трону со всей грацией, на которую только способна, затем берусь за юбки и исполняю идеальный реверанс, кротко склонив голову. Миссис Эллен следует позади в нескольких шагах.
– Встань, дитя, – ласково произносит мелодичный голос. Я поднимаю голову и вижу королеву, которая тепло улыбается мне. Честное слово, я никогда еще не видела таких добрых глаз, как эти, что сейчас лучатся на простом и одновременно величественном лице, и я не могу не улыбнуться в ответ.
– Что ж, твоя матушка чересчур скромна в своих оценках, – объявляет королева. – Ты очень красивая, Джейн. Разве не так, леди? И как я слышала, тебе не терпится приступить к занятиям.
– Да, ваше величество, – говорю я под сверлящим взглядом матушкиных глаз.
– Ну тогда, – продолжает Екатерина Парр, – подойди и сядь подле, у меня для тебя хорошие новости. – Она указывает на скамеечку у своих ног, и я робко на нее усаживаюсь, стараясь держаться прямо. Королева пытается меня растормошить, восхищаясь моим нарядом и ласково касаясь моих волос и щеки. Не ожидала, что королева Англии будет со мной возиться, как моя любимая миссис Эллен. Я не знаю, как мне следует вести себя, и сижу оцепенев, безучастно принимая ласки ее величества, и слушаю ее рассказ о леди Елизавете и принце Эдуарде, об их успехах в учении.
– Ну а теперь, поскольку тебе уже семь лет и ты уже совсем взрослая, – продолжает она, – настало время начинать серьезные занятия. Твоя матушка и я обдумали это дело, и я, по счастливому стечению обстоятельств, нашла для тебя наставника. Его зовут доктор Хардинг, и он из Кембриджского университета, как доктор Кокс и доктор Чик, которые обучают принца. Доктор Хардинг прекрасный человек, он блестяще образован, и, несомненно, он тебе понравится.
Я не в силах выразить свою благодарность. У меня нет слов. Я ошеломлена добротой королевы и ее заботой обо мне. Когда я наконец открываю рот, чтобы поблагодарить ее, матушка пребольно пихает меня коленом в спину. И как только она могла подумать, что я забыла о правилах приличия? Неужели она не понимает, что я волнуюсь?
– Благодарю вас, ваше величество, – выпаливаю я.
Но королева, слегка нахмурясь, смотрит на матушку. Я догадываюсь – она заметила, что произошло. Повернувшись, она наклоняется ко мне, гладит меня по руке и тихо говорит:
– Не бойся, дитя мое. Я уверена, что ты будешь хорошо учиться. Я стану следить за твоими успехами. Доктор Хардинг будет направлять отчеты мне лично. – С этими словами она смотрит на мою матушку, и в ее взгляде нет былой доброты.
Королева велит подавать закуски и напитки и ведет нас в маленькую смежную комнату, обшитую дубовыми панелями, где в очаге уютно потрескивает огонь. На стенах висят портреты короля и женщины в английском капоре, а у камина сидят две дамы, которые поднимаются, когда входит ее величество.
– Пожалуйста, садитесь, – тепло приветствует их королева. – Здесь мы можем обойтись без церемоний. Миледи Мария, позвольте представить вам вашу кузину, леди Джейн Грей.
Я приседаю в реверансе перед уже далеко не юной, низкорослой, прямой как палка личностью в ярко-фиолетовом атласном платье, украшенном драгоценными камнями, и с крупными четками на шее. У нее рыжие волнистые волосы под жемчужным капором и грубоватое лицо с курносым носом и поджатыми губами.
– Добро пожаловать, кузина, – произносит леди Мария необычайно низким, как у мужчины, голосом. Я отваживаюсь изобразить вежливую улыбку, но ее серые глаза печальны и холодны.
– И вы, миледи Елизавета, – говорит королева, – познакомьтесь с вашей младшей кузиной.
Елизавета приветливо улыбается, но она больше похожа на взрослую женщину, чем на девочку одиннадцати лет. У нее острый подбородок, острый нос и черные пронзительные озорные глаза. Ярко-розовое платье выгодно подчеркивает стройную фигуру, а ее красивые руки с длинными аристократическими пальцами эффектно лежат на широких юбках. У нее тоже рыжие тюдоровские волосы, и я с благодарностью замечаю россыпь веснушек на ее орлином носу. Не на мне одной лежит это проклятие.
Мы улыбаемся друг другу, а королева поднимает с кресла шитье Елизаветы.
– Леди Елизавета шьет батистовую сорочку для своего брата принца, – сияет она, – хотя у меня есть подозрение, что у нее не лежит душа к рукоделию!
Елизавета смеется:
– Ваше величество очень проницательны! Для меня это трудное задание! Я бы лучше читала учебник истории или делала переводы.
– Но вы прекрасно рукодельничаете, – возражает королева.
– Говорю вам: я терпеть этого не могу, – заявляет принцесса.
– Вот ведь упрямица! – с улыбкой замечает Екатерина.
Меня поражает фамильярность в их общении. Я бы никогда не посмела выкидывать такие штучки с матушкой или даже с миссис Эллен. Малейший намек на недовольство моими занятиями был бы приравнен к преступлению и жестоко наказан. Я смотрю на мать, но она, к моему изумлению, смеется вместе с другими.
Входит фрейлина, внося вино и сладости. Шутливый разговор продолжается.
– Ну не жадничайте, леди Елизавета, – говорит королева. – Сначала нужно угостить наших гостей.
Скорчив гримасу, Елизавета садится. Стулья подвинули к огню, мы берем угощение из буфета. Королева усаживается в высокое кресло с резной спинкой и приглашает меня сесть на скамеечку у своих ног. Она потягивает вино.
– Покажи мне, как ты читаешь, – велит она, беря со стола книгу. Это мое любимое: рассказы о короле Артуре сэра Томаса Мэлори. Сев прямо, не забывая об осанке, я читаю вслух голосом на удивление твердым и ясным, изо всех сил стараясь придать своему чтению выразительность.
Увлекшись историей, что разворачивается передо мной, и сосредоточив все внимание на произнесении длинных слов, я не сразу замечаю, как открывается дверь, и только когда все присутствующие встают, понимаю, что в комнате появился великолепно одетый старик. Это огромный человек, равно ростом и шириной, тяжело опирающийся на палку. На нем золотая мантия, отороченная мехом; его пальцы унизаны кольцами. Он полон величия, но я вижу повязку, выпирающую под его тугим белым чулком.
Дамы приседают в глубоких реверансах, колышутся юбки. До меня наконец доходит, что это, должно быть, мой внучатый дядя король, который выглядит гораздо старше, чем на своих портретах, так что я следую примеру других, молясь, чтобы он не заметил моей оплошности.
– Прошу вас, леди, садитесь, – приказывает он высоким властным голосом. – Кэт, да у вас здесь веселое общество. А кто эта юная леди, которая так выразительно читает?
Он широко улыбается мне, хромая через всю комнату, чтобы занять кресло, освобожденное королевой.
– Сир, это ваша внучатая племянница, леди Джейн Грей, дочь маркиза и маркизы Дорсет, – отвечает она ему своим мягким, мелодичным голосом.
– Тогда, Фрэнсис, примите мои поздравления с такой дочкой, – обращается король к моей матушке. – Славная у вас девочка. – Он оборачивается ко мне. – Сколько тебе лет, Джейн?
– Семь лет, сир, – отвечаю я, пытаясь унять дрожь в голосе, ибо меня приводит в смятение беседа с таким великим человеком.
– Ты слишком мала для своего возраста, – замечает он. Я внутренне содрогаюсь, но он добавляет: – Но, несмотря на это, красива.
– В семье моего мужа девочки вырастают поздно, ваше величество, – говорит матушка. Я настораживаюсь: такого я еще не слышала. – Она сейчас маленькая, но потом подрастет.
Мой дядя ласково треплет меня по подбородку.
– Кровь Тюдоров, без всякого сомнения! – восклицает он, и матушка заметно приосанивается от гордости. Какое облегчение! Я произвела хорошее впечатление на короля, и она наверняка мною довольна.
Его величество поднимает своих склонившихся в реверансах дочерей и целует.
– Я смотрю, вы занимаетесь рукоделием, Елизавета, – говорит он. Тут она предпочитает помалкивать о своей нелюбви к рукоделию, лишь сладко улыбается. – А как ваша латынь?
– Я читаю Цицерона, сир, – с гордостью отвечает она. – De finibus bonorum et malorum[8]. Не желает ли ваше величество, чтобы я прочла отрывок?
Король одобрительно кивает.
– Quamquam, – начинает она, – si plane sic verterem Platonem aut Aristotelem, ut verterunt nostri poetae fabulas, male, credo, mererer de meis civibus, si ad eorum cognitionem divina illa ingenia transferrem, sed id neque feci adhuc nec mihi tamen, ne faciam, interdictum puto[9].
Я с восхищением наблюдаю за ней. Как мне хочется быть такой же умной, как леди Елизавета, чтобы понимать все, что она говорит.
Король, скорчив гримасу, изрекает:
– Gloriosus inveteratus turdus!
Все начинают смеяться. Заметив мое недоумение, он наклоняется и снова треплет меня по подбородку.
– Это означает: хвастливый старый дурак, – поясняет он с усмешкой.
– Bene loqueris, – говорит Елизавета. – Хорошо сказано! – И мы все хихикаем.
Король оборачивается к леди Марии.
– Как ваше здоровье, дочь моя? – спрашивает он.
– Боюсь, что меня опять стали мучить головные боли, сир, – отвечает она ему.
– Вы принимаете порошки, которые я велел для вас изготовить?
– Да, сир. И чувствую себя немного лучше.
– Отлично. Ну а теперь мне, может быть, удастся вас развеселить. – На лице короля появляется проказливое выражение. – Как бы вам, леди, понравилась непристойная шутка? Ничего оскорбительного, конечно, всего лишь острóта, чтобы вызвать у вас улыбки.
– Разумеется, милорд, – улыбается королева.
– Тогда скажите-ка, как определить, что у болтуна хорошо подвешен язык? – говорит он низким доверительным голосом.
Женщины прыскают от смеха. Я не вижу здесь ничего смешного, да и леди Мария выглядит озадаченной и непонимающей.
– И как же определить? – спрашивает королева.
– Нельзя просунуть палец между его шеей и веревкой! – отвечает король, смеясь и возбуждая еще большее веселье. Я вежливо улыбаюсь. Мария хмурится.
– Я не понимаю, – говорит она.
– Тогда давайте попробуем другую шутку, дочь моя. Какая разница между мужем и любовником?
– Я… я не знаю, – отвечает Мария.
– Примерно четыре часа, – бормочет король с ухмылкой. Раздаются взрывы смеха. Я по-прежнему в недоумении, равно как и Мария.
– Я сожалею, но смысл полностью ускользает от меня, сир, – говорит она.
– Ну тогда я сдаюсь, – говорит он. – Отрадно сознавать, что моя дочь столь добродетельна, что не понимает ни единой непристойности.
Он поворачивается к моей матушке, и его лицо снова становится серьезным.
– Как обстоят дела с образованием леди Джейн, Фрэнсис? Кэт кое-что мне рассказывала об этом.
Матушка только рада поведать ему о больших планах, подготовленных совместно с королевой в отношении моего образования. Особенно она подчеркивает то обстоятельство, что меня будут учить так же, как принца и леди Елизавету.
Я стою и слушаю в оцепенении, не в силах до конца поверить, что имею не только честь находиться рядом с королем и королевой, но и возможность наблюдать их простые и дружеские отношения.
Непринужденность, свободная обстановка, то, что король снисходит до шуток и смеха вместе с нами, как простой смертный, все это изумляет меня. Трудно совместить образ этого веселого старика с тем, что я ранее слышала о его величестве. Я знаю, что он не всегда такой весельчак и балагур. Матушка однажды рассказывала, что в иные дни, когда больная нога особенно его беспокоит, он становится похож на затравленного медведя, и еще говорят, что он раздает оплеухи своим советникам, если бывает ими недоволен, и что приходит в бешенство от малейшей дерзости. Это тот самый грозный монарх, который приказал отрубить головы двум своим женам, и все же вот он здесь, на моих глазах, веселый и заботливый отец, сидит со своей женой и дочерьми и обсуждает домашние дела, как простой смертный, и вовлекает всех нас в общий разговор, чтобы мы чувствовали себя свободно.
Но идиллия длится недолго. У короля назначено государственное совещание. Сердечно с нами попрощавшись, он крепко целует королеву Екатерину в губы. Вскоре после этого наступает и нам пора отправляться домой, но перед нашим уходом королева отзывает в сторону миссис Эллен и говорит ей что-то полушепотом, поглядывая на мою матушку. Матушка увлеченно беседует с другой дамой и не замечает этого.
Пораженная миссис Эллен сначала обмирает, столбенеет, но быстро приходит в себя.
– Миледи неустанно заботится о воспитании Джейн, ваше величество, – так, мне кажется, она говорит.
– Но не слишком ли она сурова? – Голос королевы раздается громче. Я отчетливо ее слышу. Моя матушка продолжает болтать, не ведая, что ее обсуждают. Я делаю вид, что изучаю портреты на стенах.
– Она строга, сударыня. Подобно многим родителям.
Королева на секунду замолкает.
– Я поручаю вам, няня, позаботиться о ребенке, – приказывает она. – Она хорошая девочка, но выглядит несчастной и не уверенной в себе. Надеюсь, что я ошибаюсь в своих подозрениях. В таком случае прошу простить меня.
– Уверяю ваше величество, я делаю все, что в моих силах, для счастья леди Джейн, – тихо говорит миссис Эллен.
– Охотно верю, – улыбается королева. – А теперь идите, а то вам попадет.
– Мне понравилась королева, – говорю я матушке, когда она провожает нас вниз, через сады на причал, где нас ожидает лодка. – И его величество.
Но миледи не слушает:
– Миссис Эллен, я заметила, что у Джейн плохая осанка. Она часто сутулится, и у нее так искривится спина или вообще вырастет горб. Предлагаю вам надевать ей корсет.
– При всем уважении к вам, сударыня, – отвечает миссис Эллен, – ей еще рано носить корсет.
– Ерунда! – взрывается миледи. – Я в ее возрасте носила корсет из кожи с железными спицами!
– О нет, миледи, прошу вас, не заставляйте меня носить корсет! – плачу я. – Я буду держать спину прямо, обещаю!
– Помолчи, девочка! – шипит миледи.
– Сударыня, пожалуйста, помните, что Джейн пока еще только ребенок, – говорит миссис Эллен.
– Миссис Эллен, вы слишком много себе позволяете. Вы подаете плохой пример ребенку, когда перечите мне. Вы слишком ее распустили, она склонна выбирать легкие пути. Мой материнский долг – дать ей хорошее воспитание. Я не собираюсь с вами объясняться, скажу только, что не потерплю, чтобы она появилась при дворе с сутулой спиной. Вы закажете корсет у моего портного и проследите за тем, чтобы она его носила. А теперь прощай, Джейн. Будь хорошей девочкой.
Я опускаюсь на колени на траву для благословения и затем, после ее ухода, поворачиваюсь к миссис Эллен со слезами на глазах.
– Все хорошо, овечка моя, – говорит она, обнимая меня за плечи. – Я закажу этот корсет, как велит ваша матушка. Но только вы должны держать спину, чтобы она не догадалась, что вы его не надеваете. – Она улыбается мне и говорит: – Это будет наша маленькая тайна.
– Миссис Эллен, как я вас люблю, – говорю я. – Гораздо сильнее, чем матушку.
– Помилуй Боже, что вы такое говорите, дитя мое! Это ваш долг – любить свою матушку!
– Да, я знаю, но я не люблю ее так, как вас, – упрямлюсь я.
– Нельзя так говорить, – осуждает миссис Эллен. Но вид у нее все равно довольный и счастливый.
Позже, глядя, как вечернее солнце отражается в покрытой легкой зыбью воде, пока наша лодка везет нас обратно в Дорсет-Хаус, я всем сердцем желаю, чтобы королеве Екатерине как-нибудь пришло в голову снова пригласить меня во дворец. От мыслей о ней внутри у меня разливается чудесное тепло. Я словно бы и впрямь полюбила ее, несмотря на такое краткое знакомство. Она обладает редкой добротой и мягкостью. Я знаю, что я тоже ей понравилась, и у меня сильное предчувствие, что она будет ко мне приглядываться на будущее. В конце концов, посмотреть только, что она сделала для королевских дочерей. Она вернула им семью. Мне бы хотелось однажды стать ее фрейлиной. Нет ничего более приятного, чем жить под защитой этой лучезарной и великодушной леди.
Брэдгейт-Холл, ноябрь 1544 года
Итак, мое образование начинается всерьез. Доктор Хардинг – приятный, но строгий молодой человек, с сухими чертами лица и уже лысеющий под изящной черной шапочкой. Своей страстной любовью к знаниям он заражает и меня. Он знаток языков, и поскольку я к языкам весьма способна, он учит меня латыни, французскому, испанскому, итальянскому и даже греческому. Его радует, что я быстро все усваиваю, и он часто меня хвалит. Мои родители получают от него регулярные отчеты о моих успехах, чем они, наверное, довольны, ибо никогда не задают вопросов.
Каждый день ко мне приходит учитель чистописания, под чьим началом я постигаю хитрости недавно вошедшего в моду курсивного письма. Я читаю все, что под руку попадется, – книги по программе, многих классических авторов и прочие, которые мне дают.
Еще он просвещает меня по части вопросов религиозных.
Стоит солнечный осенний день, но в маленькой классной комнате по соседству с зимними покоями, как обычно, пылает огонь в камине, и бедный доктор Хардинг обливается потом в своей шерстяной с мехом мантии, которую он надел, думая, что будет холодно. Но ум его занят другими вещами.
– Я кое-что принес, чтобы показать вам, Джейн, – говорит он, – но при условии, что вы обещаете хранить это в секрете и никому не рассказывать о том, что видели, потому что иначе мне несдобровать.
– Я никому не скажу, доктор Хардинг, – обещаю я, желая скорее увидеть то, что нужно хранить в секрете. Он лезет к себе в суму и достает большую книгу в переплете из тонкой кожи, которую открывает на титульном листе.
– Это, Джейн, Библия по-английски, в новом переводе господина Ковердейла. Думаю, ее чтение доставит вам радость и удовольствие.
– А почему вам несдобровать, если вы мне ее покажете? – спрашиваю я.
Он вздыхает:
– Король совсем недавно разрешил читать Библию по-английски. Теперь во всех церквах к скамьям прикованы английские Библии по приказу его величества, но женщинам запрещено их читать.
– Почему это? – спрашиваю я с некоторым возмущением.
– Только мужчинам дозволено трактовать Священное Писание, – объясняет доктор Хардинг.
– Но я же смогу прочитать вот это, – я указываю на историю Адама и Евы, – и все полностью понять.
– Конечно, Джейн, – утешает доктор Хардинг, – но кто осмелится перечить королю?
Он переходит к Новому Завету.
– Обещаю, что вы прочтете это, Джейн, потому что, изучая Священное Писание, мы постигаем вечные истины. Давайте сначала обратимся к евангелиям.
Мы поглощены чтением, когда раздаются шаги. Пока миссис Эллен открывает дверь, доктор Хардинг спешно перекладывает Библию к себе на колени, под стол, и придвигает книгу по истории, которую мы должны изучать.
– Обед готов, мисс Джейн, – объявляет миссис Эллен.
После обеда мы продолжаем чтение Евангелия от Матфея. Это первый из многих тайных уроков с Библией в переводе Ковердейла, и я безмерно благодарна доктору Хардингу за то, что он оказал мне такую честь. Вскоре я уже хорошо знаю и люблю Священное Писание, приносящее мне огромную радость и утешение.
Еще я страстно люблю музыку, как водится в семье Тюдоров, но моей матушке нет до этого дела. Однако, оттого что придворной даме необходимы подобные умения, меня учат игре на лютне, арфе и лире, и я уже освоила многие мелодии.
– У вас неплохо получается, – говорит мой учитель музыки. Он старый, толстый и воняет луком. Вспомнив, что Екатерина Говард, когда ей было всего одиннадцать лет, состояла в постыдной связи с учителем музыки, я содрогаюсь от возникающей в воображении картины.
– Сыграй мне, Джейн, – скажет матушка, входя в классную комнату днем. Она посидит, напряженно вслушиваясь, затем кивнет, встанет и уйдет. Она никогда меня не хвалит. Меня немало огорчает, что матушку не интересует ничто другое, помимо умения подобрать на лютне модную песенку, и что она не понимает, почему мне хочется гораздо большего.
– Ты слишком много времени проводишь за музыкой, – упрекает она меня. – У тебя не останется времени на другие занятия. – И посему на музыку она отпускает всего полчаса в день, чего мне, конечно, недостаточно. Я знаю, что протестовать бесполезно, и потому действую тайком, стараясь улучить минутку, чтобы потрафить своей любви к музыке.
– Но, миледи, Джейн музыкально одарена, – возражает доктор Хардинг.
– Все может быть, – отвечает она, – но ей от этого нет никакой пользы. Женщин, сочиняющих музыку или поющих, никогда не воспринимали серьезно. – Вот и все. Дальнейших возражений она не потерпит.
О чем она особенно печется, так это об уроках танцев.
– Важно, чтобы юная леди, которой в будущем предстоит стать украшением двора, умела танцевать, – говорит она со значением. Она гордится своей собственной грацией и мастерством. Так что каждый день после полудня, под музыку музыкантов нашего ансамбля, играющего на галерее, я повторяю па, танцуя оживленные бурре, медленные гальярды и степенные паваны.
И так, за молитвами, уроками, трапезами, рукоделием, расписанными по часам, проходят мои дни. По счастью, мне нравится установленный для меня режим, и я рада быть постоянно занятой. Получать новые знания и умения – это увлекательное приключение, и впервые я чувствую себя счастливой.
Время от времени матушка приезжает из дворца домой. Она нужна была королеве летом, когда его величество сражался во Франции, но теперь она снова явилась в Брэдгейт, и в доме воцаряется суматоха.
Сегодня она отменила занятия во второй половине дня.
– Одной из главных обязанностей знатной дамы является благотворительность, – объясняет она мне и Катерине. – Сегодня я собираюсь раздать милостыню бедным жителям наших земель, а вам, девочки, будет полезно сопровождать меня. Вы поймете, как вам повезло в жизни, и научитесь исполнять свой христианский долг.
Миссис Эллен, прежде чем одеться самой, закутывает нас в плащи, натягивает нам перчатки, и мы следуем за миледи в кухню, где на выскобленном столе нас ожидают несколько корзин, покрытых чистой тканью. Мы относим их в нашу карету, готовую к небольшому путешествию.
– Здесь живет вдова Картер, – говорит миледи, когда карета останавливается возле убогой лачуги у подножия скалы. – Ее муж служил у нас пастухом, он умер десять лет тому назад. Я давала ей кое-какую работу в прачечной, но сейчас она прикована к постели.
Она ведет нас в домишко, где вонь немытого тела, мочи и затхлой старости просто валит с ног. Катерина держится позади, но миледи крепко хватает ее за руку и вытаскивает вперед. Я стараюсь не вдыхать.
– Мы принесли вам еды, – говорит матушка.
Древняя старуха в грязной постели пытается приподняться и сесть, бормоча слова благодарности, но миледи поднимает руку и говорит:
– Я пришла исполнить свой христианский долг, миссис, и привела с собой дочерей, дабы мой поступок послужил им примером. Благослови вас Господь.
– Спасибо, миледи, – шелестит старуха.
– Я пришлю вам горничную, чтобы она прибрала здесь, – обещает матушка и ставит корзину на стол. Затем она выплывает вон, и мы с облегчением выходим вслед за ней.
Следующий визит не столь неприятен, ибо мы дарим старую детскую одежду жене кучера, которая недавно родила близнецов. Полюбовавшись младенцами, мирно спящими в одной колыбели, мы едем дальше, в дом, стоящий на отшибе в лесу. Здесь обитает темноволосая женщина, которая с виду вполне способна сама о себе позаботиться. В очаге у нее кипит горшок с похлебкой, на потолке развешаны сухие травы, в углу – поленница дров. В доме тепло и даже чисто.
– Я кое-что для тебя привезла, Анна, – говорит миледи, вручая ей корзину.
– И у меня есть кое-что для вас в обмен, – отвечает женщина необычным голосом, как у иностранки, в котором слышится что-то загадочное. Она отдает матушке бумажный свиток, не похожий на предмет, подходящий для обмена на полученную ею провизию.
– Красивые у вас детки, миледи, – произносит она своим чудным голосом.
– Да, – соглашается матушка. Я замечаю, что Анна, в отличие от многих людей, держится с ней на равных, и миледи, кажется, воспринимает это как должное. – Благодарю тебя, – говорит она женщине и быстрее выводит нас, без обычного своего благословения.
– Сударыня, разве эта женщина больна? – спрашиваю я, пока наша карета катится к дому.
– Нет, Джейн. Но она оказала мне услугу, и я обязана ей отплатить.
– А что она сделала? – спрашиваю я.
Катерина поднимает кожаную штору, чтобы поглазеть на придорожные виды. Ее не интересует загадочная женщина.
– Это тебя не касается, – отвечает матушка, что оставляет меня в легком недоумении. Но вскоре мы приезжаем домой, а после ужина мы с Катериной играем в кегли в галерее. Я забываю об Анне и о таинственной услуге, оказанной ею матушке.
Есть одно ненавистное мне занятие, и это – еженедельная семейная охота, из-за которой отменяются все уроки. Я боюсь ездить верхом, но раз в неделю меня заставляют участвовать в погоне за оленем. Я тащусь позади, а взрослые тем временем несутся все дальше и дальше вперед с гиканьем и улюлюканьем, пока замеченная ими дичь пускается наутек. А потом всегда наступает тошнотворный момент, когда несчастное животное валят на землю и зверски умерщвляют, вспарывая ему брюхо ножом. Миледи никогда не упустит случая отчитать меня за отсутствие должного энтузиазма и брезгливость и вслух подивиться, почему я не унаследовала любовь своих родителей к кровавым забавам.
– Должно быть, – заявляет она, – ты нарочно пренебрегаешь своим долгом.
– Простите меня, миледи, – говорю я, но это все без толку. Я не могу заставить себя полюбить охоту.
Затем приходит день, которого мне никогда не забыть.
После обычной еженедельной пытки охотой батюшка в раздражении напускается на меня.
– Ты слишком робкая, дочь моя! – резко выговаривает он. – Так из тебя никогда не выйдет охотницы. Ты трусишь, верно?
Я стою, опустив голову, а он продолжает кричать:
– Господи, ну почему ты не родилась мальчиком? – Я молчу, но его слова огорчают меня. Я знаю, что мои родители глубоко разочарованы тем, что у них нет сына.
Потом милорд объявляет:
– Клянусь, Джейн, ты научишься охотиться. Думаю, тебе пора пройти крещение кровью. И это случится в следующий раз.
– Пожалуйста, не надо, – шепчу я, ибо знаю не понаслышке этот ужасный ритуал, и хотя все аристократы должны через него пройти, это чудовищно, равно для бедного зверя и молодого охотника, которого к нему принуждают.
Я уверена, что упаду замертво, когда наступит мой час, ибо мне всегда было невыносимо видеть страдания несчастной твари, и я не хочу причинять ей боль.
– Прошу вас, сэр, можно мне уйти? У меня разболелся живот. – Матушка слышит, но она не настроена проявлять мягкость.
– Молчи, – приказывает она.
– Милорд, ребенку дурно, – вмешивается миссис Эллен. – Ей становится дурно от одной мысли о крови, – сбивчиво добавляет она. Но батюшка глядит на нее как на сумасшедшую.
– Что за чушь, – говорит он, – Джейн обязательно надо окрестить кровью. И ей это понравится, клянусь! Напрасно вы обе поднимаете шум из-за такого пустяка.
Значит, решено. В назначенный день, после обеда, миссис Эллен помогает мне переодеться в бурую амазонку с лихой шляпкой с пером. Дрожа в преддверии ожидающего меня жуткого испытания, я иду в конюшни вместе с другими наездниками и сажусь на свою белую в яблоках кобылу Леди. Покорно отпив из общего кубка, протянутого мне, я послушно следую рысью за родителями. Вскоре мы уже скачем галопом по красивейшей местности, среди крутых холмов, скалистых утесов и бурных ручьев. Наша добыча сегодня – прекрасная лань, молодая и сильная. Она в веселом танце ведет нас за собой через парк и дальше – на открытый луг. Собираются черные тучи. Голубое зимнее небо темнеет, начинается сильный ливень, в считаные секунды вымачивающий нас всех до нитки. Родителям и остальным, кажется, нет до этого дела, но я с каждой секундой все сильнее коченею в своей промокшей одежде. Большего несчастья и представить себе нельзя, особенно если вспомнить, что будет потом.
В два часа дождь все еще продолжается, а лань уже повалили на землю, и мы все спешиваемся в грязь, чтобы убить ее. Несчастное раненное в бок животное лежит в луже, с тяжело вздымающимся брюхом и вытаращенными стеклянными от страха глазами. Охотники стоят вокруг, сдерживая рвущуюся и лающую свору гончих.
Батюшка вкладывает мне в руки большой нож. У него гравированное лезвие, длинное и страшное.
– Джейн, сегодня эта честь оказана тебе, – провозглашает милорд. – Смотри, чтобы рука не дрогнула!
Я сжимаю рукоять. Мне говорили, что нужно вонзить нож глубоко в грудь животного, но сейчас, когда время настало, у меня нет ни сил, ни воли для этого. Меня так трясет, что нож в моей руке ходит ходуном.
– Живей, девочка! – слышу я матушкин голос. Глаза у нее кровожадно и возбужденно блестят. Для нее это наивысшее наслаждение охоты, а я его порчу. – Давай же! – восклицает она.
Делать нечего. Крепко зажмурившись, я поднимаю нож обеими руками, моля Бога не оставить меня, и всаживаю его в упругую живую плоть. Когда я открываю глаза, я вижу, что несчастная лань бьется в смертных судорогах, а мои юбки залиты кровью. Окаменев от ужаса, я смотрю, как главный егерь, выхватив нож у меня из рук, совершает coup de grâce[10] и кладет конец мукам животного.
Но самое худшее еще впереди. Еще несколько ударов ножа, и кровавые внутренности лани, парящие во влажном воздухе, вываливаются на мокрую землю.
– А теперь ты пройдешь охотничье крещение! – кричит батюшка напряженным от возбуждения голосом, как будто убийство и жестокость доставляют ему необычайно острое удовольствие.
Я стою не двигаясь, окаменев. Я, только что лишившая жизни одно из безвинных созданий Божьих, не могу поверить, что сделала это, что стала соучастницей этой резни. Я совершенно раздавлена своим поступком. Одно дело – есть мясо оленя за обедом, другое – быть виновной в его гибели. Да, лань все равно погибла бы, кто бы ее ни прикончил, но я, конечно, никогда не забуду чувства, которое возникает, когда вгоняешь нож в живое тело и знаешь, что этот твой удар несет смерть.
Батюшка грубо толкает меня вперед, и так как я по-прежнему остаюсь глуха к его окрикам, он снова толкает меня, и я падаю на колени перед кровавой массой, которая всего минуту назад была живым оленем. Затем, схватив сзади мои руки, он сует их в теплые зияющие раны, вытаскивает, все в крови, и мажет ими меня по лицу.
– Вот так! – торжествующе кричит он. – Теперь леди Джейн настоящая охотница!
Компания взрывается аплодисментами, но тут я внезапно чувствую во рту горький вкус желчи, и меня рвет в грязь, и горячие, непрошеные слезы ручьем текут из моих глаз.
Матушка в гневе налетает на меня и рывком поднимает на ноги.
– Возьми себя в руки! – негодует она, влепляя мне жгучую пощечину. – Как ты смеешь нас подводить? Соберись. Неужели ты не видишь, что все на тебя смотрят? Что это за поведение? Имей в виду: в этом мире нельзя быть такой неженкой. Черт возьми, что же мне с ней делать?
– Успокойся, дорогая, – утешает ее батюшка, не обращая внимания на мое горе. – Я уверен, что Джейн извлечет полезные уроки из сегодняшнего дня. А если нет, если она снова выставит себя подобным образом, ей известно, каковы будут последствия.
Бросив на меня зловещий взгляд, он идет к своей лошади.
Все вскакивают в седла, и кавалькада направляется к дому. Я, дрожащая и залитая кровью, еду позади на своей белой Леди. Мои руки почти примерзли к поводьям. Я утешаю себя мыслью о том, что после первого окровления других обычно не устраивают. Но в то же время я сознаю, что еженедельные охоты будут повторяться, как кошмарный сон, и несколько раз в течение следующей недели просыпаюсь с криком от воспоминаний об этом ужасе и о страданиях несчастного животного.
Фрэнсис Брэндон, маркиза Дорсет
Брэдгейт-Холл, ноябрь – декабрь 1544 года
Мы с Генри в постели. Как всегда, возбужденные после охоты, мы наслаждаемся друг другом. Милорд – похотливый, страстный любовник, и иногда ему удается метнуть копье два-три раза за ночь, но нынче я не в духе и не могу получить настоящего удовольствия. И все по вине этой глупой девчонки, которая сегодня так опозорилась во время своего охотничьего крещения.
Кроме того, мне не дает покоя замечание Генри насчет того, что Джейн не мальчик. При всей его силе и той страсти, с которой мы предаемся любовным утехам, при всех мерах, принятых мною для того, чтобы произошло зачатие, удивительно, что все эти четыре прошедших года и даже дольше мое чрево остается бесплодным.
Лежа без сна на пуховой постели, отбросив с обнаженного тела одеяло, я замечаю, что становлюсь грузной. Я всегда любила вкусно поесть и выпить доброго вина и теперь осознаю, что потворство своим слабостям имеет последствия. Днем жесткий корсет и тугая шнуровка помогают скрыть раздавшуюся талию, толстый живот и тяжелые, отвислые груди.
Но ночью, при свете свечи…
Подняв голову, я вижу, что Генри тоже не спит и что мои дородные груди производят на него обычное впечатление. Возможно, думаю я, тучное тело – это не так уж и плохо.
Но раздумывать некогда. Он набрасывается на меня.
На этот раз наша страсть приносит плоды. К Рождеству я узнаю, что у меня будет еще один ребенок. Мы оба молимся о рождении долгожданного сына. Ах да, и не забыть бы послать на Святки подарок Анне, цыганке, в благодарность за ее колдовство.
Брэдгейт-Холл, июль 1545 года
Я опять лежу в родах, помоги мне Господь. На этот раз боль такая, какой мне еще не доводилось испытывать, и повитуха явно обеспокоена. Она даже попросила миссис Зуш послать за капелланом – на всякий случай, что мне совсем не нравится. На самом деле, когда я не кричу от этих адских мук – мое благородное решение терпеть их молча давно нарушено, – я схожу с ума от страха.
Да мне уже не важно, дочь у меня будет или сын, живым ли родится ребенок или мертвым. Схватки идут беспрерывно, и такой силы, что я мечусь на постели, отталкивая своих помощниц, и требую, чтобы они уходили. Когда боль достигает высшей точки, я забываю, что это роды, и завываю изо всех своих оставшихся сил.
– Господи, Господи, помоги! – умоляю я снова и снова.
Милорда вызывают из конюшен, где он, очевидно для того, чтобы заглушить свою тревогу обо мне, осматривал пару недавно купленных ястребов. Он входит в родильную комнату, куда ни один мужчина не имеет права входить, но сейчас не время для подобной щепетильности.
– Как себя чувствует миледи? – спрашивает он со страхом, этот большой мужчина, которому здесь явно не по себе.
Я вижу его напряженное от волнения лицо. Женщины часто умирают в родах, и Генри до смерти боится, что потеряет не только своего долгожданного сына и наследника, но также свою жену и соратницу и, скорее всего, – я знаю образ мыслей моего Генри – надежды на родство с королем.
– Не очень хорошо, милорд, – отвечает повитуха на своем гортанном северном наречии. – Ребенок продвигается слишком медленно. Головка прорезалась, но какое-что препятствие мешает выйти всему тельцу.
Генри издает стон:
– Неужели вы ничего не можете сделать, во имя Господа?
– Могу, милорд, но это опасная процедура, которая может стоить жизни как матери, так и ребенку.
– Помогите! Помогите! – ору я. У меня такое ощущение, что меня рвут на части.
– И другого способа нет? – хрипло осведомляется Генри.
– Можно положиться на природу, милорд, но миледи слабеет с каждой минутой, и времени уже не остается.
Я снова кричу. Да помогите же!
– Что же это за процедура? – спрашивает милорд.
Вместо ответа, повитуха извлекает из своей огромной сумы длинный металлический прут с большим крюком на конце. Мельком взглянув на него, я в ужасе закрываю глаза. Слышно, как от страха у моего мужа перехватывает дыхание.
– Крюк вводят в чрево, милорд, и с его помощью пытаются вытащить ребенка. – Помолчав, она добавляет: – Это последнее средство, сударь. Но оно может покалечить мать, или дитя, или обоих.
С минуту милорд явно переживает внутреннюю борьбу, но как только я снова начинаю кричать, он кивает.
– Приступайте, – велит он.
Все кончено. Я лежу в забытьи на своей мокрой от пота и крови постели и знаю только, что все самое ужасное позади и можно уснуть. Я потеряла сознание от боли, когда они вытащили ребенка из моего тела, и ничего другого не помню. По крайней мере я осталась жива.
В изнеможении лежу на спине с поднятыми коленями и раздвинутыми бедрами. У меня внутри все болит и ноет, но никакого сравнения с той пыткой, которую я недавно перенесла. В изножье кровати суетится повитуха с тряпками и тазом с водой, и я ощущаю благодатную прохладу, пока меня намыливают и переодевают в чистое. Потом меня, едва осознающую, что со мной происходит, укладывают ровно и переворачивают с боку на бок, чтобы сменить постельное белье, а затем накрывают пахнущими свежестью простынями и одеялами, зачесывают мне волосы назад, убирая с лица, и оставляют отдыхать.
Утром я просыпаюсь в полном сознании. Вчерашние ужасы кажутся страшным сном, но я знаю, что все было наяву, и я готова услышать, что мой младенец не перенес этой пытки. Однако, осторожно повернувшись на перинах, чтобы устроиться поудобнее, я с изумлением вижу возле кровати большую деревянную колыбель. Тихое посапывание свидетельствует о том, что внутри кто-то есть. В столь ранний час я совсем одна, и некого спросить, какого пола младенец.
Но я должна узнать. Собравшись с силами, медленно-медленно приподнимаюсь. Это причиняет мне боль, потому что внизу у меня все ноет, и с каждым движением все сильнее. Проклятье, наверное, разрывы очень сильные, а значит, для выздоровления потребуется гораздо больше времени, чем обычно. От усилий кружится голова. Но вскоре, скрипя зубами от боли, мне удается приподняться и заглянуть в колыбель.
При виде лежащего там существа у меня вырывается крик. Мой ребенок – безобразный, уродливый горбун, это не оставляет сомнений. Но хуже всего то, что – как я вскоре узнаю от примчавшихся на мой крик женщин – это еще одна девочка.
Мы даем ей имя Мэри, в честь леди Марии, которая по доброте своей согласилась быть ее крестной матерью. Но я не желаю иметь с этим ребенком ничего общего. Она не только оскорбляет зрение, но и, похоже, поставила крест на моих надеждах когда-нибудь родить Генри сына. Когда я через десять дней, шатаясь, встаю с постели, чтобы посетить службу, и начинаю потихоньку двигаться, я понимаю, что со мной что-то действительно не в порядке. Такое ощущение, что мое чрево вот-вот из меня выскользнет, выйдет, как некий чудовищный плод. Врачи говорят, что поправить ничего нельзя и что мне придется жить, смирившись с этим неудобством, хотя, возможно, и не всю жизнь.
Я ничего не сказала Генри, хотя он, конечно, не мог не заметить перемены. Лежа на спине в супружеской постели, я обнаруживаю, что исполнение моего долга не причиняет мне особой боли, но и удовольствия я не испытываю. Еще я боюсь, что мне никогда теперь не удастся зачать. Стыдливость и сдержанность заставляют меня держать мой недуг в тайне от всех, и я решила, что никогда не стану обсуждать его с мужем. Пока он возлагает на меня надежды, я могу им управлять.
Но теперь я гораздо чаще прежнего выхожу из себя. Знаю, что всегда была вспыльчива, но теперь я и вовсе не в силах сдерживать приступы гнева, ведь жизнь так жестоко обошлась со мной – женщиной, которая должна была родить много крепких сыновей, дабы они служили нам утешением в старости. Кроме того, у меня нет ни времени, ни нежности для наших старших дочерей, которые невыносимо раздражают меня своей глупой болтовней и детскими заботами, и я сержусь и наказываю их больше обычного.
Все относят мое дурное расположение духа на счет удара, который я пережила, и причуд, которые бывают у женщин, когда в грудях высыхает молоко. Горбунью отдали на попечение няньки, которой было строго-настрого приказано держать ее при себе, чтобы она не попадалась мне на глаза. Я не собираюсь ни воспитывать ее вместе с сестрами, ни давать ей такого же образования. Мы станем держать ее взаперти в Брэдгейте, чтобы мир не узнал о постигшем нас проклятии Божьем.
Королевский дворец в Гринвиче 1545 года
Я вернулась к своим обязанностям при дворе. Королева, догадывающаяся о том, что мы пережили ужасное несчастье, сводит меня с ума своей непрошеной добротой. Я вежливо отклоняю ласки, которые она расточает мне с самыми лучшими намерениями, и не могу преодолеть свою замкнутость и чувство горечи. Она даже заметила, что мне трудно ходить и садиться, но, к счастью, она слишком хорошо воспитана, чтобы докучать мне расспросами о здоровье. Еще она обратила внимание, что я стала менее терпелива с прислуживающими мне членами ее свиты, и слегка меня за это пожурила.
Гораздо отраднее, чем эта навязчивая забота, то обстоятельство, что недавно она подробно меня расспрашивала о жизни и образовании Джейн, которая, похоже, возбуждает у нее повышенный интерес.
– Мне было бы очень приятно, если бы вы вызвали Джейн во дворец, чтобы она пожила у меня некоторое время, – просит она меня. – Я бы очень хотела сама услышать, каковы ее успехи в занятиях.
Это важный знак и возможность, которую нельзя упустить, – привезти Джейн во дворец, дабы снова привлечь к ней внимание короля. Кто знает, что из этого может получиться? Может быть, он уже выделил Джейн с мыслью оказать ей предпочтение.
Я обязана внушить ей, что многое зависит от ее поведения при дворе. Ей следует делать все возможное, дабы угодить королеве, и если ей случится повстречать короля, она должна постараться произвести на него хорошее впечатление – своей внешностью, воспитанностью и образованностью.
Милорд очень рад слышать о любезном приглашении ее величества. Мы с ним целый вечер вдалбливаем Джейн, что она должна и чего не должна делать при дворе. К счастью, она хорошо натаскана по части этикета, но мы обязаны убедиться, что она не упустит случая проявить себя.
Конечно, невинный ребенок и не подозревает, каково значение этого визита, и мне едва ли следует винить ее за это, ибо она не посвящена в наши великие планы на ее будущее. Хотя, подобно всем девочкам ее положения, она знает, что однажды батюшка устроит ей выгодный брак, мы, разумеется, остереглись называть ей имя ее, Бог даст, будущего жениха.
От меня не укрылось, однако, промелькнувшее на лице Джейн непокорное выражение, когда мы закончили наши напутствия. Попросту она возмущена тем, что ей читают нотации. Это необходимо пресечь!
– Только взгляни вот так на королеву, и она тотчас тебя выгонит! – взрываюсь я. – Черт возьми, когда этот ребенок научится скромности?
– Слушайся матушку, Джейн, – устало говорит Генри, давая понять, что не желает стараться больше необходимого. Он целый вечер твердил наставления, вместо того чтобы играть в карты, и ему не терпится поскорее уйти.