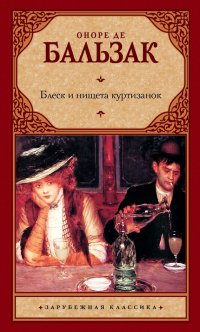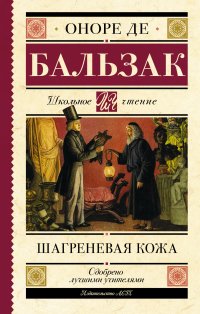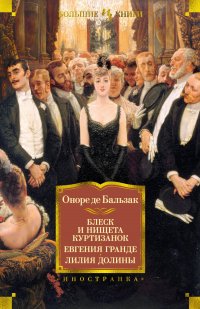Читать онлайн Евгения Гранде. Тридцатилетняя женщина бесплатно
- Все книги автора: Оноре де Бальзак
© ООО «Издательство «Вече», 2019
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2019
Сайт издательства www.veche.ru
Евгения Гранде
Глава I. Провинциальные типы
Иногда в провинции встречаешь жилища, с виду мрачные и унылые, как древние монастыри, как дикие грустные развалины, как сухие, бесплодные, обнаженные степи; заглянув под крыши этих жилищ, и в самом деле часто найдешь жизнь вялую, скучную, напоминающую своим однообразием и тишину монастырскую, и скуку обнаженных, диких степей, и прах развалин. Право, проходя возле дверей такого дома, невольно сочтешь его необитаемым; но скоро, однако ж, разуверишься; подождав немного, непременно увидишь сухую, мрачную фигуру хозяина, привлеченного к окну шумом шагов на улице.
Такой мрачный вид уныния, казалось, был отличительным признаком одного дома в городе Сомюре. Дом стоял на конце улицы, неровной, кривой, ведущей к старинному замку; улица эта, почти всегда пустая и молчаливая, замечательна звонкостью неровной булыжной мостовой, всегда сухой и чистой, теснотой и угрюмым видом домов, прилежащих к старому городу, над которым возвышаются древние, полуразвалившиеся укрепления.
Дома крепки и прочны, хотя большей частью выстроены из дерева, и некоторые существуют уже около трех веков. Странная архитектура придает городу вид древности и оригинальности и обращает на себя внимание художника и антиквария. Например, невольно бросаются в глаза огромные толстые доски, прорезанные хитрой, причудливой резьбой и заменяющие карнизы над нижними этажами домов. Потом – концы брусьев поперечных стен, покрытые аспидным камнем; они рисуются синими полосами на фасаде строения с высокой, острой кровлей, полусгнившей от действия солнца и дождя и погнувшейся под тяжестью годов. Далее – подоконники, старые, ветхие, почерневшие от времени и со сгладившейся резьбой; вот так и смотришь, что они тотчас рухнут под тяжестью какого-нибудь цветочного горшка, выставленного на окне бедной, трудолюбивой мастерицы. Непременно остановят внимание ваше эти массивные двери, обитые тяжелыми гвоздями, испещренные иероглифами и надписями. Смысл надписей различен: здесь она дышит протестантским фанатизмом, там читаешь проклятье лигера Генриху IV; какой-нибудь горожанин вырезал отличия своего колокольного дворянства, славу своего позабытого городского старшинства; словом, найдете все – историю, летописи, предания. Возле бедного оштукатуренного домика, отделанного стругом и топором незатейливого плотника, возвышаются палаты дворянина; на дверях еще заметны остатки гербов и девизов, разбитых и изломанных в революцию, взволновавшую край в 1789 году.
Нижние этажи домов купеческих не похожи ни на лавки, ни на магазины; любители Средних веков полюбуются лишь старинными мастерскими наших предков, древностью простой и наивной. Эти низкие помещения мрачны, глубоки, без украшений ни снаружи, ни внутри, без окон, без стекол. Дверь половинчатая, толстая, обита железом; одна половинка неподвижна, другая, с прикрепленным к ней колокольчиком, целый день скрипит, звонит, в движении. Свет и воздух проходят в сырой подвал или сверху, или через отверстие, начинающееся от самого свода или потолка. В нем утверждаются по ночам ставни, которые закрепляются толстыми железными полосами; днем ставни снимаются, и вместо них раскладываются товары. Товары налицо, обмана нет. Выставленные образчики состоят из двух или трех кадок с соленой треской, из нескольких кусков парусины, веревок, листов латуни, подвешенных к потолочным балкам, обручей, расставленных вдоль стены, и половинок сукна на полках. Войдете – девушка, опрятно одетая, хорошенькая, молоденькая, в белой косыночке, с пухленькими красными ручками, оставляет свое рукоделие, встает, зовет отца или мать. Кто-нибудь из них входит и отмеривает вам товару или на два су, или на двадцать тысяч франков; купец-флегматик услужлив или горд, смотря по своему обыкновению.
Вы встречаете купца, промышляющего тесом, у дверей его дома. Ему, кажется, нечего делать, и вот он уже целый час болтает с соседом. Заглянете в его лавку: в ней валяется несколько обручей и куча бочарных досок; но на пристани магазина его станет на всех бочаров анжуйских. По урожаю винограда он рассчитывает барыш и товар до последней доски. Солнце светит – он богач, дождь – он разорен. Часто в одно утро цена на бочки возвышается вдруг до одиннадцати франков или спадает до шести ливров за штуку. Здесь, как и в Турени, погода – все в торговле. Виноградчики, помещики, продавцы леса, бочары, трактирщики – у всех одна тоска, одна забота: погода. Ложась спать, боятся ночного мороза. Проклинают дождь, ветер, засуху или молят о дожде, о засухе; вечная борьба природы с расчетами человеческими. Барометр сводит с ума или веселит весь город и разглаживает морщины на самых угрюмых лицах.
– Золотое время, – говорит сосед соседу на старой сомюрской улице, – ни облачка!
– Червонцами задождит, – отвечает сосед, рассчитывая барыш по лучу солнечному.
Летом в субботу, часов в десять вечера, ни в какой лавке вам не продадут ни на су товару. У каждого купца есть какой-нибудь клочок землицы, виноградник или хоть какой-нибудь огород, и хозяин едет дня на два погостить за городом. Обделав дела свои в городе, покупки, продажу, сладив барыш, купец покоен и выгадывает из двенадцати почти десять часов на удовольствия, на пересуды, на толки и на подсматривание за соседом. Хозяйка купит куропатку, кумушки осведомляются у хозяина, хорошо ли ее приготовили. Беда девушке, некстати взглянувшей в окошко: ее оговорят, засмеют, пересудят, осудят. Все налицо, каждый дом к услугам соседей, и уж как ни огораживайся и ни запирайся, а из дому успеют вовремя вынести сор.
Здесь живут не под кровлей, а на чистом воздухе: каждое семейство располагается у дверей своего дома, завтракает, обедает, спорит, ссорится. Всякий прохожий замечен. Еще со старых времен умели в провинциальных городках осмеять и оговорить иностранца, но об этом долго рассказывать. Скажу только, что от этого-то и окрестили в болтливых жителей Анжера, особенно отличавшихся сплетнями и пересудами.
Палаты дворян, отели, некогда ими обитаемые, расположены в старом городе. Дом, мрачный и угрюмый, куда сейчас перенесем мы читателей, был из числа этих древних зданий, остаток старых дел, памятник старого времени, времени простого и незатейливого, от которого давно уже мы отреклись и отступились.
Пройдя с вами по дороге, так богатой воспоминаниями, навевающими и грусть, и думу о прошедшем, я укажу вам на это мрачное углубление, посреди которого притаились ворота дома господина Гранде.
Но мы не поймем всего значения, всего смысла фразы: дом господина Гранде. Нужно познакомиться сначала с самим господином Гранде.
Кто не живал в провинции, тому трудно будет объяснить себе мнение и мысли сомюрских жителей насчет г-на Гранде. Этот господин (есть еще в Сомюре люди, которые запросто говорят о нем: «старик Гранде, папа Гранде», но они давно уже заметно начали переводиться), так этот-то г-н Гранде в 1789 году был не более чем простой бочар; дела его шли не худо, он умел писать, читать и считать.
Когда Французская Республика объявила о продаже монастырских имений, Гранде, которому было тогда уже лет под сорок, женился на дочери богатого купца, торговавшего лесом. Соединив свой капитал с приданым жены своей и достав, сверх того, две тысячи луидоров, он положил свои деньги в карман и явился в казначейство округа. Там, сунув суровому санкюлоту, наблюдавшему за продажей народного имущества, золотую взятку в двести луидоров, занятых у тестя, законно и справедливо вступил он во владение лучшими плантациями округа, старым аббатством и сколькими-то фермами и арендами.
Сомюрские жители любили тишину и не любили революции. Между тем Гранде прослыл смелым, отважным республиканцем, патриотом, человеком, понимавшим новое время и новые идеи, тогда как он только и мыслил о торговле да о виноградниках. Его сделали членом Управления Сомюрского округа, и Гранде удалось оставить впечатление миротворца и в управлении, и в торговле.
В первом отношении он покровительствовал блаженной памяти дворянам и всеми силами старался замедлить и даже уничтожить продажу земель эмигрантов. Что касается до торговли, то ему удалось сделать превыгодный оборот поставкой в армию до двух тысяч бочек белого вина. В уплату он выговорил себе прекрасные луга, принадлежавшие женскому монастырю, хотя правительство берегло эти луга и определило продавать их последними.
Наступила эпоха Консульства. Почтенный, уважаемый Гранде был сделан мэром; судил хорошо, торговал еще лучше. Во времена Империи Гранде стали называть господином Гранде. Наполеон не любил республиканцев, а так как Гранде считался во время оно санкюлотом, то он сменил его, назначив на его место богатого помещика, человека с надеждами, будущего барона Империи. Г-н Гранде без сожаления сложил с себя атрибуты власти гражданской. В правление свое, ради казенной выгоды, наделал он прекрасных дорог из города в свои поместья, дом и земли его были весьма выгодно кадастрированы, платить налоги приходилось ему самые умеренные. Его огороды и виноградники благодаря неусыпным попечениям стали в первом разряде по достоинству и служили образцами для других хозяев. Чего же более? Оставалось разве попросить орден Почетного легиона.
Все это было в 1806 году; Гранде было тогда пятьдесят семь лет, жене его – около тридцати шести. Их единственная дочь, плод законного супружества, была лет десяти.
В этом году судьба, вероятно хотевшая утешить его в неудачах политических, доставила ему одно за другим три наследства. Сперва после матери г-жи Гранде, урожденной Бертельер, потом от старика, дедушки г-жи Гранде, и, наконец, от г-жи Жантилье, его бабушки по матери. Никто не знал цены этим трем наследствам. Покойные, все трое, были так скупы, что держали в сундуках мертвые капиталы и втайне наслаждались своими сокровищами. Старик Бертельер не хотел ни за что пустить в оборот свои деньги, называл все обороты мотовством, расточительностью и находил более выгоды в созерцании сокровищ своих, нежели отдавая их на проценты.
В Сомюре рассчитывали наследство по солнцу, то есть по ежегодному доходу с виноградников.
Теперь Гранде, вопреки всевозможным идеям о равенстве, озолотив себя, стал выше всех и сделался важным лицом в своем городе. У него было сто десятин земли под виноградниками; в хорошие годы получал он с них от семисот до восьмисот бочек вина; тринадцать ферм, старое аббатство и более ста двадцати семи десятин земли под лугами, на которых росли три тысячи тополей, посаженных в 1793 году; наконец, дом, в котором он жил, был его собственный. Это было на виду. Что же касается до капиталов, то в целом Сомюре было всего два человека, которые могли что-нибудь знать об этом; то были г-н Крюшо, нотариус, ходок по денежным делам и оборотам г-на Гранде, а другой – г-н де Грассен, богатейший банкир в Сомюре; с ним потихоньку старик обрабатывал кое-какие сделки. Но хотя Крюшо и де Грассен вели дела скрытно и в глубокой тайне, в обществе они выказывали Гранде такое глубочайшее уважение, что наблюдатели, взяв это уважение за общую меру, могли по пальцам добраться до итогов имущества бывшего мэра.
Словом, в Сомюре не было никого, кто бы не был твердо уверен, что у Гранде спрятан где-нибудь клад, сундучок с червонцами, и что старик по ночам предается невыразимым наслаждениям, доставляемым созерцанием огромной груды золота. Скупые особенно готовы были присягнуть в этом, изучив взгляд старика, взгляд, горевший каким-то отблеском заветного металла. Взор человека, привыкшего смотреть на золото, наслаждаться им, блестит каким-то неопределенным тайным выражением, схватывает неизвестные оттенки, усваивает необъяснимые привычки, как взгляд развратника, игрока или придворного; взор этот быстр и робок, жаден, таинствен; обычно его знают, научились ему: это – условный знак, франкмасонство страсти.
Итак, Гранде пользовался всеобщим почтением и уважением как человек, который никогда никому не был должен, как человек ловкий, опытный во всяком деле и во всякой сделке. Например, старый бочар умел с необыкновенной точностью определить, нужно ли ему тысячу бочек или пятьсот при настоящем сборе. Наконец, как человек, которому удались все спекуляции и у которого всегда было несколько бочонков в продаже в то время, как дешевели деньги; который умел при случае спрятать товар свой в подвалы и выждать время, когда бочонок вина будет стоить двести франков, тогда как другие продавали свое вино по пяти луидоров за бочку. Так, в 1811 году богатый сбор винограда был умно припрятан, медленно продан, и Гранде заработал двести сорок тысяч ливров одной осторожностью. В коммерции он был ловок, жаден, силен как тигр, как боа. Он умел при случае спрятать свои когти, свернуться в клубок, выждать минуту и, наконец, броситься на жертву. Потом он растягивал ужасную пасть кошеля своего, сыпал в него червонцы, завязывал, прятал кошель – и все это самодовольно, холодно, методически, как змея, спокойно переваривающая проглоченную добычу. Никто при встрече с ним не мог освободиться от особенного чувства тайного уважения, удивления и страха. Кто в Сомюре не попробовал вежливого удара его холодных, острых когтей? Тому Крюшо сумел достать денег для покупки земли, да по одиннадцати на сто; тому де Грассен разменял вексель, да с огромным учетом. Не было дня, чтобы имя Гранде не упоминалось или в конторах купцов, или в вечерних собраниях и разговорах горожан. Были люди, которые гордились богатством старика, хвастаясь им, как национальной славой. Часто слышали, как купец какой-нибудь или трактирщик с тайным удовольствием говорил заезжим:
– Да, сударь, водятся и у нас богачи, миллионеры, два-три дома. Что же касается господина Гранде, так уж вряд ли и сам-то он перечтет свое состояние.
В 1816 году опытные люди рассчитывали недвижимое богатство старика почти в четыре миллиона. Но так как с 1793 по 1817 год одних доходов с земель было ежегодно сто тысяч франков, то можно было заключить, что и наличных было у него на такую же сумму. И когда, бывало, по окончании партии в бостон или беседы о виноградниках солидные люди разговорятся о том о сем, наконец сведут на старика Гранде и скажут, например: «У старика Гранде теперь есть верных шесть миллионов», то Крюшо и де Грассен, если слышали слова эти, всегда прибавляли с какой-то таинственностью:
– Дальновиднее же вы нас! Нам так никогда почти не удавалось свести верных счетов.
Заезжий парижанин скажет, бывало, слово-другое о Ротшильде или о Лафите, сомюрцы тотчас спросят: «Так же ли богаты они, как, например, Гранде?» И ежели им отвечали насмешливой улыбкой, то они покачивали головами в знак недоверчивости.
Подобное состояние облачало золотой мантией все деяния этого человека. И если в частной жизни его и встречалось что-нибудь смешное, странное, то решительно никто не находил этого ни смешным, ни странным. Гранде был для всех образцом в Сомюре, авторитетом. Его слова, одежда, ухватки, мигание взгляда считались законами, решениями. Из каждого поступка, движения его выводили следствия, и всегда почти верные и безошибочные.
– Зима будет холодная: Гранде надел уже теплые перчатки. Не худо позаботиться о продаже вина.
Или:
– Гранде закупает много досок. Славное вино будет в этом году!
Никогда Гранде не покупал ни хлеба, ни мяса. Каждую неделю фермеры приносили ему сколько было нужно овощей, каплунов, кур, яиц, масла и зернового хлеба. У него была своя мельница, и мельник, не в счет договора, должен был в известное время являться к нему за зерном, смолоть и представить его мукой. Длинная Нанета, единственная служанка в целом доме, довольно пожилая, сама пекла по субботам хлеб на все семейство. Плодов Гранде собирал так много, что продавал их на рынке. Дрова рубились в его заказниках, или употреблялись вместо них старые, полусгнившие изгороди, обходившие кругом поля его. Фермеры же рубили и дрова и из учтивости сами складывали их в сараи, за что он обыкновенно был им благодарен. Единственные издержки его были: туалет жены и дочери, плата за их два места в церкви и за просфоры, свечи, жалованье Длинной Нанеты; лужение ее кастрюль, издержки судебные на купчие, квитанции и залоги; наконец – на поправку его строений. У него было триста арпанов лесу (недавно купленного); надзирали за ним сторожа соседей, за что обещал он им дать жалованье. Только после покупки лесу на столе у него стала появляться дичь.
Говорил он мало. Все приемы его были весьма просты и обыкновенны. Изъяснялся он коротко, дельно, голосом тихим. С самой революции, когда впервые он обратил на себя внимание, чудак начал заикаться, особенно с ним это случалось в каком-нибудь споре или когда приходилось долго говорить. Но заикание, так же как и многословие, несвязность речи и недостаток в ней логического порядка, было чистым притворством, а не недостатком образования, как полагали некоторые. Мы объясним эту историю впоследствии. Впрочем, он не затруднялся разговором, и с него довольно было четырех фраз, словно четырех алгебраических формул, для всевозможных счетов, расчетов и рассуждений в его частной и домашней жизни; вот они:
– Я не знаю.
– Не могу!
– Не хочу!
– А… а… а… посмотрим.
Ни да, ни нет – этих слов он особенно не терпел. Весьма не любил также писать. Когда с ним разговаривали, он хладнокровно и внимательно слушал, придерживая одной рукой подбородок, тогда как другая рука придерживала локоть первой. На все у него было свое мнение, раз принятое и неуступчивое. В ничтожнейших сделках он обыкновенно долго не решался, раздумывал, соображал, и, когда противник, считая, наконец, дело за собою, чуть-чуть проговорится, Гранде отвечает:
– Нет, не могу! Нужно посоветоваться с женой; без нее, вы знаете, я ни шагу не делаю.
А жена его, сущая илотка, была доведена им до полнейшей инерции. В сделках, как сейчас заметили мы, она была у него вроде щита. Гранде ни с кем не знакомился, никого не звал к себе, да и сам ни к кому не ходил. Он не любил шума и скупился даже и на движение. Ни у кого ничего не трогал и никого не беспокоил из уважения к собственности. Впрочем, несмотря на свое сладкоречие, двусмысленность и осторожность, бочар всегда выказывался настоящим бочаром в словах и ухватках, особенно дома, где он не любил воздерживаться.
С виду Гранде был футов пяти ростом, плотный и здоровый. Ноги его были двенадцати дюймов в окружности; мускулист и широкоплеч. Лицо круглое и рябоватое. Подбородок его был прямой, губы тонкие и ровные, зубы белые. Взгляд мягкий, ласковый, жадный, взгляд василиска. Лоб, изрезанный морщинами, с замечательными выпуклостями. Волосы его желтели и седели, все в одно время – золото и серебро, по выражению охотников пошутить, вероятно не знавших, что с Гранде не шутят. На толстом носу его висела красная шишка, в которой иные люди склонны были усматривать тайное коварство. В целом выражало тихость сомнительную, холодную честность и эгоизм скупца. Замечали еще в нем одно – привязанность, любовь к своей дочери Евгении, единственной наследнице. Походка, приемы выражали самоуверенность, удачу во всем; и действительно, Гранде, хотя тихий и уклончивый, был твердого, железного характера.
Одежда его была всегда одинакова; в 1820 году он одевался точно так же, как и в 1791 году. Толстые башмаки с медными застежками, нитяные чулки, панталоны короткие, толстого темного сукна, с серебряными пуговками; шерстяной жилет с желтыми и темными полосками, застегнутый сверху донизу, и просторный, каштановою цвета сюртук, белый галстук и широкополая квакерская шляпа. Перчатки у него были толстые, неуклюжие, столь же прочные, что перчатки жандармов, – в два года одна пара; всегда методически раскладывал он их в одном и том же месте, на полях своей шляпы.
Более ничего не знали о нем в Сомюре. Шесть лиц имели право посещать его дом.
Самым значительным лицом из первых трех был племянник нотариуса Крюшо. После своего назначения президентом сомюрского суда первой инстанции Крюшо-племянник к фамилии своей присоединил еще словцо де Бонфон и всеми силами старался называться просто де Бонфон, а потому обыкновенно подписывался К. де Бонфон. Неловкий проситель г-на Крюшо, забывший де Бонфона, поздно уже замечал свою ошибку. Президент особенно покровительствовал тем, кто называл его президентом, но льстил и улыбался тому, кто называл его де Бонфоном. Президенту было тридцать три года. Бонфон было название его поместья (Bonae Fontis), приносившего ему тысяч до семи ливров дохода. Кроме того, он был единственным наследником своего дяди, нотариуса, и другого дяди, аббата Крюшо, избранного в капитул св. Мартена Турского; оба они слыли довольно богатыми. Трое Крюшо, поддерживаемые порядочным числом кузенов, кузин и родней почти двадцати домов сомюрских, составляли свою особую партию, как некогда фамилия Пази во Флоренции, и, подобно Пази, Крюшо имели противников.
Г-жа де Грассен, мать двадцатичетырехлетнего юноши, частенько приходила к г-же Гранде составлять с ней партию в лото, надеясь непременно женить своего возлюбленного Адольфа на девице Евгении Гранде. Г-н де Грассен, банкир, помогал жене беспрерывными услугами старому скупцу и всегда вовремя поспевал на поле битвы. Трое де Грассенов имели тоже верных союзников кузенов, кузин и т. п.
Со стороны же Крюшо работал их аббатик, Талейран в миниатюре; достославно поддерживаемый братом-нотариусом, он с честью выдерживал бой с банкиршей в пользу своего племянника-президента. Битвы де Грассенов с тремя Крюшо и их партией за Евгению возбуждали большое внимание в Сомюре.
Кому-то достанется Евгения: президенту или Адольфу де Грассену?
Задачу разрешили тем, что де не достанется ни тому ни другому, что бочар зазнался и хочет иметь своим зятем не иначе как пэра Франции, который бы решился взять в придачу к двумстам тысячам ливров годового дохода все бочки своего тестюшки.
Другие выставляли на вид дворянство и богатство де Грассенов; говорили, что Адольф ловок, хорош собою и что кого же и выбрать, ежели не его? Разве уж найдется какой-нибудь папский племянник – тогда дело другое, а что и теперь уже много чести Гранде, которого весь Сомюр видел с долотом в руке и когда-то санкюлотом. Наблюдатели заметили, что г-н Крюшо де Бонфон мог ходить к старику во всякое время, а Адольф де Грассен – только по воскресеньям. Говорили, что г-жа де Грассен, более связанная с женщинами семьи Гранде, чем представители дома Крюшо, могла внушить им некоторые мысли, которые рано или поздно должны были привести ее к победе. Им отвечали, что аббат Крюшо – претонкая штука и что если сойдутся где аббат да женщина, так силы всегда одинаковы. «Рукояти их шпаг всегда на равном расстоянии», как выразился один досужий сомюрский остроумец.
Старожилы полагали, что Гранде не захотят выпустить добра из фамилии. По их мнению, Евгения непременно выйдет за своего кузена, сына купца Гильома Гранде, богатейшего виноторговца оптом в Париже. Обе сомюрские партии возражали им тем, что, во-первых, старики уже тридцать лет как не видались друг с другом; во-вторых, что парижанин не так думает устроить судьбу своего сына, что он мэр округа, депутат, полковник Национальной гвардии, судья в коммерческом суде; что он давно уже отступился от сомюрских Гранде и ищет сыну дочь какого-нибудь дешевенького наполеоновского герцога.
И много было еще говорено о богатой наследнице, почти на двадцать миль кругом и даже в омнибусах, ходивших между Блуа и Анжером.
В начале 1818 года победа была совершенно на стороне Крюшо. Имение Фруафонд, славившееся своим великолепным парком, великолепным замком, фермами, прудами, рекой, лесом, поступило в продажу; молодой маркиз де Фруафонд продавал его по необходимости, нуждаясь в деньгах. Крюшо с союзниками упросили маркиза не продавать имение по частям. Нотариус представил ему все невыгоды, все хлопоты продажи по участкам, особенно в получении денег с покупателей, что де лучше продать все разом и вот, например, Гранде готов заплатить хоть сейчас. Тогда владение Фруафонд было куплено стариком, и он, к величайшему удивлению сомюрцев, заплатил, не поморщившись, все три миллиона чистыми деньгами, звонкой монетой. Об этой покупке стали говорить и в Нанте, и в Орлеане.
Гранде сел в тележку, возвращавшуюся по случаю из Сомюра во Фруафонд, и поехал осматривать свои поместья. Он воротился весьма довольный тем, что поместил свои капиталы по пяти на сто, и тут же задумал округлить маркизат Фруафонд, присоединив к нему и свои земли. Но чтобы насыпать снова сундук свой, он решился вырубить свои леса и тополи на лугах аббатства Нойе.
Теперь понятна ли будет вся значительность выражения: дом господина Гранде? Дом этот был наружности мрачной, угрюмой, а выстроен был он в самой высокой части города, возле развалин старинных укреплений. Два столба со сводом, составлявшие вход, были построены из мелового песчаника – белого луарского камня, слабого, мягкого, не выносившего более двухсот лет при постройках.
Множество углублений, дыр и трещин неправильной, разнообразной формы, изрытых временем в столбах и на своде входа, рисовалось на них причудливыми, фантастическими арабесками и придавало им вид выветрившихся глыб готического зодчества. Все в целом походило несколько на крыльцо какой-нибудь городской тюрьмы. Выше свода был барельеф из твердого камня, с почернелыми и попорченными фигурами, изображавшими четыре времени года. Над барельефом тянулся плинт, из-за которого возвышали вершинки свои дикие растения и деревья, случайно зародившиеся в трещинах камня, – желтая стеница, повилика, папушник и молоденький вишенник, впрочем, уже довольно высокий.
Толстая дубовая дверь, черная, потрескавшаяся, слабая с виду, была твердо скреплена толстыми железными болтами, симметрически на ней расположенными. Маленькое квадратное окошечко с толстой заржавевшей решеткой было прорезано в дверях калитки; в эту решетку колотили молотком, привязанным тут же к кольцу. Этот удлиненный молоток, из разряда тех, которые наши предки называли «маятником», походил на жирный восклицательный знак; при тщательном изучении антикварий мог бы различить на нем следы шутовской фигуры, некогда изображенной здесь и совершенно стертой длительным употреблением.
Глядя через решетку, сквозь которую когда-то, в эпоху гражданских войн, высматривали друга и недруга, можно было заметить в конце длинного темного свода несколько полуразбитых ступеней; они вели в сад, живописно разбросанный около древних стен укреплений, позеленевших и обросших мхом и плющом. Далее за стенами, над укреплениями, виднелись дома и зеленели сады соседей.
Самая замечательная комната в нижнем этаже этого дома была зала. Вход в нее был прямо из ворот. Немногие знают, какое значение имеет зала для обитателей маленьких городков в Турени, Анжу и Берри. Зала в одно и то же время могла служить прихожей, гостиной, кабинетом, будуаром, столовой; зала – это театр, сцена для частной семейной жизни. В зале Гранде происходили все обычные семейные собрания; в эту комнату сосед-парикмахер два раза в год приходил стричь волосы старика Гранде; сюда являлись его фермеры, священник, префект и нарочный с мельницы. Два окна этой комнаты с дощатым полом выходили на улицу. Комната сверху донизу была обшита темным деревом со старинной резьбой; потолок с выступающими балками был также расписан в старинном вкусе и под цвет обшивки стен; пространство между балками было густо выбелено, но все было старо и пожелтело от времени.
Комната нагревалась камином, над которым было вделано в стене зеркало, зеленоватого стекла и с резанными наискось боками, которые сияли ярко от преломлений лучей света в гранях окраин зеркала вдоль стильной готической рамы с инкрустациями.
По бокам камина стояли два жирандоля, медные, позолоченные, с двумя рожками. Когда снимали эти рожки со стержня, на котором укреплен был общий конец их, то мраморный пьедестал с медным стержнем, в него вделанным, годился для каждодневного употребления как обыкновенный подсвечник. Кресла и стулья старого фасона были обиты вышитой тканью с рисунками, изображавшими сцены из басен Лафонтена; но трудно было уже разобрать эти рисунки: так они были потерты и изношены от времени и употребления. По четырем углам комнаты стояли этажерки, а в простенке между окнами – ломберный столик наборной работы; верхняя складная доска его сделана была в виде шашечницы. Над столом, в простенке, висел овальный барометр черного дерева, с золочеными каемочками, испачканный и изгаженный кругом мухами. На стене против камина висели два портрета, писанные пастелью, – один с покойного г-на Ла Бертельера, изображенного в мундире гвардии лейтенанта; другой портрет изображал покойную г-жу Жантилье в костюме аркадской пастушки. Перед окнами были красиво драпированы красные занавески из турской материи. Толстые шелковые шнурки с кистями церковного убранства связывали узлы драпировки. Эти роскошные занавески, так неуместные в этом доме, были выговорены господином Гранде в свою пользу при покупке дома, равно как и зеркало, стенные часы, ковровая мебель и угловые этажерки розового дерева.
В амбразуре окна, ближайшего к двери, стоял соломенный стул госпожи Гранде; он возвышался на подставке, чтобы можно было смотреть на улицу. Перед ним стоял простенький рабочий столик из выцветшего черешневого дерева. Маленькие кресла Евгении стояли тут же возле окна.
И целых пятнадцать лет прошли день за днем. Мать и дочь постоянно просиживали целые дни на одном и том же месте за своим рукоделием, с апреля месяца до самого ноября. С первого числа мать и дочь переселялись к камину, потому что только с этого дня в доме начиналась топка, которая потом и оканчивалась 31 марта, несмотря на холодные дни ранней весны и поздней осени. Тогда Длинная Нанета сберегала обыкновенно несколько угольев от кухонной топки и приносила их на жаровне, над которой мать и дочь могли отогревать свои окостеневшие от холода пальцы в наиболее суровые вечера или утра апреля и октября.
Все домашнее белье лежало на руках матери и дочери; весь день уходил у них на эту работу, так что когда Евгении хотелось сделать какой-нибудь подарочек матери из своего рукоделия, то приходилось работать по ночам, обманывая отца ради ночного освещения. Уже с давних времен скряга начал сам выдавать свечи своей служанке и дочери, равно как хлеб, овощи и всю провизию для обеда и завтрака.
Одна только Длинная Нанета могла ужиться в услужении у такого деспота, как старик Гранде. Целый город завидовал старику, видя у него такую верную служанку. Длинная Нанета, получившая свое прозвание по богатырскому росту (пять футов восемь дюймов), служила уже тридцать пять лет у господина Гранде. Она была одной из самых богатых служанок Сомюра, хотя жалованья получала всего шестьдесят ливров. Накопившуюся сумму, около четырех тысяч ливров, Нанета отдала нотариусу Крюшо на проценты. Разумеется, эта сумма была для нее весьма значительна, и всякая служанка в Сомюре, видя у бедной Нанеты мерный кусок хлеба под старость дней ее, завидовала ей, не думая о том, какими кровавыми трудами заработаны эти денежки.
Когда ей было двадцать два года, она была без хлеба и без пристанища; никто не хотел взять ее в услужение по причине ее необыкновенно уродливой фигуры, и, разумеется, все были несправедливы. Конечно, если бы природа создала ее гвардейским гренадером, то всякий бы назвал молодцом такого тренадера; но, как говорится, все должно быть кстати. Нанета, потерявшая по причине пожара место на одной ферме, где ходила за коровами, явилась в Сомюр и, воодушевленная уверенностью и надеждой, начала искать всюду места и не падала духом, готовая принять любую работу.
В это самое время Гранде собирался жениться и стал подумывать о будущем хозяйстве. Нанета явилась кстати, тут как тут. Как истинный бочар, умея ценить физическую силу в своем работнике, Гранде угадал сразу всю выгоду, какую мог извлечь, имея у себя геркулеса – работницу, держащуюся на своих ногах, как шестидесятилетний дуб на своих корнях, с могучими бедрами, с квадратной спиной, с руками возницы и столь же непоколебимой честностью, сколь незапятнанной была ее нравственность. Он с наслаждением смотрел на ее высокий рост, жилистые руки, крепкие члены; ни безобразие солдатского лица Длинной Нанеты, ни его кирпичный оттенок, ни рубище, ее прикрывавшее, не устрашили Гранде нисколько, хотя он еще находился в том возрасте, когда сердце живо откликается на подобные явления. Он принял ее в свой дом, одел, накормил, дал ей работу и жалованье. Крепко привязалось сердце бедного создания к новому господину; Нанета плакала потихоньку от радости. Бочар завалил ее работой. Нанета делала все: стряпала кушанье, приготовляла щелок, мыла белье на Луаре, приносила его на собственных плечах, вставала рано, ложилась поздно, во время сбора винограда готовила обед на всех работников, смотрела за ними, как верная собака, стояла горой за соломинку из добра господского и без ропота исполняла в точности самые странные фантазии чудака Гранде.
После двадцатилетней верной службы Нанеты, в 1811 году, счастливом для виноградников, Гранде решился наконец подарить ей свои старые часы; это был первый и единственный подарок старика Гранде. Правда, он дарил иногда ей ветхие башмаки свои, но нельзя сказать, чтобы могла быть какая-нибудь выгода от старых башмаков господина Гранде: они были всегда донельзя изношены. Сперва нужда, а потом и привычка сделали Нанету скупой, и старик полюбил свою служанку, полюбил ее, как верную старую собаку; Нанета позволила надеть себе колючий ошейник, уже не причинявший ей никакого беспокойства.
Она не жаловалась, если, например, старику Гранде приходилось иногда обвесить ее при выдаче хлеба к остальной провизии. Не жалуясь, сносила иногда и голод, потому что бочар приучал своих домашних к строжайшей диете, хотя в этом доме никто никогда не был болен. Наконец Нанета стала настоящим членом семейства; она привязалась всей силой души своей ко всем членам этой фамилии; она смеялась, когда смеялся старик Гранде, работала, когда он работал, зябла, когда ему было холодно, и отогревалась, когда ему было жарко. Как отрадно было сердцу Нанеты, привязанному святым, бескорыстным чувством благодарности к благодетелю своему, в свычке с ним, в неограниченной к нему преданности! Никогда ни в чем не мог упрекнуть сварливый, скупой Гранде свою верную Нанету; ни одна кисть винограда не была взята ею без позволения; ни одна груша, упавшая с дерева, не съедена потихоньку. Нанета берегла, хранила все, заботилась обо всем.
– Ну, ешь, Нанета, полакомься, – говорил иногда Гранде, обходя свой сад, где ветви ломались от изобилия плодов, которые бросали свиньям, не зная, куда девать излишек.
Отрадно было бедному созданию, когда старик изволил смеяться, забавляться с ней: это было очень, очень много для бедной девушки, призренной Христа ради, вытерпевшей одни лишения да побои. Сердце ее было просто и чисто, и душа свято хранила чувство благодарности. Живо помнила она, как тридцать пять лет назад она явилась на пороге этого дома, бедная, голодная, в рубище и с босыми ногами, и как Гранде встретил ее вопросом:
– Ну, что ж тебе нужно, красавица?
И сердце дрожало в груди ее при одном воспоминании об этом дне. Иногда Гранде приходило в голову, что его бедняжка Нанета целую жизнь не слыхала от мужчины слова приветливого, не знала, не испытала ни одного наслаждения в жизни, самого невинного, данного в удел женщине, – наслаждения нравиться, например, – и сможет когда-нибудь предстать перед Творцом более непорочной, чем сама Дева Мария; и Гранде, в припадке жалости, говорил иногда:
– Ах, бедняжка Нанета!
И когда он говорил это, то встречал потом тихий взор служанки своей, взор, блестевший неизъяснимым чувством благодарности. Одно это слово, произносимое стариком от времени до времени, составляло звено из непрерывной цепи нежной дружбы и бескорыстной преданности служанки к своему господину. И это сострадание, явившееся в черством, окаменевшем сердце старого скряги, было как-то грубо, жестко, носило отпечаток беспощадной жестокости. Старику было любо пожалеть Нанету по-своему, а Нанета, не добираясь до настоящего смысла, блаженствовала, видя любовь к себе своего господина. Кто из нас не повторит возгласа: «Бедняжка Нанета!..» Творец узнает своих ангелов по интонациям их голосов и таинственному звучанию их жалоб.
Много было семейных домов в Сомюре, где слуги содержались лучше, довольнее, но где господа всегда жаловались на слуг своих, а жалуясь, всегда говорили: «Да чем же озолотили эти Гранде свою Нанету, что она за них в воду и огонь пойти готова?»
Кухня Нанеты была всегда чиста, опрятна; все в ней было вымыто, вычищено, блестело; все было заперто, и все мерзло от холода. Кухня Нанеты была кухней настоящего скряги. Когда Нанета кончала мытье посуды и чистку кастрюль, прибирала остатки от обеда и тушила свой огонь, то запирала свою кухню, отделявшуюся от залы одним коридором, являлась в залу с самопрялкой и садилась возле господ своих.
На все семейство выдавалась одна свечка на целый вечер. Ночью Нанета спала в полутемном коридоре. Только железное здоровье Нанеты могло выносить все привлекательности ночлега в холодном коридоре, из которого она могла слышать малейший шорох в доме, нарушавший тишину ночи. Как дворовая собака, она спала вполглаза и слышала во все уши.
Описание других частей дома встретится вместе с повествованием происшествий этой истории; впрочем, очерк залы, парадной комнаты в целом доме, может служить масштабом нашей догадки об убожестве остальных этажей его.
В 1819 году, в одно из средних чисел ноября, когда начало уже смеркаться, Нанета затопила в первый раз печку. Осень была весьма хорошая. Этот день был знаком всем Крюшо и всем де Грассенам: шесть бойцов на жизнь и на смерть готовились явиться в залу Гранде, льстить, кланяться, скучать и уверять, что им весело.
Утром, в час обедни, весь Сомюр мог видеть торжественное шествие госпожи Гранде, Евгении и Нанеты в приходскую церковь, и всякий вспоминал, что этот день – праздничный у старика Гранде, что этот день – день рождения его возлюбленной дочери Евгении. Г-да Крюшо расчислили по часам время, когда старик отобедает, и в известное мгновение, не потеряв ни минуты, побежали к нему, чтобы явиться пораньше де Грассенов. У всех троих Крюшо было в руках по огромному букету цветов. Букет президента Крюшо был искусно обернут белой атласной ленточкой и перевязан золотыми шнурками.
В это утро старик Гранде, по всегдашнему обыкновению, соблюдавшемуся им каждый год в день рождения Евгении, пришел в ее комнату, разбудил ее своим поцелуем и с приличной торжественностью вручил ей подарок свой, редкостную золотую монету; это повторялось уже лет около тринадцати сряду, каждый раз в день рождения Евгении.
Г-жа Гранде дарила ей обыкновенно материи на платье – летнее или зимнее, смотря по обстоятельствам.
Два платья г-жи Гранде (то же было и в именины Евгении) и золотые монеты старика, да еще два наполеондора, получаемые ею в новый год именин отца своего, составляли весь доход Евгении, в год всего около ста экю; скряга прилежно смотрел за благосостоянием кассы своей дочери и радовался, глядя на ее сокровище. Не все ли равно было, что давать, что не такие подарки? Гранде только перекладывал из одной кубышки в другую, тщательно выращивал чувство скупости в своей наследнице и по временам иногда проверял все суммы и все сокровища своей дочери; эти сокровища были прежде гораздо значительнее, когда еще старики Бертельеры были в живых и дарили ей в свою очередь, каждый по-своему, всегда приговаривая: «Это на твою дюжинку, к свадьбе, жизненочек».
Давать дюжину к свадьбе – старое обыкновение, свято сохранившееся в некоторых провинциях Франции, как то в Берри, Анжу и других. Там ни одна девушка не выходит замуж без дюжины. В день свадьбы отец и мать ее дарят ей кошелек, в котором лежат двенадцать червонцев, или двенадцать дюжин червонцев, или двенадцать сотен червонцев, смотря по состоянию. Дочь последнего бедняка не выходит замуж без дюжины, хотя бы бедной монетой. Были примеры подарков в сто сорок четыре португальских червонца. Папа Климент, выдавая племянницу свою Марию Медичи за Генриха II, короля французского, подарил ей двенадцать древних медалей, бесценных по редкости и красоте отделки.
За обедом старик, любуясь на дочь свою, похорошевшую в новеньком платьице, закричал в припадке сильнейшего восторга:
– Ну уж так и быть! Сегодня день рождения Евгении, так затопим-ка печи!
– Ну выйти вам замуж этот год, моя ласточка, – сказала Нанета, убирая со стола остатки жареного гуся, заменяющего фазана в быту бочаров.
– В Сомюре для нее нет приличной партии, – сказала г-жа Гранде, робко взглянув на своего мужа. При ее возрасте взгляд этот возвещал полное супружеское рабство, в котором томилась несчастная женщина.
Гранде поглядел на дочь и радостно закричал:
– Милочка моя! Да ей сегодня уж двадцать три года; нужно, нужно позаботиться, нужно…
Евгения и мать ее молча переглянулись друг с другом.
Г-жа Гранде была женщина сухая, худая, желтая, мешковатая, неловкая, одна из тех женщин, которые словно рождаются, чтобы стать мученицами. У нее были большие глаза, большой нос, большая голова, все черты лица грубые и неприятные, с первого же взгляда она напоминала те завялые плоды, которые утратили соки и вкус. Зубы ее были черные и редкие, рот в морщинах, подбородок, отвечающий народному сравнению, – башмачным носком. Это была предобрая и препростая женщина, настоящая Ла Бертельер. Когда-то аббат Крюшо сказал ей, что она совсем недурна собой, и она этому чистосердечно поверила. Все уважали ее за ее редкие христианские добродетели, за ее кротость и жалели за унижение перед мужем и за жестокости, терпеливо переносившиеся от него бедной старушкой.
Гранде никогда не давал более шести франков жене своей. Эта женщина, которая принесла ему триста тысяч в приданое, была так глубоко унижена, доведена до такого жалкого илотизма, что не смела просить ни су у скряги мужа, не могла требовать ни малейшего объяснения, когда нотариус Крюшо подавал ей бог знает какие акты для подписи. Будучи так унижена, она была горда в глубине души своей и из одной гордости не жаловалась на судьбу. Она терпеливо вынесла весь длинный ряд оскорблений, нанесенных ей стариком Гранде, и никогда не говорила ни слова – и все из безрассудной, но благородной гордости.
Целый год постоянно носила она одно зеленоватое шелковое платье, надевала также белую косыночку и соломенную шляпку для выходов. Выходя редко, она мало носила башмаков и почти никогда не снимала фартука из черной тафты. Словом, о себе она никогда ни в чем не заботилась.
Иногда угрызения совести закрадывались в сердце старого скряги, и, припоминая, как давно не давал он денег жене своей, от последней эпохи шести франков, он всегда при какой-нибудь сделке, спекуляции, счастливой продаже оставлял и ей на булавки. Эта сумма доходила иногда до четырех и до пяти луидоров и была самой значительной частью доходов г-жи Гранде. Но только что она получала эти пять луидоров, как раскаявшийся Гранде, при первом расходе, тотчас спрашивал у нее:
– Не дашь ли ты мне какой-нибудь безделицы взаймы, душа моя?
Точно как будто бы их кошелек был общим. Но бедная г-жа Гранде обыкновенно радовалась, когда могла сделать одолжение своему мужу, которого духовник называл ее господином и владыкой, и никогда не отказывала ему в просьбе. Таким образом, из денег на булавки терялась всегда добрая половина.
Когда же Евгения получала свой собственный доход на булавки, по одному экю в месяц, то каждый раз Гранде, застегивая свой сюртук, прибавлял, смотря на жену свою:
– Ну а ты, мамаша, не нужно ли тебе чего-нибудь?
– Я после скажу тебе, друг мой, – отвечала она, одушевленная мгновенно материнским достоинством. Но Гранде не хотел понимать великодушия жены своей и чистосердечно считал себя самого великодушным. Не вправе ли мудрецы, встречая такие натуры, как Нанета, госпожа Гранде или Евгения, считать иронию основной чертой в характере Провидения?
После торжественного обеда, замечательного тем, что Гранде в первый раз в жизни заговорил о том, как бы пристроить Евгению, Нанета, затопив камин, пошла, по приказанию Гранде, за бутылкой кассиса в его комнате и чуть-чуть не упала с лестницы.
– Ну вот еще, этак можно упасть, Нанета, – сказал старик.
– Да там одна ступенька изломана, сударь.
– Это правда, – заметила госпожа Гранде, – ее бы давно нужно было поправить. Вчера Евгения также чуть-чуть не вывихнула себе ногу.
Гранде посмотрел на Нанету; она еще была бледна от испуга.
– Ну, – сказал развеселившийся бочар, – так как сегодня день рождения Евгении, а ты чуть-чуть не упала, так выпей стаканчик кассиса.
– Ну да ведь я его заслужила, – отвечала Нанета, – другой непременно разбил бы бутылку, а я бы сама прежде разбилась, а не выпустила бы ее из рук, сударь.
– Бедняжка Нанета! – сказал Гранде, наливая ей вина.
– В самом деле, не ушиблась ли ты, Нанета? – с участием спросила ее Евгения.
– Нет, я удержалась, сударыня, поясница выдержала.
– Ну, так как сегодня день рождения Евгении, то я вам ее исправлю, эту ступеньку; хоть она еще и теперь годится, да вы неловкие и ходить-то не умеете.
Гранде взял свечку, оставил дочь, жену и Нанету при одном только свете камина, пылавшего ярким огнем, и пошел в чулан за гвоздями и за досками.
– Не помочь ли вам, сударь? – закричала Нанета, услышав стук топора на лестнице.
– Э, не нужно! Ведь недаром же я старый бочар.
Гранде, поправляя свою лестницу, припомнил бывалую работу в молодые годы свои и засвистал, как всегда прежде за работою. В это время постучались у ворот трое Крюшо.
– Это вы, господин Крюшо? – сказала Нанета, отворив гостям двери.
– Да, да, – отвечал президент. Свет в зале был для них маяком, потому что Нанета была без свечки.
– А, да вы по-праздничному! – сказала Нанета, слыша запах цветов.
– Извините, господа, – кричал Гранде, услышав знакомые голоса друзей своих, – я сойду сейчас к вам. Я не гордец, господа, и вот сам вспоминаю старину, как, бывало, возился с долотом и топором.
– Да что же вы это, господин Гранде! И трубочист в своем доме господин, – сказал президент, смеясь своему намеку, которого никто, кроме него, не понял.
Г-жа Гранде и Евгения встали, чтоб принять гостей. Президент воспользовался темнотой и, приблизившись к Евгении, сказал ей:
– Позволите ли, сударыня, пожелать вам, в торжественный день рождения вашего, счастия на всю жизнь вашу и доброго, драгоценного здоровья?
И он подал ей огромный букет с редкими в Сомюре цветами; потом, взяв за руки, поцеловал ее в плечо с таким торжественным и довольным видом, что Евгении стало стыдно. Президент был чрезвычайно похож на заржавевший гвоздь и чистосердечно думал, что и он иногда умеет быть и грациозным, и обворожительным.
Гранде вошел со свечой и осветил все собрание.
– Не церемоньтесь, господин президент, – сказал он. – Да вы сегодня совершенно по-праздничному.
– Но мой племянник всегда готов праздновать день, проводимый с мадемуазель Евгенией, – сказал аббат, подавая букет свой и целуя у Евгении руку.
– Ну, так вот мы как, – сказал старый нотариус, в свою очередь поздравляя Евгению и целуя ее по-стариковски, в обе щечки. – Растем помаленьку! Каждый год до двенадцати месяцев.
Гранде поставил свечу перед стенными часами. Потом, повторяя свою остроту, которая, по-видимому, очень ему понравилась, сказал:
– Ну, так как сегодня день рождения Евгении, так зажжем другую свечку!
Осторожно снял он оба рожка со своих канделябр, потом, взяв принесенную Нанетой новую свечку, обернутую клочком бумаги, воткнул ее, уставил перпендикулярно, зажег и, сев подле гостей своих, заботливо посматривал то на них, то на дочь свою, то на обе зажженные свечки.
Аббат Крюшо был маленький, кругленький, жирненький человек в рыжем плоском парике. Протягивая свои ножки, хорошо обутые в башмаки с серебряными застежками, он спросил:
– Де Грассены еще не были у вас сегодня?
– Нет еще, – отвечал Гранде.
– Да будут ли они еще? – спросил старый нотариус, скорчив на своем рябом лице гримасу, выражавшую сомнение.
– Я думаю, что будут, – отвечала г-жа Гранде.
– Удалось ли вам убрать виноград ваш? – спросил президент де Бонфон старика Гранде.
– Как же-с, удалось! – самодовольно отвечал бочар и, встав со своего места, начал ходить по комнате, так же горделиво выпячивая грудь, как он произнес и свое «как же-с!».
Остановившись в дверях, которые вели в коридор, он увидел у Нанеты свечку. Не смея быть в зале и скучая без дела, она села в кухне за свою самопрялку.
Гранде пошел на кухню.
– Зачем здесь еще свечка? Затуши ее и ступай к нам в залу! Что тебе, тесно там, что ли? Достанет места для твоей самопрялки.
– Ах, да у вас, сударь, будет много знатных гостей!
– А ты чем хуже моих гостей? Мы все от ребра Адамова, ты так же, как и другие.
Возвратясь в залу, Гранде спросил президента:
– Вы продали вино, господин президент?
– Нет, берегу, – отвечал президент. – Теперь вино хорошо, через год будет еще лучше. Ведь вы сами знаете, все виноградчики согласились держаться в настоящей цене и не уступать бельгийцам. Уедут, опять воротятся.
– Хорошо, хорошо, так не уступать же, – сказал Гранде с таким выражением, что президент содрогнулся.
«Бьюсь об заклад, что он уж торгуется», – подумал Крюшо.
Раздался стук молотка, возвестивший прибытие де Грассенов, расстроивших преназидательный разговор аббата с г-жой Гранде.
Г-жа де Грассен, свеженькая, розовенькая, пухленькая, принадлежала к числу тех женщин, которые благодаря затворническому образу жизни провинции и навыкам добродетельного поведения и в сорок лет не стареются. Такие женщины похожи на поздние розы: цветы неярки, бледны, запах не слышен, но на взгляд они все еще хороши. Г-жа де Грассен одевалась со вкусом, выписывала наряды из Парижа, давала вечера и была образцом всех дам сомюрских.
Муж ее, банкир де Грассен, был отставной квартирмейстер наполеоновской армии. Раненный под Аустерлицем, он вышел в отставку. Он любил выказывать откровенные, грубые приемы старого солдата и даже не оставлял их в разговоре с самим г-ном Гранде.
– Здравствуйте, Гранде! – сказал он, дружески тряся ему руку, но говоря немного свысока, чего терпеть не могли все трое Крюшо. – А вы, сударыня, – прибавил он, обращаясь к Евгении и сперва поклонившись г-же Гранде, – вы такая всегда умница и хорошенькая, что, право, не знаешь, чего и пожелать вам более.
Потом, взяв у слуги своего, с ним пришедшего, горшок с редкими цветами – недавно лишь ввезенным в Европу капштадтским вереском, – он подал их Евгении. Г-жа де Грассен нежно поцеловала Евгению и сказала ей:
– А мой подарок, милая Евгения, представит вам Адольф.
Тогда Адольф, высокий молодой человек, белокурый, недурной наружности, робкий с виду, но наделавший в Париже, где он учился юриспруденции, десять тысяч франков долга, подошел к Евгении, поцеловал ее и представил ей рабочий ящик с принадлежностями из позолоченного серебра, и хотя на крышке, в гербовом щите, были довольно красиво выведены готические буквы «Е. Г», но ящик по простенькой работе своей заставлял сильно подозревать, что он куплен у разносчика.
Отворив его, Евгения покраснела от удовольствии, от радости при виде красивых безделок. Робко посмотрела она на отца, как бы спрашивая позволения принять такой богатый подарок.
– Возьми, душенька! – сказал Гранде тоном, который мог бы прославить актера, а Крюшо остолбенели, заметив радостный взгляд, брошенный на Адольфа де Грассена богатой наследницей, которой подобные сокровища показались сказочными. Де Грассен попотчевал старика табаком, понюхал потом сам, обтер соринки, упавшие на его ленточку Почетного легиона, и, взглянув на Крюшо, казалось, говорил своим горделивым взглядом: «Ну что, каково теперь вам, господа Крюшо?»
Г-жа де Грассен с притворным простодушием обернулась взглянуть на подарки троих Крюшо. Букеты были поставлены на окошко в синие стеклянные кружки с водой.
Аббат Крюшо, находясь в весьма деликатном положении, выждал минуту, когда все общество уселось по своим местам, потом, взяв под руку г-на Гранде, начал с ним прогуливаться по комнате. Наконец, уведя его в амбразуру окна, он сказал:
– Эти де Грассены бросают за окно свои деньги.
– Да ведь не все ли равно? Перекладывают-то из кубышки в мою кубышку. Их денежки сберегутся, – отвечал бочар.
– Если бы вы захотели подарить своей дочери золотые ножницы, вы бы имели полную возможность сделать это, – сказал аббат.
– Ну, да я одариваю мою дочь немного получше, чем золотыми ножницами, – отвечал Гранде.
«Колпак ты, олух, племянничек, – подумал аббат, смотря на раздраженного президента, всклокоченная шевелюра которого усугубляла неприглядность его смуглой физиономии, – не мог выдумать какой-нибудь дорогой безделки!»
– Не сесть ли нам в лото? – сказала г-жа де Грассен, глядя на г-жу Гранде.
– Да нас так много, что можно играть на двух столах.
– Так как сегодня день рождения Евгении, – закричал Гранде, – то садитесь все вместе и сделайте общее лото. Да и детей возьмите в компанию, – прибавил он, показывая на Адольфа и Евгению. Сам же Гранде не садился играть никогда ни в какую игру.
– Нанета, поставь-ка стол!
– А мы вам поможем, мадам Нанета! – закричала весело г-жа де Грассен, радуясь радости Евгении.
– Мне никогда не было так весело, – сказала ей на ухо Евгения. – Как красив этот ящичек!
– Это Адольф привез из Парижа, моя милая; он сам выбирал его.
«Шепчи, шепчи ей там, проклятая! – говорил про себя президент. – Случись у тебя процесс, проиграешь!»
Нотариус спокойно сидел в углу и хладнокровно смотрел на аббата. Он думал: «Пусть их интригуют. Наше общее имение стоит по крайней мере миллион сто тысяч франков, а у де Грассенов нет и пятисот тысяч. Пусть их дарят золотые ножницы… И невеста, и ножницы – все будет наше!»
Итак, в восемь с половиной часов столы были раскрыты. Г-жа де Грассен сумела посадить Адольфа рядом с Евгенией. Снабженные разграфленными и расшифрованными картами вместе с жетонами из зеленого стекла, все стали играть. Между тем все играли в одной общей комедии, хотя довольно грубой, но весьма замечательной, особенно для актеров. Старый нотариус острил, вытягивая номера, все смеялись, и все в одно и то же время думали о заветных миллионах и богатой наследнице.
Старый бочар хвастливо смотрел вокруг себя – на свежую шляпку с розовыми перьями и наряд г-жи де Грассен, на воинственную фигуру банкира, на Адольфа, президента, аббата и нотариуса – и говорил про себя потихоньку: «Все вы сюда пришли подличать перед моими миллионами. Скучают и смеются: подбираются к дочери, а не видать никому моей дочери! Все эти люди послужат мне только гарпунами для ловли!»
Эта странная радость, веселость в скучной, темной зале Гранде, этот смех, сопровождаемый гудением Нанетиной самопрялки, смех, искренний, неподдельный лишь на устах Евгении да ее матери; все эти мелочи, связанные с огромным интересом и замыслами, эта бедная девочка, подобная птицам, не ведающим назначенных на них высоких цен, каждое мгновение обманутая ложным любезничаньем и дружбою, – все это оживляло сцену каким-то грустным пошлым комизмом. Комедия, как мы сказали, грубая, сюжет ее избитый. Гранде, главное лицо в комедии, обманывал всех своим простодушием и терпел гостей своих только для личных посторонних видов. Казалось, он изображал в собственном лице своем мамону, единственное современное божество, которому мы все поклоняемся.
Искренность и добродушие соединились и нашли приют в сердцах трех персонажей этой комедии. Нанета, Евгения и г-жа Гранде были одни равнодушны, наивны и жалки. И сколько неведения было в их наивности! Евгения и мать ее ровно ничего не знали о своем богатстве; они не знали ничего в действительной жизни и судили понаслышке, ощупью, по-своему. Эти добрые, чистые души были занимательным исключением здесь, посреди себялюбцев, сребролюбцев и эгоистов. Странный жребий человеческий! Кажется, нет ни одного блаженства у человека, не происходящего от простоты и неведения.
Г-жа Гранде выигрывала значительный куш, шестнадцать су, самый большой в их игре. Нанета смеялась от радости, видя счастье на стороне госпожи своей. Вдруг сильный, звонкий удар молотка раздался в воротах дома. Женщины в испуге вскочили со стульев.
– Ну, этот гость не из наших сомюрцев, – заметил нотариус.
– Да можно ли этак стучать! – закричала Нанета. – Да они там дверь хотят выломать!
– Что за черт! – сказал Гранде, вставая с места и уходя с Нанетой, взявшей со стола свечку.
– Гранде, Гранде! – закричала жена его и побежала удерживать своего мужа. Все переглянулись.
– Пойдемте все, – сказал де Грассен. – Какой странный стук! К добру ли это?
Но де Грассену удалось только заметить лицо незнакомца, молодого человека, сопровождаемого почтальоном, в руках которого были два огромных чемодана.
Гранде быстро обернулся к жене:
– Ступайте, садитесь за ваше лото, госпожа Гранде; я поговорю сам с господином…
Старик захлопнул за собой дверь. Все уселись на свои места, и видимое спокойствие восстановилось.
– Это не из Сомюра? – спросила г-жа де Грассен своего мужа.
– Нет, это приезжий, и, если не ошибаюсь, из Парижа.
– И в самом деле, – сказал нотариус, вынимая часы свои, – девять часов. Парижские дилижансы никогда не опаздывают.
– Кто это, молодой человек или старик? – спросил аббат Крюшо де Грассена.
– Да, молодой человек, у него столько чемоданов… весят по крайней мере триста кило.
– Нанета не возвращается, – заметила Евгения.
– Это, верно, кто-нибудь из ваших родственников, – сказал президент.
– Начнемте же играть, господа, – сказала г-жа Гранде, – мой муж, кажется, очень недоволен: я узнала это по его голосу. Он рассердится, если узнает, что мы говорим здесь про дела его.
– Сударыня, – сказал Адольф Евгении, – это, верно, ваш двоюродный братец, прекрасный молодой человек, которого я видел на балу господина маршала Уд…
Но Адольф остановился, потому что г-жа де Грассен сильно наступила ему на ногу, потом сказала ему на ухо:
– Ты так глуп, Адольф, молчи, сделай милость!
В это время вошел Гранде, но уже без Нанеты; слышно было, как почтальон и Нанета тащат что-то вверх по лестнице. За Гранде следовал незнакомец, возбудивший столько догадок, толков и общее удивление, так что появление его можно было сравнить с появлением улитки в улье или красивого, роскошного павлина на заднем дворе у какого-нибудь мужика.
– Сядьте возле огня, – сказал Гранде своему гостю.
Но прежде чем последовать приглашению Гранде, молодой незнакомец ловко и благородно поклонился всем. Мужчины встали с мест и отдали ему поклон. Женщины не встали, но также поклонились ему.
– Вы, верно, озябли, сударь, – сказала г-жа Гранде, – вы, верно, приехали…
– Уж пошли, пошли! Вот каковы эти бабы, – закричал бочар, перестав читать письмо, которое он держал в руках, – да оставь его в покое…
– Но, батюшка, может быть, им что-нибудь нужно, – заметила Евгения.
– У него есть язык, – отвечал Гранде с заметной досадой.
Только один незнакомец был удивлен таким приемом. Остальные так привыкли к деспотизму старика, что и теперь не обратили на него никакого внимания.
Незнакомец стал возле камина и начал греться, поднимая к огню ноги. Потом, обратясь к Евгении, он сказал ей:
– Я благодарен вам, кузина; но не беспокойтесь, я отдыхал и обедал в Туре; мне ничего не нужно, я даже не устал, – прибавил он, посматривая на своего дядюшку.
– Вы приехали из Парижа? – спросила г-жа де Грассен.
Шарль (так назывался сын Гильома Гранде, парижского), услышав вопрос г-жи де Грассен, взял свой лорнет, висевший на цепочке, приставил к правому глазу, взглянул на стол, поглядел, что на нем было, взглянул на играющих, на г-жу де Грассен и наконец ответил:
– Да, сударыня, из Парижа… Вы играете в лото, тетушка, – продолжал он, – пожалуйста, играйте и не заботьтесь обо мне…
«Уж я была уверена, что это двоюродный братец», – думала г-жа де Грассен, изредка делая глазки Шарлю.
– Сорок восемь! – закричал аббат. – Госпожа де Грассен, это ваш номер, заметьте его!
Де Грассен положил жетон на карту жены свой, потому что та о лото уже не думала, а смотрела на Шарля и Евгению. Предчувствие ее мучило. По временам Евгения робко взглядывала на Шарля, и банкирша могла заметить в ее взглядах возраставшее удивление и любопытство.
Глава II. Парижский кузен
Шарль Гранде, красавчик двадцати двух лет, резко отличался от группы окружавших его провинциалов, негодовавших на его надменные, аристократические приемы и старавшихся уловить в нем хоть что-нибудь смешное, чтобы посмеяться в свою очередь. Объясним это.
Двадцать два года, не много, недалеко от детства. Из ста юношей, двадцатилетних, девяносто девять на месте Шарля, верно бы, вели себя так же, как и он, то есть выказались бы изнеженно-кокетливыми и занятыми собою. Несколько дней назад отец объявил Шарлю о предстоящей ему поездке в Сомюр, к старику брату, на несколько месяцев. Целью поездки могла быть Евгения. Шарль в первый раз ехал в провинцию, ему хотелось блеснуть ловкостью, вкусом, модою, изумить Сомюр роскошью, сделать эпоху в жизни сомюрцев и, если можно, преобразовать их, введя парижскую жизнь и привычки. Словом, решено было одеваться с самой роскошной изысканностью моды и чистить ногти часом долее, чем в Париже, где часто молодой человек бросает щегольство от лени или беспечности, чем, впрочем, мало вредит себе.
Вследствие этого Шарль обзавелся самым щегольским охотничьим платьем, самым щегольским ружьем, самым красивым охотничьим ножом и самым изящнейшим ягдташем. Взял с собой бездну самых щегольских и разнообразных жилетов: серых, белых, черных, с золотым отливом, двойных, шалевых, со стоячими и откидными воротниками, застегивающихся сверху донизу, с золотыми пуговицами и проч. С ним были всевозможных родов и видов галстуки и шейные платки; два фрака Штрауба и самое тонкое белье; золотые туалетные принадлежности, подарок его матери. Одним словом, он притащил с собой всю сбрую отъявленного денди, не забыв также восхитительную маленькую чернильницу, подаренную ему знатной, блистательной дамой, которую он называл Анетой: эта знатная дама путешествовала теперь по Шотландии, чтобы затушить своим отсутствием кое-какие неприятности, подозрения, без всякого сомнения, самые гнусные и отвратительные. Не позабыл он также нескольких тетрадок изящнейшей, раздушенной бумаги для переписки с Анетой, аккуратно, через каждые пятнадцать дней. Словом, Шарль набрал с собой всевозможных важных мелочей и необходимых игрушек, начиная от хлыста для начала дуэли и до превосходных резных пистолетов для окончания ее, – он имел при себе все орудия, которыми пользуется праздный юноша, чтобы вспахать жизнь. Так как отец не отпустил с ним слуги, то он приехал в купе дилижанса, нанятом для него одного; ему не хотелось портить в дороге свою прекрасную почтовую карету, заказанную для поездки в Баден, где назначена была встреча с Анетой, знатной, блистательной дамой, путешествовавшей и проч., и проч.
Шарль думал застать по крайней мере сто человек у своего дяди, зажить в его замке, обрыскать с ружьем своим все его поля и леса и никак не ожидал застать все семейство в Сомюре, где он хотел остановиться для того только, чтобы расспросить о дороге во Фруафонд. Для дебюта он оделся блистательно, восхитительно. В Туре парикмахер расчесал его прекрасные каштановые волосы; там же он переменил белье и надел черный атласный галстук, что с выпущенным воротником рубашки было ему очень к лицу. Щегольской дорожный сюртук, полузастегнутый, стягивал его талию. Из-под сюртука выглядывал щегольской шалевый жилет; под шалевым жилетом был еще другой, белый. Часы, небрежно брошенные в карман, пристегивались коротеньким шелковым шнурком к пуговице сюртука. Серые панталоны застегивались с боков на пуговки. В руках его была красивая трость с литым золотым набалдашником; желтые перчатки были свежие, блестящие; шляпа его была восхитительна. Только парижанин, и притом самого высокого полета, мог бы не насмешить людей в таком наряде; впрочем, плохо окончилась бы насмешка над юношей, обладавшим превосходными пистолетами, метким взглядом и вдобавок Анетой.
Теперь, ежели хотите понять почтительное удивление сомюрцев и осветить воображением контраст блистательного денди с сухими, вялыми фигурами гостей в темной, скучной зале Гранде, то взгляните на семейство Крюшо. Все трое нюхали табак и незаметно привыкли к вечному табачному сору на мелких складках своих пожелтевших манишек. Их галстуки мялись и веревкой обвивались около шеи. Огромный запас белья позволял им, ради хозяйственного расчета, мыть его только два раза в год, отчего белье желтело без употребления в ящиках. Все в них было неловко, некстати, бесцветно; их лица были вялы, сухи и изношены так же, как и их фраки, на которых было столько же складок, как и на панталонах.
Костюмы остальных гостей, неполные и несвежие, как и все вообще костюмы истых провинциалов, отставших от моды и скупящихся на новую пару перчаток, согласовались совершенно с костюмами Крюшо; только в одном этом и сходились вкусы и идеи обеих партий – Крюшо и Грассенистов. Только что приезжий брался за лорнет, чтобы разглядеть странность комнатной мебели или подивиться рисункам потолка и обоев, до того испачканных мухами, что этих черненьких, точкообразных пятнышек достало бы зачернить совершенно целый лист «Методической энциклопедии» или «Монитера», тотчас игроки в лото поднимали носы и смотрели на Шарля с таким любопытством, как будто на жирафа. Де Грассен и сын его, видавшие, впрочем, парижских щеголей, разделяли общее изумление не менее каждого из присутствующих или потому, что заразились им от других, или потому, что сами поощряли его, бросая на гостя насмешливые взгляды, которые только что не проговаривали: «Знаем мы вас, парижские молодчики!»
Впрочем, все могли насмотреться на гостя досыта, не боясь досадить хозяину своим любопытством. Гранде унес свечку от своих гостей и углубился в чтение длинного письма, не заботясь об игре и оставив их доигрывать партию почти в потемках.
Евгения, не видавшая доселе ничего, подобного Шарлю в совершенстве красоты и щегольства, смотрела на него как на существо воздушное, неземное. Она вдыхала в себя с наслаждением аромат духов, умастивших прелестные кудрявые его волосы; ей хотелось дотронуться до шелковистой кожи его прекрасных перчаток; она завидовала его стройной маленькой ручке, свежести и нежности лица. Для нее, бедной, невинной девушки, всю жизнь свою провязавшей чулки и проштопавшей старое белье, часто по целым часам не видавшей в окнах своей комнаты более одного прохожего сомюрца, для нее вид Шарля был источником роскошного, неведомого наслаждения. Это чувство походило на то впечатление, которое невольно родится в вас при взгляде на фантастические образы женщин в английских кипсеках, рисованные Уэстоллом и гравированные Флинденом так тонко и нежно, что при взгляде на них, кажется, боишься сдунуть с бумаги эти волшебные, очаровательные изображения.
Шарль вынул из кармана платок, вышитый для него прекрасной путешественницей по Шотландии. Евгения не хотела верить глазам своим, что это обыкновенный платок, это совершенство, труд любви для любви.
Приемы, жесты ее кузена, его дерзкий лорнет, презрительное невнимание к дорогому ящику, только что ей подаренному де Грассенами, который так недавно еще ей нравился и который казался ее кузену или без вкуса, или без цены, все то, наконец, что раздражало Крюшо и де Грассенов, – все это ей так нравилось, что в эту ночь и во сне образ Шарля не покидал ее ни на минуту.
Номера вынимались, но скоро лото кончилось; вошла Длинная Нанета.
– Пожалуйте белье, сударыня; нужно постлать постель молодому барину.
Г-жа Гранде встала и пошла за Нанетой; тогда г-жа де Грассен сказала всем потихоньку: «Спрячем-ка наши су и бросим это лото».
Каждый взял с облупленного старого блюдца свои два су, положенные на ставку; потом все встали и мало-помалу приблизились к огню.
– Так вы кончили? – сказал Гранде, не отрываясь от письма.
– Кончили, кончили, – отвечала г-жа де Грассен и подошла к Шарлю.
Евгения вышла из залы, движимая одной из тех вдохновенных мыслей, которые рождаются только в сердце женщины, в сердце, впервые забившемся любовью. Она вышла пособить матери и Нанете; но под хозяйственной заботливостью таилось другое чувство: она не могла устоять против непонятного искушения, каприза – самой убрать комнату, назначенную Шарлю, поставить в ней каждую вещь на свое место, доглядеть, приглядеть за всем, чтобы сколько-нибудь лучше все уладить и украсить. Она уже чувствовала в себе и силу, и ловкость разглядывать и понимать вкус и привычки своего кузена.
В самом деле, она явилась совершенно кстати и успела уверить Нанету и мать свою, что они обе еще ничего не сделали и что нужно все переделать сызнова. Ей удалось присоветовать Нанете нагреть постель жаровней. Сама она вынула чистую скатерть и накрыла ею старый стол, приказав Нанете переменять ее каждый день. Она доказала, что необходимо развести в камине огонь, и приказала натаскать дров в коридор, потихоньку от отца. Отыскала где-то в шкафу красивый лаковый подносик, доставшийся им по наследству от г-на Бертельера, чистый стакан шестигранного хрусталя и позолоченную ложечку, античный, разрисованный амурами фарфоровый флакон и с торжеством поставила все это на камине. В четверть часа в голове ее народилось идей более, нежели во всю ее жизнь.
– Маменька, сальные свечи не годятся для Шарля: не купить ли восковых? – И легкая, как птичка, она вынула из кошелька свой экю, данный ей на месячные расходы. – Поскорей, поскорей, Нанета, – сказала она, всовывая ей деньги в руки.
– А что скажет отец?
Эти ужасные слова вырвались у г-жи Гранде, когда она увидела в руках своей дочери сахарницу из севрского фарфора, которую старик привез из Фруафондского замка.
– Да где ты достанешь сахару? Да ты позабыла…
– Маменька, Нанета купит и сахару.
– А отец?
– Но прилично ли для нас, что родной племянник в доме своего дяди не найдет и стакана воды с сахаром? Да папенька не заметит.
– Он не заметит? Да он видит все!
Нанета колебалась. Она знала характер своего господина.
– Да ступай же, Нанета; ведь сегодня мое рождение!
Нанета громко расхохоталась шутке своей барышни, первой шутке, услышанной от нее, и отправилась за покупками.
В то время когда Евгения и г-жа Гранде хлопотали и отделывали комнату Шарля, оставшегося в зале с гостями, г-жа де Грассен повела на него атаку по всем правилам своей тактики и начала с любезностей.
– Вы слишком отважны, – сказала она Шарлю. – Бросить удовольствия Парижа, зимою, во время веселья и праздников, и приехать в Сомюр, да это неслыханный подвиг! Но мы постараемся вознаградить вас за все, и если вас еще не испугали здесь, то увидите, что и к Сомюру можно привыкнуть и, если хотите, даже весело провести здесь время.
И она подарила его взглядом, но взглядом коренной провинциалки. В провинции женщины по привычке смотрят так осторожно, так благоразумно, что невольно заставляют подозревать в своем взгляде тайное желание, смешанное с какой-то раздражительной завистью, свойственной представителям духовенства, для которых всякое наслаждение представляется либо воровством, либо грехопадением.
Шарль, после своих разбитых и рассеявшихся мечтаний о великолепном замке и о великолепном житье-бытье своего дядюшки, был так смущен, уничтожен, попав в эту залу, в этот круг людей, что поневоле г-жа де Грассен напоминала ему собой, хотя неясно, далекий, восхитительный образ парижанки. Он вежливо ответил на вопрос ее, весьма похожий на приглашение; между ним и провинциалкой завязался разговор, и г-жа Грассен мало-помалу осторожно понизила голос. Им было о чем говорить в эту минуту, им нужно было говорить, объясниться, вследствие чего, после нескольких бегло обменянных шуток и кокетливых приветствий, ловкая провинциалка успела, между прочим, кое-что шепнуть ему, не опасаясь быть подслушанной, за интересным разговором о вине: весь Сомюр говорил тогда о вине.
– Если вы хотите посетить нас, – сказала она Шарлю, – то доставите большое удовольствие мне и моему мужу. В целом городе вы найдете только один дом, где встретите вместе и аристократию, и высшее купечество: это у нас; мы принадлежим к средине между двумя обществами, и муж мой, говорю это с гордостью, умел приобрести уважение и той и другой стороны. Мы о вас постараемся. А что бы с вами сталось в этом доме? Да здесь вы умрете со скуки! Ваш дядюшка – старый хлопотун, у него на уме одна торговля, барыши, расчеты. Тетушка ваша – богомолка, не умеющая связать двух мыслей, с нею вам будет не очень весело. А Евгения, простенькая девушка, без воспитания и приданого, она до сих пор только и делала, что штопала белье своих стариков.
«Да это клад, – подумал Шарль, глядя на г-жу де Грассен, – ну кто бы мог предполагать?»
– Мне кажется, жена, ты хочешь завербовать к нам господина Шарля, – сказал, смеясь, толстый банкир.
Нотариус и президент не упустили случая прибавить две-три желчные остроты к замечанию де Грассена. Но аббат тотчас понял все дело.
Вынув табакерку и потчуя всех табаком, он сказал:
– Да где же и приютиться лучше молодому господину Гранде, как не в салоне госпожи де Грассен?
– Что вы хотите сказать, господин аббат? – спросил де Грассен.
– Ничего более, как то, что скажет вам весь Сомюр, милостивый государь: должная справедливость вам, вашему дому и госпоже де Грассен.
Аббат хотя и не подслушивал разговора г-жи де Грассен с Шарлем, но угадал все.
– Не знаю, помните ли вы обо мне, – сказал в свою очередь Адольф Шарлю, стараясь быть сколь возможно развязнее, – я имел удовольствие быть вашим vis-a-vis на балу у господина маршала Удино.
– О, как же, милостивый государь, как же, я припоминаю! – сказал Шарль, удивленный общим к себе вниманием. – Это ваш сын, сударыня? – спросил он г-жу де Грассен.
Аббат насмешливо взглянул на нее.
– Да, милостивый государь, – отвечала она.
– Так вы были очень молоды, когда были в Париже? – спросил Шарль, обращаясь к Адольфу.
– Да, что делать! – отвечал за него аббат. – Мы их отсылаем в Вавилон, только что они оперились.
Г-жа де Грассен внимательно поглядела на аббата.
– Только в провинции, – продолжал аббат, – вы встретите тридцатилетних женщин таких свежих и молодых, как, например, госпожа де Грассен, женщин, у которых дети экзаменуются уже на степень лиценциата прав. Я как будто теперь вижу, сударыня, когда все дамы и мужчины, бывало, толпились вокруг вас на балах, – продолжал аббат, атакуя своего неприятеля. – Для меня это как будто вчера, сударыня!
– Старый черт, – прошептала г-жа де Грассен, – он тут как тут, все угадал.
«Мне кажется, что я сделаю эпоху в Сомюре», – подумал Шарль, расстегивая сюртук, заложив руку за пуговицу жилета и приняв задумчивый вид, чтобы скопировать лорда Байрона на картине Шантра.
Невнимание старика Гранде к гостям своим или, лучше сказать, исключительное его внимание к письму не ускользнуло ни от нотариуса, ни от президента. По изменениям лица старика они, в свою очередь, узнавали, разгадывали, читали с ним вместе это письмо. Старик с трудом удерживался; всякий поймет его усилия казаться хладнокровным, заглянув в это ужасное письмо; вот его содержание:
«Вот уже скоро двадцать три года, как мы не видались с тобой, любезный брат. Мы не видались с самого дня моей свадьбы и, помнишь, так весело, дружно расстались тогда. Разумеется, я не мог предвидеть, что ты, любезный брат мой, останешься один подпорой семейства, когда-то счастливого и богатого. Когда ты будешь читать эти строки, меня уже не будет на свете. Я не мог перенести моего позора, моего стыда – банкротства, любезный брат мой. До последней минуты я крепко держался на краю бездны, хватался за соломинку, чтобы спасти себя, но мне все изменило! Банкротства моего биржевого маклера и нотариуса Рогена отняли у меня всю надежду. Я в отчаянии; я должен три миллиона и не могу предложить кредиторам даже по восьми за сто. Вина мои подешевели от постоянного в несколько лет урожая. Через три дня весь Париж заговорит: “Гранде плут, обманщик!” А я, жертва слепой судьбы, без пятна на совести, буду лежать в опозоренной могиле моей. Я лишил моего сына честного имени и наследства после его матери, а он, бедное обожаемое дитя мое, он еще ничего не знает. Мы нежно простились с ним; он не предугадывал, что мои объятия были благословением умирающего отца его. Он проклянет своего отца. Брат, брат, проклятие детей наших ужаснее проклятия отцовского. Отец может простить, снять свое проклятие; проклятие сына невозвратимо. Гранде, ты брат мой, ты старший брат мой; будь моим благодетелем, спаси меня от сыновнего проклятия. Брат, если бы я мог писать к тебе моей кровью и слезами, мне было бы легче; я бы плакал тогда, и горесть не щемила бы моего сердца, не тяготила бы души моей; но мне горько; я стражду, и нет слез утешительных. Итак, ты будешь отцом Шарлю! У него нет родных со стороны матери; ты знаешь отчего. О, для чего я разбил предрассудки света, раздавил его мнение – ради любви! Зачем я женился на незаконной дочери вельможи! У него нет родных! Бедный, бедный Шарль! Послушай, Гранде, я не просил тебя о себе; к тому же у тебя, верно, нет трех миллионов для моего спасения. Но для сына, брат, для сына моего – я простираю к тебе умоляющую руку мою. Я вверяю тебе моего сына и спокойно беру пистолет: мой сын найдет в тебе второго отца. О, как он любил меня! Я был так добр к нему; я так нежил, баловал его… Нет, он не будет проклинать меня! Он так тих, ласков, нежен; он весь в свою мать; он будет любить тебя; он ничем не огорчит тебя. Бедное дитя! Он жил в довольстве, в роскоши; он не знает бедности, которую мы перетерпели некогда вместе с тобой, любезный брат мой… И теперь он один, в нищете, разорен! Все друзья его бросят… и я один всему причиной! О, отчего он не умер прежде, отчего он не там, не вместе со своей матерью! Мечты! Он беден, опозорен, несчастлив, нищий. Я посылаю его к тебе, чтобы ты с отеческой нежностью приготовил его к страшному известию. Будь отцом ему, будь добрым, великодушным, нежным отцом! Не отрывай его сразу от его праздной жизни, ты этим убьешь его. Объяви ему несчастие осторожно, тихо, не убивай его одним ударом. Я умоляю его на коленях не требовать имения своей матери, не вмешиваться в толпу моих кредиторов. Убеди его отказаться вовремя от моего наследства. Но я напрасно говорю об этом: он честен, благороден; он почувствует, что ему стыдно позорить отца своего. Уговори его, расскажи ему все, не скрывай от него горькой участи, ожидающей его в будущем. Если он будет отчаиваться, проклинать меня, скажи, что ему остается еще одна надежда в жизни – труд. Мы оба трудились, мы оба были богаты, и я тоже, я тоже был богат. Еще: если он захочет последовать совету умирающего отца своего, скажи ему, чтобы он оставил Францию и ехал в Америку, в Индию. Брат, мой Шарль молод, но он честен, смел и решителен; снабди его всем нужным, дай ему денег; он отдаст тебе все; он лучше умрет, чем обманет тебя! Гранде, исполни мою просьбу, или совесть твоя восстанет на тебя! Боже, если мой сын не найдет в твоем доме ни сострадания, ни нежности, о, я буду вечно молить Небо о мщении за твою жестокость!.. Если бы я мог сберечь хоть сколько-нибудь денег, то я бы вправе был дать что-нибудь моему сыну взамен имения матери; но я должен был заплатить проценты в прошлом месяце; у меня ничего не осталось. Мне бы не хотелось умереть в мучительном сомнении о судьбе моего сына… О, если бы я мог теперь услышать ответ твой! Я простился с Шарлем и в то время, как он в дороге, тружусь над моими отчетами. Я хочу доказать, что мое несчастие произошло не от вины моей, не от обмана. Не правда ли, это тоже значит заниматься судьбой Шарля? Прощай, прощай, брат мой! Да снизойдет на тебя благословение Божие за великодушную дружбу твою к моему семейству; о, я не сомневаюсь в ней! Там, в лучшем свете, жаркая теплая молитва, молитва брата, будет вечно изливаться за тебя перед престолом Всевышнего, куда все мы должны когда-нибудь явиться и куда я уже предстал.
Виктор-Анж-Гильом Гранде».
– А о чем вы там толкуете? – спросил Гранде, тщательно сложив письмо по его складкам и спрятав его в жилетный карман. Потом он бросил на своего племянника тихий, боязливый взгляд, стараясь скрыть свое волнение и свои расчеты. – Обогрелся ли ты?
– Мне тепло, дядюшка.
– Ну а где же наша хозяйка и моя именинница? – закричал скупой, забыв, что обе пошли хлопотать об устройстве племянника в доме. Евгения и г-жа Гранде вошли в эту минуту.
– Ну что, там все готово? – спросил старик, мало-помалу приходя в себя.
– Да, батюшка.
– Ну, племянник, ты, чай, устал с дороги, так вот Нанета покажет тебе твою комнату… Ну, комната такая, что не по вас, мои красавчики. Да что же делать? Не осуждать же бедняков; у меня, друг мой, нет ничего, а налогов много; платить тяжело…
– Прощайте, Гранде; мы теперь вам в тягость: вам, верно, нужно потолковать с племянником вашим, прощайте, добрый вечер!
– До завтра, – сказал банкир.
Все встали и начали откланиваться. Старый нотариус зажег свой дорожный фонарь и предложил де Грассенам проводить их, потому что их слуга еще не пришел за ними, не предвидя несвоевременного окончания вечера.
– Угодно вам сделать мне честь дать мне вашу руку, сударыня? – сказал аббат г-же де Грассен.
– Но здесь мой сын, – отвечала она сухо.
– Со мной не опасно, – возразил аббат.
– Поди же с господином Крюшо, – сказал сам банкир жене своей.
Аббат ловко подал руку г-же де Грассен и увел ее вперед всех.
– Мальчик ловок и недурен собой, – сказал аббат, сжимая руку своей дамы, – теперь загадка разрешилась; проститесь со своими надеждами: у Евгении есть жених, и если этот молодец еще не влюблен в какую-нибудь парижанку, то ваш Адольф встретит в нем страшного соперника.
– И, полноте, господин аббат, разве у Шарля нет глаз? Будьте уверены, что он заметит, что Евгения – девушка простенькая, да и некрасива. Вы видели, сегодня она была желта как воск.
– Кажется, вы уже сообщили об этом господину Шарлю.
– Отчего же и не так?
– Я вам облегчу труд прекрасным советом, сударыня: становитесь всегда подле Евгении, и дело кончится в вашу пользу; результат сравнения очевиден.
– Вы еще не знаете: он обещал послезавтра у нас обедать.
– Ага!.. Ах, если бы вы захотели, сударыня… – проговорил аббат.
– Чего это, господин аббат? Что это вы мне советуете? Слава богу, я не для того тридцать девять лет дорожила моим добрым именем, чтобы очернить его на сороковом, хотя бы даже для империи Великого Могола… я понимаю вас, господин аббат, нам пора понимать друг друга… Поистине мысли ваши весьма неприличны для духовного лица. Фи! И вы, аббат, вы мне это советуете? Да это достойно «Фоблаза», сударь…
– Так вы читали «Фоблаза»? – сказал аббат сладким голосом.
– Ах! Я ошиблась, господин аббат; я хотела сказать – «Опасные связи».
– Ну, вот это дело другое! В этой книге гораздо более нравственности, – сказал аббат, засмеявшись, – но напрасно вы толкуете слова мои в другую сторону; я хотел только сказать…
– Вы еще осмеливаетесь запираться! Да не ясно ли это? Если бы Шарль захотел поволочиться за мной, то поневоле забыл бы о Евгении. Я знаю, что в Париже найдутся матери, которые решатся на такие невинные хитрости для счастия детей своих, господин аббат; но мы не в Париже.
– Да, сударыня, мы не в Париже.
– Да я бы ста миллионов не взяла, если бы взамен потребовали подобной материнской нежности.
– Заметьте, сударыня, что я не говорил о миллионах; может быть, это было бы свыше сил наших. Я хотел только сказать, что благородная и прелестная женщина, с такими прекрасными правилами, как вы, сударыня, могла бы позволить себе немножко самого невинного кокетства, чтобы…
– Вы полагаете, господин аббат?
– Без всякого сомнения, сударыня. Разве не обязанность наша, как членов общества, нравиться друг другу? Но позвольте мне достать мой платок… Я уверяю вас, сударыня, что лорнет молодого человека обращался на вас немного чаще, чем на меня; но я прощаю ему, что он предпочел красоту старости.
– Ясно, – кричал позади них президент, – что парижский Гранде прислал в Сомюр своего сына решительно из видов на Евгению!
– Но позвольте, – возражал нотариус, – тогда бы его приезд был известен; его бы ожидали у Гранде.
– Это еще ничего не доказывает, – говорил де Грассен, – старик наш скрытен.
– Де Грассен! Я пригласила племянника к нам обедать послезавтра. Попроси-ка тоже Ларсониеров и де Готуа с их хорошенькой дочкой… Как бы ее получше одеть? Мать рядит ее как дуру из ревности… Я надеюсь, господа, что вы тоже нам сделаете честь своим посещением, – прибавила она, обращаясь к Крюшо.
– Вот мы уже и пришли, – сказал нотариус.
Поклонившись троим де Грассенам, трое Крюшо отправились домой. Все они были заняты странным оборотом своих дел с де Грассенами. Рассудок и расчет заставили их снизойти до союза с прежними врагами своими. Нужно было всеми силами предупредить и отвратить любовь Евгении к Шарлю. Но, может быть, молодой человек готов устоять против всего; против сладенькой клеветы, льстивого злословия, наивных откровенностей – словом, против тех невинных средств и способов, которыми готовились атаковать его, окружить, запутать, облепить, как в улье пчелы облепляют воском несчастную букашку, залетевшую невзначай в их пчелиное царство.
– Пора спать, племянничек, – сказал Гранде по уходе гостей своих, – о делах до завтра, а теперь уже поздно; завтра я скажу тебе, для чего сюда прислал тебя отец твой. Завтракаем мы в восемь часов, в полдень тоже перекусим что-нибудь… немножко, почти ничего – яблочко, хлебца, так… самую крошечку, стакан вина, потом обедаем в пять часов, по-парижски. Вот и весь порядок дня. Захочешь погулять по городу, в окрестностях, никто не помешает тебе; но меня уж извини, водить тебя не буду; у меня дел куча. Ты, может быть, услышишь про меня сплетни, тебе наговорят, что я миллионер, богач… да ты не верь им, вздор! Пусть их говорят там, мне хуже не будет. У меня нет ничего, я бедняк, нищий, работаю как бык, как последний батрак, сколачивая деньгу на пропитание. Ты, может быть, сам скоро узнаешь, как дороги денежки… Ну-ка, Нанета, дай свечку!
– Надеюсь, милый Шарль, что вы будете всем довольны, но если что-нибудь нужно вам будет, так кликнете Нанету.
– О, я никого не обеспокою, тетушка; со мной весь мой багаж. Позвольте же вам пожелать доброй ночи… вам тоже, кузина.
Шарль взял из рук Нанеты восковую свечку, желтую, залежалую в лавке, до того похожую на сальную, что даже сам Гранде, которому, впрочем, никогда и в голову не приходили восковые свечи, не заметил в доме у себя такого великолепия.
– Пойдемте же, я покажу дорогу, – сказал старый чудак.
Вместо того чтобы выйти через главную дверь, Гранде шел через коридор, отделявший кухню от залы. Со двора коридор защищен был дверью с вделанным в нее овальным стеклом. Но зимой в нем было холодно, как на дворе, холод проникал даже в залу, где едва-едва было тепло.
Нанета задвинула все задвижки на воротах и спустила с цепи страшную собаку. Дикое животное, с разбитым, как при ларингите, голосом, только и слушалось одной Нанеты. Рожденные оба в полях, они понимали друг друга.
Когда Шарль прошел по лестнице, дрожавшей под тяжелой походкой его дяди, и взглянул на пожелтевшие, закоптелые стены, к которым примыкала лестница, то подумал, что попал в курятник. В удивлении, в изумлении он взглянул на тетку и на кузину, но те, не понимая его, отвечали ему дружеской, простодушной улыбкой; Шарль был в отчаянии: «Да зачем же это прислал меня батюшка к таким чудакам?»
Когда дошли до первой площадки лестницы, Шарль увидел перед собой три двери; они были выкрашены красной краской и поражали взор унылым, грубым видом своим на пыльной, измаранной стене. Все три двери были без наличников, а скобки около замка фальшивые, странной фигуры и рисованные под цвет железа. С первого взгляда можно было удостовериться, что та из трех дверей, которая была прямо над лестницей и вела в комнату, расположенную над кухней, была замурована, ход в нее был из комнаты старика Гранде. Эта таинственная комната была кабинетом старого скряги; свет проходил в нее сквозь единственное окно, выходившее на двор и заделанное толстой железной решеткой. Никто, не исключая и г-жи Гранде, не смел входить в кабинет старика. Скряга любил уединение, как алхимик любит его подле своего очага. Здесь-то, вероятно, была запрятана заветная кубышка, хранились бумаги и документы, висели весы, на которых Гранде взвешивал свои червонцы; тут-то совершались втайне и по ночам все дела и начинания его, сводились счеты, итоги, писались квитанции, векселя; и не диво, что люди, видя, что у Гранде всегда все готово, всегда все поспевает к сроку, и не замечая, когда и где он работает, приписывали это какому-то колдовству, чародейству. Здесь, когда ночью Нанета храпела уже так, что дрожали стены, кода собака бродила по двору, а жена и дочь скряги спали крепким сном, старик раскрывал свою кубышку, пересчитывал свое золото, глядел на него жадно, по целым часам взвешивал его на весах, на руках своих, целовал свое сокровище с любовью, с наслаждением… стены крепки, ставни задвинуты, ключ у него. Старик в тишине своего уединения не ограничивался настоящим, загадывал в будущность, манил грядущие денежки и рассчитывал барыши за годы, еще не родившиеся и не убранные. Вход в комнату Евгении был напротив замурованной двери. Далее была дверь в спальню обоих супругов, у г-жи Гранде была тоже своя комната, сообщается с комнатой Евгении стеклянной дверью. Кабинет старика отделялся от жениной комнаты перегородкой, а от таинственной комнатки его – толстой стеной.
Скряга отвел Шарлю покой в верхнем этаже, прямо над своей спальней, чтобы слышать все, если вздумается племяннику встать, ходить, шевелиться.
Когда Евгения и мать ее пришли каждая к двери своей комнаты, то, поцеловавшись, простились на ночь. Потом, сказав несколько приветствий Шарлю, холодных в устах, но пламенных в сердце Евгении, они разошлись по своим спальням.
– Ну вот и твоя норка, – сказал Гранде племяннику, отворяя ему дверь. – Если тебе будет нужно выйти, позови Нанету, а без нее собака разорвет тебя пополам… Ну, прощай же, спи хорошенько… А что это? Да здесь развели огонь!
В эту минуту явилась Нанета с нагревалкой.
– Ну, так и есть! – закричал Гранде. – Да что с тобой, моя милая? Разве племянник мой баба? Убирайся ты со своими глупостями!
– Да постель холодна, сударь, а молодой барин нежен, как красная девушка!
– Ну так кончай же скорей! – закричал скряга, – да смотри, не запали дома!
Скряга сошел с лестницы, ворча сквозь зубы, а Шарль остался как вкопанный посреди своей комнаты. Взор его блуждал в изумлении по стенам мансарды, обитым желтой бумагой с цветочками, которой обыкновенно оклеивают кабаки. Безобразный камин из бурого мелкозернистого песчаника, один вид которого вызывал ощущение холода, повергал Шарля в отчаяние. Лаковые желтенькие стульчики в весьма плохом состоянии, казалось, имели более четырех углов. Раскрытый ночной стол топорной работы, в котором мог бы поместиться сержант стрелкового полка, занимал половину всей комнаты; узенький ковер с каймой был постлан у самой кровати, украшенной балдахином, чьи суконные занавески, изъеденные молью, колыхались, словно готовясь оборваться.
Шарль пресерьезно взглянул на Длинную Нанету.
– Послушай, душенька, да полно, так ли? Неужели я у господина Гранде, бывшего сомюрского мэра, у брата господина Гранде, парижского негоцианта?
– Как же, сударь, у доброго, приветливого, милостивого барина… Развязать ваш чемодан, сударь?
– Разумеется, старый мой гренадер! Ты, кажется, служила в гвардейском морском экипаже?
– Ха, ха, ха! В гвардейском морском экипаже! Ха, ха, ха! Что это? Гвардейский морской…
– Вот ключ: вынь-ка из чемодана мой шлафрок.
Нанета была вне себя от изумления, видя богатый шелковый шлафрок с золотым рисунком старинного образца по зеленому полю.
– Вы это наденете на ночь, сударь?
– Надену, душа моя.
– О, да какой вы хорошенький в вашем шлафроке! Постойте-ка, я позову барышню; пусть она посмотрит на вас…
– Замолчишь ли ты, Нанета, Длинная Нанета! Ступай, я лягу теперь спать; все дела до завтра; если мой шлафрок тебе так понравился, то, когда я уеду, шлафрок… мой… оставлю тебе.
Нанета остолбенела:
– Как, вы мне дарите такую драгоценность? Бедняжечка, да он уж бредит!.. Прощайте, сударь!
– Прощай, Нанета…
Шарль засыпал.
«Батюшка не пустил бы меня сюда без всякой цели, – думал он, – но о делах важных надобно думать поутру, сказал, не помню, какой-то мудрец греческий».
– Святая Дева! Какой мой братец хорошенький, – шептала Евгения, прерывая свою молитву, которую она в этот вечер позабыла окончить.
Г-жа Гранде, засыпая, ни о чем не думала. Она слышала сквозь дверь в перегородке, как скряга скрипел, прохаживаясь по своей комнате. Робкая, слабая женщина изучила характер своего властителя, как чайка предузнавала грозу, по ей одной знакомым признакам, и тогда, по собственному ее выражению, она притворялась мертвой.
Старик Гранде ворчал, похаживая по своей комнате: «Оставил же мне наследство почтеннейший мой братец; нашел кому! Да что мне дать этому молодчику? Что у меня есть про его честь? Да я ему двадцать экю не дам. А что ему двадцать экю? Красавчик посмотрел на мой барометр так, что я, право, подумал, что он хочет порастопить им камин». Словом, раздумывая и ломая голову над скорбным завещанием брата, старик беспокоился и тосковал более, чем несчастный самоубийца, когда писал его.
– Так у меня будет золотое платье, – шептала, засыпая, Нанета. Ей снилось, что она уже надела эту напрестольную пелену, золотую, с цветами, с драгоценными каменьями. Первый раз в жизни она мечтала о шелковых тканях, как и Евгения в первый раз мечтала о любви.
Глава III. Любовь в провинции
Есть прекрасный час в тихой, безмятежной жизни девушки, час тайных, несказанных наслаждений, час, в который солнце светит для нее ярче на небе, когда полевой цветок краше и благоуханнее, когда сердце, как птичка, трепещет в волнующейся груди ее, ум горит и мысли расплавляются в тайное, томительное желание. Этот час есть час неопределенной грусти любви, неопределенных, но сладостных мечтаний любви. Когда дитя впервые взглянет на свет Божий, оно улыбается; когда девушка услышит первый удар своего влюбленною сердца, она улыбнется, как дитя. И как свет Божий первый приветствует сладким, теплым лучом пришествие в мир человека, так и любовь торжественно приветствует сердце человеческое, когда оно впервые забьется чувством и страстью. Такой час настал для Евгении.
Как ранняя птичка, она проснулась с зарей и помолилась. Потом начала свой туалет – занятие, отныне для нее важное, получившее свой особенный смысл. Она разобрала свои длинные каштановые волосы, заплела свои косы над головой, бережно, не давая кудрям рассыпаться и вырываться из рук, и гармонически соединила в прическе своей простоту и наивность с красотой и искусством. Умывая свои полные, нежные руки чистой, ключевой водой, она невольно вспомнила стройную ручку своего кузена и невольно подумала: отчего она так нежна, бела, так стройна и красива, откуда такая законченная форма ногтей? Она выбрала чулки как можно белее, башмаки как можно красивее и новее, зашнуровалась в струнку, не пропуская петель, и с радостью надела чистое, свежее платьице, выбрав его как можно более к лицу. Как только она кончила одеваться, пробили городские часы; как удивилась Евгения, насчитав только семь! Желая получше одеться и иметь на то побольше времени, она встала раньше обыкновенного. Не посвященная в тайны кокетства, не зная искусства десять раз завить и развить свой локон, выбирая прическу более к лицу, Евгения от нечего делать сложила руки и села подле окна; вид был небогатый, незатейливый: двор, узкий, тесный сад и над ним высокие террасы городского вала – все было весьма обыкновенно, но не лишено оригинальной, девственной красоты, свойственной пустынным местам и невозделанной природе.
Возле самой кухни находился колодезь, обнесенный срубом, с бадьей на блоке, в железной обоймице, укрепленной на деревянном шесте. Около этого шеста обвилась виноградная лоза с завядшими, изжелта-красными листьями; ветви и побеги спускались вниз, обвивая почерневший сруб, бежали далее по фасаду здания и оканчивались у деревянного сарая, в котором дрова были разложены с такой же симметрической точностью, как книги в кабинете любого библиофила. Мостовая двора, разбитая ездой, почерневшая, свидетельствовала о времени густыми клочьями мха и диких трав, пробившихся между камнями. Толстые полуразрушенные стены были увиты игривым плющом. Наконец, в углублении дворика возвышались восемь ступеней, которые вели к калитке садика; они были неровны, разбиты временем и почти скрывались под дикими кустами травы, живописно выбивавшейся из расселин треснувшего камня; издали целое походило на могилу какого-нибудь крестоносца-рыцаря, насыпанную неутешной вдовой его. Над громадой этих камней возвышалась полусгнившая, полуразвалившаяся деревянная решетка садика, живописно оплетенная местами игривой лозой. С обеих сторон садовой калитки две яблони простирали одна к другой свои кривые, коростовые ветви. В садике три параллельные, усыпанные песком дорожки огибали куртины, обведенные плющевой изгородью. В углублении садика старые липы, сплетясь ветвями, образовали беседку. На левой стороне были парники; на правой, возле самого дома, стоял огромный орешник, раскидистые ветви которого сыпались в беспорядке на крышу… Светлые, осенние лучи солнца, обычные на побережьях Луары, заблистали на небе, на земле и мало-помалу разогнали туман, темный грунт ночи, облекавший еще стены, деревья, сад…
И во всей природе, во всем, что окружало Евгению и что казалось ей таким обыкновенным, находила она теперь какую-то необъяснимую, новую прелесть, новое наслаждение. Тысячи неясных ощущений пробудились в душе ее, росли в ней, наполняли ее по мере того, как лучи солнца наполняли вселенную. Какое-то неясное, неизъяснимое удовольствие заиграло в сердце ее. Ее сердце глубоко и сильно сочувствовало всему окружавшему, и мысли девушки гармонически строились под лад всей природе.
Когда солнце дошло до стены, увешанной плотными листьями повилики, расцвеченными, словно голубиная грудь, тогда небесный луч надежды проник в душу Евгении. И она полюбила с тех пор эти поблекшие цветы, эти синие колокольчики и увядшую зелень, эту часть стены, все, наконец, что носило воспоминание, отпечаток настоящих минут ее жизни. Шум листьев в этом гулком дворе, тихий, неясный шелест их падения – все отвечало на вопросы Евгении, все разрешало их, и она готова была целый день просидеть у окна своего, не замечая времени.
Но вдруг тревожные мгновения настали для души ее. Евгения встала, подошла к зеркалу, взглянула в него, и, как художник, боясь за свое произведение, бессознательно хулит и порицает его, так и Евгения невольно сказала про себя: «Я дурна, я не понравлюсь ему». Мысль робкая, носившая в себе зародыш глубоких, страшных мучений.
Бедная девушка была к себе несправедлива, но скромность и боязнь за себя – первая добродетель любви. Евгения была типом, идеалом красоты народной. Но если она и походила на Венеру Милосскую, то формы ее были облагорожены нежностью христианского чувства и разливали тайную прелесть на лице ее, прелесть, незнакомую с резцом древних художников. Голова Евгении была большая, лоб мужественной красоты и все же не лишенный нежности, лоб Юпитера Фидия, глаза серые, с девственным, сияющим блеском. Черты круглого лица ее, некогда розового, свежего, были чуть-чуть засижены оспою, почти не оставившей следов, но уничтожившей атласность кожи, впрочем, и теперь столь нежной и свежей, что поцелуй г-жи Гранде обыкновенно оставлял розовое пятно на щеках ее возлюбленной дочери. Нос ее был немного велик, но гармонировал с пурпурными устами, обещавшими страстную негу любви и наслаждения. Шея была стройна, округлена превосходно. Грудь, стан манили взгляд и навевали мечты наслаждения. Ей недоставало грациозности, придаваемой искусным туалетом, но девственная легкость стана ее имела особую прелесть. Конечно, свет не признал бы Евгению красавицей, но мощная, величественная красота ее была бы достойно оценена художником. Если он ищет на земле небесного сияния Мадонны, если он ищет тех величественно-скромных очей, которые постиг Рафаэль, тех светлых девственных контуров, которые сохраняются лишь в огне целомудрия тела и мысли, если художник влюблен в этот почти небесный идеал свой, то жадный взор его умел бы открыть в чертах лица Евгении многое, что осуществило бы заветные мечты его. Тайное, величественное благородство было запечатлено на этом девственном лике. Под холодным взглядом пламенный художник угадал бы целый мир любви, в разрезе глаз, в привычном движении ресниц он нашел бы прелесть неуловимую. Эти черты, блистающие свежестью, на которые еще не дохнуло пресыщение тлетворным дыханием своим, эти черты были ясны и светлы, как тихий край горизонта, окаймляющий вдали зеркальную поверхность необозримого озера. Эти черты, безмятежные, облитые райским светом, покоили взор ваш, утишали в сердце вашем неистовые порывы желания и смиряли душу.
Евгения была еще только на берегу шумного океана жизни; еще жизнь не согнала с сердца ее впечатления детства. Невинная девушка еще с детской радостью срывала полевую маргаритку, с радостью, незнакомой людям среди бурь жизненных. Не понимая любви, она повторяла: «Я нехороша, он и не заметит меня». Тихонько отворила она дверь, выходившую на лестницу, и стала прислушиваться к домашнему шуму.
– Он еще не встает, – сказала она, услышав один лишь кашель пробудившейся Нанеты. Добрая служанка уже ходила, хлопотала, мела комнаты, топила печку, не забыв, между прочим, привязать на цепь собаку и беседуя с животными в стойлах.
Евгения выбежала во двор. Нанета доила в это время корову.
– Нанеточка, душенька, сделай сливок для кофе, на завтрак братцу.
Нанета захохотала во все горло:
– Об этом нужно было бы сказать еще вчера, сударыня. Да разве самой можно делать сливки? Они сами делаются. А знаете ли, сударыня, какой хорошенький ваш братец! Ну уж такой хорошенький, такой хорошенький! Какое у него есть золотое платье! Вы не видали его в золотом платье? Я видела, а белье-то он носит такое же тонкое, как на стихаре у нашего кюре.
– Так сделай нам сладких ватрушек, Нанета.
– А вы дадите дров, да муки, да масла? (Нанета, в качестве первого министра старика Гранде, приобретала подчас огромное значение в глазах Евгении и ее матери.) Не украсть же мне у него, чтобы угодить вашему братцу? Ну-ка, спросите-ка у него сами дров, да муки, да масла, а? Вы к нему поближе меня, вы дочь родная… Ну, да вот и он сам, легок на помине… подите-ка к нему!..
Но Евгения уже успела спрятаться в сад, заслышав походку своего отца. Она уже ощущала то странное чувство, которое невольно нагоняет краску на лицо наше, ту мысль, которая мучит нас уверенностью, что вот всякий так и узнает сейчас всю нашу тайну, так и отгадает все наши мысли с первого взгляда. Заметив в первый раз скупость и бедность в родительском доме, Евгения стала досадовать на роскошь своего кузена. Ей непременно хотелось что-нибудь сделать самой, чтобы быть в силах потягаться со своим кузеном в роскоши; что-нибудь изобрести, наконец, чтобы угодить Шарлю; но что именно, она и сама не знала. Простая, наивная, она не берегла сердце от впечатлений нового, неведомого ей чувства. Образ Шарля взволновал в ее невинном сердце всю страсть, доселе скрывавшуюся в нем, все чувства, все желания женщины, и тем более, что в двадцать три года мысли ее были ясны и желания небессознательны. Первый раз в жизни она испугалась своего отца, поняла в нем властелина судьбы своей и в душе признавала себя виновной, тая перед ним свое чувство, свою страсть. В волнении она стала быстро ходить по саду; воздух для нее был чище, лучи солнца играли радостнее, она жила новой жизнью. В то время когда Евгения придумывала, как бы иметь пирожное к завтраку, между скрягой и министром его Нанетой начинался спор, домашняя ссора. Междоусобия были такой редкостью в этом чудном хозяйстве, как зимой ласточки. С ключами в руках старый чудак пришел обвешивать и обмеривать Нанету, выдавая ей дневную провизию.
– Уж, верно, сколько-нибудь осталось от вчерашнего хлеба?
– Хоть бы одна крошечка, сударь.
Гранде взял из корзины большой круглый хлеб, весь обсыпанный мукой, принявший форму одной из тех плоских корзин, которые служат анжуйским пекарям, и принялся его разрезывать.
Нанета возразила:
– Да ведь нас, сударь, пятеро!
– Ну что же, все-таки будут остатки: ведь здесь шесть фунтов. К тому же эти парижские птички не клюют нашего хлеба; вот ты увидишь сегодня, посмотришь.
– А коли не едят хлеба, едят зато что-нибудь пожирнее.
Под этим выражением в Анжу понимают дополнение к хлебу, начиная с масла, покрывающего срезанный ломоть – дополнение простонародное, – до персикового варенья, самого благородного из добавлений; все те, кто в детстве слизывал лакомый слой с хлеба, бросая самый ломоть, поймут значение этого выражения.
– Да нет же, и пожирнее не едят; они ничего не едят. Они, как девчонки перед свадьбой, живут воздухом.
Наконец, распорядившись всем, не передав ни волоска лишнего, скупой запер уже свой шкаф и хотел было идти в парник за плодами, но Нанета не дала ему отделаться так дешево.
– Дайте-ка мне, сударь, муки да масла; я напеку деткам пирожного, – сказала она.
– Господи боже мой, да они все сговорились ограбить меня для дорогого племянника!!!
– И, господи, что выдумали… да что мне в вашем племяннике? Я о нем столько же забочусь, сколько вы сами… Вот хоть бы сахару выдали вы, сударь, шесть кусков – обсчитали, нужно восемь.
– Послушай, Нанета, да ты с ума сегодня сошла, что ли? У него будет сахар, целых два куска, а я не буду пить кофе.
– Как, вы не будете пить кофе? На старости отвыкать от привычек трудно, сударь; да я вам на свои деньги куплю сахару.
– А тебе какое дело? Молчать!
Хотя сахар давно подешевел, но для старика он представлял самый драгоценный из колониальных товаров и был так же дорог, как и во времена Империи, когда один фунт его покупали за шесть франков. Гранде в то время привык скупиться на сахар, и не ему было отвыкать от своих привычек.
У женщины, умна она или нет, все-таки найдется столько хитрости, чтобы достать чего захотелось; Нанета бросила сахар и принялась опять за пирожное.
– Сударыня! – закричала она Евгении. – Ведь вам, верно, хотелось бы пирожного сегодня к обеду?
– Нет, совсем нет! – отвечала Евгения.
– Ну уж на, возьми себе муки! – сказал Гранде.
Он раскрыл кадочку с мукой, отмерил как можно меньше и прибавил чуть-чуть масла к прежде выданной порции.
– Нужно дров! – продолжала неумолимая Нанета.
– Возьми, сколько нужно будет, – уныло отвечал Гранде. – Но уж разом, чтобы не топить в другой раз, сделаешь нам пирог с фруктами и состряпаешь весь обед в печи; так тебе не придется дважды разводить огонь.
– Уж будто и не знаю!.. Лишние слова, сударь.
Гранде бросил на верную Нанету взгляд глубокой признательности, отеческой нежности.
– Ну, барышня, будет пирожное! – закричала в восторге Нанета.
Когда старик воротился с плодами и разложил их на столе, Нанета разговорилась с ним, по обыкновению:
– Посмотрите-ка, сударь, какие прекрасные сапоги у молодого барина! Что за кожа, да как она хорошо пахнет! А чем их чистить, сударь? Неужели вашей яичной ваксой?
– Послушай-ка, Нанета, яйцо их только испортит; скажи ему, что ты вовсе не умеешь чистить сафьян… да, да, ведь это сафьян! Пусть сам купит ваксы в городе. Я слышал, что в их ваксу caxapy разводят для блеска.
– Так ее есть можно, – сказала Нанета, понюхав сапоги. – Ах, сударь, да они пахнут одеколоном, вот чудеса!
– Чудеса! Хороши чудеса, – ворчал старик, – тратить на сапоги больше денег, чем стоит весь-то их хозяин! Глупость!
– Послушайте, сударь, уж, верно, раза два в неделю мы сделаем суп по случаю приезда…
– Ну да, да, что там еще?
– Да вам, сударь, стало быть, придется сбегать на рынок за говядиной.
– Совсем не нужно: сделай бульон из дичи, тебе принесут дичи; скажи Корнулье, чтобы настрелял ворон. Вороний бульон всего лучше!
– Ах, сударь, ворон – гадкая птица: клюет мертвечину да всякую падаль!
– Дура ты, едят, как и мы, все, что Бог им пошлет; разве мы сами не щиплем мертвечину? А наследство-то, а наследники-то?
Не было больше никаких приказаний; Гранде взглянул на часы и, видя, что до завтрака осталось еще добрых полчаса, пошел в сад к своей дочери. Поздоровавшись, он сказал ей:
– Пойдем-ка погулять по берегу Луары на луга; мне там нужно кое на что посмотреть.
Евгения надела свою соломенную шляпу, подбитую розовой тафтой. Старик и дочь сошли вниз по улице на площадь.
– Что так рано? – сказал Крюшо-нотариус, попавшись им навстречу.
– А вот кое на что посмотреть, – отвечал чудак, разгадав причину встречи с Крюшо.
Когда Гранде шел посмотреть кое на что, так уж нотариус знал наверно, что можно при этом выиграть кое-что. Крюшо присоединился к гуляющим.
– Пойдемте же с нами, Крюшо, – сказал Гранде, – вы наш домашний, с вами таиться нечего, пойдемте-ка; я хочу вам доказать, какая страшная глупость – садить тополя на хороших лугах.
Крюшо разинул рот от удивления:
– Так, стало быть, вы позабыли, что за тополя на Луаре получили вы добрых шестьдесят тысяч франков? Что это для вас – так, ничего? Правда и счастие: именно тогда срезали, когда в Нанте нужно было строевого лесу. Продали по тридцати франков штуку.
Евгения слушала равнодушно, не предчувствуя, что настанет для нее роковая минута, когда нотариус заставит Гранде высказать свою волю о судьбе своей дочери.
– Слушайте, Крюшо, – сказал Гранде, когда все пришли на прекрасные заливные луга его, где тридцать работников планировали, очищали и засыпали ямы в тех местах, где были порублены тополя, – слушайте, Крюшо: видите, сколько места занимало здесь каждое дерево? Жан! – закричал он работнику, – обмеряй-ка поскорей со всех сторон яму.
– Бок восемь футов, – отвечал работник.
– Шестьдесят четыре квадратных фута потери, – продолжал Гранде. – У меня в этом ряду было триста тополей, не правда ли? Ну, так триста раз шестьдесят четыре фута терялось, да вдвое столько же по бокам, да посредине столько же, всего, положим, три тысячи вязанок сена.
– Стоит шестьдесят тысяч франков, – пособил Крюшо.
– Скажите две тысячи, потому что на триста или на четыреста франков будет отавы. Так, сосчитайте-ка, сколько будет в сорок лет с процентами на проценты.
– Ну, хоть сто тысяч, – объяснил нотариус.
– Ну, хоть сто тысяч, – переговорил скряга, – ну, так две тысячи пятьсот сорокалетних тополей не дали бы мне и семьдесят пять тысяч франков. Потеря! Я рассчитал это, Жан! Засыпь везде ямы, кроме тех, которые у реки; там посадишь молодые тополя, вот что купил я недавно… Там, у реки, они будут на казенном содержании, – продолжал он, обращаясь к Крюшо, причем шишка на носу его стала легонько пошевеливаться, что означало в нем самую едкую иронию.
Изумленный, Крюшо смотрел на своего клиента в каком-то обожании.
– Ясно, ясно, – повторял нотариус, – невыгоднее садить деревья на заливных лугах!
– Да, сударь, – отвечал бочар.
Евгения не слушала расчетов своего отца и смотрела на величественный вид пышного течения Луары; но вдруг слова Крюшо поразили ее, и она стала прислушиваться.
– А что, Гранде, к вам приехал из Парижа зятюшка? А? Только и речи в Сомюре что о вашем племяннике. Не приготовить ли мне контракта… а? Гранде!
– Вы вышли пораньше, чтобы разузнать об этом, Крюшо, – сказал Гранде с насмешкой. – Ну, старый товарищ, нам скрываться нечего, я вам, пожалуй, скажу… Видишь ли, я лучше брошу дочь в Луару, чем отдам ее за кузена… Можешь всем рассказать. Впрочем, не рассказывай, пусть их еще подурачатся, посплетничают. Евгения едва устояла на ногах, услышав ответ отца своего. В один миг все надежды, все мечты, едва расцветшие в сердце ее, были смяты, разорваны, уничтожены. Она почувствовала, что уже судьба ее соединена с судьбой Шарля и что начинается для нее время любви, страданий и горести. Не в благородном ли назначении женщины быть величественнее в страдании и бедствии, чем в счастии и роскоши? Как могло чувство родительское исчезнуть в сердце отца ее? Чем виноват бедный Шарль? Для Евгении это было загадкой. Едва зародившаяся любовь ее была окружена страшной таинственностью. Она трепетала от страха; природа не улыбалась ей более; все дышало грустью, навевало уныние, и старая сомюрская улица, по которой они все трое возвращались домой, показалась ей темнее и мрачнее вдвое прежнего. За несколько шагов от их дома она опередила отца и постучалась в двери. Но Гранде, увидя в руках нотариуса газету еще под бандеролью, остановился поговорить с ним.
– Ну, как курсы, Крюшо, как курсы?
– Ах, Гранде, вы не хотите меня послушаться; покупайте скорее, покупайте немедленно: можно еще выиграть по двадцати на сто в два года, не считая пресоблазнительных процентов. Пять тысяч ливров дохода, и стоят только восемьдесят тысяч франков, по восемьдесят франков пятьдесят сантимов!
– А посмотрим, посмотрим! – сказал Гранде, поглаживая подбородок.
– Боже! – закричал нотариус.
– Ну, что там, что там? – говорил Гранде, вырывая газету из рук его.
– Читайте, читайте здесь, Гранде; вот это!..
«Г-н Гранде, один из наиболее уважаемых негоциантов парижских, застрелился вчера, после обычного появления своего на бирже. Перед смертью он послал свое отречение президенту Палаты депутатов, равно как сложил с себя свое звание в коммерческом суде. Банкротство гг. Рогена и Суше, биржевого маклера и нотариуса покойного Гранде, были причиной его разорения и смерти. Впрочем, уважение и кредит, приобретенные им между своими товарищами, могли бы спасти его. Сожалеют, что человек, столь всеми уважаемый, Гранде, не устоял против первого порыва отчаяния…», и т. д., и т. д.
– Да, я знал еще вчера, – сказал бочар. Нотариус был, как и все нотариусы, холодный, расчетливый, деловой человек; но озноб пробежал по всему телу его при мысли, что самоубийца-брат, может быть, тщетно молил о помощи десятимиллионного Гранде сомюрского.
– А сын его? Он был так весел вчера…
– Он еще ничего не знает, – отвечал старик с прежним хладнокровием.
– Прощайте, Гранде, – сказал Крюшо, поспешно раскланиваясь.
Он понял все и побежал к племяннику своему, президенту де Бонфону, с успокоительными вестями.
Завтрак был уже подан, когда гулявшие возвратились. Евгения бросилась на шею к своей матери, влекомая избытком ощущений, скопившихся в сердце ее. Г-жа Гранде, по обыкновению, сидела в своих креслах у окна и вязала для себя зимние рукава.
– Завтракайте одни, – сказала Нанета, торопливо сбежав с лестницы. – Он еще спит, как херувимчик! Какой хорошенький! Я взошла к нему, звала; куда, еще не просыпается!
– Да пусть спит, – сказал Гранде. – Беда не за горами, время всегда найдется.
– Что такое? – спросила Евгения, опуская в свой кофе два маленьких кусочка сахару, во сколько-то гранов каждый (работа старика, который в досужие часы сам колол свой сахар).
Г-жа Гранде, не смевшая спросить мужа, с беспокойством ожидала его ответа на вопрос Евгении.
– Отец его застрелился.
– Дядюшка! – вскричала Евгения.
– Бедный молодой человек! – сказала г-жа Гранде.
– Да, бедный, бедняга, нищий! – отвечал скряга. – У него нет ни единого су.
– Ну а он спит, как король! – проговорила сквозь слезы Нанета.
Евгения перестала есть; сердце ее сжалось мучительно, тоскливо, как сжимается сердце влюбленной женщины, трепещущей за жизнь своего любовника. Слезы хлынули из глаз бедной девушки.
– Вот! Да разве ты знала своего дядю! – сказал Гранде, бросив на дочь взгляд голодного тигра, один из тех взглядов, которые он кидал, вероятно, на свои кучи золота. – Ну, зачем же ты плачешь?
– Да кто же и не заплачет-то, сударь, глядя на этого бедняжку! – сказала Нанета. – Спит себе мертвым сном; ему горе и во сне не грезится.
– С тобой не говорят. Молчи!
Тут Евгения узнала, что женщина, которая любит, должна скрывать свои чувства. На вопросы отца она не ответила.
– Не говорите ему ничего до моего возвращения, держите язык за зубами; слышите ли вы меня, госпожа Гранде? А мне нужно еще посмотреть на лугах за работой. Когда я ворочусь, к полднику, так сам поболтаю с ним… Ну а ты, дочка, если ты хнычешь по этом красавчике, так предупреждаю тебя, что напрасный труд; усадим да и пустим его в Индию, за море, – недолго полюбуемся им… Слава богу!
Старик взял свои перчатки с полей шляпы, намел их, расправил на пальцах и вышел. – Ах, матушка, мне дурно! – закричала Евгения по уходе своего отца. – Я никогда так не мучилась!
Г-жа Гранде поспешно отворила окно, воздух освежил Евгению.
– Мне легче, – сказала она.
Бедная мать испугалась за дочь свою; как мать, она поняла все и с каким-то невольным сочувствием смотрела на Евгению. Сказать правду, жизнь и дружба известных венгерских сестриц-близнецов, сросшихся вместе, может быть, не могла бы сравниться с дружбой этих двух женщин, живших вместе, молившихся вместе, спавших вместе, в одной комнате.
– Бедное, бедное дитя! – сказала г-жа Гранде, прижимая дочь к сердцу.
Евгения подняла голову, устремила на мать глубокий, вопрошающий взгляд и, разгадав ее мысли, сказала:
– Зачем посылать его в Индию? Он несчастлив, мы его родные, мы должны помочь ему.
– Правда твоя, друг мой; но у отца твоего другие намерения, и мы не должны осуждать их.
Обе замолчали – одна на своем стуле с подставкой, другая в своих маленьких креслах – и принялись каждая за свое рукоделие. Но вдруг Евгения, побужденная влечением сердца своего, схватила руку доброй матери и набожно поцеловала ее. Сердце ее кипело любовью.
– Как ты добра, ангел мой, милая, добрая маменька!
Лицо старушки, иссушенное долголетними страданиями, засияло небесной радостью.
– Тебе он нравится, не правда ли? – спросила Евгения.
Г-жа Гранде улыбнулась; но после минутного молчания она тихо спросила Евгению;
– Ты полюбила его? Ах, друг мой, нехорошо.
– Нехорошо? Отчего это? Да он всем нравится: тебе, мне, Нанете; отчего же не любить его? Полно, мамаша! Приготовьте-ка лучше ему завтрак.
Она бросила работу.
– Дурочка, – сказала ей мать и встала вместе с ней, но ей было отрадно оправдывать безрассудство дочери, разделяя его.
Евгения кликнула Нанету.
– Ну, что вам еще нужно, хорошенькая барышня?
– Нанета, будут у нас сливки к полднику?
– К полднику? Будут, это дело другое.
– Так приготовь кофе как можно крепче; я помню, де Грассен говорил когда-то, что в Париже любят пить кофе самый крепкий. Клади его как можно больше, Нанета.
– Хорошо, хорошо! Да где взять-то его, сударыня?
– Да купи, вот деньги…
– А если барин меня встретит, что…
– Не встретит, не встретит! Он ушел на луга.
– Бегу, бегу сию минуту! Но, знаете ли, сударыня, вчера господин Грондар уже изволил меня спрашивать, когда я пришла за восковой свечкой в его лавку: что, дескать, не остановились ли у нас три царя восточных? Ведь в городе уже заболтали о наших пирах да праздниках.
– Ежели муж заметит что-нибудь, право, он в состоянии будет прибить нас, – сказала г-жа Гранде.
– Да, пожалуй! Я не буду ни плакать, ни жаловаться, мамаша, и на коленях приму его удары.
Г-жа Гранде возвела взоры к небу. Нанета надела чепец и вышла.
Евгения выдала столовое белье и побежала на чердак – взять оттуда несколько кистей винограда, которые она сама развесила там на веревке. Тихо прошла она по коридору, чтобы не разбудить Шарля, но, проходя мимо двери его комнаты, услышала легкое дыхание спящего.
«Горе созрело, а он еще спит», – подумала Евгения.
Она набрала самых свежих виноградных листьев и с искусством старого дворецкого кокетливо, изящно убрала ими тарелку винограда. Тарелка была торжественно поставлена на стол, после чего взяты были из кухни утром отсчитанные отцом груши: они составили прекрасную пирамиду между виноградными листьями. Евгения ходила, бегала, прыгала. Ей бы очень хотелось похозяйничать в доме по-своему, но все было приперто, и ключи у отца. Нанета, возвратившись, представила Евгении пару свежих яиц. Евгения чуть не прыгнула ей на шею.
– Мне предложил эти яйца лаландский фермер из вежливости, а я и взяла их… Добрый старик!
Наконец после двухчасовых трудов, в продолжение которых Евгения двадцать раз бросала свое рукоделие, чтобы присмотреть за кофе, чтобы пойти послушать, встает ли кузен ее, кое-как сочинялся завтрак, хотя очень, очень скромный, но который мог бы почесться пиршеством – так резко не гармонировал он со всегдашними обычаями и правилами этого дома. Обыкновенно завтракали они всегда стоя, то есть ели немножко хлебца, плодов или выпивали стакан вина. Но теперь, видя накрытый стол с придвинутыми креслами, видя целых две тарелки с плодами, бутылку белого вина, хлеб и сахар, Евгения невольно вздрогнула, подумав только, что бы всем было, если бы старик вошел в эту минуту. Евгения стала беспокойно поглядывать на часы, рассчитывая время до возвращения отца.
– Не беспокойся, Евгения, – сказала г-жа Гранде, – если неравно придет отец, то я все возьму на себя.
Евгения не могла удержаться от слез при словах своей матери.
– Матушка, добрая матушка, – сказала она, – я не умела ценить тебя до сих пор!
Шарль, пройдя несколько раз по комнате, пропев несколько куплетов, явился наконец в залу. К счастию, было только одиннадцать часов. Парижанин оделся так изящно, как будто бы находился в замке той знатной барыни, которая теперь путешествовала по Шотландии. Он вошел весело и свободно; веселый вид украшает юность, но сердце сжалось у Евгении. Шарль утешился уже насчет анжуйских замков и весело поздоровался со своей теткой.
– Хорошо ли вы провели ночь, тетушка? Здоровы ли вы, кузина?
– Хорошо, а вы? – отвечала г-жа Гранде.
– Я? Бесподобно…
– Не угодно ли вам завтракать, братец? Садитесь!
– Но я никогда не завтракаю ранее полудня, когда просыпаюсь. Однако я так плохо жил в дороге, что с удовольствием последую вашему совету. Притом…
И он вынул из кармана самые восхитительные плоские часы, какие когда-либо смастерил Брегет.
– Ага, только одиннадцать часов. Я рано встал сегодня.
– Рано! – сказала г-жа Гранде.
– Да, но мне нужно было кое-чем заняться… Ну, так я с аппетитом съем что-нибудь… так, цыпленка или куропатку…
– Пречистая Дева! – воскликнула Нанета.
– Куропатку! – шептала Евгения; она бы теперь все отдала за одну куропатку.
– Садитесь же, – сказала г-жа Гранде.
И наш денди развалился на диване, как хорошенькая женщина. Евгения с матерью придвинули поближе к столу свои стулья.
– Вы всегда здесь живете? – спросил Шарль, озирая эту залу, причем комната днем показалась ему еще скучнее, чем при свечах.
– Всегда, – отвечала Евгения, – кроме времени сбора винограда, тогда мы все помогаем Нанете и поселяемся в Нойеском аббатстве.
– Часто вы прогуливаетесь?
– Иногда, – сказала г-жа Гранде, – в воскресенье после вечерни, когда погода хорошая; тогда мы ходим на мост или на луга, во время сенокоса.
– Здесь есть театр?
– Театр, актеры! – воскликнула г-жа Гранде. – Но ведь это смертный грех!
– Ну вот вам и яйца, – сказала Нанета, поставив тарелку на стол. – Вот вам и цыплята в яичной скорлупе!
– Как! Свежие яйца! Это бесподобно, – вскричал Шарль, который мигом позабыл о куропатках, подобно всем лакомкам, приученным к роскоши. – Если бы еще немного масла… – прибавил он. – Ну-ка, Нанета!
– Масла? – сказала добрая служанка. – Ну, тогда проститесь с пирожным.
– Да дай же масла, Нанета! – закричала в нетерпении Евгения.
Она смотрела на своего кузена и на завтрак, ею приготовленный, с каким-то тайным торжественным наслаждением, как парижская гризетка смотрит на мелодраму, где торжествует невинность. Правда, что и Шарль, воспитанный умной, нежной матерью, перевоспитанный и усовершенствованный женщиной большого света, был ловок, грациозен, как хорошенькая кокетка.
Есть какой-то магнетизм сочувствия в нежной внимательности молодой девушки. Шарль не мог не заметить, не мог устоять против ласкового, милого внимания своей кузины и бросил на нее взгляд, блиставший нежным, неизъяснимым чувством. Он заметил тогда всю прелесть и гармонию лица ее, невинность приемов, магнетический блеск ее взора, сиявшего юной любовью и неведомым желанием.
– Право, прекрасная кузина, – сказал он, – если бы вы явились в ложе Парижской оперы и в блестящем наряде, то я вас уверяю, что все мужчины вздрогнули бы от удивления, а женщины от зависти.
Сердце Евгении затрепетало от радости.
– Вы насмехаетесь, кузен, над бедной провинциалкой.
– Если бы вы знали меня, кузина, то не сказали бы этого. Знайте же, что я ненавижу насмешку, она губит сердце, уничтожает всякое чувство…
И он премило откусил ломтик от своего бутерброда.
– Нет, сестрица, я совсем не так остроумен, чтобы быть насмешником, и, признаюсь, это мне даже вредит. Видите ли, в Париже есть особенная система – одним словом убить, уничтожить человека. Стоит, например, сказать: у него доброе сердце, и это значит, что бедняга глуп, как носорог. Но так как я, во-первых, богат, а во-вторых, не даю промаху из пистолета, то насмешка поневоле щадит меня…
– Это показывает, милый племянник, что у вас доброе сердце, – сказала г-жа Гранде.
– Какой у вас миленький перстень, – поспешила сказать Евгения. – Можно взглянуть на него?
Шарль протянул свою руку, и Евгения покраснела, когда, снимая кольцо, дотронулась до его тонких, длинных, белых пальцев.
– Посмотри, какая работа, маменька!
– И, да сколько тут золота! – сказала Нанета, поставив на стол кофейник.
– Как, что это? – смеясь, спросил Шарль, увидев продолговатый глиняный горшок, полированный под фаянс внутри, покрытый пеплом и золой снаружи, в котором кофе то вскипал на поверхность жидкости, то медленно оседал на дно.
– Кофе кипяченый, – отвечала Нанета.
– А, любезнейшая тетушка, ну, я рад, что, по крайней мере, оставлю здесь по себе добрую память. Да вы отстали на целый век! Позвольте же изъяснить вам, как готовят кофе a là Chaptal, любезнейшая тетушка.
И он пустился в объяснения о том, как приготовляется кофе a là Chaptal.
– Ну уж если тут столько работы, – заметила Нанета, – так поздно мне этому учиться: не пойму, батюшка. Да к тому же некогда; кто будет ходить за коровой, доить, поить ее, покамест я буду возиться с кофе?
– Я буду ходить за ней, – сказала Евгения.
– Дитя! – заметила г-жа Гранде, взглянув на дочь.
И при этом слове вдруг все три, вспомнив о несчастии молодого человека, замолчали и взглянули на него с видом сострадания. Это поразило Шарля.
– Что с вами, кузина?
– Молчи, Евгения, – сказала г-жа Гранде, видя, что дочь готова проговориться, – ты знаешь, что отец твой хочет сам говорить с господином…
– Шарлем, тетушка.
– Ах, вас зовут Шарлем… это прекрасное имя! – сказала Евгения.
Предчувствуемые несчастия почти всегда сбываются.
Нанета, г-жа Гранде и Евгения, с трепетом помышлявшие о возвращении старика, вдруг услышали стук молотка, стук им знакомый, привычный.
– Это батюшка! – сказала Евгения.
Мигом она спрятала сахарницу, оставив несколько кусочков на столе. Нанета унесла яичную скорлупу. Г-жа Гранде выпрямилась, как испуганная серна. Шарль ничего не понимал в этом внезапном припадке комического страха.
– Что это с вами? – спросил он.
– Батюшка воротился, – отвечала Евгения.
– Так что же?
Старик вошел, пристально взглянул на стол, на Шарля и понял все.
– Ага, да у вас здесь пир горой ради дорогого племянничка! – сказал он без заикания. – Хорошо, хорошо, очень хорошо, прекрасно! Кот на крышу, мыши в амбар.
«Пир!» – подумал Шарль, не посвященный в таинства этого хозяйства.
– Дай-ка мне мой стакан, Нанета, – попросил старик.
Евгения подала ему стакан. Гранде вынул из кармана свой ножик, роговой, с широким лезвием, отрезал тартинку, намазал на нее крошечку масла и принялся есть стоя. В это время Шарль клал сахар в свой кофе. Гранде увидел на столе куски сахару, взглянул на жену свою, побледневшую от ужаса, и, подошедши к ней, сказал на ухо:
– Где ты это набрала столько сахару, госпожа Гранде?
– Нанета купила – было мало.
Невозможно описать ужас трех женщин в продолжение этой немой сцены. Нанета пришла из кухни взглянуть, чем все это кончится.
Шарль отведал свой кофе, кофе показался ему горьким, и он стал искать сахар.
– Чего ты там ищешь? – спросил чудак.
– Сахар… он был сейчас здесь.
– Подлей молока! Все равно, кофе и от этого будет сладок.
Евгения встала, взяла сахарницу и поставила ее на стол, хладнокровно смотря на отца. Уж конечно, парижанка, поддерживающая одними руками шелковую лестницу, по которой спускается ее любовник, спасающийся от ревнивого мужа, не выказала бы столько великодушия и самоотвержения, как Евгения, подав опять на стол сахар. Любовник, когда гордо покажут ему разбитую, искалеченную ручку, смоет слезами язвы, излечит их страстными поцелуями; он наградит свою подругу. Но Шарлю никогда не суждено было понять страшную тоску и ужас сердца Евгении, сердца, разбитого одним взглядом, брошенным стариком на дочь свою.
– Ты что-то не ешь, женушка, – сказал Гранде.
Бедная илотка подошла к столу, отрезала себе чуть-чуть хлебца и взяла грушу. Евгения с отчаянной смелостью подала отцу виноград.
– Покушай, папаша, на здоровье, – сказала она. – Братец, вы так же, не правда ли? Я нарочно для вас выбрала самые лучшие кисти.
– Да уж так, так! Не присмотри за ними, так они целый город растащат ради моего дорогого племянника! Когда ты кончишь, племянничек, так мы с тобой пройдемся по саду; мне нужно сообщить тебе одно совсем не сладкое известие.
Евгения и мать ее бросили на Шарля взгляд, в выражении которого он не мог ошибиться.
– Что означают эти слова, любезный дядюшка? После кончины моей доброй матушки… – тут голос его смягчился, задрожал, – трудно найти что-нибудь, что огорчило бы меня более.
– Любезный племянник, кто же может предузнать, какие испытания угодно будет ниспослать на нас Господу Богу нашему? – заметила госпожа Гранде.
– Та, та, та, та! – закричал Гранде. – Нужно тебя тут, с твоим вздором! Знаешь, племянничек, бешусь я, когда посмотрю на твои беленькие ручки!
И он протянул ему свои руки, или, лучше сказать, по ширине что-то вроде двух бараньих лопаток.
– Вот чем загребаются денежки, – сказал он, – а вы, сударь, свои ножки обувать изволите в кожу, из которой делаются наши бумажники! Да, да!.. Худо, худо, племянничек!
– Но о чем вы говорите, дядюшка! Пусть повесят меня, если я хоть одно слово понимаю!
– Пойдем со мной, – сказал Гранде, сложив свой ножичек, выпив остаток вина и отворяя дверь.
– Будьте тверды, братец, – проговорила Евгения.
Шарль вздрогнул от этого предостережения и молча отправился за своим странным дядюшкой. Евгения, г-жа Гранде и Нанета вошли в кухню, мучимые печальным любопытством; им хотелось хоть глазами следовать за двумя действующими лицами в драме, начинавшейся в аллее их маленького сырого садика.
Старик шел некоторое время молча. Нетрудно было объявить племяннику о смерти отца его; но Гранде чувствовал какое-то невольное сострадание, зная, что бедняк остался без гроша. Старик искал слов; ему хотелось смягчить жестокость страшного известия.
«Отец твой умер, племянничек! Это бы еще ничего; отцы всегда умирают прежде детей; но ты нищий, братец! Изобрети-ка что-нибудь ужаснее».
Чудак уже три раза прошелся по аллее взад и вперед, и все молча.
В радости или в горе, вообще в важных случаях жизни нашей, душа наша крепко сживается с малейшими обстоятельствами действия и с местом, где происходит оно. С каким-то странным, невольным вниманием смотрел Шарль на кусты маленького сада, на бледные, опадающие листья, на ветхие стены, страшные изгибы фруктовых деревьев… вообще замечал все живописные подробности, все оттенки обстоятельств этой печальной минуты!.. Эти мгновения остались навсегда в его памяти, запечатленные особой мнемотехникой страстей.
– Тепло, славное, прекрасное время! – сказал Гранде, вдыхая воздух.
– Да, дядюшка, очень тепло… но почему?
– Ну, видишь ли, мой милый… у меня… у меня есть пренеприятная новость… С твоим отцом случилось несчастие.
– Зачем же я-то здесь? Нанета! – закричал Шарль. – Лошадей! Прикажи привести лошадей! Разумеется, здесь можно без труда достать какую-нибудь повозку? – прибавил он, обращаясь к дяде, смотревшему на него с неподвижным лицом.
– Ни повозок, ни лошадей не нужно, – сказал наконец Гранде.
Шарль остолбенел, побледнел, глаза его с ужасом устремились на дядю.
– Да, бедный друг мой, ты догадываешься; он умер! Но это бы ничего, а вот что дурно – он застрелился.
– Батюшка!
– Да, но это ничего… Об этом кричат все газеты, как будто бы они имеют на это какое-нибудь право. На, смотри…
И старик подал ему газету, взятую им на время у Крюшо. Тут Шарль, еще юноша, еще в возрасте чувства и впечатлений, не выдержал и залился слезами.
– Ну, ну, хорошо!.. Вот хорошо, а то меня пугали эти глаза не на шутку… Он плачет. Ну вот он и спасен, слава богу!.. Ну, слышишь ли, дружочек, это бы все ничего, это ничего, ты поплачешь теперь, а потом успокоишься, но…
– О, никогда, никогда! Батюшка, батюшка!
– Но ведь он разорил тебя, у тебя нет ничего, ни су.
– А, что мне до того, что мне до денег? Где батюшка, где мой отец?
Плач и рыдания вырывались из груди его. Женщины, свидетельницы этой сцены, тоже плакали; слезы, как и смех, заразительны. Шарль, ничего не понимая и не слушая более, выбежал из сада, вбежал по лестнице в свою комнату и, рыдая, бросился на постель.
– Пусть его плачет, пусть первый припадок пройдет, – сказал Гранде, входя в комнаты.
Евгения с матерью были уже на своих местах и, отерши наскоро глаза, с дрожащими руками трудились над своей работой.
– Но этот юноша ни на что не годен; он занят больше мертвецами, чем деньгами.
Тяжело стало сердцу Евгении, когда услышала она равнодушные, сухие слова отца, говорившего о самой святой добродетели и обязанности человека; с этой минуты она невольно стала судить поступки отца в своем сердце. Рыдания Шарля, хотя и заглушаемые им, раздавались по всему дому, и стоны его утихли постепенно только к вечеру.
– Бедный молодой человек! – сказала г-жа Гранде.
Несчастное восклицание! Старик взглянул на жену, потом на дочь, потом на сахарницу; наконец, припомнив необыкновенный, торжественный завтрак, приготовленный для их несчастного родственника, он напустился на всех.
– Надеюсь, госпожа Гранде, – начал он со своим обыкновенным хладнокровием, – я надеюсь, что пора вам кончить мотовство и грабеж моего дома… Или вы хотите обсахарить эту куклу на мои денежки?
– Матушка ни в чем не виновата, – перебила Евгения, – я одна…
– А не потому ли, что ты уже совершеннолетняя, вздумалось тебе идти наперекор моей воле? Послушай, сударыня…
– Но он нам родственник, сын брата вашего не мог нуждаться…
– Та, та, та, та! – запел старик на четыре хроматических тона. – И племянник, и родственник, и сын брата вашего!.. Знай же, сударыня, что он для нас нуль, ничего, чужой, у него нет ни су, он нищий, отец его обанкротился, и когда красавчик наплачется здесь вдоволь, так мы с ним подобру-поздорову раскланяемся; не хочу, чтобы весь мой дом пошел вверх дном от него.
– Что такое обанкротиться, батюшка? – спросила Евгения.
– Обанкротиться? Это значит сделать самую низкую подлость, самое черное, неблагородное дело, – отвечал старик.
– Должно быть, это ужасный грех, – сказала старушка. – Братец будет горько страдать на том свете.
– А ты вечно будешь читать свои проповеди, – сказал, пожимая плечами, Гранде. – Обанкротиться, Евгения!.. Банкротство – это кража, которую, к несчастию, закон берет под свою защиту… Люди вверили свое имущество Гильому Гранде, поверили ему на честное слово, на его доброе имя; он у них забрал все – и поминай как звали; у бедных остались одни глаза, чтобы плакать! Да разбойник на большой дороге честнее банкрота: разбойник нападет, от него отбиваются, он головой рискует, а банкрот… Брат мой обесчестил навек своего сына.
Страшные слова тяжело отдались в благородном сердце Евгении. Она не имела никакого понятия о свете, о его верованиях и софизмах, она была чиста и невинна сердцем и ничего не знала, расцветая в глуши, как пышный цветок в дремучем лесу. Она поверила жестокому, безжалостному объяснению банкротства, и ей не объяснили неизмеримой разницы банкротства невольного, следствия непредвиденных несчастий, от банкротства, устроенного плутовством и бесстыдством.
– А вы, батюшка, вы никак не могли воспрепятствовать этому несчастию?
– Мой братец со мной не советовался; притом он задолжал два миллиона.
– А что такое миллион, батюшка? – спросила Евгения с наивностью дитяти, желающего как можно скорее достать то, что ему вдруг захотелось.
– Миллион? – сказал старик. – Это миллион монет в двадцать су, а нужно пять монет в двадцать су, чтобы вышло пять франков.
– Господи боже мой, – вскричала Евгения, – да как это могло быть у дядюшки столько денег! Неужели есть еще кто-нибудь во Франции, у кого было бы два миллиона?
Старик потирал свой подбородок, гримасничал, улыбался, и, казалось, шишка на носу его шевелилась и двигалась.
– А что будет с братцем? – продолжала она. – Он отправится в Индию; это будет, по крайней мере, по желанию отца его. Там он постарается себе сколотить деньгу. А есть ли у него деньги на проезд, батюшка?
– Я заплачу за него… до Нанта.
Евгения прыгнула на шею отца:
– Ах, батюшка, ты добр! Милый, добрый батюшка!
Она так целовала отца, что скряге стало как-то стыдно, совесть немного щекотала его.
– Много ли нужно времени, чтобы скопить миллион? – спросила она.
– Ну, – сказал бочар, – ты ведь знаешь, что такое луидор? Нужно пятьдесят тысяч таких луидоров, чтобы набрать миллион.
– Маменька, будем мы справлять поминки? – спросила Евгения г-жу Гранде.
– Я уже думала об этом, – отвечала она.
– Ну, так и есть, тратить деньги! Да что же вы думаете? Что у нас сотни, тысячи, сотни тысяч франков, что ли?
В эту минуту страшный, пронзительный вопль Шарля раздался по всему дому. Мать и дочь затрепетали от ужаса.
– Посмотри там, Нанета, – сказал Гранде, – взгляни, что он там, зарезался, застрелился, что ли? Ну, слушайте вы тут, – продолжал он, оборотясь к жене и дочери, оцепеневшим от слов его, – не проказничать и сидеть смирно, а я пойду пошатаюсь около наших голландцев. Они едут сегодня; потом зайду к Крюшо; нужно и с Крюшо поболтать.
Он отправился, мать и дочь вздохнули свободнее. Никогда еще Евгения не притворялась, не вынуждала себя перед отцом. Теперь же она принуждена была скрывать свои чувства, говорить о другом и первый раз в жизни удалиться понемногу от правды.
– За сколько луидоров продается бочка вина, матушка?
– Отец твой продает свое вино по сто пятьдесят, по двести, иногда и по триста франков, как я слышала.
– Так если батюшка собирает в год по тысяч с четыреста бочек вина…
– Не знаю, друг мой, сколько у него доходу; твои отец никогда ничего не говорит о делах со мной.
– Батюшка, кажется, очень богат.
– Может быть. Но господин Крюшо говорил мне, что назад тому два года отец твой купил Фру а фонд, и, может быть, теперь у него нет денег.
Евгения, не понимая более ничего, перестала расспрашивать.
– Какое! И не взглянул на меня, мой голубчик, – сказала, возвратившись, Нанета. – Лежит себе на кроватке, плачет-заливается, прости господи, словно Магдалина.
– Пойдем к нему, мамаша; мы успеем сойти, когда войдет батюшка.
Г-жа Гранде не могла противиться нежной, трогательной просьбе своей Евгении. Дочь ее в эту минуту была хороша, прекрасна – она была женщина.
Обе они вошли к Шарлю потихоньку, но сердца у обеих бились сильно. Дверь была отворена, несчастный ничего не слыхал, он только обливался слезами.
– Как он любит своего отца! – сказала Евгения шепотом.
Нельзя было ошибиться, не узнать, не прочитать всего в сердце Евгении. Г-жа Гранде взглянула на нее взглядом, в котором отражалась вся материнская нежность ее, потом сказала ей на ухо:
– Берегись, дитя мое! Ты его уже любишь, друг мой!
– Его любить! – сказала Евгения. – Ах, если бы ты знала, что говорил утром батюшка!
Шарль повернул голову и увидел свою кузину и тетку.
– Я потерял отца! Я лишился его, моего бедного, несчастного отца! О, если бы он открылся мне, вверился сыну, своему сыну, то этого не было бы; мы бы вдвоем работали, мы бы исправили несчастие наше! О боже мой, боже мой! Бедный батюшка! Я так был уверен, что расстаюсь с ним ненадолго, что, кажется… простился с ним холодно!.. – И рыдания заглушили слова его.
– Мы будем молиться за него, – сказала г-жа Гранде. – Покоритесь воле Всемогущего.
– Ваша потеря невозвратима; так подумайте о вас самих, о своей чести… Будьте мужественны, братец, – прибавила Евгения.
Ум, проницательность, такт женщины научили Евгению говорить. Она хотела обмануть горесть и отчаяние Шарля, дав им другую пищу.
Шарль быстро привстал на своей кровати.
– Честь моя! – закричал несчастный. – А, да, это правда, правда!.. Дядюшка говорил мне, что он обанкротился.
Из груди Шарля вырвался пронзительный крик; он закрыл лицо руками.
– Оставьте меня, оставьте меня, кузина! Боже, боже, прости ему! Прости самоубийце: он уже и так страдал довольно!..
Это чистое излияние сердца, эта неподдельная грусть, это страшное отчаяние не могли не найти себе отголоска в добрых и простых сердцах Евгении и ее матери; они поняли, что он желал быть один, что нужно оставить его.
Возвратясь в залу, они сели молча на места свои и работали с час, не прерывая молчания. Беглый взгляд Евгении – взгляд девушки, схватывающий все в мгновение ока, – успел заметить в комнате Шарля все роскошное хозяйство бывшего денди, все мелочи его туалета, ножики, бритвы, и все это отделанное, оправленное в золото. Этот проблеск роскоши, эти следы недавнего веселого времени делали Шарля еще интереснее в воображении ее; может быть, здесь действовало обыкновенное влияние противоположностей. Никогда еще для обеих обитательниц этого тихого, грустного жилища не было зрелища более ужасного, более драматического, более поразительного среди их безмятежного одиночества.
– Маменька, мы будем носить траур по дяденьке?
– Отец твой решит это, – отвечала г-жа Гранде. И опять молчание. Евгения работала, не обращая внимания на работу, как-то машинально. Наблюдатель угадал бы глубокую заботу в ее сердце: первым желанием этой прекрасной девушки было разделить траур своего кузена.
Около четырех часов раздался сильный удар молотка в двери. Сердце забилось у г-жи Гранде.
– Что это с твоим отцом? – сказала она.
Весело вошел бочар. Он снял перчатки, бросил их, потом потер руки, так что едва-едва не содрал с них всей кожи, если бы верхний покров ее не казался дубленым, как юфть, хотя и не пахнущим лиственницей и ладаном; потом он начал ходить, взад и вперед, посматривая на часы… Наконец секрет таки вырвался у него.
– Жена, – сказал он, не заикаясь, – я надул их всех! Вино наше продано! Голландцы и бельгийцы уезжали сегодня утром; я пошел гулять около их трактира как ни в чем не бывало. Тот, что ты знаешь, подошел ко мне. Все виноградчики прижались, спрятали вино, не продают, хотят подождать. Мне и дела нет, я не мешаю. Мой бельгиец был в отчаянии; я все вижу! Мы торгуемся, сходимся: по сто экю за бочонок, половину на чистые. Заплатили золотом, а на остальные написали векселя; вот тебе шесть луидоров, жена! Через три месяца цены понизятся.
Последнее было произнесено тихо, но с такой глубокой, злой иронией, что если бы сомюрцы, собравшиеся в это время на площади и толковавшие о сделке старика Гранде, услышали слова его, то задрожали бы от ужаса. Панический страх понизил бы цены на пятьдесят процентов.
– У вас тысяча бочек вина этот год, батюшка?
– Да, дочечка! (Словцо, означавшее высший порыв восторга старика Гранде.)
– Стало быть, триста тысяч франков? – продолжала Евгения.
– Так точно, мадемуазель Гранде.
– Так, стало быть, вы можете теперь помочь Шарлю, батюшка?
Удивление, гнев, столбняк Валтасара при виде знаменитого «Mani, Tekel, Pharés» были ничто в сравнении с тяжелым холодным гневом Гранде, который, позабывши о племяннике, вдруг встретил его в сердце, в голове, в расчетах своей дочери.
– Да это безбожно! Да здесь разбой! С тех пор как эта обезьяна у меня в доме, все пошло вверх дном! Покупается сахар, задаются пиры и обеды! Не хочу этого! Не хочу этого! Я знаю, как мне нужно вести себя на старости; ни от кого не приму советов! В мои дела не соваться! Я знаю, что сделать для моего племянника, знаю без вас!.. А ты, Евгения, изволь молчать, иначе отошлю с Нанетой в Нойе посмотреть, все ли там исправно, и завтра же, завтра же отошлю! А где он? Где наш красавчик? Где Шарль? Что, он выходил оттуда?
– Нет еще, друг мой, – отвечала полумертвая г-жа Гранде.
– Да что же он там делает?
– Он плачет о своем отце, – отвечала Евгения.
Гранде затих. Он ведь был и сам немножко отцом.
Пройдя раза два по комнате, он побежал наверх и заперся в своем кабинете. Там он начал раздумывать, куда бы ему пристроить свои денежки. Две тысячи десятин лесу дали ему восемьсот тысяч франков. Прибавив к этой сумме деньги за срезанные тополя, доходы за прошлый и настоящий год, он мог выложить чистыми два миллиона четыреста тысяч франков, кроме тринадцати тысяч экю, только что им вырученных. Очень, очень соблазняли его проценты двадцать на сто, о которых говорили они вчера с Крюшо. Гранде набросал план своей спекуляции на полях газеты, в которой было напечатано о самоубийстве его брата. Стоны племянника долетали между тем до него. Но он лишь слышал, а не слушал.
Наконец Нанета пришла звать его обедать. В дверях и на последней ступеньке он еще бормотал:
– По восьми процентов… и, если дело удастся… в два года будет у меня два миллиона… и чистым золотом, чистым золотом!.. Ну, где же племянник?
– Да он говорит, что не хочет обедать, сударь, – отвечала Нанета. – Ведь это нездорово, сударь.
– Тем лучше, тем лучше: больше экономии.
– Да, пожалуй, – сказала служанка.
– Ба! Наплачется, проголодается! Голод из лесу волка выживет.
Обед был молчалив и скучен.
– Друг мой, – сказала г-жа Гранде, когда сняли скатерть, – нужно нам надеть траур.
– Право, вы не знаете, наконец, что выдумать, куда бы деньги тратить, госпожа Гранде! Траур должен быть в сердце, а не на платье.
– Но, друг мой, траур по родном брате необходим, и даже церковь приказывает…
– Ну, так управьтесь там на шесть луидоров, вот что я дал, а мне дайте кусок крепа, с меня будет довольно.
Евгения молча возвела глаза к небу. В первый раз в жизни все святые и благородные ее верования были унижены и поруганы словами старого скряги.
Хотя наступивший вечер был, по обыкновению, похож на все вечера, проводимые в этом доме, но при всем том он был самый скучный и долгий. Евгения сидела, не отрываясь от работы и не дотрагиваясь до ящичка, подаренного ей накануне. Мать вязала свои шерстяные рукава. Гранде вертел пальцами битых четыре часа, погруженный в свои расчеты. Результаты их должны были удивить весь Сомюр с его округом.
Из гостей никто не являлся; в это время весь город только и говорил, что о штуке, сыгранной стариком Гранде, о банкротстве его брата и приезде племянника. Все были у де Грассенов; все собрались поболтать о делах, о винограде, о голландцах, и тут-то раздавались самые страшные выходки против старого бочара, который преспокойно смеялся в своем углу над всем городом.
Нанета пряла, и один шум колеса в самопрялке нарушал семейное безмолвие.
– Мы не теряем слов, нечего сказать, – проговорила Нанета, усмехнувшись и показав ряд огромных белых зубов своих.
– Ничего не нужно терять, – отвечал Гранде, стряхнув с себя нули, цифры, итоги и расчеты.
В перспективе блистали перед ним четырнадцать миллионов, и не далее как через три года; душа его плавала, грелась над кучами золота.
– Пойдем спать! Я за всех пойду прощусь с племянником. Не хочет ли он есть, в самом деле?
Г-жа Гранде остановилась в коридоре, чтобы послушать, что будет наверху. Более храбрая Евгения взбежала на две ступеньки.
– Ну что, племянничек, плачешь? Плачь, плачь! Что делать! Отец все-таки отец, но нужно все сносить терпеливее, друг мой. Вот ты здесь плачешь, а я о тебе забочусь, я старый добряк, друг мой. Ну, ну, поободримся немного; не хочешь ли стакан вина? В Сомюре вино подается даром, в одной цене, что чай в Китае. Но у тебя и свечки-то нет?.. Дурно, дурно! Нужно, чтобы было светло всегда, везде и во всем. – Гранде подошел к камину. – Ого, восковые свечи! И где это, черт их знает, они отрыли восковые свечи! Эти дуры сломают весь пол на дрова, чтобы сварить яичницу этому малому!
Мать и дочь, едва услышали последние слова старика, бросились в спальню, как испуганные мыши, и забились под одеяла.
– У вас рудники, верно, госпожа Гранде? – сказал старик, входя в спальню жены своей.
– Друг мой, подожди, я читаю молитвы, – сказала она дрожащим от страха голосом.
– А, чтобы черт побрал твоего Господа Бога, – пробурчал в ответ Гранде.
Скупые не веруют в будущую жизнь, в жизнь духовную, для них настоящее – все. Мысль эта в состоянии выказать настоящий характер нашей эпохи, когда деньги составляют все: законы, политику, нравы. Секты, книги, люди, учения – все сговорилось против веры, на которую уже восемнадцать веков опирается общество. Теперь меньше верят тайнам за могилой, и мысль о будущности за пределами нашего requiem исчезает перед грубым настоящим. Достичь per fas et nefas[1] земного рая роскоши, тщеславных наслаждений, иссушить сердце огнем ядовитых страстей, подобно тому как мученики терпели казни и пытки за бесплотную будущность, – вот общее верование, вот общая мысль, проявляющаяся всюду, даже в законах, в положениях жизни общественной. Вас спрашивают: сколько вы платите? вместо: что вы думаете? Когда весь народ усвоит подобное учение, что станется с государством?
– Кончила ли ты? – спросил наконец бочар.
– Я молюсь о тебе, друг мой.
– Это очень хорошо, так до завтра, госпожа Гранде, а покамест прощай!
Бедняжка заснула, как школьник, не доучивший урока, которому снится завтрашний день вместе с розгами и с гневом господина учителя.
В ту минуту когда она завернулась в одеяло от страха, чтобы ничего не видеть и не слышать, Евгения встала с постели, подошла к ней, тихо ступая босыми ногами, и поцеловала ее.
– Я скажу завтра все, добрая, милая матушка, я скажу, что это я.
– Нет, Евгения, он отошлет тебя в Нойе. Пусть уж так останется; ведь он же меня не съест.
– Слышишь ли, матушка?
– Что такое?
– Он все еще плачет.
– Ложись, моя милая, ты простудишься – пол сырой.
Так прошел торжественный день, имевший сильное влияние на судьбу богатейшей невесты Сомюра. Эта ночь была не так тиха и безмятежна для нее, как все прежние.
Весьма часто некоторые черты человеческой жизни нам кажутся совершенно невероятными, хотя они сбылись действительно. При быстрых необыкновенных переворотах судьбы человеческой исследователи почти всегда забывают осветить неясную сторону дела светом физиологии, то есть не разбирают в подробности причин, заключающихся не во внешней природе нашей, а глубоко, во внутренней, духовной. Может быть, мучительная страсть Евгении должна быть разобрана в своих тончайших фибрах и нитях, ибо страсть эта, как заметят некоторые, обратилась в болезнь, отравившую все существование девушки. Но многие исследователи скорее любят отречься от существования дела, чем трудиться, анализируя его, распутывая запутанные узлы и связывая порванные концы происшествий. Наблюдателям и физиологам довольно будет припомнить для объяснения внезапной страсти, так наивно укоренившейся в сердце Евгении, прежнюю жизнь ее. Это естественно: чем тише и мирнее были протекшие дни ее, тем сильнее воспрянули в сердце ее женское сочувствие и жалость к несчастию и бедствию Шарля.
Взволнованная дневными происшествиями, она не могла заснуть спокойно, просыпалась часто, стараясь прислушаться и угадать, что делалось в комнате Шарля; поминутно чудились ей вздохи и стоны его, так измучившие ее накануне. Он снился ей умирающим от горя, в бедности; под утро явственно услышала она страшное восклицание; она мигом оделась и побежала наверх.
Дверь в комнату Шарля оставалась отворенной. Свечка потухла, догорев до конца. Побежденный внезапно сном, Шарль заснул нераздетый, сидя в креслах и положив голову на постель. Евгения могла только вдоволь наплакаться, глядя на него, и налюбоваться на это прекрасное, чистое лицо, запечатленное глубокой горестью; глаза его распухли от слез и, смеженные сном, казалось, все еще плакали. Он видел сны, как люди, уснувшие с пустым желудком. Шарль симпатически угадал присутствие Евгении и, открыв глаза, увидел ее перед собой всю в слезах.
– Извините, кузина, – сказал он, вероятно не помня ни настоящего часа, ни места, где был.
– Мы принимаем в вас участие, братец. Мы хотели спросить вас, не нужно ли вам чего-нибудь? Вам надобно лечь, братец; вы и без того так утомились…
– Правда, кузина…
– Прощайте же, братец!..
И она убежала, краснея от стыда и задыхаясь от радости. Только одна невинность осмеливается на подобные выходки. Евгения, не трепетавшая возле Шарля, едва могла держаться на ногах в своей комнате. Ее жизнь, простая, бесхитростная, кончилась. Евгения начала размышлять и упрекать себя.
– Что подумает он теперь обо мне? Он подумает, что я люблю его.
Ничего не желала она более, как чтобы Шарль подумал именно это. Подлинное чувство обладает даром предвидения и знает, что любовь возбуждает любовь.
Какое странное, в самом деле, происшествие, неожиданное в жизни простой, неопытной девушки, – войти одной в комнату молодого человека! Не бывают ли в жизни мысли и поступки, которые для любящих душ равносильны святому обручению?
Час спустя Евгения, по обыкновению, вошла в комнату своей матери и помогла старушке одеться. Потом обе пошли в залу и сели на своих местах у окна, ожидая Гранде. Обе они были в том странном состоянии духа, когда в ожидании беды, наказания, сомнительной развязки тоска сжимает и холодит сердце, – чувство естественное! Даже домашние животные подвержены ему до такой степени, что кричат при самом слабом наказании, тогда как тихо переносят жестокую боль, причиненную собственной неосторожностью. Старик сошел наконец в залу, но чрезвычайно рассеянный, сказал несколько слов жене, поздоровался с Евгенией и сел за стол. Казалось, что вчерашние угрозы были забыты совершенно.
– А что делается у племянника? Смирен малютка, надо сознаться!
– Спит еще, сударь, – отвечала Нанета.
– Ну, тем лучше, так ему не надобно восковых свечей, – сказал бочар, насмешливо подмигивая одним глазом.
Такая неслыханная, неожиданная пощада, такая странная веселость поразили г-жу Гранде; она внимательно взглянула на мужа. Но чудак…
Здесь, может быть, не худо будет заметить, что в Турени, в Анжу, в Пуатье, в Бретани слово «чудак», которым мы часто обозначали старика Гранде, равно относится к старикам самого сварливого и злого характера, как и к самым терпеливым и незатейливым добрякам. Выражение это нисколько не предопределяет личных свойств индивида.
Итак, наш чудак встал со стула и взял свою шляпу и перчатки.
– Я пойду побродить, – сказал он, – нужно столкнуться с Крюшо.
– Послушай, Евгения, отец твой непременно задумал что-нибудь сегодня, – сказала г-жа Гранде.
И действительно, привыкши мало спать, Гранде более половины ночей своих проводил за предварительными вычислениями и расчетами. Таким образом, всякое замечание его, всякое суждение были безошибочны и основаны на расчетах заранее, что обеспечивало его планам их постоянную удачу. И весь Сомюр удивлялся господину Гранде.
Все человеческое могущество заключается в двух элементах: в терпении и времени. Могучие хотят и трудятся. Жизнь скупого есть одно из проявлений всей необъятной воли человеческой в одном частном лице, в индивидууме. Два начала составляют вместе жизнь скупца: самолюбие, жестокое и неумолимое, и твердая корысть; два элемента эти, будучи совокуплены, составляют одно – эгоизм; вот почему лицо скупого в драме или комедии возбуждает огромнейший интерес. Всякий подметит в ловко развитом характере скупого какую-нибудь сторону и своего сердца, часть своего внутреннего «я». Лицо скупого заключает в себе почти все обстоятельства жизни, почти все мелочи человеческие, все желания общественные. Сыщите человека без желания! Какое общественное желание не покупается золотом?
Действительно, Гранде что-то задумал, по выражению жены своей. Как и у всех скупцов, в характере его, в природе, вечно и неумолкаемо двигалось желание, какая-то ненасытная страсть законным образом цедить золото в свои сундуки из карманов ближнего. Перехитрить всех и каждого и потом презирать простаков, смеяться над ними – вот жизнь, власть, душа, могущество, гордость скупого. Скупец понимает терзания нищеты и бедности, он их постиг; он постиг агнца, ведомого на заклание, эмблему умирающего с голоду. Скупец сначала откормит своего агнца, обнежит его, потом его режет, потом его жарит, потом его ест – по правилам, терпеливо, методически. Презрение и золото – вот насущный хлеб для скупого.
Ночью блестящая мысль озарила Гранде – вот отчего утром переменился ветер. Он выдумал план посмеяться над парижанами, уничтожить их, втоптать их в грязь, раздавить их; он, старый бочар, он заставит трепетать парижан. Поводом ко всему был племянник. Старику пришла в голову идея спасти честь своего покойного брата и уничтожить его банкротство, не истратив на все это ломаного гроша. Капиталы свои он положил на три года, он таки расстался наконец со своими сокровищами; теперь ему недоставало пищи духу, недоставало занятия, движения; он был без рук; нужно было найти занятие, изобрести его. Банкротство брата доставило ему и повод, и средства. Ему хотелось обеспечить судьбу Шарля, выказаться превосходным братом, преоригинальным чудаком дядюшкой – и все это даром, по цене самой умеренной. Честь дома Гранде была в стороне; ей и места не было в спекуляциях старика. Нет, с ним было то же, что бывает с отчаянными игроками, спустившими все до последнего су: они не отходят от стола и, сложа руки, с наслаждением смотрят на игру своих победителей, и это для них счастие, и это забава!
Крюшо необходимы теперь старику, но решено, что он сам к ним не пойдет. Пусть сами придут, тогда вечером начнется знаменитая комедия, а послезавтра в целом Сомюре только и речей будет о благодетельном родственнике, о превосходном брате – словом, о господине Феликсе Гранде сомюрском, и, главное, все это будет даром – не будет стоить ни единого су.
Глава IV. Обещания скряги. Клятвы любви
В отсутствие отца Евгения могла сколько хотела заниматься своим милым кузеном, могла излить на него все сокровища своего сердца – участие и сострадание. В этих двух добродетелях было все торжество, все проявление любви ее, и ей хотелось, чтобы чувствовали эти добродетели.
Три или четыре раза наведывалась она, спит ли Шарль или уже встал. Когда же он стал просыпаться, то опять пошли те же хлопоты, как и накануне. Сама она выдала тарелки, стаканы, сливки, кофе, яйца, фрукты. Потом опять взбежала наверх, опять приостановилась, чтобы послушать в дверях… Что-то он теперь делает? Оделся ли он? Плачет ли он опять? Наконец она постучалась:
– Братец!
– Это вы, сестрица?
– Да, Шарль. Где вы хотите завтракать, внизу или здесь, в вашей комнате?
– Где вам угодно, сестрица.
– Как вы себя чувствуете?
– Признаюсь вам со стыдом, милая сестрица, я голоден.
Этот разговор сквозь замочную скважину был целым эпизодом из романа Евгении, по крайней мере для нее.
– Так мы вам принесем завтракать сюда, чтобы не мешать после батюшке.
Она побежала в кухню:
– Нанета, поди прибери его комнату.
Ветхая черная лестница вдруг оживилась, заскрипела. Сколько воспоминаний рождала и потом эта лестница в сердце Евгении! Как часто она взбегала по ней! Даже сама старушка, добрая и сговорчивая, не в силах была противиться желаниям и маленьким капризам своей дочери, и, когда Нанета возвратилась сверху, обе пошли к Шарлю, чтобы утешить бедняжку и потолковать с ним. Посетить Шарля посоветовало им христианское братолюбие, и обе они не замечали, что уже другой день толкуют и вкось и вкривь Евангелие, применяясь к обстоятельствам.
Шарль Гранде мог оценить теперь все заботы, все попечения, на него изливавшиеся. Его уязвленное сердце узнало теперь сладость дружбы и необходимость сочувствия и сострадания. Евгения и мать ее знали, что такое тоска и страдание, и поспешили осыпать его всеми сокровищами своего сердца, дружбой и утешением.
По праву родства Евгения принялась прибирать и устанавливать все вещи Шарля, укладывать его белье, все туалетные принадлежности и могла вдоволь насмотреться на все роскошные безделки и прихоти модного денди, на все золотые игрушки, попадавшиеся ей под руку. Она брала их поочередно и каждую долго рассматривала. С глубоким чувством признательности принимал Шарль целительное участие своей тетки и кузины; он знал, что в Париже он встретил бы везде одну холодность и равнодушие. Он понял тогда всю прелесть сердца и души Евгении. Он удивлялся детской наивности ее характера, над чем еще вчера так бессмысленно насмехался. И когда Евгения, взяв из рук Нанеты фаянсовую чашку с кофе, поднесла ее своему кузену со всей прелестью дружеской услуги и приветливо улыбнулась ему, то глаза его наполнились слезами; он схватил ее руку и поцеловал.
– Что, что с вами? – спросила она.
– О, это слезы благодарности, сестрица!
Евгения быстро обернулась к камину, чтобы взять с него подсвечники:
– Возьми, убери их, Нанета!
Когда она опять взглянула на Шарля, щеки ее горели как огонь, но глаза уже могли лгать: они не выдавали сердца и радости, заигравшей в нем.
Но глаза их выразили одно и то же чувство, как и души их слились в одной и той же мысли: будущность принадлежала им. И это нежное волнение тем сладостнее оказалось для Шарля, чем менее мог он ожидать его среди своего безмерного горя.
Стук молотка возвестил отбой старушке и дочери, и обе едва успели сойти и усесться на своих местах. Гранде вошел вовремя, но, не будь они у окна, у старика тотчас явились бы подозрения. Чудак наш проглотил щепотку чего-то, что величалось завтраком. После завтрака явился Корнулье, лесной сторож и егерь г-на Гранде; жалованье было ему обещано, но только еще обещано; он явился из Фруафонда, неся в руках зайца и куропаток, застреленных в парке.
– A-а! Ну вот и наш Корнулье! С добычей, дружок! Что же, это вкусно, хорошо, а?
– Да, мой добрый, милостивый господин, свежее, только что застрелил утром.
– Ну, ну, Нанета, вертись скорее! Вот тебе провизия: сегодня у меня будут обедать двое Крюшо.
Нанета вытаращила глаза и смотрела на всех с недоумением.
– Ну а где же я возьму коренья и зелень?
– Жена, дай ей шесть франков да припомни мне сходить в погреб выбрать вина получше.
– Так вот что, добрый, милостивый господин мой, – начал Корнулье, между тем приготовивший в свою речь и просьбу о жалованье, – так вот что, милостивый и добрый господин мой…
– Та, та, та, та! – заговорил скупой. – Знаю, про что ты поешь; ты, брат, славный малый; я подумаю… но теперь я, видишь сам, занят, теперь некогда… Жена, дай ему экю! – И старик убежал.
Бедная жена рада была, поплатившись одиннадцатью франками за спокойствие и мир. Она знала, что Гранде молчал целых две недели, стянув у нее несколько франков.
– Возьми, Корнулье, – сказала она, подавая ему десять франков, – когда-нибудь мы припомним твои услуги.
Нечего было делать Корнулье, он отправился.
– Вот, сударыня, возьмите эти три франка назад, мне более трех не понадобится, – сказала Нанета, надевая свой темный чепчик и взяв в руки корзину.
– Постарайся получше обед приготовить, Нанета; братец тоже будет вместе с нами обедать.
– Право, сегодня необыкновенный день, – сказала г-жа Гранде. – Вот всего третий раз после нашей свадьбы, как муж мой зовет к себе гостей обедать.
Около четырех часов, когда Евгения кончила накрывать на стол, а старик воротился из погреба, неся с собой несколько лучших, заветных бутылок, Шарль появился в зале. Он был бледен, его жесты, его походка, взгляд, даже звук голоса – все носило отпечаток глубокой, благородной грусти и тихой задумчивости. Он не притворялся, он действительно страдал, и страдание, разлитое на лице его, придавало ему какую-то увлекательную прелесть, которая так нравится женщинам. Евгения полюбила его еще более; может быть, их сблизило одно несчастие; и в самом деле, Шарль уже не был более тем щеголеватым, недоступным красавцем, каким он явился к ним в первый раз. Нет! Это был бедный, всеми покинутый родственник, а бедность равняет всех. У женщины то общее с ангелами, что все страдальцы, все мученики принадлежат ее сердцу. Шарль и Евгения взглянули друг на друга и объяснились взглядом; сирота, падший денди стоял в углу комнаты спокойный и гордый; от времени до времени ему встречались нежные, ласковые взгляды Евгении, и он успокаивался, он покорно ловил отрадный луч надежды, блиставший ему в этом взоре, улетал далеко воображением и отдыхал в тихих, блестящих мирах неясных грез и мечтаний.
В эту минуту в Сомюре только и говорили, что об обеде у г-на Гранде в честь Крюшо; забыли уже об его вчерашнем предательстве при продаже вина. Если бы хитрец задавал обеды с той целью, которая стоила хвоста собаки Алкивиадовой, то он прослыл бы, может быть, великим человеком; но Гранде некогда было думать о Сомюре, над которым он возвышался и издевался беспрестанно.
Де Грассены, услышав про банкротство и самоубийство Гильома Гранде, решились отправиться к старику после обеда, пожалеть его, поскорбеть с ним вместе, утешить, если можно и нужно, и, между прочим, разузнать под рукой, на что позвали обоих Крюшо и зачем скряга тратился, чтобы кормить их обедом.
Ровно в пять часов президент де Бонфон с дядей-нотариусом явились, разодетые в пух и прах, по-парад-ному. Гости сели за стол и стали преисправно кушать. Гранде был важен и задумчив, Шарль молчалив. Евгения ничего не говорила, г-жа Гранде не сказала ничего лишнего, так что обед был настоящей поминальной тризной.
Когда встали из-за стола, Шарль сказал дяде и тетке:
– Позвольте мне уйти в мою комнату, мне нужно заняться долгой перепиской…
– Ступай, ступай, племянничек.
Потом, когда чудак рассчитал по пальцам время, нужное Шарлю, чтобы дойти в свою комнату и сесть за свои письма, он покосился на жену:
– Госпожа Гранде, то, что мы теперь будем болтать с приятелями, будет для вас всех сполна чистейшая латынь. Уже семь часов с половиной: пора бы вам на боковую, а? Прощай, Евгения. – Он поцеловал дочь, и обе они вышли.
Тогда-то началась знаменитая сцена, в которой Гранде выказал всю свою ловкость, искусство и навык справляться с людьми, – словом, все то, за что ему дано было лестное прозвание старой собаки теми, которые попробовали его зубов. Если бы старый мэр города Сомюра был честолюбив, если бы притом ему помогли обстоятельства, доведя его до высших степеней государственной администрации, то, бесспорно, Гранде оказал бы много пользы отечеству, употребив для него хоть половину своей ловкости и сметливости. Впрочем, может быть, чудак был рожден дивить только свой муравейник; может быть, с умами случается то же, что и с некоторыми животными, – бесплодие в новом климате.
– Го-госпо-один п-п-резидент, вы го-ого-вори-ли, что банк-банк-ротство…
Притворное заикание старика, которому почти все верили вследствие долголетия, так же как и глухота, на которую он жаловался по временам, в сырую погоду, было так несносно в эту минуту нетерпеливым, любопытным Крюшо, что они невольно, в комическом нетерпении, ломались, гримасничали и поводили губами, как будто бы хотели проговорить фразу, завязшую на губах старика. Здесь необходимо рассказать историю заикания и глухоты Гранде.
Никто в целой провинции не выговаривал и не слышал лучше старика Гранде. Когда-то, несмотря на всю свою хитрость и лукавство, скряга был надут одним жидом. Во время торга жид подносил руку к своему уху так натурально и так ловко заикался, что Гранде из сострадания, подобно обоим Крюшо, начал сначала пошевеливать губами, потом помогать жиду, подсказывать слова, фразы и наконец начал совсем говорить вместо жида, начал сам с собой торговаться вместо жида, сам из Гранде обратился в проклятого жида. Странный бой, из которого в первый раз в жизни своей старик вышел не победителем, а побежденным! Но, потеряв барыш, Гранде расчел, что он не в убытке, что он лишь дорогонько заплатил за урок, но уроком положил воспользоваться непременно при случае.
И чудак кончил тем, что благословил жида от чистого сердца, научившись у него искусству утомлять противника, заставлять его говорить за себя, а следовательно, сбиваться с собственного плана, с собственных мыслей. Никогда еще не представлялось ему более удобного случая развернуться вполне, показать в полной силе свои таланты по части заикательного искусства и глухоты, как теперь. Во-первых, ему не хотелось ясно высказаться; во-вторых, ему самому хотелось управлять разговором; наконец, в-третьих, он желал скрыть от своих слушателей свои настоящие намерения.
– Господин де Бон-бон-бон-бонфон…
За целых три года второй раз посулил теперь Гранде президенту де Бонфона. И президент подумал, что старик, по крайней мере теперь, хочет предложить ему руку своей дочери.
– Так вы говорили, что банк-банк-банк-ротст-ва могли бы быть уничтожены…
– Могут быть уничтожены коммерческими судами; да, это случается почти каждый день, – перебил президент, подхватив оборвавшуюся идею Гранде и думая, что совершенно угадал ее. – Слушайте!
– Слу-слу-шаю, – смиренно отвечал хитрец, смеясь внутренне, как дитя над учителем своим в школе.
– Вот положим, что человек почтенный и уважаемый, как ваш покойный братец в Париже…
– Мой брат! А? Да, да, ну!
– Вот если такой человек видит неминуемое падение своего дома…
– Па-а-адение, вы говорите па-па-дение?..
– Да, и когда банкротство неотразимо, то коммерческий суд (слушайте хорошенько), тот коммерческий суд, от которого он ближайшим образом зависит, имеет право назначить ликвидаторов. Ликвидировать еще не значит обанкротиться, понимаете? Банкрот обесславлен, а ликвидирующий остается честным человеком.