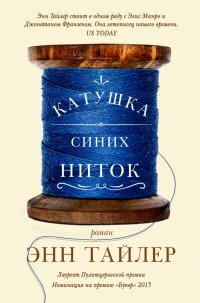Читать онлайн Уроки дыхания бесплатно
- Все книги автора: Энн Тайлер
Часть первая
Глава 1
Мэгги и Айре Моран нужно было поехать на похороны в Дир-Лик, штат Пенсильвания. Умер муж школьной подруги Мэгги. Дир-Лик стоял на узком провинциальном шоссе милях в девяноста от Балтимора, похороны были назначены на десять тридцать субботнего утра; значит, выехать следовало, решил Айра, около восьми. Настроение из-за этого было у него сварливым – Айра был не из ранних пташек. К тому же суббота – самый бойкий в его работе день, а замену себе не найти. Да еще и машина находилась на станции техобслуживания. Машина нуждалась в серьезном ремонте, и получить ее назад раньше восьми часов субботнего утра (время, когда открывалась станция) было никак нельзя. Айра сказал, что, может, им лучше просто-напросто никуда не ехать, но Мэгги ответила: надо. Она и Серина дружили с младенчества. Или почти с младенчества – сорок два года, начиная с первого класса школы мисс Киммель.
Подняться они собирались в семь, однако Мэгги неправильно поставила будильник, и оба проспали. Одеваться пришлось второпях, а на завтрак обойтись наспех заваренным кофе и хлопьями. Проглотив их, Айра пешком отправился в свою мастерскую, чтобы прилепить к двери записку для клиентов, а Мэгги пошла за машиной. Она надела лучшее свое платье, синее с белым рисунком и рукавами наподобие пелерины, и новенькие черные туфли-лодочки – похороны все-таки. Каблуки у туфель были не очень высокие, тем не менее быстро идти не позволяли: Мэгги больше привыкла к каучуковым подошвам. А тут еще колготки как-то перекосились в промежности, отчего шажки ей приходилось делать мелкие, неестественно ровные, и по тротуару она продвигалась, точно какая-нибудь коренастая заводная игрушка.
На ее счастье, станция находилась всего в нескольких кварталах от дома. В этой части города все было перемешано – небольшие каркасные дома, такие же, как у Моранов, а рядом ателье фотографов-портретистов, маленькая, способная обслужить лишь одну клиентку за раз парикмахерская, водительская школа и ортопедическая клиника. Но погода была чудесная: теплый, солнечный сентябрьский денек, и ветерок такой приятный – в самый раз, чтобы освежить Мэгги лицо. Она шла, приглаживая свою челку, которая все норовила закурчавиться и обратиться в вихор. Шла, сжимая под мышкой нарядную сумочку. Шла, потом повернула налево – вот и станция, «Кузов и Крылья». Облупившаяся зеленая дверь уже поднята, за ней, в пещерном нутре, стоит резкий запах краски, наводящий на мысль о лаке для ногтей.
Чек у Мэгги был заготовлен заранее, управляющий сказал, что ключи в машине, ничто ее не задерживало. Автомобиль – пожилой серовато-синий «додж» – стоял у задней стены гаража. Выглядел он лучше, чем в последние несколько лет: задний бампер выпрямлен, покореженная крышка багажника отрихтована, с полдюжины вмятин тоже, пятна ржавчины на дверцах закрашены. Айра прав: в конце концов, покупать новую машину им ни к чему. Мэгги уселась за руль, включила зажигание, и тут же заработало радио – «АМ Балтимор» Мела Спрюса, ток-шоу «Звоните – отвечаем». Ладно, пусть немного поработает. Она подправила сиденье – кто-то, выше Мэгги, слишком отодвинул его назад, – наклонила слегка зеркальце заднего вида. Собственное лицо уставилось на нее, круглое, чуть лоснящееся, с некоторой неуверенностью и как будто тревогой в голубых глазах, хотя на самом деле она всего лишь прищурилась, чтобы лучше видеть в полумраке. Включив передачу, Мэгги плавно поплыла к выезду на улицу, рядом с которым стоял, мрачно созерцая прикрепленную к двери его офиса доску извещений, хозяин станции.
Сегодня на «АМ Балтимор» обсуждался вопрос: «Что делает брак идеальным?» Позвонившая в студию женщина сказала: общность интересов. «Типа, когда вы смотрите по телику одни программы», – пояснила она. Мэгги вопрос об идеальном браке интересовал меньше всего, она уж двадцать восемь лет как замужем. Опустив стекло, Мэгги крикнула: «Ну, пока!» – и хозяин станции оторвал взгляд от доски.
Мягкий голос сказал по радио: «А я вот снова замуж собралась. В первый раз вышла по любви. По настоящей искренней любви, и ничего из этого не получилось. В следующую субботу выйду ради уверенности в завтрашнем дне».
Мэгги взглянула на шкалу настройки и спросила:
– Фиона?
Она собиралась нажать на тормоз, а нажала на акселератор и вылетела из гаража на улицу. Накативший слева фургон «Пепси» вмазался в ее переднее левое крыло – единственную часть машины, с которой ничего хоть в малой мере дурного до сих пор не происходило.
В далеком детстве Мэгги играла с братьями в бейсбол и, если ей случалось пораниться, уверяла их, что все у нее хорошо, потому что боялась, как бы они не выкинули ее из игры. Собиралась с силами и бегала, не прихрамывая, несмотря на мучительную боль в колене. Теперь она вспомнила об этом, и когда хозяин станции подбежал к ней с криком: «Какого… Вы целы?» – Мэгги, величаво глядя вперед, ответила: «Разумеется. А почему вы спрашиваете?» – и отъехала еще до того, как водитель «Пепси» выбрался из кабины. Судя по его лицу, с ним тоже все было в порядке. Однако, сказать по правде, крыло издавало весьма неприятный звук, примерно как пустая консервная банка, когда ее волокут по гравию, и потому, свернув за угол (двое мужчин, один чесал в затылке, другой размахивал руками, исчезли из зеркальца заднего вида), Мэгги остановилась. Фионы в эфире больше не было. Вместо нее какая-то женщина скрипучим тенором проводила сравнительный анализ своих пятерых мужей. Мэгги выключила двигатель и вышла из машины. Причину неприятного шума она обнаружила сразу: крыло вдавилось внутрь и цепляло покрышку – удивительно, что колесо вообще вертелось. Мэгги присела на бордюрный камень, взялась обеими руками за край крыла и потянула его на себя. (И вспомнила, как сидела на корточках в высокой траве дальнего поля и воровато, наморщась, отлепляла штанину джинсов от окровавленного колена.) Несколько хлопьев серовато-синей краски упали на подол платья. Кто-то прошел за ее спиной по тротуару, однако она, притворившись, что ничего не замечает, снова потянула крыло. На сей раз оно поддалось – не так чтобы очень, но от покрышки отлипло, и Мэгги встала и отряхнула руки. Потом снова забралась в машину, но примерно минуту просто сидела в ней. «Фиона!» – повторила она. А когда запустила двигатель, радио уже рассказывало что-то о банковских ссудах, и Мэгги его выключила.
Айра ждал ее перед своей мастерской, непривычный и странно франтоватый в темно-синем костюме. Над ним покачивалась на ветерке железная вывеска: БАГЕТНАЯ МАСТЕРСКАЯ СЭМА. РАМЫ, ПАСПАРТУ. ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОФРМЛЕНИЕ ВАШИХ ВЫШИВОК. Сэм был отцом Айры, но с тех пор, как обзавелся тридцать лет назад «слабым сердцем», бизнеса своего и пальцем не коснулся. Мэгги всегда брала «слабое сердце» в кавычки. И подчеркнуто игнорировала окна расположенной над мастерской квартиры, где Сэм влачил в тесноте свои праздные, брюзгливые дни в обществе двух сестер Айры. Наверное, он стоял сейчас у одного из окон, наблюдая за Мэгги. Она притормозила у бордюра и переползла на пассажирское сиденье.
Подходя к машине, Айра внимательно осматривал ее. Для начала он с довольством и одобрением окинул взглядом капот, однако, увидев левое крыло, остановился. Длинное, худое, оливковое лицо его вытянулось. Глаза, и без того настолько прищуренные, что трудно было сказать черные они или просто темно-карие, превратились в озадаченные, уставившиеся вниз щелки. Он открыл дверцу, сел и направил на Мэгги полный печали взгляд.
– Непредвиденная ситуация, – сказала Мэгги.
– Всего лишь между автостанцией и мастерской?
– Я услышала по радио Фиону.
– Каких-то пять кварталов! Всего-навсего пять или шесть.
– Айра, Фиона выходит замуж.
Машину он из головы выбросил, с облегчением отметила она. У него даже лоб разгладился. Несколько мгновений он смотрел на Мэгги, а потом спросил:
– Какая Фиона?
– Твоя сноха, Айра. Ты много Фион знаешь? Фиона, мать твоей единственной внучки, выходит замуж за какого-то совершенно неизвестного человека ради уверенности в завтрашнем дне.
Айра сдвинул сиденье назад и отъехал от бордюра. Казалось, он к чему-то прислушивался – возможно, к стуку колеса. Но, по-видимому, с крылом она надрывалась не зря.
– Где ты об этом услышала? – спросил он.
– По радио, пока вела машину.
– Теперь о таких штуках по радио объявляют?
– Она позвонила в студию.
– Ну, если хочешь знать мое мнение, это свидетельствует о… несколько завышенной самооценке, – сказал Айра.
– Да нет, она просто… и потом Фиона сказала, что Джесси – единственный, кого она любила по-настоящему.
– Так прямо по радио и сказала?
– Это же ток-шоу.
– Не понимаю я, почему нынче каждый норовит раздеться догола на глазах у публики, – сказал Айра.
– Как по-твоему, Джесси мог ее услышать? – спросила Мэгги. До сих пор ей это в голову не приходило.
– Джесси? В такое-то время? Да если он просыпается до полудня, так уже праздник.
С этим Мэгги спорить не стала, хоть и могла бы. На самом деле Джесси вставал рано, к тому же он по субботам работал. Айра просто хотел сказать, что Джесси лентяй, и вообще относился к сыну куда суровее, чем Мэгги. Не желал видеть даже половины его достоинств. Мэгги смотрела вперед, на скользившие мимо дома и магазины, на редких пешеходов с собаками. Нынешнее лето было самым сухим на ее памяти, тротуары белели, точно намазанные известкой. И в воздухе словно кисея повисла. Перед «Бакалеей для бедных» мальчик нежно протирал тряпочкой спицы своего велосипеда.
– Значит, ты выехала на Эмпри-стрит, – сказал Айра.
– Ммм.
– Там расположена станция.
– Ну да, на Эмпри-стрит.
– Потом направо на Даймлер…
Он снова вернулся к крылу. Мэгги сказала:
– Все случилось, когда я выехала из гаража.
– Ты хочешь сказать, прямо там? Перед станцией?
– Хотела нажать на тормоз, а нажала на газ.
– Это как же?
– Просто услышала по радио Фиону и перепугалась.
– Я к тому, Мэгги, что о педали тормоза человеку и думать-то не приходится. Ты водишь машину с шестнадцати лет. Как же ты могла перепутать тормоз с газом?
– Ну вот перепутала, Айра. Тебя это устроит? Испугалась и перепутала. И хватит об этом.
– Я хотел сказать, что нажать на тормоз – это более-менее рефлекс.
– Если для тебя это так важно, оплати починку из моего жалованья.
Тут уж ему пришлось прикусить язык. Мэгги видела, он собирался сказать что-то, да передумал: жалованье-то у нее было смешное. Она ухаживала за стариками в доме престарелых.
Если бы нас предупредили пораньше, думала Мэгги, я бы хоть в машине прибралась. Приборная доска была завалена корешками парковочных квитанций; пол усеивали банки из-под прохладительных напитков и бумажные салфетки; под бардачком свисали петли черного и красного проводов. Зацепи их, перекрещивая ноги, – и отключишь радио. Она считала, что этим следовало заняться Айре. Мужчины, куда бы они ни попали, непонятно как сразу обрастают проводами, кабелями, изолентами. Иногда и сами того не замечая.
Машина уже ехала по Белэр-роуд на север. Окрестные виды постепенно менялись, спортивные площадки и кладбища чередовались со скоплениями небольших предприятий – винных магазинов, пиццерий, маленьких темных баров и кабачков, обращенных в карликов огромными тарелками антенн на их крышах. А следом вновь внезапно появлялась спортивная площадка. Движение с каждой минутой становилось плотнее. Все куда-то ехали в праздничном, не сомневалась Мэгги, подобающем субботнему утру настроении. В большинстве машин задние сиденья занимали дети. Время уроков гимнастики и бейсбольных тренировок.
– Пару дней назад, – сообщила Мэгги, – я умудрилась забыть выражение «совместная машина».
– А зачем тебе его было помнить? – спросил Айра.
– Вот и я про то же.
– Пардон?
– Я говорю о том, как летит время. Я хотела сказать одному пациенту, что его дочь сегодня не приедет. Сказала: «Сегодня ее очередь водить, э-э…» – и не смогла вспомнить, как это называется. А кажется, я только вчера везла Джесси на матч или в хоккейный лагерь, а Дэйзи – на слет девочек-скаутов… Господи, да я целые субботы за рулем проводила!
– Кстати, о руле, – сказал Айра. – Ты в другую машину врезалась? Или просто в телеграфный столб?
Мэгги рылась в сумочке, отыскивая солнечные очки.
– В фургон, – сказала она.
– О господи. Сильно его покорежила?
– Не обратила внимания.
– Не обратила внимания.
– Просто не остановилась, чтобы посмотреть.
Она надела очки, поморгала. Краски померкли, все стало более изысканным.
– Мэгги, ты скрылась с места аварии?
– Да какая там авария! Обычное мелкое… ну, происшествие, такие случаются сплошь и рядом.
– Так, давай посмотрим, правильно ли я все понял, – сказал Айра. – Значит, ты вылетаешь из гаража, врезаешься в фургон и катишь дальше.
– Нет, это фургон в меня врезался.
– Но виновата была ты.
– Ну да, наверное, раз уж тебе непременно нужны виноватые.
– И ты просто уехала.
– Да.
Он замолчал. Добра это молчание не предвещало.
– Это был здоровенный фургон «Пепси», – сказала Мэгги. – Практически танк бронированный! На нем и царапины не осталось, даже не сомневаюсь.
– Ты ведь не проверяла.
– Я боялась опоздать, – пояснила Мэгги. – Ты же сам твердил, что нам нужен запас времени.
– Ты понимаешь, что на станции есть твое имя и адрес, не так ли? Все, что нужно водителю, – спросить их. Когда мы вернемся, у двери нас будет поджидать полицейский.
– Айра, ты не мог бы оставить эту тему? – спросила Мэгги. – Мне и без того есть о чем подумать. Я еду на похороны мужа моей самой старой, самой близкой подруги, Серине с чем только сейчас справляться не приходится, а нас с ней целый штат разделяет. А тут я еще слышу по радио о предстоящем замужестве Фионы, хотя и ежу понятно, что они с Джесси по-прежнему любят друг друга. Всегда любили, не переставали любить, просто им почему-то не удается, ну, достучаться друг до друга. Мало того, моей единственной внучке придется вдруг прилаживаться к новоиспеченному отчиму. Мы с ней словно разлетаемся в разные стороны! Все мои подруги, все родственники улетают от меня, как… как в расширяющейся вселенной или еще где. Мы больше не увидим нашу девочку, хоть это ты понимаешь?
– Да мы ее и так не видим, – кротко ответил Айра. И остановился на красный свет.
– Откуда нам знать, может, этот ее новый муж – растлитель малолетних, – сказала Мэгги.
– Уверен, что Фиона выбрала бы кого-нибудь получше, Мэгги.
Она бросила на мужа косой взгляд. (Хорошо отзываться о Фионе – это на него не походило.) Айра смотрел на светофор. От уголков его прищуренных глаз расходились морщинки.
– Ну разумеется, она постаралась бы сделать выбор получше, – настороженно произнесла Мэгги, – но ведь даже самая разумная на свете женщина не способна предвидеть все проблемы до одной. Может быть, он такой, знаешь, вкрадчивый и льстивый. И будет ласков с Леро́й – пока не пролезет в семью.
Светофор переключился. Айра повел машину дальше.
– Лерой, – задумчиво произнесла Мэгги. – Как по-твоему, сможем мы когда-нибудь привыкнуть к этому имени? Звучит совсем по-мальчишески. Такие имена у футболистов бывают. А как они его произносят: Лии-рой. Совершенно по-деревенски.
– Ты прихватила карту, которую я оставил на кухонном столе? – спросил Айра.
– Я иногда думаю, что нам следует просто начать произносить его по-нашему, – сказала Мэгги. – Ле-рой.
И призадумалась.
– Карта, Мэгги. Ты взяла ее?
– Она у меня в сумочке. Ле Руа. – На сей раз она произнесла «Р» с французской раскатистостью.
– Как-то не похоже, что нам теперь удастся часто общаться с ней, – сказал Айра.
– А стоило бы. Мы могли бы навестить ее сегодня под вечер.
– Как это?
– Ты же знаешь, где они живут – в Картуиле, Пенсильвания. Практически по пути к Дир-Лику. – Мэгги копалась в сумочке. – Мы могли бы побыть на похоронах, понимаешь? – а потом… Да где же эта карта? Побыть на похоронах, а потом поехать по Первому шоссе к… Знаешь, похоже, карту я все-таки не взяла.
– Отлично, Мэгги.
– Наверное, оставила на столе.
– Я же спросил у тебя, когда мы собирались, помнишь? Сказал: «Карту ты возьмешь или я?» И ты ответила: «Я. Положу ее в сумочку».
– Просто не понимаю, почему ты из-за нее такой шум поднимаешь, – сказала Мэгги. – Нам только одно и требуется – следить за дорожными знаками, а с этим кто угодно справится.
– Все немного сложнее, – ответил Айра.
– Кроме того, у нас есть указания, которые Серина дала мне по телефону.
– Мэгги. Ты действительно веришь, что указания Серины способны привести нас туда, куда мы должны попасть? Ха! Да мы скорее в Канаду заедем. Или в Аризону!
– Послушай, не надо так волноваться по пустякам.
– И никогда больше не увидим нашего дома, – пообещал Айра.
Мэгги вытряхнула из сумочки свой бумажник, пакетик салфеток «клинекс».
– По милости Серины мы на ее собственный свадебный обед опоздали, помнишь? – сказал Айра. – Нам пришлось целый час искать тот дурацкий банкетный зальчик.
– Нет, ну правда, Айра, ты всегда говоришь так, будто все женщины – пустоголовые болтуньи. – Поиски в сумочке Мэгги прекратила, ясно было, что и указаний Серины там нет. И добавила: – Я думаю о том, как облегчить Фионе жизнь. Мы могли бы взять девочку к себе.
– К себе?
– На медовый месяц.
Айра бросил на нее взгляд, которого она не поняла.
– Она выходит замуж в следующую субботу, – объяснила Мэгги. – Нельзя же ехать в свадебное путешествие с семилетним ребенком.
Айра по-прежнему молчал.
Они уже миновали городскую черту, домов вокруг стало меньше. Проехали стоянку подержанных машин, реденькую рощицу, торговый пассаж с несколькими разбросанными по бетонной пустоши автомобилями ранних пташек. Айра начал насвистывать. Мэгги перестала теребить ремень сумочки и сидела неподвижно.
Бывали времена, когда Айра и десятка слов за день не произносил, а если и говорил что-то, понять, о чем он думает, было невозможно. Человеком он был замкнутым и нелюдимым – самый серьезный его недостаток. Но при этом не понимал, что его насвистывание способно много чего о нем рассказать. Однажды – не самый приятный пример – после жуткой ссоры в ранние еще дни их супружества они более-менее помирились, и Айра отправился на работу, насвистывая песенку, которую Мэгги узнала не сразу. Слова она вспомнила только потом. Уж так ли крепко я люблю, как любил тогда…[1]
Впрочем, нередко ассоциация оказывалась тривиальной, отчасти случайной – тот же «Этот старый дом» исполнялся при мелком ремонте, а «Монтер из Вичито», когда Айра привозил из прачечной белье. А «Колдуй, колдуй, вуду…»[2] бессознательно насвистывалась через пять минут после того, как он обходил оставленную собакой на тротуаре кучу. Но разумеется, бывало, что он свистел и нечто неизвестное Мэгги. Вот, скажем, сейчас: что-то тихое, проникновенное, такое передают по балтиморскому радио. Хотя, возможно, он просто услышал эту песенку, когда брился, и тогда она вообще ничего не значит.
Песня Пэтси Клайн, вот что это такое. «Чокнутая» Пэтси Клайн.
Мэгги резко выпрямилась и заявила:
– Совершенно нормальные люди присматривают за своими внуками, Айра Моран.
Он даже испугался слегка.
– Держат их у себя месяцами. Берут в дом на целое лето, – продолжала она.
Айра ответил:
– Но в гости без предупреждения все-таки не приезжают.
– Еще как приезжают!
– Энн Ландерс[3] считает такие визиты неразумными, – сказал он.
Энн Ландерс, его личная героиня.
– И потом, мы же не кровные родственники, – продолжал Айра. – Мы теперь Фионе вообще никто.
– Мы дед и бабушка Лерой и останемся ими до самой смерти, – отрезала Мэгги.
Айра промолчал.
Этот участок дороги отличался редкой бестолковщиной. Чего на нем только не было – там закусочная барбекю, тут выставка-продажа плавательных бассейнов. На обочине стоял нагруженный тыквами пикап. ВСЕ, ЧТО СМОЖЕТЕ УНЕСТИ, ЗА 1,5 ДОЛЛАРА, – было написано от руки на листе картона. Тыквы напомнили Мэгги об осени, хотя было до того тепло, что у нее над верхней губой пот выступил. Она опустила стекло, отшатнулась от напора жаркого воздуха и подняла стекло снова. Хватит с нее и ветерка, задувающего со стороны Айры. Машину он вел одной рукой, локоть левой лежал на краю окна. Рукава пиджака отъехали вверх, выставив напоказ запястья.
Серина называла его загадочным. В те дни это считалось комплиментом. Мэгги даже на свидания с ним не ходила, у нее был другой молодой человек, но Серина твердила: «Как тебе удается устоять против него? Он такой загадочный». «Что значит устоять? Он за мной не ухаживает», – отвечала Мэгги, хоть и думала о нем (Серина была права – загадочности в нем хватало). Впрочем, сама-то Серина выбрала самого открытого парня на свете. Смешной старина Макс! Вот уж в ком никаких загадок не наблюдалось. «Одно из самых счастливых моих воспоминаний, – рассказал однажды Макс (ему тогда было двадцать, он только что закончил учебу на первом курсе университета Северной Каролины), – я и двое ребят из студенческого братства отправились на вечеринку. Там я малость перебрал и по пути домой отключился на заднем сиденье машины, а когда очухался, оказалось, что они заехали в Каролина-Бич и бросили меня на песке у моря. Шутка: ха-ха. Было шесть утра, я сидел на берегу и видел лишь небо, пласт за пластом мглистого неба, которое сливалось с морем без малейшего намека на горизонт. И я встал, сбросил одежду и побежал в волны – на берегу-то никого, только я. Счастливейший день моей жизни».
Что, если кто-то сказал бы тогда Максу: тридцать лет спустя ты умрешь от рака, а то утро у океана останется для Мэгги самым ярким воспоминанием о тебе? Дымка, теплые дуновения воздуха на голой коже, первая дрожь от холодной воды, пахнущая рассолом волна – Мэгги словно сама там побывала. Внезапно ей захотелось поблагодарить проскакавшее мимо скопление залитых солнцем рекламных щитов и даже виниловую обшивку сиденья, которая липла сзади к рукам.
Айра поинтересовался:
– Хотелось бы знать, за кого она выходит?
– Что? – не поняла Мэгги. Мысли ее как-то спутались.
– Фиона.
– А, – произнесла Мэгги. – Она не говорила.
Айра пытался обогнать бензовоз. Склонил голову налево – посмотреть, кто едет навстречу. И миг спустя сказал:
– Странно, что она и об этом не объявила, раз уж начала откровенничать.
– Она сказала только, что выходит замуж ради уверенности в завтрашнем дне. В первый раз вышла по любви, и ничего хорошего из этого не получилось.
– Любовь! – фыркнул Айра. – Ей было семнадцать лет. Она ни аза о любви не знала.
Мэгги взглянула на него. «И в чем эти азы состоят?» – хотелось спросить ей. Но Айра уже бурчал, ругая бензовоз.
– Может быть, на этот раз за человека постарше, – сказала она. – Который будет по-отечески ее опекать. Раз уж ей нужна уверенность в завтрашнем дне.
– Этот типчик отлично знает, что я пытаюсь его обогнать, и все время вылезает на соседнюю полосу, – сказал Айра.
– А может быть, замужество нужно ей, чтобы не ходить на работу.
– Вот уж не думал, что она работает.
– Она работает, Айра. Тебе это прекрасно известно! Отводит Лерой в детский сад и идет работать в косметический салон.
Айра гуднул бензовозу.
– Не понимаю, зачем ты сидишь с людьми в гостиной, если даже слушать их никакого труда себе не даешь, – сказала Мэгги.
Айра спросил:
– Мэгги, у тебя сегодня что-то не так?
– О чем ты?
– Уж больно ты раздражительная.
– Я не раздражительная. – Мэгги сдвинула немного выше темные очки и увидела кончик своего носа – маленький, круглый, торчащий из-под перемычки.
– Это все Серина, – сказал Айра.
– Серина?
– Ты расстроилась из-за Серины вот и пытаешься мне голову открутить.
– Конечно, расстроилась, – ответила Мэгги, – но только голову я тебе открутить не пытаюсь.
– Пытаешься. По той же причине и от Фионы никак отцепиться не можешь, хоть и не вспоминала ее годами.
– Неправда! Откуда тебе знать, как часто я вспоминаю Фиону?
Айра наконец обогнал бензовоз.
Теперь они въехали в местность по-настоящему сельскую. Двое мужчин рубили на просеке дрова; черная, лоснящаяся собака наблюдала за ними. Деревья еще не сменили окраску, но вид у них был уже чуть отрешенный, означавший, что это вот-вот случится. Мэгги смотрела на деревянную изгородь, что тянулась вдоль поля. Занятно, как некоторые картины застревают у тебя мозгу, а ты и не знаешь об этом. Увидишь оригинал и думаешь: боже! так она же все время сидела в моей голове, как сновидение, которое утром наполовину возвращается к тебе, кусочками. Эта изгородь, например. Машина ехала по дороге, ведущей к Картуилу, значит, она видела эту изгородь во время своих «шпионских вылазок» и бессознательно присвоила ее.
– Рифленый, – произнесла она.
– Ммм?
– Такие заборы называют «рифлеными», верно?
Айра взглянул в окно, однако изгородь уже исчезла.
Мэгги парковала машину на некотором расстоянии от дома матери Фионы и сидела в надежде хоть мельком, хоть на минуточку увидеть Лерой. Айру удар хватил бы, узнай он об этом. Это было, когда Фиона только-только ушла из дома после сцены, которую Мэгги вспоминать не любила. (Про себя она называла ее «То Ужасное Утро» и старалась стереть из памяти.) Да, в те дни она была маньячкой – Лерой совсем еще малышка, а что Фиона понимает в малышах? Без Мэгги она была как без рук. Вот Мэгги и ездила по своим неполным рабочим дням в Картуил, и сидела в машине, и ждала, и вскоре Фиона выходила из дома с Лерой на руках, и шла в другую сторону, быстро, ее длинные светлые волосы спадали, словно завесы, на лицо малышки, казавшееся яркой пуговкой на плече Фионы. Сердце Мэгги взлетало вверх, как у влюбленной. Да она и была влюблена – и в Лерой, и в Фиону, она даже в собственного сына влюблялась, увидев, как он неуклюже укачивает дочку, прижав ее к своей черной кожаной куртке. А признаться во всем боялась – по крайней мере, тогда. Просто приезжала домой и говорила Джесси: «Я сегодня в Картуиле была».
Лицо его словно распахивалось. Один пугающий миг он смотрел на нее, а потом отводил взгляд и спрашивал:
– Ну и?..
– Я не разговаривала с ней, но видела – она по тебе скучает. Она гуляла одна, с Лерой. Больше с ними никого не было.
– Думаешь, мне это интересно? – спрашивал Джесси. – По-твоему, меня это волнует?
Впрочем, на следующее утро он просил у нее машину, и Мэгги испытывала облегчение. (Он любящий, мягкий, добросердечный мальчик, одаренный сверхъестественным умением привлекать к себе людей. Все уладится, и очень скоро.) Джесси отсутствовал целый день – Мэгги каждый час звонила домой с работы – и возвращался, когда она готовила ужин.
– Ну что? – спрашивала она.
– Что – что? – говорил он, уходил наверх и запирался в своей комнате.
И Мэгги понимала – времени потребуется гораздо больше, чем она ожидала.
Три раза – в первые три дня рождения Лерой – она и Айра наносили Фионе традиционные визиты, заранее обговоренные, с подарками; но настоящими визитами были для Мэгги ее шпионские вылазки, которые она даже не планировала, просто некие длинные, незримые нити тянули ее на север. Она, скажем, думала, что едет в супермаркет, а оказывалась на Первом шоссе, уже пряча лицо в воротник плаща, чтобы ее не узнали. И околачивалась потом рядом с единственной в Картуиле детской площадкой – стояла у песочницы и бесцельно разглядывала свои ногти. А могла затаиться в проулке, напялив ярко-рыжий парик Айриной сестры Джуни. И чувствовала в такие мгновения, что стареет. Может быть, когда Лерой пойдет учиться, придется нанять кого-нибудь, кто будет регулировать перед школой движение транспорта? А может быть, ей стоит изобразить из себя вожатую девочек-скаутов, сколотить собственный отряд? Или заделаться распорядительницей выпускного вечера в школе Лерой? Ладно. Не надо отвлекаться. Она же понимала – по мрачному молчанию Джесси, по вялости, с которой Фиона раскачивала на детской площадке качели, – что долго они прожить в разлуке не смогут. Ведь не смогут, правда?
Как-то после полудня она пошла по пятам за матерью Фионы, которая гуляла с коляской по Мейн-стрит. Миссис Стакки была неряшливой, бесформенной женщиной, курившей сигареты. Мэгги ей не доверяла, и правильно делала, потому что только посмотрите, что она учинила: поставила коляску с Лерой перед детской аптекой, а сама скрылась внутри. Мэгги просто в ужас пришла. Лерой же могли похитить! Любой прохожий мог. Мэгги подошла к коляске, присела перед ней на корточки. «Солнышко, – сказала она. – Хочешь, бабушка тебя увезет?» Девочка уставилась на нее. Ей было тогда года полтора или около того, однако личико ее казалось на удивление взрослым. И ножки уже лишились младенческой пухлости. Глаза такие же светло-голубые, как у Фионы, взгляд ровный, пустой, она не узнала Мэгги. «Это бабушка», – сказала Мэгги, но Лерой заерзала, вытянула шею и произнесла: «Мам-мам?» И посмотрела, тут уж не ошибешься, на дверь, за которой исчезла миссис Стакки. Мэгги встала и быстро ушла. Отвергнутая, она ощущала физическую боль, словно от настоящей раны в груди. На том ее шпионские вылазки и закончились.
Когда она проезжала здесь по весне, в рощах обильно цвел кизил. От его белых цветов зеленые холмы светлели, как от нескольких веточек гипсолюбки светлеет любой букет. А однажды Мэгги увидела зверушку, какую-то необычную – не кролика или енота, постройнее, поглаже, – и резко затормозила, и повернула зеркальце заднего вида, чтобы посмотреть на нее, оставшуюся позади. Но зверушка уже удрала в кусты.
– Заскучал без мороки – обращайся к Серине, – говорил тем временем Айра. – Могла же позвонить сразу после смерти Макса, так нет, дотянула до последнего. Он умер в среду, а она позвонила в пятницу вечером. И обращаться в «Три А»[4], чтобы узнать, как до нее доехать, было уже поздно. – Он хмуро взглянул на дорогу. – Слушай, ты не думаешь, что ей хочется, чтобы я гроб помог нести или чего-то в этом роде, а?
– Она об этом не говорила.
– Но сказала же, что ей нужна наша помощь.
– Думаю, речь шла о моральной поддержке.
– А гроб нести – не моральная поддержка?
– Скорее, физическая.
– Ну, может быть, – согласился Айра.
Они проезжали через городок, где группка магазинчиков разделяла пастбища. Несколько женщин стояли у почтового ящика, разговаривая. Мэгги повернула голову, разглядывая их. Она чувствовала себя отвергнутой, жаждущей общества этих женщин – как будто знала их.
– Если она хочет, чтобы я нес гроб, так я одет неправильно, – сказал Айра.
– Одет ты как надо.
– Костюм-то на мне не черный, – напомнил он.
– Так у тебя и нет черного.
– На мне темно-синий.
– Сойдет и темно-синий.
– И вообще обман получится.
Мэгги повернулась к нему.
– Я же не был с ним так уж близок, – сказал Айра.
Мэгги потянулась к рулю, положила свою ладонь на ладонь мужа.
– Не думай об этом, – попросила она. – Наверняка ей хочется лишь одного: чтобы мы посидели в церкви.
Он скорбно улыбнулся. Вернее, просто дернул щекой.
Как странно он относится к смерти! Даже пустяковых болезней не выносит. Когда ей удаляли аппендикс, он нашел причину не навещать ее в больнице, заявил, что простужен и боится ее заразить. А всякий раз, как заболевал кто-нибудь из детей, делал вид, будто ничего не случилось. Говорил, что у нее воображение разыгралось. От любого намека на то, что жить вечно ему не придется, – например, когда он вынужден был заниматься страховкой, – лицо его каменело, он становился упрямым и обидчивым. А вот Мэгги боялась жить вечно – может быть, из-за того, что ей приходилось видеть в доме престарелых.
Но если она умрет первой, Айра, скорее всего, тоже притворится, будто ничего не случилось. Станет по-прежнему заниматься своим делом и, как всегда, насвистывать.
Интересно – что именно?
Они пересекали Саскуэханну, справа тянулась в небо викторианского вида плотина Коновинго. Мэгги снова опустила стекло, высунулась из машины. Она слышала далекий шум падающей воды, почти дышала ею, впивала водяную пыль, поднимающуюся, словно дым, из-под моста.
– Знаешь, кто мне сейчас пришел в голову, – сказал, повысив голос, Айра. – Та женщина-художница… как же ее зовут-то? Она нынче утром должна была кучу своих картин в мастерскую принести.
Мэгги снова подняла стекло. И спросила:
– Разве ты не включил автоответчик?
– А толку-то от него? Она уже договорилась со мной, что придет.
– Может, нам остановиться где-нибудь, позвонить ей?
– У меня нет с собой ее номера, – сказал Айра. И добавил: – Можно, пожалуй, позвонить Дэйзи, попросить, чтобы она это сделала.
– Дэйзи уже должна быть на работе.
– Черт.
В сознании Мэгги вплыл образ Дэйзи, худощавой, хорошенькой, смуглой, как отец, с тонкими, как у матери, запястьями и щиколотками.
– Боже ты мой, – вздохнула Мэгги. – Ее последний день дома, а мы его пропускаем.
– Так она же все равно не дома, ты сама только что сказала.
– Сейчас не дома, а попозже придет.
– Еще насмотришься на нее завтра. Вдоволь.
Завтра они должны были везти Дэйзи в колледж – начинался первый год ее учебы и жизни вне дома. Айра сказал:
– Целый день просидишь с ней в машине, тебя еще тошнить от нее начнет.
– Нет! От Дэйзи меня тошнить не может!
– Ты мне это завтра расскажешь.
– Слушай, у меня идея, – сказала Мэгги. – Давай улизнем с приема.
– С какого приема?
– Ну как это называется, когда после похорон все идут в чей-то дом?
– Я бы с удовольствием, – согласился Айра.
– Так мы сможем пораньше попасть домой, даже если заглянем к Фионе.
– Господи боже, Мэгги, ты все еще цепляешься за эту чушь?
– Если похороны закончатся, ну, скажем, к полудню, и мы поедем оттуда в Картуил…
Айра резко взял вправо, машина, кренясь, понеслась по гравию. На миг Мэгги подумала, что у него случился припадок раздражения. (Ей часто казалось, что она вот-вот подберется к самым крайним пределам его терпения.) Но нет, он остановился у заправочной станции, старомодного здания, обшитого белой вагонкой, – двое мужчин в комбинезонах сидели перед ним на скамье.
– Карта, – коротко бросил Айра, вылезая из машины.
Мэгги, опустив стекло, сказала ему в спину:
– Посмотри, нет ли там торгового автомата, ладно? Я бы что-нибудь съела.
Он помахал ей, не оборачиваясь, и направился к скамье.
Теперь, когда машина стояла, через крышу внутрь, точно растаявшее масло, стекало тепло. Мэгги чувствовала, как нагревается ее голова, и представляла, что волосы у нее на макушке меняют цвет, становясь из каштановых какими-то металлическими, не то бронзовыми, не то медными. Пальцы правой руки вяло свисали из окошка.
Если ей удастся затащить Айру к Фионе, остальное будет несложно. В конце концов, он же не какой-нибудь бесчувственный чурбан. Он качал этого ребенка на колене. Отвечал на младенческое голубиное воркование Лерой – в тех же уважительных тонах, в каких разговаривал с собственными детьми, когда те были маленькими. «Да, верно. И не говори. Ну, когда ты упомянула об этом, я вспомнил, что слышал нечто похожее». Так оно и шло, пока Мэгги – всегда такая легковерная – не спрашивала: «Что? Что она тебе сказала?» И тогда он бросал на нее насмешливый, недоуменный взгляд, и малышка, как иногда казалось Мэгги, смотрела точно так же.
Нет, он не бесчувственный, вот увидит Лерой и сразу вспомнит, как они были близки. Просто люди нуждаются в напоминаниях, только и всего. Жизнь сейчас такая, что все легко забывается. И Фиона, должно быть, забыла, как была влюблена в самом начале, как таскалась повсюду за Джесси и его рок-группой. А может, нарочно выбросила это из головы, она ведь не более бесчувственная, чем Айра. Мэгги же видела, как вытянулось ее лицо, когда они приехали на первый день рождения Лерой, а Джесси с ними не оказалось. Сейчас Фионой руководит гордость, уязвленная гордость. «Но ты помнишь? – спросила бы ее Мэгги. – Помнишь те первые дни, когда вы старались все время быть вместе? Помнишь, как ходили повсюду, держа ладони в задних карманах джинсов друг друга?» В те времена это казалось Мэгги чуть вульгарным, а теперь, как вспомнит – слезы на глаза наворачиваются.
Ох, какой это был до ужаса грустный день – из тех, когда понимаешь, что со временем все от всех отдаляются; вот и она сообразила, что уже больше года не писала Серине и даже голоса ее не слышала, пока та не позвонила ночью, рыдая так, что половины слов было не разобрать. И сейчас (ветерок протекал между пальцами Мэгги, как теплая вода) она почувствовала, что ей невмочь сносить пресловутое течение времени. «Серина, – захотелось ей сказать, – ты только подумай, как редко мы вспоминаем все те обещания, какие давали себе насчет того, чего никогда, никогда не станем делать, повзрослев. Мы обещали, что не будем семенить, ходя босиком. Обещали, что не будем валяться на пляже и загорать, вместо того чтобы плавать, и не будем плавать, задирая подбородки повыше, чтобы вода не испортила нам прически. Обещали, что не станем мыть тарелки сразу после ужина, потому что это занятие отвлечет нас от наших мужей, ты помнишь? Давно ты в последний раз оставляла тарелки до утра, чтобы побыть с Максом? И давно ли Макс перестал замечать, что ты не делаешь этого?»
Айра уже шел к ней, разворачивая карту. Мэгги сняла очки, промокнула глаза рукавом. «Нашел, что хотел?» – спросила она, и он ответил: «Ну…» – и, еще шагая, скрылся за картой. Наружную сторону ее украшали фото живописных видов. Айра подошел к машине, сложил карту, уселся за руль.
– Лучше бы я все-таки позвонил в «Три А», – сказал он. И включил мотор.
– Я бы на твоем месте не волновалась. У нас куча времени.
– Не такая уж и куча, Мэгги. И посмотри, машин на дороге все больше становится. Все старушенции выехали прокатиться по случаю уик-энда.
Нелепые слова – по дороге неслись главным образом грузовики. Их машина заняла место перед мебельным фургоном, а перед ними оказался «бьюик» и еще один бензовоз, а может, и тот, который они недавно обогнали. Мэгги снова надела темные очки.
ОБРАТИСЬ К ИИСУСУ, НЕ ПОЖАЛЕЕШЬ – порекомендовал рекламный щит. Другой сообщил о ШКОЛЕ КОСМЕТОЛОГИИ БУББЫ МАКЛУФФА. Они въехали в Пенсильванию, на несколько сотен ярдов шоссе стало гладким, как благое намерение, но после снова покрылось какими-то струпьями, испещрилось ухабами. Виды вокруг раскрывались далекие, с изгибами и зеленью – такой рисует ребенок сельскую местность. НАЧАЛО ТЕСТА ОДОМЕТРА, – прочитала Мэгги. И села попрямее. Почти сразу мимо пролетел крошечный знак: 0,1 мили. Мэгги взглянула на одометр машины:
– Ровно ноль восемь.
– Ммм? – отозвался Айра.
– Я наш одометр тестирую.
Айра ослабил узел галстука.
Две десятых мили. Три десятых. На четырех Мэгги поняла, что их одометр преуменьшает пробег. Может быть, у нее воображение расшалилось, но ей показалось, что цифры сменяют одна другую с небольшим опозданием. На пяти десятых она в этом почти уверилась.
– Давно ты его проверял? – спросила она у Айры.
– Кого?
– Одометр.
– Никогда не проверял.
– Никогда? Ни разу? А говоришь, что я плохо обращаюсь с машиной!
– Нет, ты только глянь, – сказал Айра. – Они тут девяностолетних старух на шоссе выпускают. Ее из-за руля-то не видно.
Он обогнал «бьюик», и в результате один из знаков проскочил мимо не замеченным.
– Черт, – сказала Мэгги. – Из-за тебя проглядела.
Айра не ответил. Даже не притворился, что ему жаль. Она вглядывалась вдаль, ожидая знака «семь десятых». А когда тот появился, посмотрела на одометр – цифры в нем еле ползли. Мэгги разнервничалась, ей все это уже надоело. Как ни странно, следующая цифра выскочила намного быстрее. Может быть, даже слишком быстро.
– Ох-ох-ох, – произнесла она.
– Что такое?
– Нервы разгулялись, – сказала Мэгги.
Она ждала нового дорожного знака и следила за шкалой одометра, все сразу. Шестерка вылезла на шкалу за несколько секунд до знака, Мэгги готова была поклясться в этом. Она поцокала языком. Айра взглянул на нее.
– Помедленнее, – попросила она.
– Как?
– Помедленнее! Что-то у меня ничего не получается. Смотри, выползает семерка, вверх, вверх… а где знак? Знак-то где? Ну иди сюда, знак! Мы в недоумении! Мы слишком забежали вперед! Мы…
Знак точно из-под земли выпрыгнул.
– Ага! – выдохнула Мэгги.
Точно в тот же миг встала на место и семерка, Мэгги показалось, что она даже щелчок расслышала. Она аж присвистнула и откинулась на спинку сиденья:
– Слишком хорошо для полной уверенности.
– Ты же знаешь, все приборы проверены на фабрике, – напомнил Айра.
– Ну да, много лет назад. Я устала.
Айра сказал:
– Хотел бы я знать, как долго нам следует держаться Первого шоссе.
– Выжата так, точно под прессом для белья побывала, – сообщила Мэгги и щипками расправила платье на груди.
По сторонам то тут то там начали появляться скопления грузовиков и жилых фургонов – без единого человека рядом, без видимых объяснений причин, по которым они здесь остановились. Мэгги замечала их и во время прежних поездок, но понять, что они означают, так и не смогла. Наверное, водители уходили рыбачить, или охотиться, или еще куда. Может быть, у сельских жителей имеется своя тайная жизнь?
– Или еще их банки, – сказала она Айре. – Ты замечал, что в каждом из этих городишек есть банки, похожие на игрушечные кирпичные дома? С двориками, с клумбами. Ты бы такому доверился?
– Почему же нет?
– Я просто не чувствовала бы, что отдаю мои деньги в надежные руки.
– Твои несметные богатства, – усмехнулся Айра.
– Вид у них какой-то непрофессиональный.
– Так вот, согласно карте, – сказал он, – мы, проехав Оксфорд, могли бы еще довольно долгое время оставаться на Первом шоссе. Серина, если я правильно все расслышал, хотела, чтобы мы свернули с него в Оксфорде, однако… Проверь это, ладно?
Мэгги взяла лежавшую между ними на сиденье карту и начала квадратик за квадратиком раскрывать ее, надеясь, что всю разворачивать не придется. Айра будет потом ворчать, что карта неправильно сложена.
– Оксфорд, – сказала она. – Это Мэриленд или Пенсильвания?
– Пенсильвания, Мэгги. Оттуда уходит на север Десятое шоссе.
– А, ну да! Ясно помню, она сказала – поезжайте по Десятому.
– Да, но если мы… Ты хоть одно мое слово услышала? Если мы останемся на Первом, то потратим меньше времени, и, по-моему, там дальше есть еще один съезд – на дорогу, которая нас прямо в Дир-Лик и приведет.
– Но, Айра, должна же у нее быть причина упомянуть Десятое шоссе.
– Причина? У Серины? У Серины Гилл должна быть причина?
Мэгги встряхнула картой, та захрустела. Вот вечно он так говорит о ее подругах. Да он просто-напросто ревнует ее к ним. Мэгги подозревала, что Айра думал, будто женщины тайком собираются вместе и сплетничают о мужьях. Как это похоже на него: он буквально зациклен на себе. Хотя, конечно, бывает, что и сплетничают.
– Там на заправке торгового автомата не было? – спросила Мэгги.
– Он только конфеты продавал. А ты их не любишь.
– Умираю от голода.
– Я мог купить тебе конфет, но подумал, что ты не станешь их есть.
– А картофельных чипсов или еще чего не было? Я изголодалась.
– «Бэйби Рут», «Пятые авеню»…
Мэгги покривилась и вернулась к карте:
– Ну, я бы все-таки выбрала Десятое.
– Поклясться могу, что видел на карте еще один съезд.
– Вообще-то нет, – сказала она.
– Вообще-то нет? Что это значит? Съезд либо есть, либо его нет.
– Понимаешь, по правде сказать, я пока и Дир-Лика не нашла, – призналась Мэгги.
Он включил поворотник и сказал:
– Сейчас мы найдем место, где ты сможешь поесть, а я еще раз посмотрю карту.
– Поесть? Я не хочу есть!
– Ты только что сказала, что умираешь от голода.
– Да, но у меня диета! Мне нужно просто перекусить чем-нибудь!
– И хорошо. Значит, перекусишь, – сказал Айра.
– Ну правда же, Айра. Ты все время пытаешься подкопаться под мою диету. Мне это неприятно.
– Выпьешь чашку кофе, сжуешь что-нибудь. Мне нужно посмотреть карту.
Он съехал с шоссе на мощеную дорогу, вдоль которой выстроились новые односемейные дома; за каждым металлическая инструментальная кладовка – крошечный красный с белым сарайчик. Мэгги и представить себе не могла, чтобы в таком поселке нашлось место, где можно перекусить, тем не менее за следующим поворотом обнаружился каркасный дом, перед которым стояло несколько автомобилей. В окне его светилась запыленная неоновая вывеска: У НЕЛЛА: ПРОДУКТЫ И КАФЕ. Айра остановился около джипа, на бампере которого красовалась наклейка «Джудас Прист»[5]. Мэгги открыла дверь, вошла в магазин, украдкой подтянув ластовицу колготок.
Здесь пахло несвежим хлебом и вощеной бумагой. Запахи напомнили ей столовку начальной школы. Несколько стоящих посреди магазина женщин разглядывали консервные банки. Кафе располагалось немного дальше – длинная стойка, на стене за ней выцветшие красочные фотографии оранжевого омлета и связок бежевых сосисок. Мэгги и Айра уселись на соседние табуретки, Айра расстелил по стойке карту, Мэгги смотрела на мывшую сковороду подавальщицу. Та прыскала чем-то на дно, соскребала лопаточкой какую-то корку, прыскала снова. Со спины она выглядела как большой белый прямоугольник, узел седых волос был на скорую руку прихвачен черными заколками.
– Что будете? – в конце концов спросила она, не оборачиваясь.
Айра, не отрываясь от карты, сказал:
– Мне кофе, пожалуйста.
Мэгги принять решение было труднее. Она сняла очки, осмотрела цветные фото.
– И мне, пожалуй, кофе. А к нему… дайте подумать, да, я бы взяла салат или еще что, однако…
– Салатов у нас не бывает. – Подавальщица отставила в сторону бутылку с брызгалкой и подошла к Мэгги, вытирая руки о передник. Ее окруженные сеточкой морщин глаза отливали, точно обкатанная морем стекляшка, жутковатым зеленым светом. – Единственное, что могу предложить, это листик латука и помидор с сэндвича.
– Ну тогда, может быть пакетик чипсов «Тако» вон с той полки, – обрадовалась Мэгги. – Хоть я и знаю, что мне их нельзя. – Она смотрела, как подавальщица наливает в две кружки кофе. – Стараюсь сбросить ко Дню благодарения десять фунтов. Я с ними уже сто лет бьюсь, но теперь решила – все, хватит.
– Вот те на! Да зачем же вам вес-то сбрасывать? – удивилась женщина, ставя кружки перед Мэгги и Айрой. На ее нагрудном кармане было вышито красным «Мэйбл», Мэгги этого имени с детства не слышала. И куда только подевались все Мэйбл? Она попыталась представить себе, как дает это имя новорожденной. Между тем женщина рассуждала: – Нынче всем охота на зубочистки походить, меня это просто бесит.
– Вот и муж говорит, что я ему и с моим нынешним весом нравлюсь. – Мэгги оглянулась на Айру, однако тот с головой ушел в карту – или вид такой сделал. Его всегда смущали разговоры Мэгги с незнакомыми людьми. – Но ведь я как ни куплю новое платье, оно на мне плохо сидит, понимаете? Как будто те, кто их шил, никак не ждали, что у меня грудь найдется. Силы воли мне не хватает, вот в чем беда. Обожаю все солененькое. Маринованное. Острое.
Она приняла от подавальщицы пакетик чипсов и подняла его повыше, напоказ.
– Ну а возьмите меня, – предложила Мэйбл. – Доктор говорит, при моем лишнем весе меня скоро ноги носить перестанут.
– Да ну уж! Где это у вас лишний вес, покажите!
– Он считает, мне бы лучше не официанткой работать, а еще кем, а то это дело вредит моим венам.
– Наша дочь работала официанткой, – сказала Мэгги, вскрывая пакетик, и положила одну чипсину в рот. – Бывало, по восемь часов на ногах проводила, без перерыва. Сначала ходила на работу в сандалиях, но быстренько, знаете, перешла на туфли с каучуковой подошвой, хоть и божилась, что носить их ни за что не станет.
– Погодите, вы же не такая старая, чтобы у вас взрослая дочь была.
– Ну да, она еще подросток, это была летняя работа. А завтра она в колледж уезжает.
– В колледж! Какая умница, – поразилась Мэйбл.
– Даже и не знаю, – ответила Мэгги. – Хотя ей там полную стипендию дали. – Она протянула пакетик Мэйбл: – Хотите?
Мэйбл зачерпнула пригоршню чипсов.
– А у меня одни мальчики, – сообщила она Мэгги. – И учиться им так же легко, как летать.
– Вот и наш такой же.
– Я спрашиваю: «Почему вы уроки не делаете?» Так у них всегда десяток отговорок находится. Чаще всего, якобы им ничего не задали. Врут, конечно, без зазрения совести.
– В точности как наш Джесси, – подхватила Мэгги.
– А папаша их! – воскликнула Мэйбл. – Вечно за них заступается. Сговорились они все против меня, как будто я им чужая. Эх, чего бы я только не дала за дочку!
– Знаете, у дочерей свои недостатки. – Мэгги видела, что Айра ждет паузы, желая задать вопрос (он держал палец на карте и выжидающе смотрел на Мэйбл), однако, получив ответ, Айра соберется уходить, поэтому пусть потерпит немного. – У них, например, секретов больше. Ты-то думаешь, они тебе все выкладывают, а они мелочами отделываются. Взять хоть нашу Дэйзи. Всегда была такой тихой, послушной, и вдруг бац: хочу уехать в университет. Я и понятия не имела, что она это замышляет! Сказала: «Дэйзи! Неужели тебе дома плохо?» Нет, я, конечно, знала, что она собирается поступать в колледж, но, по моим наблюдениям, других детей и Мэрилендский университет вполне устраивает. Вот я и спросила: «Почему нельзя учиться поближе к Балтимору?» А она говорит: «Ну, мам, ты же знаешь, мне нужен университет из Лиги плюща». Ничего я такого не знала! И в мыслях не имела! А уж после того, как она стипендию получила, ее вообще узнать стало нельзя. Ведь так, Айра? Айра считает… – Мэгги заспешила (сразу пожалев, что обратилась к нему с вопросом), – Айра считает, она просто растет. Болезнь роста сделала ее такой колючей, всех критикующий, глупо принимать это близко к сердцу. Но с ней так трудно! Вдруг ни с того ни с сего, что мы ни сделаем, все неправильно; она словно ищет причины, чтобы не скучать по нам, когда уедет. И волосы-то у меня слишком вьются, и говорю я слишком много, и слишком налегаю на жареное. А у Айры костюм плохого покроя, и в бизнесе он ничего не смыслит.
Мэйбл кивала, сочувствуя, а Айра думал, конечно, что Мэгги чрезмерно разоткровенничалась. Он молчал, но ерзал по своему табурету так, что все было ясно. Она решила не обращать на него внимания.
– Знаете, что дочь мне заявила на днях? Я приготовила на пробу запеканку с тунцом. Подала ее на ужин и спрашиваю: «Ну разве не объедение? Скажи честно». А Дэйзи и говорит… – Веки защипало от слез. Мэгги глубоко вздохнула. – Нет, сначала она просто сидела, долго-долго, и разглядывала меня, и лицо у нее было такое… зачарованное, а потом сказала: «Мам? А было в твоей жизни точно осознанное тобой мгновение, когда ты решила стать посредственностью?»
Мэгги хотела продолжить, но у нее задрожали губы. Она отложила чипсы и полезла в сумочку за «клинексами». Мэйбл сочувственно квохтала. Айра сказал:
– Ради бога, Мэгги.
– Простите, – попросила она Мэйбл. – На меня это так подействовало.
– Ну еще бы, – мягко отозвалась Мэйбл. И пододвинула кофе Мэгги поближе к ней. – Конечно, подействовало!
– Я ведь себя посредственностью не считаю, – пояснила Мэгги.
– И правильно! – воскликнула Мэйбл. – Вы скажите ей, милочка! Вы ей вот что скажите. Пусть она перестанет так думать. Знаете, что я сказала Бобби, моему старшему? Он тогда тоже тунца ел, надо же, какое совпадение. И заявил, что сыт по горло едой, в которой все перемешано. А я говорю, молодой человек, говорю, ты можешь просто встать из-за стола и покинуть этот дом. Покинь, раз уж ты об этом заговорил. Найди себе другой, говорю, и готовь там что хочешь, посмотрим, сможешь ли ты позволить себе кушать каждый вечер отборную телятину. И я это сказала на полном серьезе. Он думал, я просто языком мелю, но быстренько понял, что я не шучу. Я сложила все его вещи на капот его машины. И теперь он живет со своей девицей на другом краю города. А ведь не верил, что я и вправду могу выставить его из дома.
– Но в том-то и дело, я не хочу, чтобы она уезжала, – сказала Мэгги. – Мне хочется, чтобы она дома жила. Вот посмотрите на Джесси: он привел в наш дом свою жену и ребенка, и мне это понравилось! Айра считает Джесси неудачником. Говорит, что всю его жизнь погубил один-единственный приятель, но это же глупость. Дон Бернем всего-то и сказал Джесси, что он одаренный певец. Разве это значит – погубить жизнь? Вы возьмите мальчика вроде Джесси, учится он не блестяще, отец вечно твердит о его недостатках, возьмите и скажите ему, что есть одна область, в которой он может добиться огромных успехов, – думаете, он повернется к вам спиной и забудет ваши слова?
– Конечно, нет! – пылко ответила Мэйбл.
– Разумеется, нет. Он и начал петь в хард-рок группе. Школу бросил, набрал целую толпу поклонниц и в конце концов взял да и женился на одной из них, что же тут плохого? Привел ее жить к нам, потому что денег зарабатывал мало. Я прямо в восторг пришла. У них родилась такая прелестная малышка. А потом его жена и девочка уехали после одной ужасной сцены, снялись с места и уехали. Ничего особенного не случилось, они просто повздорили, но вы же знаете, чем это иногда оборачивается. Я сказала: «Айра, верни ее, она ушла из-за тебя». (Айра в той сцене очень даже участвовал, я его до сих пор за это виню.) Но Айра сказал – нет, пусть делает что хочет. Сказал – пусть продолжает в том же духе, пусть уходит, а я чувствовала, что она от меня эту малышку с мясом оторвала, оставила в моей душе рваную рану.
– Внуки, – сказала Мэйбл. – Я если начну о них говорить, так уж не остановлюсь.
Айра произнес:
– Вовсе не из желания сменить тему, но…
– Ах, Айра, – сказала ему Мэгги, – поезжай ты по Десятому, и хватит об этом.
Он смерил ее неторопливым ледяным взглядом. Мэгги уткнулась носом в «клинекс», она этот взгляд хорошо знала.
А он спросил у Мэйбл:
– Вам случалось бывать в Дир-Лике?
– Дир-Лик, – сказала Мэйбл. – Вроде слышала о таком.
– Я пытаюсь понять, где нам лучше съехать с Первого шоссе, чтобы попасть туда.
– Ну вот уж этого не знаю, – ответила Мэйбл. – Налить вам еще кофе, милочка?
– Нет-нет, спасибо, – сказал Мэгги. На самом деле она к нему и не притронулась. И теперь отпила немного, в знак благодарности.
Мэйбл выписала счет, протянула его Айре. Он встал, порылся по карманам в поисках мелочи, расплатился. Тем временем Мэгги сунула мокрый «клинекс» в опустевший пакетик от чипсов, аккуратно свернула его, чтобы не доставлять Мэйбл лишних хлопот.
– Что же, приятно было с вами поболтать, – сказала она.
– Берегите себя, лапушка, – ответила Мэйбл.
Мэгги почувствовала, что им следует расцеловать друг дружку в щеки, как двум женщинам после общего ленча.
Она больше не плакала, но ощущала недовольство Айры, который шел впереди нее к парковке. Мэгги это недовольство представлялось ровной стеклянной стеной, которой муж отгораживался от нее. Ему следовало жениться на Энн Ландерс, думала она, садясь в машину. Сиденье раскалилось до того, что обожгло ей спину сквозь платье. Айра тоже сел, хлопнул дверцей. Женился бы на Энн Ландерс, и была бы у него практичная, разумная жена, какая ему требуется. Временами, услышав, как он одобрительно похмыкивает, читая очередные умные рассуждения Энн Ландерс, Мэгги испытывала самую настоящую ревность.
Они снова ехали мимо односемейных домов, подпрыгивая на узкой мощеной дороге. Между ними лежала аккуратно сложенная карта. Что он решил насчет маршрута, Мэгги не спрашивала. Смотрела в окно, время от времени шмыгая носом и стараясь, чтобы это получалось как можно тише.
– Шесть с половиной лет, – сказал Айра. – Нет, уже семь, а ты все еще вытаскиваешь на белый свет историю с Фионой. Рассказываешь совершенно посторонним людям, что это я кругом виноват. Тебе просто необходимо кого-нибудь да винить, верно, Мэгги?
– Если есть за что, виню, – сказала она пейзажу.
– И тебе даже в голову не приходит, что, может быть, ты сама виновата.
– Нам обязательно снова затевать этот дурацкий разговор? – спросила она, резко повернувшись к нему.
– Ну а кто его начал, хотел бы я знать?
– Я всего-навсего перечислила факты, Айра.
– Тебя кто-нибудь спрашивал о фактах, Мэгги? Зачем тебе понадобилось изливать душу перед какой-то официанткой?
– Во-первых, быть официанткой не зазорно, – заявила она. – Вполне приличная профессия. Могу тебе напомнить, что наша дочь работала официанткой.
– О, превосходно, Мэгги, еще один пример твоей неукоснительной логики.
– Вот чего я в тебе действительно терпеть не могу, – сказала она, – так это твоего высокомерия. Мы не можем просто разговаривать, как цивилизованные люди, обмениваться мнениями, о нет. Нет, ты непременно должен напирать на то, какая я нелогичная, пустоголовая, а ты – невозмутимый и во всем меня превосходишь.
– Ну я, по крайней мере, не излагаю историю моей жизни в местах общественного питания.
– Ладно, высади меня, – потребовала Мэгги. – Я не желаю терпеть твое общество еще хотя бы секунду.
– С удовольствием, – сказал он, продолжая вести машину.
– Высади меня, я сказала!
Айра взглянул на нее, сбавил скорость. Она схватила сумочку и прижала ее к груди.
– Ты остановишь машину, – спросила она, – или мне придется выпрыгивать на ходу?
Он остановил.
Мэгги вылезла, хлопнула дверцей. И пошла назад, к кафе. С мгновение ей казалось, что Айра так и останется стоять на месте, но затем она услышала, как он переключил передачу и уехал.
Солнце обильно лило желтый свет, туфли Мэгги ворошили гравий. Сердце билось слишком быстро. Она ощущала странное довольство. Почти опьянение гневом и душевным подъемом.
Мэгги миновала первый дом – захиревшие цветы по краю двора и лежащий на подъездной дорожке трехколесный велосипед. Здесь стояла такая тишина. Мэгги слышала только далекий щебет птиц – их чинк! чинк! чинк! и фьють! фьють! фьють! в кронах деревьев за полями. И вдруг поняла, что провела всю жизнь посреди городского гула. Можно было подумать, что Балтимор приводит в движение гигантская, непрестанно работающая подземная машина. Как она это выдерживала? И Мэгги махнула рукой на любые мысли о возвращении. Она направлялась к кафе со смутным намерением выяснить, где тут ближайшая остановка автобусов, или, может быть, напроситься в попутчицы к едущему в Балтимор не опасному на вид водителю грузовика, но какой ей смысл возвращаться туда?
Вот второй дом с установленным перед ним почтовым ящиком, изображавшим крытый фургон. Изгородь вокруг – просто беленые пни, соединенные гирляндами беленых цепей, не забор, а украшение. Мэгги остановилась у одного пня, поставила на него сумочку – решила проверить ее содержимое. Главный недостаток этих парадных сумочек в том, что они слишком малы. В сумке, которой Мэгги пользовалась каждый божий день, большой, холщовой, хватило бы всякой всячины, чтобы продержаться не одну неделю. И все же предметы первой необходимости имелись и в этой: расческа, пакетик салфеток и губная помада. А также бумажник с тридцатью четырьмя долларами, мелочью и незаполненным чеком. Плюс две кредитные карточки, но главное – чек. Нужно добраться до ближайшего банка и открыть счет, самый большой, какой этот чек позволит, – скажем, на триста долларов. Да, триста долларов дадут ей возможность продержаться долгое время. По крайней мере, достаточно долгое для того, чтобы найти работу. Кредитные карточки, полагала она, Айра очень скоро заблокирует. Хотя в этот уик-энд можно попробовать и ими попользоваться.
Она пересмотрела остальные пластиковые карманчики бумажника – водительские права, библиотечная карточка, школьный снимок Дэйзи, сложенный купон на покупку шампуня «Близость», цветная фотография стоящего на парадном крыльце их дома Джесси. Дэйзи снята с двойной экспозицией – в прошлом году все на ней помешались, – ее аккуратный чеканный профиль маячил, полупрозрачный, за сфотографированным анфас лицом с надменно вздернутым подбородком. А на Джесси была огромная черная, купленная в секонд-хенде шинель и очень длинный, свисающий ниже колен, красный шарф с бахромой. Красота сына в который раз поразила ее – почти до боли. Он унаследовал от Айры каплю индейской крови, обратив ее в нечто изысканное, ошеломительное: высокие гладкие скулы, прямые черные волосы, продолговатые черные, лишенные блеска глаза. Однако смотрел он на Мэгги непонятно и бесстрастно – с той же, что у Дэйзи, надменностью. Никто в ней больше не нуждался.
Мэгги вернула все в сумочку, защелкнула ее. Пошла дальше. Туфли вдруг стали жесткими, неудобными, как будто со ступнями что-то стряслось, пока она стояла. Может, распухли, день уж больно теплый. Впрочем, такая погода ей на руку. В такую можно, если захочется, и под открытым небом заночевать. Залезть в стог сена и заснуть. Если еще существуют стога.
Вечером она позвонит Серине, извинится за свое отсутствие на похоронах. Позвонит за ее счет, с Сериной это можно себе позволить. Сначала она, наверное, не станет брать трубку, потому что Мэгги ее подвела, – Серина вообще легко обижается, – но в конце концов сдастся, и Мэгги ей все объяснит. Скажет: «Знаешь, сейчас я бы не возражала против участия в похоронах Айры». Хотя нет, это может показаться бестактностью – с учетом всех обстоятельств.
Вот и кафе, позади низкое шлакобетонное здание непонятного назначения, а дальше – то, что было, по ее догадкам, городом или хотя бы его подобием. Одним из тех бестолковых городков Первого шоссе, что стараются угодить всем проезжим сразу. Она поселится в простеньком, без затей, мотеле, в комнатке размером немногим больше стоящей там кровати, которую Мэгги вообразила – и не без радости – провалившейся посередке, покрытой драным шенильным одеялом. Продукты будет покупать «У Нелла», готовить ничего не придется. Люди в большинстве своем не понимают, что очень многие суповые консервы можно есть холодными, прямо из банки, вполне сбалансированное питание, между прочим. (Консервный нож: не забыть бы купить его в магазине.)
Что касается работы – найти в таком городке дом престарелых надежды мало. Ну, может быть, офисная подвернется. Печатать она умеет, учет вести тоже – не блестяще, но это не страшно. Кое-чему научилась в багетной мастерской. А то и в магазине автомобильных запчастей для нее место отыщется, можно еще устроиться на станцию техобслуживания, принимать от людей кредитные карточки, выдавать им ключи. А то и официанткой. В конце-то концов, она и полы готова мыть. Ей всего-навсего сорок восемь, здоровье у нее отличное, и, что бы там о ней ни думали, она, если захочет, с любой работой справится.
Мэгги наклонилась, сорвала цветок цикория, сунула его в волосы над левым ухом.
Айра считал ее недотепой. И все остальные тоже. Непонятно как, но она приобрела репутацию какого-то клоуна, который спотыкается на ровном месте. В доме престарелых однажды раздался грохот, звон бьющегося стекла, и дежурная сестра первым делом спросила: «Мэгги?» Вот так вот! Могла бы сначала и выяснить, что к чему! Мэгги там и рядом не было, кто-то другой опростоволосился. Но это отлично показывает, как все к ней относятся.
Выйдя за Айру, Мэгги думала, что он вечно будет смотреть на нее, как в их первую ночь, когда она стояла перед ним в пеньюаре из ее приданого посреди комнаты, которая освещалась только горевшей у кровати лампой с матовым абажуром. Мэгги расстегнула тогда верхнюю пуговку, потом вторую, и пеньюар соскользнул с ее плеч, помедлил немного и упал к щиколоткам. А он смотрел ей в глаза и, казалось, даже не дышал. Она думала, что так всегда и будет.
На парковке перед «У Нелла» рядом с пикапом разговаривали двое мужчин. Один толстый, с ветчинным лицом, другой тощий, белый и хилый. Разговор у них шел о каком-то Дуге, который чуть что, сразу на стену лезет. Интересно, как это, подумала Мэгги, там же держаться не за что. Она понимала, что должна казаться им странной: пришла пешком, разодета по-городскому. «Привет!» – крикнула она совершенно как ее мать. Мужчины примолкли, уставились на нее. Тощий зачем-то стянул кепку, заглянул в нее. И снова напялил на голову.
Она могла бы зайти в кафе, поговорить с Мэйбл, спросить, нет ли в этих местах работы и где лучше остановиться, а могла прямиком отправиться в городок и найти что-то самостоятельно. Вообще-то Мэгги предпочитала сама о себе заботиться. Признаваться, что ее бросил муж, было неловко. С другой стороны, вдруг Мэйбл известна какая-нибудь замечательная работа. Или отличный пансион, дешевле дешевого, в нем и готовить разрешается, и люди живут добрые. Мэгги полагала, что следует хотя бы спросить об этом.
Она захлопнула за собой сетчатую дверь. Магазин был ей уже знаком, и запахи его неприязни не вызывали. За стойкой кафе стояла Мэйбл, локти на вафельном кухонном полотенце, и беседовала с мужчиной в комбинезоне. Разговор велся почти шепотом. «Ну что ты тут можешь сделать, – говорила Мэйбл. – Чего они от тебя ждут?»
Мэгги ощутила себя незваной гостьей. Она вовсе не предполагала, что ей придется делить с кем-то внимание Мэйбл. И, пока та ее не заметила, отступила в проход между полками, на которых стояли крекеры и печенья, надеясь, что соперник вскоре уйдет.
– Я уж думал, думал, – скрипуче сказал мужчина, – но так и не понял, чего еще я мог сделать.
– Господи, ну конечно.
Мэгги сняла с полки коробку крекеров «Риц». Некоторые пекут яблочный пирог, в котором нет никаких яблок, их заменяют крекеры «Риц». Интересно, каков он на вкус, погадала Мэгги. Скорее всего, никакого сходства с яблочным пирогом. Может, эти крекеры сначала в сидре вымачивают или еще в чем. Она повертела коробку, надеясь увидеть рецепт, но таковой отсутствовал.
До Айры, наверное, уже начало доходить, что она ушла навсегда. Он уже заметил порыв пустого воздуха, который образуется, когда человек, к которому ты привык, вдруг исчезает.
Поедет он без нее на похороны? Вряд ли. Нет, Серина дружила скорее с Мэгги, чем с Айрой. А Макс был для него просто знакомым. По правде сказать, у Айры и друзей-то никаких нет. Это одна из его характерных черт, не нравившихся Мэгги.
Сейчас он сбавляет скорость. Пытается принять какое-то решение. А может быть, уже повернул назад.
Поймет теперь, каким голым и неприкаянным чувствует себя человек, когда вдруг остается один.
Мэгги вернула крекеры «Риц» на полку и перешла к «Инжирным Ньютонам».
Как-то раз, уже много лет назад, Мэгги влюбилась, в некотором смысле, в пациента дома престарелых. Даже представить себе это, и то смешно. Влюбилась! В мужчину, которому шел восьмой десяток! Которому приходилось, чтобы добраться куда-нибудь, ехать в инвалидной коляске! Но вот поди ж ты. Она была очарована его аскетичным бледным лицом, изысканными манерами, церемонными оборотами речи, создававшими впечатление, что он и с собственными словами никакой фамильярности не допускает. А еще она знала, какую боль он испытывал, облачаясь каждое утро в свой строгий наряд, какое выражение горделивой отрешенности появлялось на его лице, когда он просовывал поврежденные артритом, похожие на две булавы руки в рукава пиджака. Мистер Габриэль, так его звали. Для всех прочих он был «Беном», но для Мэгги только «мистером Габриэлем». Она догадывалась, как коробит его любое панибратство, и помогала ему почтительно, всегда прося разрешения. Старалась лишний раз не прикасаться к нему. Это можно было назвать ухаживанием наизнанку. Другие работники дома относились к нему с теплотой и некоторой снисходительностью, Мэгги же сохраняла определенную дистанцию между ним и собой и принимала замкнутость мистера Габриэля как должное.
Она прочитала в его личном деле, что он был владельцем известной на всю страну станкостроительной компании. Да, это она могла себе представить. Он обладал решительной властностью бизнесмена, у него просто на лице было написано: уж я-то знаю, что к чему. Она выяснила также, что он вдов и бездетен, близких родственников, кроме живущей в Нью-Гэмпшире незамужней сестры, не имеет. До недавнего времени жил сам по себе, но после того, как у его кухарки загорелся на кухне жир, попросился в дом престарелых. В заявлении он написал, что озабочен своей беспомощностью, которая не позволит ему спастись, если в его доме случится пожар. Озабочен! Только зная его, можно было понять, что кроется за этим нейтральным словом. Болезненная, маниакальная огнебоязнь, которая пустила в нем корни после кухонного пожарчика и разрослась до того, что справиться с ней не могли ни жившие в его доме слуги, ни даже появившиеся там под конец круглосуточно дежурившие сиделки. (Мэгги видела, как застывало его лицо, как стекленели глаза во время учебных пожарных тревог, – лишь тогда он и становился пациентом в подлинном смысле этого слова.)
Ох, и зачем только она прочитала его дело? Ей это вовсе не полагалось. Строго говоря, ей даже его историю болезни читать не следовало. Она была всего-навсего санитаркой гериатрического отделения, ей только и дозволялось, что купать своих подопечных, кормить их да отводить в туалет.
И ведь даже в своем воображении Мэгги всегда была самой верной из жен. Ее и искушения-то никакие не одолевали. А тут мысли о мистере Габриэле захватили ее, она проводила часы, придумывая, в чем еще может стать для него незаменимой. Он замечал это и всегда ее благодарил. «Представьте, – говорил он сестре, – Мэгги принесла мне помидоры из своего огорода!» А помидоры Мэгги страдали каким-то необычным заболеванием: круглые, похожие на маленькие красные резиновые мячики, которые, сталкиваясь, вдруг начинают раскисать. Справиться с несчастьем не удавалось уже годами, заболевание поражало самые разные сорта и гибриды. Мэгги винила в этом крохотный участок городской почвы, на котором они росли (а может, им света не хватало?), однако понимала, видя насмешливые, снисходительные взгляды, которые бросали на них люди, что все думают, будто помидорная хворь как-то связана с ней самой – с тем, как кривобоко и неуклюже продвигается она по жизни. А вот мистер Габриэль ничего не замечал. Он объявил, что ее помидоры пахнут, как летний день 1944 года. Нарезанные, они походили на салфетки – фестончики по краям, дырки, – однако он говорил лишь одно: «Я и сказать вам не могу, как много они для меня значат». Он даже солить их ей не позволял. Говорил, что они и так невероятно вкусны, какие есть.
Нет, ну она же не дура какая-нибудь. Она понимала, что ее тянет к нему – созданный им образ Мэгги, который ошарашил бы Айру. Да и всех, кто ее знал. Мистер Габриэль считал ее умелой, искусной и расторопной. Верил в совершенство всего, что она делала. Да так и говорил, прямо и недвусмысленно. А жизнь ее в то время складывалась из рук вон плохо: Джесси вступил в подростковый возраст и отрицал все на свете, сама Мэгги то и дело ругалась с Айрой. Однако мистер Габриэль ни о чем таком не догадывался. Мистер Габриэль видел целеустремленную женщину, которая спокойно обходила его палату, раскладывая вещи по местам.
Ночами она лежала без сна и сочиняла диалоги, в которых мистер Габриэль признавался, что он от нее без ума. Говорил, что понимает – он слишком стар, чтобы привлекать ее физически, а она перебивала его, уверяя, что он не прав. Он и был не прав. От одной только мысли о том, как она опускает голову на его накрахмаленное белое плечо, Мэгги согревалась и таяла. Она обещала отправиться с ним куда угодно, в любой уголок земли. А Дэйзи они с собой возьмут? (Дэйзи было тогда лет пять или шесть.) Джесси они взять не смогли бы, конечно, он уже не был ребенком. Но ведь тогда Джесси подумает, что Дэйзи она любит больше, чем его, а этого Мэгги допустить не могла. И она отвлекалась на побочные мысли о том, что было бы, возьми они с собой Джесси. Он, конечно, тащился бы за ними в своей черной и всегда только черной одежде, отставая на несколько шагов и сгибаясь под тяжестью стереосистемы и стопки пластинок. И Мэгги начинала хихикать. А Айра шевелился, не просыпаясь, и спрашивал: «Хммм?» Тут она, опомнившись, одергивала себя – компетентная женщина с авантюристической жилкой и несчетными не использованными возможностями.
Родившимися под несчастливой звездой, вот кем они были, однако Мэгги, похоже, подобрала себе уж такую несчастливую, какой никто отродясь не видел. Как она смогла бы ухаживать за мистером Габриэлем, да при этом еще и на работу ходить? Он решительно не желал оставаться в одиночестве. Да и на какую работу? Она всю свою жизнь проработала в доме для престарелых, носящем название «Серебристые пряди». И если сбежит оттуда с одним из пациентов, получить там рекомендательное письмо ей удастся навряд ли.
И еще одна побочная мысль: а что, если она не сбежит, но цивилизованным образом уведомит обо всем Айру и спокойно организует свою новую жизнь? Она может поселиться в палате мистера Габриэля. Станет выбираться каждое утро из его постели и идти работать – благо до работы будет рукой подать. А разносящая таблетки ночная сестра будет заставать Мэгги и мистера Габриэля лежащими бок о бок, глядящими в потолок, в то время как их сосед по палате, Эбнер Сокупс, дремлет в койке у противоположной стены.
Мэгги фыркала снова.
И все это каким-то образом пошло прахом.
Как всякая влюбленная женщина, она хваталась за любую возможность, чтобы упомянуть его имя. Рассказывала о нем Айре все: о его костюмах и галстуках, о его галантности и стоицизме. «Не понимаю, почему ты не проявляешь такого же интереса к моему отцу, он все-таки член семьи», – говорил совершенно не способный понять суть дела Айра. Его отец был нытиком, норовившим использовать в своих интересах всех и каждого. Ничего общего с мистером Габриэлем.
И вот как-то утром случилась очередная учебная пожарная тревога. Зазвенел звонок, громкоговорители проорали кодовую фразу: «Доктор Рыжий в палате два-двадцать». Произошло это в самый разгар дня, когда все пациенты разбредались кто куда. Те, кто еще владел обеими руками, сидели в мастерской, вязали букетики из цветных шелковых цветочков. Увечные – тот же мистер Габриэль – проходили дополнительные процедуры в кабинете физиотерапии. А прикованные к постели лежали, естественно, по своим палатам. С ними хлопот не было.
Правила гласили, что все коридоры и помещения следует очистить от любых препятствий; ходячих пациентов надлежит загнать в свободные палаты, а к дверным ручкам привязать красные тряпочки, говорящие: занято. Мэгги закрыла палаты 201 и 203, где лежали единственные ее неходячие пациенты. Привязала к дверям красные тряпочки, взятые из чулана для метел. Заманила в 202-ю одну из бродячих старушек, подопечную Джоэль Барретт. Рядом с 202-й стоял пустой сервировочный столик, Мэгги закатила внутрь и его, а затем, выскочив из палаты, перехватила Лотти Стейн, которая, немузыкально напевая, ползла в своих ходунках по коридору. Мэгги отвела ее в 201-ю, к Хепзибе Мюррей. Тут появилась и Джоэль, катившая в кресле Лоренс Данн, и воскликнула: «Упс! Тилли сбежала!» Тилли была той самой старушкой, которую Мэгги только что завела в 202-ю. Вечная история с такими учениями. Они напоминали Мэгги карманные игры, в которых пытаешься загнать по лункам все серебристые шарики сразу. Она изловила Тилли и вернула ее в 202-ю. Тем временем из 201-й понеслись неприятные звуки, там переругались Лотти и Хепзиба, поскольку Хепзиба не терпела присутствия посторонних в своей палате. Мэгги пришлось успокаивать их, потом она помогла Джоэль, которой не удавалось справиться с Лоренс, а между тем из головы ее никак не шло нечто более важное. Она, разумеется, думала о мистере Габриэле.
К этому времени он наверняка впал от страха в прострацию.
И Мэгги покинула свой коридор, хотя делать это не полагалось ни при каких обстоятельствах. Она проскочила мимо поста дежурной сестры, спустилась по лестнице, повернула направо. Кабинет физиотерапии находился в дальнем конце холла. Обе его вращающиеся двери были закрыты. Мэгги побежала к ним, обогнув сначала складное кресло, а потом тележку с большим брезентовым мешком, в который собирали предназначенное для стирки белье, – тележку, которой делать здесь было решительно нечего. Тут она услышала шаги, скрип резиновых подошв. Остановилась, оглянулась. Миссис Уиллис! Это почти наверняка была миссис Уиллис, ее непосредственная начальница, а она здесь, бесконечно далеко от места, где ей положено быть.
И Мэгги сделала первое, что пришло ей в голову. Запрыгнула в мешок для белья.
Нелепость, это она поняла сразу. И, утопая в смятых простынях, обругала себя. Все же она еще могла выйти сухой из воды, да только ее прыжок привел тележку в движение. Чья-то рука затормозила ее, и раскатистый голос спросил: «Это еще что такое?»
Мэгги открыла глаза (перед этим она крепко зажмурилась, как ребенок, предпринимающий последнюю отчаянную попытку обратиться в невидимку). Над ней стояла, разинув рот, Берта Вашингтон, кухарка.
– Привет, – сказала Мэгги.
– Ничего себе! – остолбенела Берта. – Сатин, иди посмотри, кто у нас тут постираться надумал.
Рядом с лицом Берты появилось и расплылось в улыбке второе, Сатин Бишоп.
– Ну вы и даете, Мэгги! Интересно, что вы еще придумаете. Знаете, большинство предпочитает ванну принимать, – сказала она.
– Ошиблась немного, – сказала Мэгги. И встала, и стряхнула с плеч приставшее к ним полотенце. – Ладно, наверное, мне лучше…
Но Сатин ответила:
– Мы вас подвезем, девушка.
– Сатин! Не надо! – закричала Мэгги.
Сатин и Берта ухватились за тележку и, пофыркивая как маньячки, понеслись по холлу. Мэгги пришлось вцепиться в борта, иначе она вывалилась бы спиной назад на пол. Тележка накренилась, перекосилась, приближаясь к повороту, набок, однако эти женщины оказались куда быстрее на ногу, чем можно было подумать, глядя на них. Они ловко развернули тележку и побежали назад. Мэгги держалась за края тележки и кричала, наполовину смеясь: «Хватит! Ну хватит!» Толстуха Берта всхрапывала и била ногами в пол. Сатин словно шипела сквозь сжатые зубы. К кабинету физиотерапии тележка подкатила, погромыхивая, в тот миг, когда прозвучал сигнал отбоя – из громкоговорителей донесся хриплый рев. Двери кабинета мгновенно повернулись, и из них выехал мистер Габриэль – в инвалидной коляске, которую подталкивала миссис Инман. Не физиотерапевт, не санитарка или добровольный помощник – сама миссис Инман, начальница службы медсестер. Сатин и Берта резко затормозили. У мистера Габриэля отвисла челюсть.
Миссис Инман произнесла:
– Леди?
Мэгги, схватившись за плечо Берты, вылезла из мешка.
– Ну ей-богу, – сказала она двум женщинам и отряхнула подол своей юбки.
– Известно ли вам, леди, что у нас проводилась учебная пожарная тревога?
– Да, мэм, – ответила Мэгги. Она всегда до смерти боялась строгих женщин.
– Понимаете ли вы, насколько серьезны и важны такие учения для дома престарелых?
Мэгги начала:
– Я просто…
– Будьте добры, Мэгги, отвезите Бена в его палату. Мы с вами поговорим позже, у меня в кабинете.
– Да, мэм, – сказала Мэгги.
И покатила мистера Габриэля к лифту. Когда она наклонилась, чтобы нажать на кнопку, рука ее скользнула по его плечу, и мистер Габриэль резко отстранился.
– Извините, – сказала Мэгги; он не ответил.
В лифте он молчал, хотя, может быть, лишь потому, что с ними ехал один из врачей. Впрочем, даже когда они поднялись на второй этаж и расстались с врачом, мистер Габриэль не проронил ни слова.
Холл выглядел так, словно по нему ураган пронесся, обычное после учебной тревоги дело. Все двери были распахнуты, пациенты бесцельно блуждали, персонал растаскивал по местам то, что случайно попало во время тревоги в палаты. Мэгги завезла мистера Габриэля в 206-ю. Его сосед еще не вернулся. Она поставила коляску у кровати. Мистер Габриэль сидел и молчал.
– О боже, – сказала Мэгги и усмехнулась.
Взгляд мистера Габриэля медленно обратился к ее лицу. Быть может, он сочтет ее подобием героини «Я люблю Люси»[6] – любящей повеселиться сумасбродкой, вечно пребывающей в приподнятом настроении? Увиденное им позволяло сделать и такой вывод. На самом деле Мэгги «Я люблю Люси» не нравился, сюжет казался ей слишком искусственным – головокружительные неудачи героини предопределенными, обещанными с самого начала. Но вдруг мистер Габриэль держался иного мнения?
– Я спустилась вниз, чтобы найти вас, – сказала Мэгги.
Он молча смотрел на нее.
– Беспокоилась за вас, – прибавила она.
«Так сильно, что решила покататься в тележке с грязным бельем?» – без обиняков сказал его взгляд.
И тут Мэгги, нагнувшейся, чтобы поставить коляску на тормоз, пришла в голову странная мысль. Ее породили морщины вокруг рта мистера Габриэля – глубокие складки, словно оттягивавшие кверху краешки губ. Такие же были и у Айры. Только потоньше. Они появлялись, когда Айра что-либо не одобрял. (Как правило, Мэгги.) И взгляд его становился точно таким же – сумрачным, трезвым, осуждающим.
Так ведь мистер Габриэль – это просто еще один Айра, вот и все. Такие же резкие, как у Айры, черты лица, такое же чувство собственного достоинства, такая же замкнутость, и по сей день физически привлекавшая ее. Он даже незамужнюю сестру содержит, готова поспорить, совершенно как Айра двух своих и дармоеда-отца. Признак благородства натуры, можно сказать. По сути дела, мистер Габриэль был ее попыткой найти более раннюю версию Айры. Ту, какую она знала в самом начале их брака, когда еще не начала разочаровываться в муже.
Она влюбилась не в мистера Габриэля, она влюбилась в Айру.
Что же, Мэгги помогла мистеру Габриэлю перебраться из коляски в стоящее у его кровати кресло и отправилась посмотреть, как чувствуют себя прочие пациенты, и жизнь пошла дальше без особых перемен. Собственно, мистер Габриэль и сейчас еще жил в доме, хотя разговаривали они не так подолгу, как прежде. Теперь он вроде бы отдавал предпочтение Джоэль, хоть и был с Мэгги вполне дружелюбен. Вероятно, забыл, как она каталась в бельевой тележке.
Но Мэгги не забыла и временами, натыкаясь на стеклянную стену неодобрения Айры, проникалась немой, усталой уверенностью в том, что на этой земле настоящих перемен не бывает. Ты можешь менять мужей, но не свое положение в мире. Менять кого-то, но не что-то. Все мы носимся здесь по кругу, думала она, и представляла себе мир как маленькую синюю чашку, вращающуюся, подобно аттракциону, где каждый человек сидит, пришпиленный к своему месту центробежной силой.
Мэгги сняла с полки коробку «Инжирных Ньютонов», прочитала на ее обороте сведения об их пищевой ценности.
– Шестьдесят калорий в каждом, – сказал она вслух.
И Айра посоветовал:
– Наплюй на это и кутни.
– Не подкапывайся под мою диету, – ответила она и, не обернувшись, поставила коробку на полку.
– Эй, бэби, – сказал он, – не желаешь прошвырнуться со мной на похороны?
Она пожала плечами и не ответила, однако, когда Айра обнял ее, позволила отвести себя к машине.
Глава 2
Желая найти что-нибудь в Дир-Лике, вы просто останавливаетесь на первом попавшемся светофоре и оглядываетесь по сторонам. Парикмахерская, две станции техобслуживания, хозяйственный магазин, продуктовый, три церкви – вашим взорам открывается все. Дома расставлены здесь с нарочитой чинностью, совсем как в какой-нибудь деревеньке при игрушечной железной дороге. Деревья, выросшие до постройки домов, остались в целости и сохранности, тротуаров хватает лишь на три квартала. Взглянув куда угодно с любого уличного перекрестка, вы увидите зеленые луга, кукурузные поля и даже, что, впрочем, редкость, выгон с толстой гнедой лошадью, зарывшейся мордой в траву.
Айра остановил машину на асфальтированной стоянке у одной из церквей, серовато-белого каркасного куба, в который вели невысокие ступеньки, составленные из похожих на ведьмины колпаки пней. Других машин на стоянке не было. Как выяснилось, догадка его была верной: упрямое передвижение по Первому шоссе сократило путь, что, однако ж, оказалось не такой уж и удачей, поскольку в Дир-Лик они приехали на полчаса раньше, чем следовало. И все-таки Мэгги рассчитывала увидеть хоть кого-то из прибывших на похороны людей.
– Может, мы днем ошиблись, – сказала она.
– Ну как это? Серина же сказала тебе: «Завтра». Тут уж не собьешься.
– Тебе не кажется, что нам лучше войти в церковь?
– Конечно, если она не заперта.
Когда они вылезли из машины, оказалось, что юбка Мэгги липнет сзади к ногам. Она чувствовала себя совершенно разбитой. Волосы спутал ветер, резинка колготок врезалась в живот.
Они поднялись по деревянным ступенькам, толкнули дверь. Та, жалобно заскрипев, распахнулась. Сразу за ней вытянулось тусклое помещение с голым полом и потолочными балками над темными скамьями. По обе стороны кафедры стояли большие букеты цветов, Мэгги они успокоили. Такие искусственные на вид букеты можно встретить лишь на венчаниях и похоронах.
– Алло! – наудачу позвал Айра.
Только его голос к нему и вернулся.
Они на цыпочках двинулись по скрипучим половицам прохода.
– Как по-твоему, полагается здесь соблюдать… стороны или еще что-то? – прошептала Мэгги.
– Стороны?
– Ну, знаешь, как бывает – сторона жениха и сторона невесты? Вернее…
Она захихикала над своей ошибкой. Правду сказать, большого опыта по части похорон у нее не было. Никто из ее близких пока не умер, постучи по дереву.
– Я хотела спросить, – пояснила она, – имеет ли какое-нибудь значение, где мы сядем?
– Главное, чтобы не в первом ряду, – ответил Айра.
– Ну конечно, не в первом, Айра. Я же не полная дура.
Дойдя до середины прохода, Мэгги опустилась на правую скамью, скользнула по ней, чтобы дать место мужу.
– Я думала, хоть музыка какая-нибудь играть будет, – заметила она.
Айра посмотрел на часы.
Мэгги сказала:
– Может быть, в следующий раз ты прислушаешься к указаниям Серины.
– Чтобы проблуждать половину утра по коровьим тропам?
– Все-таки лучше, чем приезжать первыми.
– Я ничего против первенства не имею, – ответил Айра.
Он сунул руку в левый карман пиджака и вынул оттуда перетянутую круглой резинкой колоду карт.
– Айра Моран! Ты же не будешь развлекаться картами посреди дома молитвы!
Он сунул руку в правый и вытащил вторую колоду.
– А если войдет кто-нибудь? – спросила Мэгги.
– Не волнуйся. У меня молниеносные рефлексы, – ответил он.
Айра стянул резинки, соединил обе колоды, перетасовал. Карты пощелкивали, как будто он из пулемета палил.
– Ну ладно, – сказала Мэгги, – придется притвориться, что я с тобой не знакома.
Она стиснула ручки сумочки и переползла на другой конец скамьи.
Айра опустил карты на освобожденное ею место.
Мэгги отошла к витражному окну. ПАМЯТИ ВИВИАНА ДЬЮИ, ЛЮБИМОГО МУЖА И ОТЦА – гласила табличка под ним. Муж по имени Вивиан! Мэгги подавила смешок. И вспомнила о мысли, которая часто посещала ее в шестидесятых, когда молодые мужчины отращивали длинные волосы. Неужели тебя не передернет, думала она, если ты запустишь пальцы в мягкие, свисающие локоны твоего любовника?
В церквях ей всегда лезут в голову мысли самые неподобающие.
Мэгги направилась вглубь церкви, каблучки ее резко постукивали – так, точно она хорошо знала, куда идет. Поднялась у кафедры на цыпочки, чтобы понюхать белый, словно восковой, цветок, названия которого не знала. Запаха у цветка не было, никакого, зато от него исходил совершенно явный холодок. Собственно говоря, ей и без того было немного зябко. Она развернулась и пошла к середине прохода, к Айре.
Он уже половину скамьи картами занял. И передвигал их, насвистывая сквозь зубы. «Игрок» – так называлась эта песня. До разочарования очевидная. Надо знать, что держать, а какие сбрасывать… Пасьянс, который он раскладывал, был до того запутанным, что отнимал иногда по несколько часов, однако начинался просто, и потому Айра перекладывал карты почти не задумываясь.
– Это довольно скучная часть, – сказал он Мэгги. – Для ее исполнения можно бы подряжать любителя, как старые мастера поручали ученикам подмалевывать фон на их картинах.
Мэгги об этом обыкновении мастеров не знала. Ей оно показалось мошенничеством.
– Ты не можешь положить эту пятерку на шестерку? – спросила она.
– Отвали, Мэгги.
Она снова пошла, помахивая сумочкой, по проходу.
Интересно, что это за церковь? Снаружи ничего написано не было. Мэгги с Сериной выросли методистками, но Макс принадлежал к другому вероисповеданию, и после замужества Серина перешла в него. Хотя венчались они в методистской церкви. Мэгги пела на ее венчании – дуэтом с Айрой. (Тогда они только-только начали встречаться.) Церемония венчания была одной из самых диких выдумок Серины, подлинной кашей из тогдашних шлягеров и стихов Халиля Джебрана[7] – и это в то время, когда все вокруг продолжали цепляться за «Обещай мне»[8]. Что же, Серина всегда опережала свое время. И нипочем не угадаешь, какие она сегодня похороны устроит.
У двери Мэгги развернулась и снова направилась к Айре. Он покинул скамью, перешел в другой ряд и теперь склонился, изучая расположение карт. Видимо, добрался до интересной части пасьянса. Даже насвистывать стал медленнее. Не считайте денежки, сидя за столом… Мэгги он показался похожим на пугало: пиджак на плечах обвис, черный чуб взлохмачен, руки как-то странно разведены.
– Мэгги! Ты приехала! – позвала от двери Серина.
Мэгги обернулась, но увидела только желтое пятно, а на нем силуэт. И спросила:
– Серина?
Серина бросилась к ней, раскрыв объятия. Тело ее было целиком обернуто черной шалью с длинной атласной бахромой, которая почти касалась пола, и волосы Серины тоже были черными, не тронутыми сединой. Руки обнявшей ее Мэгги запутались в прядях, спадавших между лопаток Серины. Мэгги встряхнула пальцами, освобождая их, и с легкой усмешкой отступила от подруги на шаг. Серина при ее фигуре, полном овальном лице и ярких красках вполне могла быть испанской сеньорой – так всегда думала Мэгги.
– И Айра! – сказала Серина. – Как ты, Айра?
Айра встал (карты непонятно как исчезли), и она поцеловала его в щеку, что он безропотно вытерпел.
– Я ужасно огорчился, когда услышал о Максе, – сказал Айра.
– Спасибо, – ответила Серина. – Я так благодарна вам за приезд, вы даже не представляете. В дом набились родственники Макса, я прямо почувствовала, как они подавляют меня численным превосходством. И в конце концов удрала оттуда, сказала, что должна кое-что подготовить в церкви. Вы завтракали?
– О да, – ответила Мэгги. – А вот в уборную я бы заглянула.
– Я тебя отведу. Айра?
– Нет, спасибо.
– Ладно, мы через минуту вернемся, – сказала Серина. Она взяла Мэгги под руку и повела ее по проходу. – Из Виргинии приехали двоюродные братья и сестры Макса, ну и конечно, его брат Джордж с женой и дочерью. И Линда здесь уже с четверга, а с ней внуки…
Ее дыхание пахло персиками, а возможно, это у нее духи были такие. На ногах сандалии с кожаными ремешками, обвивавшими до середины голые, загорелые икры, платье (Мэгги не удивилась, увидев его) из сочно-красного шифона, с V-образным вырезом, в центре которого поблескивало украшение (солнце с лучами) из горного хрусталя.
– Может, оно и к лучшему, – продолжала Серина. – Мне эта сумятица хоть задумываться не дает.
– Ах, Серина, очень было ужасно? – спросила Мэгги.
– Ну… и да и нет, – ответила Серина. Она повела Мэгги через маленькую боковую дверь слева от входа, затем по узкой лестнице вниз. – Все тянулось так долго, Мэгги, и в первый миг – ужасно, конечно, – но я почувствовала облегчение. Знаешь, он ведь болел еще с февраля. Только мы тогда ничего не понимали. В феврале же все болеют, месяц такой, у кого грипп, у кого простуда, а тут еще крыша протекает или котел ломается. Так что мы в то время ничего и не смекнули. Ему немного нездоровилось, вот и все, что он сказал. То там побаливает, то тут… Потом он пожелтел. Потом у него верхняя губа словно впала. Ничего такого, чтобы обращаться к врачу. Такого, чтобы позвонить ему и сказать… Но как-то утром я пригляделась к нему и подумала: «Господи, как же он постарел! У него даже лицо другое стало». А был уж апрель, когда все нормальные люди отлично себя чувствуют.
Огибая длинные металлические столы и складные стулья, они пересекли по линолеумному полу неосвещенный подвал с трубами и воздухопроводами на потолке. Мэгги чувствовала себя совершенно как дома. Как часто она и Серина секретничали в какой-нибудь классной комнате воскресной школы! Ей даже почудился запах мелованной бумаги – так пахли брошюрки, по которым они изучали Библию.
– И вот как-то вернулась я из магазина домой, а Макса нет, – продолжала Серина. – Была суббота. Когда я уходила, он копался на дворе. Ну, я не придала этому большого значения, стала раскладывать покупки…
Она подтолкнула Мэгги к облицованной белой плиткой уборной. К голосу Серины присоединилось эхо.
– Потом взглянула в окно, а там совершенно неизвестная мне женщина ведет его за руку. Она как-то… колебалась, явно думала, что он умственно отсталый или еще какой. Я выбежала из дома. Она сказала: «О! Это ваш?»
Мэгги вошла в кабинку, Серина прислонилась к раковине, сложила на груди руки.
– Мой ли! Точно соседка, которая притаскивает твоего пса с завязшими в бороде и усах отбросами и спрашивает: «Это ваш?» Но я сказала: да. Оказалось, что эта женщина увидела его бредущим по Дармор-роуд с садовыми ножницами в руках, а куда его несет, Макс, судя по всему, не знал. Она спросила, может ли чем-то ему помочь, а он ответил только: «Не уверен. Не уверен». Однако меня он, когда увидел, узнал. Я спросила у него, что случилось, и он ответил, что на него напало какое-то странное чувство. Он совершенно неожиданно обнаружил, что идет по Дармор-роуд. Потом та женщина завернула его назад, и он увидел наш дом и понял, что дом наш, однако к нему ни малейшего отношения не имеет. Он сказал, что на минуту словно отлучился куда-то из своей жизни.
Над держателем туалетной бумаги было написано мелом: МАРСИ + ДЭЙВ. У СЬЮ ХАРДИ В ЛИФЧИКЕ ВАТА. Мэгги попыталась освоиться с новым образом Макса – ни в чем не уверенного, озадаченного, наверняка слабого в коленках, как один из пациентов ее дома престарелых. Но вместо этого представила себе Макса, какого знала всегда, – мужчину, который походил на дюжего футболиста, с ежиком светлых волос и широким, добродушным веснушчатым лицом; Макса, который вбегал голышом в прибой на каролинском пляже. Но за последние десять лет она видела его лишь несколько раз: Макс не был чемпионом мира по умению удерживаться на работе, и потому семья его часто переезжала. Однако на Мэгги он производил впечатление мужчины, который навсегда сохранит мальчишечьи черты. Трудно было вообразить его стареющим.
Покончив со своими делами, она вышла из кабинки и увидела, что Серина разглядывает одну из своих сандалий, поворачивая так и этак ступню.
– Ты когда-нибудь делала это? – спросила Серина. – Отлучалась из собственной жизни?
– Что-то не припомню, – ответила Мэгги и открыла кран горячей воды.
– Хотела бы я знать, на что это похоже, – сказала Серина. – Просто оглядеться однажды и понять, что все тебя изумляет – место, в котором ты оказалась, мужчина, за которого вышла, женщина, в которую превратилась. Скажем, такое нашло бы на тебя, пока ты… ну, не знаю, ходила с дочерью по магазинам, – и ты вдруг стала бы собой, но семи-восьмилетней, наблюдающей за всем, что ты делаешь. «Как это? – сказала бы ты. – Неужели это я? Вожу машину? Принимаю сдачу? Пилю какую-то молодую женщину, как будто имею на это право?» А потом вошла бы в свой дом и сказала: «Нет, это все мне не по вкусу». И подошла бы к зеркалу: «Господи, да у меня подбородок куда-то вниз съехал совсем как у моей матери». Ты увидела бы все не завуалированным, понимаешь? И сказала бы: «А муж-то у меня далеко не Эйнштейн, это верно». Сказала бы: «Моей дочери не мешает сбросить кое-какой вес».
Мэгги откашлялась. (Все это было неутешительной правдой. Дочери Серины, к примеру, очень даже не мешало сбросить кое-какой вес.) Она протянула руку к бумажному полотенцу и сказала:
– По-моему, ты говорила по телефону, что он умер от рака.
– Верно, – подтвердила Серина. – Но когда мы узнали про рак, он был везде. Все тело проел, даже мозг.
– Ах, Серина.
– В один день Макс, как всегда, отправился на работу, продавать рекламу на радио, а на другой уже лежал пластом. Говорить толком не мог, видеть тоже, что ни делал, все вкривь и вкось получалось. И все время повторял, что слышит запах домашнего печенья. Спрашивал: «Серина, когда испечется печенье?» А я его сто лет не пекла! Говорил: «Как вынешь его из духовки, принеси мне одно». Ну я и напекла целую кучу, а он удивился и сказал, что не голоден.
– Зря ты меня не вызвала, – сказала Мэгги.
– А что бы ты могла сделать?
Да в общем, ничего, подумала Мэгги. Она не могла бы даже уверенно сказать, что понимает, какие испытания выпали на долю Серины. Казалось, на каждом жизненном этапе Серина немного опережала ее и на каждом описывала свой опыт правдиво, пугающе, прямо, словно какая-нибудь иностранка, ничего не знающая о принятых в обществе правилах. Как будто завесы сдирала! Это она сообщила Мэгги, что брак не похож на фильм с Роком Хадсоном и Дорис Дэй[9] в главных ролях. Это она сказала, что материнство дело слишком тяжелое и, откровенно говоря, оно, может, и не стоит усилий, которые ты на него тратишь. А теперь новая напасть: у нее умер муж. И Мэгги было не по себе, хоть она и понимала, что это не заразно.
Посмотрев в зеркало, она обнаружила, что над ухом, перекосившись, торчит из волос голубой цветок цикория. Мэгги выдернула его и бросила в мусорную корзинку. Серина ничего о нем не сказала – верное доказательство смятенности ее души.
– Сначала я думала: как же мы это переживем? – сказала Серина. – Как справимся с этим? А потом поняла: справляться-то придется мне одной. Макс просто-напросто считал, что я все устрою. Налоговая служба угрожала нам проверкой, наша машина нуждалась в новой коробке передач? Это были мои дела, Макса они интересовать перестали. Ко времени, когда начнется проверка, он уже будет мертв, да и машина ему больше не понадобится. Вообще-то смешно, если подумать. Разве нас не предупреждали насчет того, чем оборачивается исполнение желаний? «Будь осторожен в желаниях» – разве нет такого предостережения? Я вот еще в детстве поклялась, что никогда не буду зависеть от мужчины. Чтобы я ждала, когда кто-то из них обратит на меня внимание, – да ни за что на свете! Я хотела получить мужа, который будет сходить по мне с ума, держаться за меня как приклеенный, вот точно такого и получила. Точно. Макс не мог глаз от меня оторвать, провожал меня взглядом по комнате. Когда ему в конце концов пришлось отправиться в больницу, он умолял не оставлять его одного, и я стала проводить там день и ночь. И начала злиться на него. Я же помнила, как вечно приставала к нему: занимайся спортом, следи за своим здоровьем, а он отвечал, что все это для чокнутых. Заявлял, что бег трусцой – дорога к инфаркту. Послушать его, так тротуары усыпаны трупами таких бегунов. Я смотрела на него, лежащего на больничной койке, и спрашивала: «Так что ты предпочитаешь, Макс, взять и внезапно помереть одетым в шикарный, теплый, красный спортивный костюм или валяться здесь утыканным иглами и трубками?» Я говорила это, кричала во все горло! Вела себя с ним кошмарно.
– Ну ладно тебе, – жалко сказала Мэгги. – Я уверена, ты вовсе не имела…
– Я имела в виду каждое слово, – ответила Серина. – Вечно ты стараешься все приукрасить, Мэгги. Я кошмарно себя вела. А потом он умер.
– О господи… – полепетала Мэгги.
– Ночью, со среды на четверг. У меня словно тяжесть какая-то с груди свалилась, я отправилась домой и проспала двенадцать часов подряд. В четверг приехала из Нью-Джерси Линда, и это было хорошо – она, зять, ребятишки. Но мне все время казалось, что я должна что-то сделать. Что-то, о чем забыла. А это меня подмывало в больницу поехать, только и всего. Я себе места не находила. Это как фокус, который мы проделывали в детстве, помнишь? Встанешь в проеме двери, нажмешь руками на косяк, словно распереть его хочешь, а после шагнешь вперед, и руки сами собой взлетают вверх, как будто все это давление было, ну, запасено на будущее и сработало задним числом. Так вот, дети Линды принялись изводить кошку. Напялят на нее пижамку своего игрушечного медвежонка, а Линда этого даже не замечает. Она никогда их в узде держать не умела. Мы с Максом еле сдерживались, чтобы ничего ей не сказать. Каждый раз, как они приезжали, мы ей ни слова не говорили, только посматривали друг на друга через комнату, обменивались взглядами, знаешь, как это бывает? А тут вдруг мне переглядываться стало и не с кем. Так я впервые поняла, что и вправду потеряла его.
Серина перебросила со спины на грудь хвост волос, осмотрела его. Кожа под глазами у нее блестела. Собственно говоря, она плакала, но, похоже, не замечала этого.
– Ну я и выдула целую бутылку вина, – сказала она, – а после обзвонила всех давних знакомых, всех, кого мы с Максом знали, когда только еще встречались. Тебе позвонила, Сисси Партон, двойняшкам Барли…
– Двойняшки Барли! Они приедут?
– Конечно. И Джо Энн Дермотт с Нэтом Абрамсом, за которого она в конце концов вышла, если тебе это интересно…
– Я о Джо Энн годами не вспоминала!
– Она почитает нам из «Пророка». А ты и Айра споете.
– Мы… что?
– Споете «Нет ничего прекрасней любви на земле»[10].
– Ох, помилуй, Серина! Только не «Любовь прекрасней всего на свете».
– Вы же пели ее на нашей свадьбе, так?
– Да, но…
– Ее как раз играли, когда Макс признался мне в любви, – сказала Серина. И, приподняв уголок шали, аккуратно промокнула кожу под глазами. – Двадцать второе октября пятьдесят пятого. Помнишь? Бал в честь Праздника урожая. Я туда с Терри Симпсоном пришла, но Макс меня отбил.
– Но ведь это его похороны! – сказала Мэгги.
– И что?
– Это же не… концерт по заявкам, – сказала Мэгги.
Над головами у них забренчало пианино. Аккорд, аккорд, еще аккорд – они плюхались на пол, словно кто-то столовые приборы раскладывал. Серина запахнула на груди шаль и сказала:
– Нам лучше вернуться.
– Серина, – сказала Мэгги, выходя вслед за ней из уборной, – мы с Айрой после твоей свадьбы ни разу на людях не пели!
– Не страшно. Я и не ожидаю профессионального исполнения, – ответила Серина. – Просто хочу повторить то, что было, как иногда делают на золотых свадьбах. Решила, что это будет красиво.
– Красиво! Ты же знаешь, как песни иногда, ну, стареют, – сказала, обходя вместе с подругой столы, Мэгги. – Почему не исполнить просто какие-нибудь утешительные гимны? Разве в вашей церкви хора нет?
У подножия лестницы Серина повернулась к ней.
– Послушай, – сказала она. – Я всего лишь прошу о малейшей, простейшей услуге самую близкую подругу, какая у меня есть на свете. Чего мы с тобой только не пережили вместе! Наши свадьбы, рождение наших детей! Ты помогла мне устроить мою мать в дом престарелых. Я сидела с тобой, когда арестовали Джесси.
– Да, но…
– Прошлой ночью я призадумалась и спросила себя: я для чего эти похороны устраиваю? На них и не придет никто, мы слишком недолго здесь прожили. Мы Макса даже в землю опускать не будем, следующим летом я развею его прах над Чесапиком[11]. На службе и гроба-то его не будет. Какой тогда смысл сидеть в церкви, спросила я, и слушать, как миссис Филбер гимны на пианино бренчит? «Сколь тернист он, правый путь» и «Смерть похожа на тихий сон». Я и с миссис Филбер-то не знакома! Лучше уж Сисси Партон, которая играла на нашей свадьбе «Мою мольбу». А после подумала: да почему бы мне все не повторить? И Халиля Джебрана, и «Нет ничего прекрасней любви»?[12]
– Тебя многие не поймут, – заметила Мэгги. – Например, те, кто не был на твоей свадьбе.
«Да и те, кто был, тоже», – подумала она про себя. Некоторые гости и тогда выглядели озадаченными.
– Ну и пусть удивляются, – сказала Серина. – Я не для них похороны устраиваю. – И, повернувшись к лестнице, стала подниматься по ней.
– Да, но Айра, – сказала Мэгги, поднимаясь следом. Бахрома шали хлестнула ее по лицу. – Конечно, я для тебя землю перевернуть готова, но не думаю, что Айра согласится петь эту песню.
– У Айры был хороший тенор, – сказала Серина. Она добралась до верха лестницы и снова повернулась к Мэгги: – А у тебя голос, как серебряный колокольчик, – помнишь, все так говорили? Самое время перестать это скрывать.
Мэгги вздохнула и пошла за Сериной по проходу церкви. Говорить, что этот колокольчик успел постареть почти на полвека, бесполезно, полагала она.
За время отсутствия Мэгги в церкви появились несколько гостей. Они сидели по разным скамьям. Серина склонилась к женщине в шляпе и узком черном костюме.
– Шугар? – произнесла она.
Остановившаяся прямо за ней Мэгги спросила:
– Шугар Тилгмэн?
Шугар обернулась. Она была первой красавицей класса, да и сейчас, полагала Мэгги, осталась красивой, хотя из-за плотной черной вуали, спадавшей с полей ее шляпы, сказать что-нибудь определенное было трудно. Она больше походила на вдову, чем сама вдова. Что же, Шугар всегда видела в одежде прежде всего маскарадный костюм.
– Вот и ты! – сказала она и встала, чтобы прижаться щекой к щеке Серины. – Я так сожалею, так сожалею о твоей потере. Только зовут меня теперь не Шугар, а Элизабет.
– Ты ведь помнишь Мэгги, Шугар, – сказала Серина.
– Мэгги Дейли! Какой сюрприз.
Укрытая вуалью щека Шугар была гладкой и тугой. Она оставляла ощущение одной из тех луковиц, что продают упакованными в сетку в продуктовых магазинах.
– Как все это печально, – сказала она. – Роберт приехал бы со мной, но у него совещание в Хьюстоне. Он просил передать тебе его соболезнования. Сказал: «Кажется, только вчера мы пытались найти дорогу на их свадебный обед».
– Да, вот об этом я и хочу с тобой поговорить, – сказала Серина. – Ты помнишь нашу свадьбу? Ты пела там после того, как мы принесли обеты.
– «Рожденную быть с тобой», – сказала Шугар. И усмехнулась. – Вы шли под нее к дверям. Переход оказался дольше песни, и под конец мы слышали только стук твоих высоких каблуков.
– Так вот, – сказала Серина. – Я хочу, чтобы ты снова спела ее сегодня.
От потрясения у Шугар даже лицо проступило из-под вуали. Выглядела она старше, чем думала Мэгги.
– Чтобы я – что? – переспросила она.
– Чтобы спела.
Шугар, повернувшись к Мэгги, приподняла брови. Мэгги отвела взгляд, вступать в какой бы то ни было сговор ей не хотелось. Какая-то женщина и впрямь заиграла на пианино «Мою мольбу». Но не может же это быть Сисси Партон, верно? Женщина с пухлой спиной и ямочками-сердечками над локтями. Помилуй, она похожа на самую обыкновенную церковную пианистку.
– Я уже двадцать лет как не пела, если не больше, – сказала Шугар. – Да и тогда-то петь не умела! Выпендривалась, и не более того.
– Шугар, это последняя услуга, больше я тебя никогда ни о чем не попрошу, – настаивала Серина.
– Элизабет.
– Одну песню, Элизабет! Для друзей. Мэгги и Айра тоже споют.
– Нет, подожди… – начала было Мэгги.
– Да еще и «Рожденную быть с тобой», – сказала Шугар.
– А что в ней плохого, хотелось бы знать? – спросила Серина.
– Ты слова ее помнишь? «Довольная, бок о бок с тобой»? И ты хочешь услышать их на похоронах?
– На поминальной службе, – сказала Серина, хотя и сама до сей поры называла это похоронами.
– А в чем разница? – спросила Шугар.
– Ну, гроба-то здесь не будет.
– В чем разница, Серина?
– Вовсе не получится, что я вроде как лежу бок о бок с ним в гробу! Что я извращенка какая-нибудь или еще кто! Я буду бок о бок с ним в духовном смысле, вот и все.
Шугар посмотрела на Мэгги. А та пыталась припомнить слова «Моей мольбы». Во время похорон, думала она (или поминальной службы), самые невинные строчки могут приобретать совершенно новый смысл.
– Ты станешь посмешищем здешних прихожан, – категорически заявила Шугар.
– Да плевать мне на них.
Мэгги ушла по проходу, оставив их. Она настороженно приглядывалась к людям, мимо которых шагала, – каждый мог оказаться давним знакомым. Однако никого не узнала. Дойдя до скамьи Айры, она подтолкнула его локтем и сказала:
– Я вернулась.
Айра подвинулся. Он читал свой карманный календарь – ту его часть, где перечислялись знаки зодиака и соответствующие им драгоценные камни.
– Мне это мерещится или я на самом деле слышу «Мою мольбу»? – спросил он, когда Мэгги уселась с ним рядом.
– На самом деле, – сказала Мэгги. – И играет ее не просто какой-нибудь старичок-пианист. Это Сисси Партон.
– Кто такая Сисси Партон?
– Ну ей-богу, Айра! Ты же помнишь Сисси. Она играла на свадьбе Серины.
– Ах да.
– А мы с тобой пели «Нет ничего прекрасней любви», – сказала Мэгги.
– Уж этого я ни за что не забыл бы.
– И Серина хочет, чтобы сегодня мы спели ее снова.
У Айры даже выражение лица не изменилось. Он просто сказал:
– Жаль, что нам не удастся оказать ей такую услугу.
– Шугар Тилгмэн тоже петь отказывается, и Серина ей сейчас шею намыливает. Не думаю, что она позволит нам отвертеться, Айра.
– Шугар Тилгмэн здесь? – Он оглянулся.
От Шугар все мальчики были без ума.
– Вон там, в задних рядах, в шляпе, – сказала Мэгги.
– Разве Шугар пела на их свадьбе?
– Пела, «Рожденную быть с тобой».
Айра снова повернулся лицом к алтарю, подумал. Наверное, слова припоминал. И в конце концов коротко фыркнул.
Мэгги спросила:
– Ты помнишь слова «Нет ничего прекрасней любви»?
– Нет, и вспоминать не собираюсь, – ответил Айра.
Какой-то человек остановился в проходе рядом с Мэгги. И спросил:
– Как жизнь, Мораны?
– Дервуд! – воскликнула Мэгги. И повернулась к Айре: – Подвинься, дай Дервуду сесть.
– Дервуд. Привет, – сказал Айра и на фут отъехал по скамейке.
– Знал бы, что вы сюда поедете, напросился бы к вам в попутчики, – сказал, садясь рядом с Мэгги, Дервуд. – А так Пег пришлось на работу автобусом ехать.
– Ох, прости. Нам следовало подумать об этом, – сказала Мэгги. – Серина, должно быть, всех в Балтиморе обзвонила.
– Да, я здесь и старушку Шугар заметил, – сказал Дервуд и вытянул из нагрудного кармана шариковую ручку.
Он был человеком тихим, со взъерошенными, волнистыми седыми волосами, слегка длинноватыми. Волосы немного прикрывали уши, прядями спадали сзади на воротник, придавая Дервуду вид стесненного в средствах неудачника. В старших классах он Мэгги не нравился, однако многие годы прожил с ней по соседству, женился на Глен Берни, вырастил детей, и теперь она виделась с ним чаще, чем с любым из тех, рядом с кем росла. Ну не смешно ли складывается жизнь? – думала Мэгги. Она уж и припомнить не могла, по какой причине они с самого начала не стали близкими друзьями.
Дервуд похлопал себя по карманам, что-то ища.
– У тебя случайно не найдется клочка бумаги? – спросил он.
Все, что смогла отыскать Мэгги, это купон на шампунь. Она отдала его Дервуду, и тот положил купон на сборник гимнов. А затем щелкнул ручкой и наморщил лоб.
– Что ты хочешь записать? – спросила Мэгги.
– Я пытаюсь вспомнить слова «Хочу, желаю, люблю».
Айра застонал.
Церковь наполнялась людьми. Скамью перед Моранами и Дервудом заняло какое-то семейство, детей усадили по росту, так что линия их круглых белобрысых голов шла вниз – как вопросительная интонация. Серина перепархивала от гостя к гостю, несомненно упрашивая и умасливая их. Бахрома ее шали успела где-то искупаться в пыли. Мелодия «Моей мольбы» повторялась и повторялась, становясь навязчивой.
Теперь, когда Мэгги поняла, как много здесь людей из ее прошлого, она пожалела, что не уделила своей внешности побольше внимания. Могла бы напудриться, к примеру, или намазаться каким-нибудь кремом – чтобы лицо не было таким розовым. Может быть, даже изобразить коричневатым тоном впадинки под скулами, как настойчиво советуют журналы. И платье стоило выбрать более молодежное, бросающееся в глаза, как у Серины. Правда, у нее такого нет. Серина всегда предпочитала яркие краски, у нее единственной в школе были проколоты уши. Балансировала на грани аляповатости, но каким-то образом ухитрялась эту грань не переступать.
И как лихо удавалось ей сопротивляться унылому времени, в которое они росли! В третьем классе она носила подобие балетных туфелек, тоненьких, как бумага, с носками в ослепительной россыпи блесток, и другие девочки (в благоразумных «оксфордах» с коричневыми шнурками и толстых шерстяных гольфах) горько завидовали легкой походке и танцевальной грации голых ног Серины, покрывающихся в каникулы гусиной кожей и лиловыми синяками. Она притаскивала в пропахшую тушенкой школьную столовку рискованные завтраки, однажды он состоял из крошечных серебристых сардинок в плоской серебристой консервной банке. (Серина съедала и рыбьи хвосты. И мелкие косточки рыб. «Мм-мм! Хрусть-хрусть», – говорила она, поочередно облизывая пальцы.) Каждый год она гордо и неуклонно приводила на родительский день свою возмутительную мать Аниту, щеголяющую в ярко-красных, в обтяжечку, коротких, чуть ниже колен, брючках и работающую в баре. И никогда не стеснялась признаться, что отца у нее не было. Во всяком случае, женатого отца. Во всяком случае, женатого на ее матери.
В старших классах она разработала собственную концепцию модной одежды – искусственный шелк, машинные вышивки, облегающие филиппинские блузки, – другие девочки тогда еще чуть ли не кринолины носили. По школьным коридорам они проплывали в юбках, стоящих колом, точно оборчатые абажуры, а среди них светилась Серина в непристойном, соблазнительном, сливовой расцветки облегающем платье, словно снятом с Аниты.
Но разве не странно, что в мальчиках, с которыми она появлялась на людях, ничего непристойного не отмечалось? Она выбирала не смуглых Лотарио[13], как можно было бы ожидать, но веселых простаков вроде Макса. Мальчиков в клетчатых рубашках и кроссовках – вот кого к ней тянуло. Не исключено, что она втайне тосковала по будничности – и сильнее, чем готова была это признать. Могло ли так быть? Конечно, могло, только Мэгги в ту пору об этом еще не догадывалась. Серина так старалась ни в чем не походить на других. Она была такой придирчивой и колючей, такой готовой вспылить и приказать тебе навсегда убраться с глаз долой. (Сколько раз они с Мэгги переставали разговаривать – и Серина проходила мимо нее, величавая, как герцогиня?) Даже сейчас, обнимая приехавших на похороны людей, словно окутывая их своей театральной шалью, она источала густой, темный свет, от которого тускнели все, кто ее окружал.
Мэгги посмотрела на свои руки. В последние годы, защипнув и оттянув кожу на тыльной стороне ладони, она замечала, что кожа в этом месте какое-то время остается морщинистой.
Дервуд что-то бормотал себе под нос, выписывал на купон строчки песни. Потом, уставившись на находящуюся прямо перед ним полочку со сборниками гимнов, забормотал что-то другое. Мэгги почувствовала беспокойство. И, соединив кончики пальцев, прошептала: «Нет ничего прекрасней любви на земле. Это розы бутон – он весною рожден…»
– Имей в виду, – сказал Айра, – я это петь не собираюсь.
Мэгги и сама не так чтобы собиралась, но ей казалось, что ее тащит куда-то неодолимая сила. По всей церкви, как ей представлялось, немолодые уже люди бормочут сентиментальные фразы пятидесятых. «Чудо, любовь не слепа…» «Больше, чем цвета на яблоне в мае…»[14]
Интересно, почему популярные песни так зациклены на романтической любви? Откуда взялась эта мания первых свиданий, печальных разлук, сладких поцелуев, разбитых сердец, когда в жизни с лихвой хватает рождения детей, поездок к морю, бородатых анекдотов, которыми мы перекидываемся с друзьями? Мэгги как-то видела по телевизору археологов, которые откопали фрагмент песни бог знает какого века до Рождества Христова, так и в ней юноша плакался по поводу девы, которая не отвечает ему взаимностью. А ведь кроме песен есть еще рассказы в журналах, романы, фильмы, даже реклама колготок и лака для волос. Мэгги это казалось каким-то несоразмерным. И даже вводящим людей в заблуждение.
Узкий черный клинок уперся коленом в скамью рядом с локтем Дервуда. Это была Шугар Тилгмэн, пытающаяся сдуть вуаль со своих липких от помады губ.
– Знай я, что меня попросят развлекать публику, ни за что не приехала бы, – сказала она. – О, Айра. Раньше я вас здесь не заметила.
– Как дела, Шугар? – спросил Айра.
– Элизабет.
– Пардон?
– Кто себя правильно повел, так это двойняшки Барли, – сказала Шугар. – Наотрез отказались петь, и дело с концом.
– Ну разве на них это не похоже? – сказала Мэгги. Двойняшки Барли всегда были воображалами и предпочитали общество друг дружки чьему-либо еще.
– А Ник Борн даже не приехал на похороны.
– Ник Борн?
– Сказал, что ему слишком далеко ехать.
– Я что-то не помню его на свадьбе, – заметила Мэгги.
– Ну в хоре-то он участвовал, верно?
– Ах да, правильно.
– И хор пел «Настоящую любовь»[15], помнишь? Однако если двойняшки Барли петь отказываются, а Ника Борна и вовсе не будет, нас останется всего четверо и Серине придется обойтись без хора.
– Знаете, – сказал Дервуд, – я никогда не понимал, почему «Настоящая любовь» стала такой популярной. Мелодия у нее, если честно, попросту скучная.
– А тут еще «Рожденная быть с тобой», – подхватила Шугар. – Ну не смешна ли наша Серина? Иногда она заходит слишком далеко. Берет какую-нибудь заурядную песенку вроде «Рожденной быть с тобой» – ладно, пусть, всем нам она нравится, но Серина так носится с ней, что это начинает выглядеть жутковато. Эксцентрично. Вечный перебор, вот что такое Серина.
– Как на ее свадебном обеде, – заметил Дервуд.
– О этот свадебный обед! Гостей встречали всего-навсего ее мать, толстая двенадцатилетняя кузина и родители Макса.
– У которых был несчастный вид.
– Они никогда не одобряли Серину.
– Все время спрашивали, кто ее родители.
– Лучше вообще без встречающих обходиться, – сказал Дервуд. – Да и жениться лучше втихую. Не понимаю, зачем ей понадобились такие хлопоты.
– Ну, так или иначе, – сказала Шугар, – я заявила Серине, что спою сегодня, раз уж она настаивает, но песню придется выбрать другую. Более уместную. Я понимаю, что нам полагается потакать только что овдовевшей женщине, однако всему же есть предел. И Серина ответила: ладно, лишь бы песенка относилась к тем временам, когда мы с Максом только начали встречаться. К пятьдесят шестому, пятьдесят седьмому, никак не позже, сказала она.
– «Великий притворщик»![16] – неожиданно выпалил Дервуд. – Вот это была песня. Помнишь, Айра? «Великого притворщика»?
Айра изобразил томность и протянул:
– О-о-о-о-о-о-о, да…
– Вот ее и спой, – посоветовал Дервуд, глядя на Шугар.
– Ой, будь серьезным, – попросила она.
– Спой «Дэйви Крокетта», – предложил Айра.
После чего они с Дервудом затараторили наперебой:
– Спой «Желтую розу Техаса».
– Спой «Гончего пса».
– Спой «Папа любит мамбо».
– Вы хоть минуту способны быть серьезными? – вопросила Шугар. – Кончится тем, что я буду стоять и беззвучно открывать рот.
– А как насчет «Отеля разбитых сердец»?[17] – спросил Айра.
– Тсс, все умолкли. Начинается, – сказала Мэгги.
Она углядела идущих по проходу родственников. Шугар торопливо выпрямилась и вернулась на свое прежнее место, между тем Серина склонилась к двум женщинам, которые могли быть только двойняшками Барли, а затем села рядом с ними на скамью – далеко не первую – и продолжила что-то шептать. Она несомненно все еще надеялась уговорить их спеть. Желтые волосы двойняшек были острижены коротко, завиты и походили на шапочки – стиль, которому они отдавали предпочтение еще в старших классах, однако теперь загривки у них стали тощими, точно цыплячьи шейки, а гофрированные воротнички из розовых кружев придавали обеим сходство с Минни Перл[18].
Родственников вела по проходу дочь Серины, Линда, толстая и веснушчатая; рядом с ней шагал ее бородатый муж, позади – пара мальчиков во взрослых костюмах и с застенчиво торжественными лицами. За ними следовали светловолосый мужчина – скорее всего, брат покойного – и разного рода строго и уныло одетые люди. У нескольких были широкие, как у Макса, лица, увидев которые Мэгги вздрогнула от неожиданности. Она немного отвлеклась от причины церемонии, а теперь вдруг вспомнила: Макса Гилла и вправду не стало, он умер. Одно из поразительных свойств смерти, думала она, это ее способность порождать события. Она заставляет тебя понять, что ты живешь настоящей жизнью. Наконец-то настоящей! – могла бы сказать ты. Может быть, потому я и читаю каждое утро некрологи, выискивая знакомые фамилии? Может быть, потому и веду с другими работницами дома негромкие, благоговейные разговоры, когда один из его пациентов уезжает на похоронных дрогах?
Родные расселись по передней скамье. Линда оглянулась на Серину, однако та, слишком занятая разговором с двойняшками Барли, не заметила взгляда дочери. Затем пианино смолкло и появился лысый священник в длинной черной мантии. Он прошел за кафедрой, опустился в темное деревянное кресло и старательно расправил подол мантии поверх брюк.
– Это ведь не преподобный Коннорс, верно? – прошептал Айра.
– Преподобный Коннорс умер, – ответила Мэгги.
Ответила громче, чем собиралась. На скамье перед ней повернулась, как на шарнирах, череда белобрысых голов.
Пианино взялось за «Настоящую любовь». По-видимому, Сисси пришлось подменить собой хор. Серина наставила на двойняшек Барли требовательный, обвиняющий взгляд, однако они упрямо смотрели только вперед, притворяясь, что ничего не замечают.
Мэгги вспомнила, как Грейс Келли и Бинг Кросби пели «Настоящую любовь» в фильме. Они там сидели в яхте или в парусной лодке, что ли. Оба, как подумаешь, тоже мертвы.
Если музыка и удивила священника, он этого не показал. Дождался, когда затихнет последняя нота, а затем встал и произнес: «Обратимся теперь к Слову Божию…» Голос у него был высокий, тягучий. Мэгги пожалела, что он – не преподобный Коннорс. Голос преподобного Коннорса потрясал стропила. И кажется, Слов Божиих он на свадьбе Серины не читал, во всяком случае, она такого не помнила.
Этот же зачитал псалом, что-то о жизни под кровом Всевышнего, – Мэгги выслушала его с облегчением, поскольку ее опыт указывал, что наибольшая часть Псалтыри состоит из параноидальных обличений врагов и злодейских заговоров. Она представила себе Макса, как он полулежит под кровом Всевышнего вместе с Грейс Келли и Бингом Кросби, как его волосы поблескивают на фоне освещенных солнцем парусов. Он, наверное, рассказывает им какой-нибудь из своих анекдотов. Анекдоты Макс мог рассказывать часами, один за другим. Серина говорила обычно: «Ну хватит уже, Гилл». Они часто называли друг дружку по фамилиям – Макс, даже женившись на ней, использовал ее девичью: «Посмотри туда, Палермо», Мэгги и сейчас словно слышала его голос. И потому они казались более дружными, чем другие семейные пары, такими покладистыми приятелями, не ведавшими темного, беспомощного, гневного чувства узницы, что временами вторгалось в брак Мэгги.
Даже если Серина и догадывалась, что супружество – не фильм с Дорис Дэй, на публике она этого никогда не показывала, ибо ее взрослая жизнь выглядела со стороны как самая развеселая из семейных комедий: ироничная, снисходительная Серина; веселый, любящий приятно провести время Макс. И став родителями, они по-прежнему казались сосредоточенными исключительно друг на друге супругами, Линда же – более-менее лишним довеском. Мэгги им завидовала. Ну не преуспел Макс в жизни, и что с того? «Ладно еще, если бы я не понимала, что его необходимо направлять и всегда быть главой дома, – как-то призналась Серина. Но тут же повеселела и махнула, клацнув браслетами, рукой: – Да и пусть! Все равно он у меня сладенький, верно?» И Мэгги с ней согласилась. Сладенький, дальше некуда.
(И она помнила, если Серина забыла об этом, как после пятого класса они потратили лето на слежку за роскошным гилфордским домом отца Серины, как ловко ходили по пятам за его сыновьями-подростками и элегантной женой. «Я могла бы обрушить мир этой женщины ей на темечко, – говорила Серина. – Постучать в дверь, а когда она откроет: „Здравствуйте, дорогая, это чья же такая милая девочка?“ – сказать – чья». Впрочем, говорила она это, укрывшись за одним из двух самодовольных каменных львов, которые охраняли дорожку к дому, и даже не шелохнувшись, чтобы выйти из-за него. А потом прошептала: «Я никогда не стану такой, как она, обещаю». Человек посторонний подумал бы, что Серина говорит о жене отца, но Мэгги знала: о своей матери. «Миссис» Палермо – жертва любви. Женщина, каждая черта которой – даже косоватый, странно смещенный от центра водопад черных волос – намекала на вечно выпадавшие ей несчастья.)
Священник сел и еще раз расправил мантию. Сисси Партон взяла несколько зловещих нот и взглянула на собравшихся в церкви. Дервуд произнес довольно громко: «Я?» Белобрысые головы повернулись снова. Дервуд встал и пошел по проходу. Предполагалось, по-видимому, что каждый сам сообразит, когда ему петь. А что для этого нужно мысленно вернуться на двадцать девять лет назад, так с этим справляйтесь сами.
Дервуд положив ладонь на крышку пианино, принял важную позу. Кивнул Сисси. И вибрирующим басом запел: «Обними и покрепче прижмись ко мне…»[19]
Родители многих ее одноклассников запрещали детям слушать эту песню дома. Все эти «хочу» да «желаю», говорили они, звучат подозрительно. Поэтому Мэгги с приятелями приходилось отправляться к Серине или в магазин «Чистый звук», где в то время еще можно было набиться в кабинку для прослушивания и полдня проигрывать пластинки, ничего не покупая.
И тут она вдруг вспомнила, почему ей не нравился Дервуд, – помогло его оперное вибрато. В те давние времена его считали завидной добычей: волнистые темные волосы, глубокие карие глаза и обыкновение вопросительно приподнимать бровь. При каждом удобном случае он пел в школьной аудитории песню «О, поверь, если юные чары твои…»[20] – всегда одну и ту же, с теми же театральными жестами, в той же задушевной эстрадной манере пятидесятых, при которой голос иногда прерывался от чувств. По временам прерывался даже слишком – первый в строчке слог проглатывался, до второго Дервуд добирался с опозданием, а между тем полненькая, очкастая учительница музыки загадочно взирала на него от пианино. «Голубая мечта» – так называлось эссе, опубликованное им в ежегоднике школы. А школьная газета определила его (путем голосования) как «Человека, в обществе которого я хотел бы потерпеть кораблекрушение». Он пригласил Мэгги на свидание и получил отказ, и подруги назвали ее сумасшедшей: «Ты отказала Дервуду? Дервуду Клеггу?»
– Уж больно он смирный, – ответила Мэгги, и они повторяли это слово, передавая его друг дружке на предмет рассмотрения. «Смирный», – неуверенно шептали подруги.
Слишком уступчивый, хотела сказать Мэгги, слишком податливый. Ничего привлекательного она в этом не видела. Потому что если Серина принимала решения насчет того, кем она не будет, так ведь и Мэгги принимала такие же. И чтобы не стать своей матерью, Мэгги намеревалась избегать мужчин, хотя бы отдаленно похожих на отца – человека, которого она любила больше всех на свете. Мужчины мягкие и неповоротливые ей ни к чему, огромное вам спасибо; равно как неловкие, благонамеренные и сентиментальные, – чего доброго, они вынудят ее изображать чопорную недотрогу. Не бывать тому, чтобы Мэгги сидела, вытянувшись в ледяную струнку, за обеденным столом напротив румяного от веселости мужа, распевающего дурацкие песенки.
Вот Мэгги и отказала Дервуду Клеггу в свидании и без сожалений наблюдала, как он ухаживает за Лу Бет Парсонс. Сейчас, в эту минуту, она видела Лу Бет ясно как день, яснее, чем Пег, на которой Дервуд в конечном счете женился. Видела она и его самого – в брюках-хаки с отпоротой эмблемкой Лиги плюща (это означало «занят», «встречается»), в рубашке с пуговицами на воротнике, в щеголеватых коричневых мокасинах с кожаными желудями. Но разумеется, нынче утром он был в костюме – мешковатом и немодном, недорогом свидетельстве бережливости. Несколько мгновений его лицо словно перескакивало из настоящего в прошлое и обратно, как у обманных портретов, меняющихся в зависимости от того, с какого боку на них смотришь. Вот прежний сердцеед Дервуд с насмешливо приподнятыми бровями и многозначительным взглядом, говорящим: дорогая, ты все, ради чего я живу, – а сразу за ним нынешний, потрепанный, держит перед собой в вытянутой руке купон Мэгги, отыскивает на нем следующий куплет и морщит лоб, силясь разобрать слова.
Белобрысые дети на скамье перед Мэгги хихикали. Наверное, голос Дервуда казался им потешным. Мэгги очень хотелось шлепнуть ближайшего к ней сборником гимнов по маковке.
Когда Дервуд допел, кто-то по ошибке захлопал – всего два резких, взрывных удара ладоней, – и Дервуд, с угрюмым облегчением кивнув, вернулся на свое место. Вздыхая, уселся рядом с Мэгги. На лице его выступил пот, он обмахивался купоном. Если она попросит вернуть купон – покажется это корыстным? Скидка двадцать пять центов, двойной купон все-таки…
Джо Энн Дермотт подступила к кафедре, держа в руке книжечку в переплете из тисненой кожи. В девичестве она казалась простушкой, однако зрелый возраст восполнил ее недочеты или что у нее там было. Теперь Джо Энн стала гибкой привлекательной женщиной, умело накрашенной, в гладком пастельных тонов платье. «На свадьбе Макса и Серины, – объявила она, – я читала слова Халиля Джебрана о супружестве. В нынешнем более печальном случае я прочитаю сказанное им о смерти».
На свадьбе она назвала Джебрана Гебраном. Сегодня «г» превратилось в «дж». Впрочем, что правильнее, Мэгги понятия не имела.
Джо Энн начала читать ровным учительским голосом, и Мэгги мгновенно занервничала. И не сразу поняла почему. Сами ритмы «Пророка» напомнили ей о том, что следующими в программе значились она и Айра.
Во время свадьбы они сидели на складных стульях за алтарем, а Джо Энн – перед ним, рядом с преподобным Коннорсом. Едва она приступила к чтению, Мэгги почувствовала в груди бездыханный трепет, предвещавший приступ страха перед публикой. Она вдохнула, глубоко и прерывисто, но тут ладонь Айры спокойно и ненавязчиво легла на ее поясницу. И это успокоило Мэгги. Когда пришло время петь, оба начали в одну и ту же долю секунды, с одной и той же ноты, как люди, предназначенные друг для друга. Так, во всяком случае, подумала тогда Мэгги.
Джо Энн закрыла книжку и вернулась на свою скамью. Сисси перелистнула ноты, пухлые «валентинки» на ее локтях дрогнули. Она заерзала, усаживаясь поудобнее, и сыграла вступительные такты «Нет ничего прекрасней любви».
Возможно, если бы Мэгги и Айра остались сидеть, Сисси так и играла бы себе дальше. Заменила бы их собой, как заменила хор.
Однако пианино стихло, и Сисси оглянулась на зал. Руки ее остались лежать на клавишах. Серина обернулась тоже и, прекрасно зная, где сидит Мэгги, послала ей любящий, полный ожидания взгляд, в котором не содержалось и намека на подозрение, что Мэгги может ее подвести.
Мэгги встала. Айра остался сидеть. Он мог быть кем угодно – совершенно чужим человеком, случайно выбравшим одну с ней скамью.
И потому Мэгги, в жизни своей сольно не певшая, вцепилась в спинку скамьи перед собой и вскрикнула:
– «Нет ничегооо…»
Немного визгливо.
Пианино бросилось ей на помощь. Белобрысые дети обернулись, чтобы посмотреть Мэгги в лицо.
– «…Прекрасней любви на земле», – дрожащим голосом продолжила она.
Мэгги ощущала себя сиротливым, брошенным ребенком, однако спину держала прямо, а округлые носки лодочек решительно сдвинула.
Тут что-то зашебуршилось сбоку от нее – не справа, где сидел Айра, а слева, где сидел Дервуд. Он торопливо распрямился, словно вдруг вспомнив что-то.
– «Это розы бутон, – запел Дервуд, – он весною рожден…»
В такой близи голос его резонировал. Мэгги подумала о куске листовой стали.
– «Природа дает нам знак…» – вместе пропели они.
Слова оба знали от первого до последнего, что удивило Мэгги, поскольку минуту назад она не смогла припомнить, как именно природа превращает нас в королей. «Золотым венцом…» – уверенно пропела Мэгги. Надо выйти вперед, решила она, авось слова сами тебя потащат. Дервуд вел мелодию, Мэгги следовала за ним, голос ее уже не подрагивал, можно было петь немного громче. Да, верно, когда-то его сравнивали с колокольчиком. Она не один год пела в хоре – по крайней мере, пока не появились дети и жизнь не усложнилась – и испытывала, чисто выпевая ноту, подлинную радость, словно разглядывала жемчужину или замечала на ветке яблоко как раз перед тем, как оно падало на землю. Однако годы определенно не пошли ей на пользу. Интересно, слышит ли еще кто-нибудь, что верха у нее звучат надтреснуто? Трудно сказать. Каждый, кто сидел в церкви, чинно смотрел перед собой – ну, кроме этих чертовых белобрысиков.
Мэгги думала, что время вступило в один из его долгих, медлительных и тягучих промежутков. Она пронзительно сознавала каждую подробность того, что ее окружало. Чувствовала, как рукав Дервуда легонько шаркает по ее руке, слышала, как Айра отсутствующе пощелкивает круглой резинкой. Видела, насколько покладисты и безразличны ее слушатели, уверенные, что эта песня допоется, а за ней последует какая-то другая. «Мое сердце безмолвное ты пальцами тронул», – пропела Мэгги и вспомнила, как они с Сериной хихикали над этой строчкой, когда пели ее вдвоем – о, задолго до рокового Праздника урожая, – потому что где же у человека сердце, как не в груди? Выходит, они поют, что возлюбленный лапал их груди? Серина смотрела на кафедру, голова ее хранила неподвижность внимательно слушающего человека. Хвостик Серины удерживался резинкой, скрепленной двумя красными пластмассовыми шариками, какие носят совсем юные девушки. И точно как совсем юная девушка, она собрала сегодня своих друзей по старшему классу школы – никого из времени более позднего, из дюжины городков, по которым Макс таскал ее в пору их семейной жизни, да ведь надолго они там и не задерживались. Вот это и есть, решила Мэгги, самое грустное во всем происходящем.
Песня закончилась. Мэгги и Дервуд сели.
Сисси Партон перешла прямиком к «Дружескому увещеванию», однако двойняшки Барли, которые когда-то пели ее очень похоже на сестер Леннон, остались сидеть. Серина, по-видимому, сдалась; она даже не посмотрела в их сторону. Сисси сыграла один куплет, после чего священник встал и сообщил:
– Мы собрались сегодня, чтобы оплакать прискорбную утрату.
Мэгги казалось, что она сейчас просто стечет со скамьи на пол. Устала – до того, что колени подрагивают.
У священника нашлось что рассказать о работе Макса в Отопительном фонде. Однако лично он Макса, похоже, не знал. А может быть, именно в это Макс под конец и обратился – в ходячий деловой костюм с крепким рукопожатием. Мэгги стала думать об Айре. Как он мог сидеть здесь, такой непроницаемый? Он предоставил ей возиться с этой песней в одиночку. Она могла запнуться, сбиться, расплакаться, а он наблюдал бы за ней – спокойно, как будто к нему все это не относится. Почему бы и нет? – сказал бы Айра. Разве он обязан петь слащавую песенку пятидесятых на похоронах наполовину чужого ему человека? И был бы, как обычно, прав. И как обычно, заставил бы Мэгги спасовать перед ним.
Она окончательно решила, что после похорон отправится в избранном ею направлении. В Балтимор она с Айрой ни за что не вернется. Может быть, попросит Дервуда подбросить ее. При мысли о доброте Дервуда Мэгги омыла волна благодарности. Немногие поступили бы, как он. Отзывчивый, симпатичный, мягкий человек, ей следовало понять это с самого начала.
Ведь если бы она согласилась тогда на свидание с Дервудом, то была бы сейчас совершенно другой женщиной. Все дело в сравнении. В сравнении с Айрой она выглядит глупенькой и чувствительной; да и любой бы выглядел. В сравнении с Айрой она слишком много говорит, слишком много смеется и слишком много плачет. Даже ест слишком много! И пьет! Такая неряшливая и жеманная!
Она так старалась не обратиться в свою мать, что взяла да и обратилась в отца.
Священник сел, довольно громко застонав. В нескольких рядах за спиной Мэгги зашелестела ткань, и вперед вышла Шугар Тилгмэн, несшая свою черную соломенную шляпу ровно, будто нагруженный поднос. Стуча каблучками, она приблизилась к Сисси, склонилась к ней, чтобы посовещаться. Они пошептались немного. Потом Шугар выпрямилась и встала у пианино, держа руки в точности так, как требовал руководитель их хора – легко сжатыми на уровне талии, не выше, – и Сисси сыграла первый такт песни, которую Мэгги узнала не сразу. К Серине приблизился распорядитель похорон, она встала, приняла его руку и, потупясь, пошла с ним по проходу.
Шугар запела:
– «Когда я была девчонкой…»
Другой распорядитель предложил согнутую в локте руку дочери Серины – члены семьи один за другим выходили вперед. А Шугар, собравшись с духом, перешла на бравурный припев:
- Que sera sera[21],
- Что будет, то будет.
- Знать грядущее нам не дано,
- Que sera sera.
Глава 3
Их выход из церкви напоминал выход зрителей из кинотеатра после дневного сеанса – внезапное потрясение от солнечного света, пения птиц и жизни, что шла без них своим чередом. Серина обнимала Линду. Муж Линды неловко стоял рядом с детьми и выглядел гостем, который ожидает приглашения войти в дом. А по всему церковному двору выпускники пятьдесят шестого года заново знакомились друг с другом. «Это ты?» – спрашивали они. И «Сколько же времени прошло…». И «Поверить не могу». Двойняшки Барли поклялись Мэгги, что она ни капельки не изменилась. Джо Энн Дермотт объявила, что изменились-то все, но исключительно к лучшему. Не странно ли, добавила она, насколько все они моложе, чем были в этом же возрасте их родители? Затем в двери церкви появилась Шугар Тилгмэн, спросившая у всех сразу, какую еще песню она могла, по их мнению, спеть?
– Я понимаю, что идеальной ее не назовешь, – сказала она, – но посмотрите сами, из чего мне пришлось выбирать! Была ли она абсолютно неуместной?
И все поклялись, что не была.
Мэгги сказала:
– Я в таком долгу перед тобой, Дервуд, ты меня просто спас. Спасибо.
– Не за что, – ответил он. – Кстати, вот твой купон. Нимало не пострадавший.
Полной правдой это, конечно, не было, купон немножко обмяк по краям и слегка отсырел. Мэгги убрала его в сумочку.
Айра стоял у парковки с Нэтом Абрамсом. Оба были когда-то старше всех на пару классов, ребятами из другого круга. Не то чтобы Айру это смущало. Судя по его виду, он вообще никаких затруднений не испытывал. Разговаривал с Нэтом о дорогах, которые вели сюда и отсюда. Мэгги уловила краем уха упоминания о «Трех А» и «Десятом шоссе». Это какая-то мания.
– Забавный городок, верно? – сказал, оглядываясь, Дервуд.
– Забавный?
– Его и городком-то не назовешь.
– Да, маловат немного, – согласилась Мэгги.
– Интересно, Серина останется здесь?
Оба посмотрели на Серину, которая пыталась, судя по всему, утешить дочь. Лицо Линды было мокрым от слез, и Серина, отведя ее подальше от всех, похлопывала Линду ладонью по разным частям одежды.
– У нее еще осталась родня в Балтиморе? – спросил Дервуд.
– Такой, чтобы признала ее, не осталось, – ответила Мэгги.
– По-моему, там жила ее мать.
– Мать умерла несколько лет назад.
– Вот оно как, – сказал Дервуд.
– У нее была одна из этих болезней, что-то мышечное.
– Когда-то все мы, мальчишки, ну, типа, с ума по ней сходили, – признался Дервуд.
Мэгги его слова поразили, но ответить она не успела: Серина уже направлялась к ним. Она снова плотно завернулась в шаль.
– Спасибо вам обоим за пение, – сказала она. – Для меня оно многое значило.
– Айра такой упрямец, – сказала Мэгги, – на него просто плюнуть хочется.
А Дервуд добавил:
– Прекрасная была панихида, Серина.
– Ну, если честно, все вы думали, что я помешалась, – ответила Серина. – Но потакали мне, и очень мило. Вообще все были такие чудесные!
Помада на ее губах немного размазалась. Она вытянула из выреза на груди скомканный «клинекс», приложила к одному глазу, потом к другому.
– Простите, – сказала она, – у меня все время меняется настроение. Чувствую себя… как, не знаю, экран телевизора в бурю. Картинка скачет.
– Дело вполне естественное, – заверил ее Дервуд.
Серина высморкалась и вернула «клинекс» на прежнее место.
– Так или иначе, – сказала она, – соседка накрыла стол у меня дома. Зайдете? Мне сейчас нужны люди рядом.
Мэгги сказала:
– Ну конечно.
А Дервуд:
– Как же не зайти, Серина.