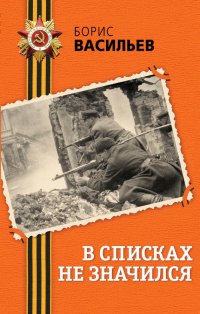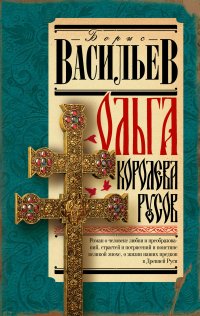Читать онлайн Офицеры бесплатно
- Все книги автора: Борис Васильев
1917 год
…Последние Святки царской России. Уже всем надоела бессмысленная и жестокая война, не прекращается поток беженцев с запада и юга, уже начались очереди, и многие недоедают, но никто пока не знает, что эти Святки – последние, что через два месяца отречется Государь и Россия станет республикой. И может быть, поэтому веселье сегодня такое по-русски бесшабашное и такое по-русски горькое. Даже отчаяние в России пока еще отчаянно веселое.
Ясный день, легкий морозец. Москва, Воробьевы горы. Где-то наверху полковой оркестр играет русские вальсы и марши, которые странно смешиваются с выкриками, шумом, смехом и всеобщим оживлением. На санках, на лыжах, а то и просто так, кувырком, или подстелив мешки, которые предлагают желающим бойкие московские мальчишки, катается праздничная толпа.
На реке расчищен снег: там режут лед коньками. Но удовольствие это более сдержанное: это – спорт, как его понимали тогда. И «спортсмены» в те времена были совсем не похожи на нынешних.
На горах куда демократичнее: здесь в основном молодежь. Студенты и курсистки, гимназисты и гимназистки, реалисты (учащиеся реальных училищ) и озорные московские девушки. Заметны легко раненные или выздоравливающие офицеры – тоже молодые. С палочками, с повязками, кое-кто в сопровождении сестер милосердия, друзей, подруг или родителей. Война все-таки. Повсюду снуют разносчики, предлагая конфеты и баранки, сбитень и чай, пирожные и шоколад.
Солидная публика – отставные офицеры, чиновники и просто отцы, сопровождающие своих дочек (женихов-то нынче маловато, ай-ай), – держится в стороне, наблюдая за всеобщим весельем, но не участвуя в нем.
И совсем уж особняком расположились отставные полковники и генералы: это уже деды, а не отцы. И странно видеть в их обособленном кругу двух терских казаков: пожилого есаула и совсем еще юного казачка Ваню.
– Георгиевский кавалер, – с невероятной гордостью хвастается есаул. – Покажи господам офицерам боевую награду, Ваня.
Ваня расстегивает парадную бурку. Над сверкающими газырями – новенький Георгиевский крест. Отставники уважительно рассматривают его – уж они-то понимают в наградах! – а какой-то весьма древний генерал торжественно отдает честь. И Ваня очень смущается.
– Самый молодой кавалер, – важно продолжает есаул. – Потому и в Царское Село приказано было явиться в моем сопровождении. Государь лично «Георгия» вручил. Белокаменную посмотреть дозволили, Иверской Божьей Матери поклониться. Ну а завтра, конечное дело, обратно на фронт. В действующую армию.
Отставники прочувствованно жмут юному герою руку, говорят добрые слова и тактично – есаулу, а не казачонку – суют червонцы в широкую задубелую ладонь. Ваня безмерно счастлив и горд, но и смущен тоже безмерно: даже румянец выступил на еще не знакомых с бритвой щеках. Он что-то бормочет в ответ на поздравления и напутствия, улыбается… Только вдруг замирает его улыбка.
…Мимо них с ликующим смехом проносятся расписные санки, в которых сидит румяная, безмятежно счастливая гимназистка, и красный шарф развевается за ее спиной, как победный вымпел. Звали эту гимназистку тогда просто Любочкой.
Какое-то отчаянное счастье. И смех чересчур громок, и гимназисты с реалистами яростно, не на шутку (девушек не поделили, что ли?) сражаются в снежки, и студенты совсем некстати затеяли горячий спор. И даже полковой оркестр вдруг заиграл «Прощание славянки».
Большую группу молодых офицеров-фронтовиков, видимо, привезли сюда прямо из госпиталя, потому что сестры милосердия помогали раненым выбираться из только что подъехавшей вереницы саней. На костылях, с обожженными лицами, с черными повязками, прикрывающими навсегда утерянный глаз, с перебинтованными руками, головами, ногами…
Всмотримся в них, пока еще звучит «Славянка»: они хлебнули лиха. Они уже все поняли в свои двадцать с небольшим, а если и не поняли, то научились верить в собственное предчувствие.
А вокруг – буйное молодое веселье. Под самый трагический в мире марш – под «Прощание славянки». Однако не все веселятся на Святках. Кое-кто и работает. Группа рабочих выламывает глыбы льда на Москве-реке. Из глыб выпиливают тяжелые брусы, обматывают рогожей, перевязывают и грузят на грубые, совсем не для катания санки. И пареньки лет пятнадцати, изгибаясь до земли, волокут груженные льдом санки наверх, на Воробьевы горы, где ждут ломовые извозчики с тяжелыми грузовыми платформами, запряженными мохнатыми битюгами. Там и перегружают на платформы доставленный с ребячьим надсадным хрипом лед: лошадей по такой крутизне не погонишь, жалко лошадок.
Парнишек не жалко. И того, упрямого, с хмурым лицом, которого пока еще зовут Алешкой, тоже не жалко. Каждому – свое, даже на празднике жизни – на святках.
И Алешка никогда не жаловался и не унывал. Отец у него еще осенью четырнадцатого без вести пропал, мать в эту зиму совсем расхворалась, и он подрабатывал, где только мог. Ну а Святки для рабочего человека, известно, самое удачливое время. Только не зевай.
Изгибаясь в три погибели, а кое-где становясь на четвереньки, Алешка с огромным трудом преодолел первый, самый крутой и до льда разъезженный подъем. Здесь была небольшая площадка, на которой можно было передохнуть, отдышаться, подкопить сил для последнего, самого длинного, но зато более пологого участка горы. И Алешка отдыхал, шапкой вытирая взмокший лоб и заинтересованно поглядывая на шумных саночников, которые мчались вниз, к Москве-реке, с визгом и смехом, благо веселый их путь пролегал совсем рядом с его обледенелой тернистой дорогой к ожидающим наверху ломовикам с платформами.
Сверху летели расписные, кокетливо изогнутые и полные звонкого смеха саночки, в которых сидела Любочка с победно развевающимся шарфом за плечами. В ней было столько искреннего восторга, и так она сама была сегодня хороша, что Алешка невольно заулыбался. И, конечно, засмотрелся: ее расписные саночки неожиданно подпрыгнули на ухабе, свернули вдруг на обледенелый рабочий спуск, сбили Алешку и его груженые сани, с таким трудом втащенные сюда.
Летели вниз все втроем: Любочка с хохотом в расписных саночках, Алешка – кубарем, а следом и его груженные льдиной сани. Любочка каким-то чудом сумела отвернуть и промчаться левее рабочих, а вот Алешка вместе со своими разогнавшимися некстати санями угодил прямо в трудящихся.
– Да растудыт твою, раззява косорукая!
– Виноват, Кузьмич, оплошал маленько. Барышня подбила…
– Мадемуазель! Мадемуазель Люба, одну минуточку!..
С этим взволнованным окриком мимо них торопливо прошел поручик в шинели, перетянутой офицерской портупеей с кобурой на правом боку и шашкой – на левом. С рукояти шашки свешивался красный темляк: знак ордена Анны IV степени.
– Разрешите представиться: личный адъютант вашего батюшки поручик Кольцов. Прошу вас, мадемуазель, срочно следовать за мной. Лихач ждет на дороге.
– Но зачем же, зачем? – настороженно удивилась Люба. – Что-нибудь… Что-нибудь с папой? С папой, да?
– Прошу поспешить, мадемуазель. Покорнейше прошу.
Взволнованная Любочка и суровый поручик прошли мимо Алешки. Рабочие молча смотрели им вслед.
– Господи, неужто полковника убили? – растерянно ахнул Кузьмич.
– Что? – спросил Алешка. – Какого полковника?
– Отец у этой барышни – боевой полковник. С четырнадцатого из окопов не вылазит. Я у них аккурат перед войной комнату для мамзели переделывал.
– Это где – у них?
– На Арбате. Там в переулке дом со львами. Заметный такой дом.
Кузьмич говорил что-то еще, но Алешка уже не слышал. Он смотрел в другую сторону: на расписные саночки с забытым шарфом, который так победно развевался за Любочкиной спиной…
Вечер. Немноголюдные и степенные улицы дворянского центра Москвы стали сегодня оживленными и даже шумными. По ним проносились рублевые извозчики, пятирублевые лихачи, а порою и тройки, спешащие в иные места – к «Яру», в «Стрельну».
– Посторонись!..
– Берегись, православные!..
Среди этой праздничной суеты шел усталый Алешка, волоча за собою расписные саночки. Вышел на Арбат. Свернул в переулок и остановился возле дома с двумя каменными львами у подъезда. Вдоль тротуара стояло несколько извозчиков и даже один автомобиль, но в самом доме было тихо.
Алешка втащил саночки по ступеням подъезда, нашел ручку звонка, подергал. Подождал, прислушиваясь, подергал снова, уже понастойчивее.
Дверь открыла заплаканная немолодая горничная:
– Чего тебе?
– Да вот. Санки привез.
– Какие санки, какие?
– Этой… Ну, мамзели вашей. Любочки, что ли. И вот еще. Забыла она.
И достал из-за пазухи аккуратно сложенный шарф. Горничная взяла шарф, всхлипнула:
– Горе-то у нас какое, парень. Отца у нее убили…
Повернулась вдруг и пошла, забыв и про дверь, и про санки. Алешка хозяйственно втащил санки в дом и тихо, без стука прикрыл дверь.
Спустя четыре года
Ораторы, митинги, атаки, обстрелы, конные лавы, падающие люди, лазареты, облепленные мешочниками поезда, беспризорные дети, расстрелы и виселицы, опустевшие города и обезлюдевшие деревни – так промелькнули четыре года человеческих жизней, которые в гражданскую войну стоят дешевле патрона. Для любого человека каждый день казался тогда невероятно длинным, как самый последний, и каждый год мелькал, как сон, потому что каждое «сегодня» ощущалось как «вчера», а каждое «вчера» было так похоже на «сегодня».
Худое, с обтянутыми кожей скулами, а потому хмурое лицо – это Алешка вслушивается в хрипатый патетический басок:
– За трудовую сознательность, рабоче-крестьянскую дисциплину и преданность мировой революции, а также за призовую стрельбу и понимание текущего момента наградить комвзвода Алексея Трофимова красными революционными шароварами!..
Алексей вдруг широко улыбнулся, и вся его хмурость тотчас же ушла, а тут еще и гармошка заиграла туш.
В заснеженной Москве было тихо. Спешили куда-то редкие прохожие и еще более редкие сани, стояли за чем-то молчаливые очереди, и никуда не торопились еще более редкие постовые на площадях. Столица казалась вымершей.
И совсем уж вымершими казались ее переулки, притихшие, в непролазных сугробах. С забитыми наглухо подъездами, с закрытыми на все цепи и засовы железными воротами дворов, с врезанными в окна жестяными трубами буржуек.
А вот в одном из домов – большом, каменном, с двумя облезлыми львами у подъезда – жизнь все-таки чувствовалась. И в том, что парадная дверь его не была заколочена, и в том, что на стенах возле подъезда, на самих дверях и даже на львах были расклеены многочисленные рукописные объявления:
«Домашние обеды. Французская кухня».
«Сохрани здоровье. Рецепты народной медицины».
«Предсказание судьбы. Гадания по тибетским таблицам».
«Культурный досуг за картами. Винт, вист, преферанс, покер, белот».
«Быв. воспитанница Смольного института дает уроки хороших манер».
«Учу на арфе. Приходить со своим инструментом». Из подъезда вышла Любочка в наброшенной на плечи шубке. И шубка была иной, и Любочка – похудевшей и повзрослевшей. Она держала в руках подобное прочим рукописное объявление и присматривала местечко, куда бы его приклеить, когда позади раздался хруст снега, и она оглянулась.
Перед нею стоял Алексей. В буденновке и шинели, подпоясанной солдатским ремнем, на котором висели шашка и револьверная кобура. Он смотрел на девушку в старенькой шубке, на облезлых каменных львов у подъезда, опять – на Любочку, веря и не веря собственным глазам.
Любочка презрительно повела плечиком, кое-как прилепила объявление и, не оглядываясь, убежала в подъезд.
Алексей проводил ее ошарашенным взглядом, потом подошел к объявлению и начал внимательно его читать.
«Сегодня имеет быть концерт из произведений Моцарта. Вход за умеренную плату с непременным добровольным пожертвованием одного полена дров с каждой персоны».
В просторной и почти пустой гостиной Любочка расставляла кресла и стулья полукругом перед сдвинутым к стене роялем и тремя пюпитрами. Над роялем висели два увеличенных фотографических портрета: кавалерийского полковника в парадном мундире с многочисленными орденами и пожилой дамы в скромном платье с аккуратным белым воротничком. К углу рамки каждой фотографии была прикреплена узенькая ленточка крепа, а лица на них чем-то напоминали Любочку.
И это было единственным, что уцелело на стенах. Лишь темные прямоугольники невыгоревших обоев указывали на то, что когда-то в этой гостиной висели не только два этих портрета.
Тихо скрипнула дверь в квартиру, но Любочка сразу насторожилась:
– Кто там?
– Это я, Любочка, – ответил женский голос.
В прихожей пожилая няня, которую когда-то Алешка принял за горничную, снимала с плеча сумку. Потом размотала платок, сняла его и тяжелое пальто, присела, стаскивая боты.
Из гостиной вышла Любочка. Остановилась в дверях.
– Сегодня имеет быть концерт, няня, – с гордостью сообщила Любочка.
– Что Аркадий Илларионович, поправился? Слава богу!
– И может быть, принесут дрова, – Любочка убрала пальто и боты. – И будет тепло… А соль ты достала, няня?
Няня сокрушенно вздохнула:
– Только на столовое серебро и удалось сменять.
– Значит, после концерта закатываем пир! – радостно объявила Любочка. – Напечем картошки в мундирах…
– Бесприданницей останешься, – горестно заметила няня.
– На-пле-вать.
– Дурешка ты еще, – няня помолчала. – На толкучке говорят, что, мол, скоро уплотнять начнут. Тех, кого еще не уплотняли.
– Ну и пусть.
– А где же концерты давать будем?
– Москва большая.
– Москва чужая, – строго поправила няня. По этой чужой Москве по-хозяйски посередине улицы шли трое. Старший, Рыжий и Младший. И остановились у подъезда со львами, читая объявления.
– Публику приглашают, – со значением сказал Рыжий.
– Угу, – буркнул Старший.
И пошли себе дальше. А в коридоре какой-то незначительной воинской части, вероятнее всего – командирского резерва, Алексей, смущаясь, подошел к другу-одногодке. Помыкался, покурил для разгона и нырнул точно в омут:
– Подмени меня сегодня, а?
– Девчонку встретил, что ли? – прищурился друг.
– Девчонку, – подумав, отчаянно соврал Алексей.
– Хорошо москвичам, – завистливо вздохнул друг.
– Ну, как сказать… – Алексею было неуютно говорить на эту тему, но приятель был себе на уме.
– Баш на баш.
– Какой же тут может быть баш? – резонно засомневался Алексей.
– Такой, что завтра – приказ, кому куда. Так что сегодня я тебя прикрою, завтра – ты меня.
– То есть как это?
– А так, что вместо меня поедешь, если мне так захочется.
– Идет! – сказал Алексей.
И они пожали друг другу руки.
Тем временем в прихожей няня и Любочка деятельно готовились к предстоящему концерту, тем более что из-за закрытой двери гостиной уже слышались звуки самой первой, пробной настройки инструментов. Любочка и няня распихали по углам и стенам оставшуюся мебель, поставили стулья, на которые можно было аккуратно сложить верхнюю одежду посетителей, у входа расположили стол и стул, а за ними расчистили место для будущих непременных добровольных приношений. Несколько довольно хилых полешек Любочка специально разбросала для намека.
– Кажется, все, няня, – сказала она. – Дровишки – тонкий намек.
– Ступай переодеваться, Любочка, – сказала няня. – Пора уже.
Любочка ушла готовиться к «имеющему быть» концерту, а няня водрузила на стол дачную плетеную корзиночку – тоже «для намека» и важно уселась на стул.
По заснеженным переулкам Москвы бежал Алексей с огромным поленом под мышкой. Непривычная пока еще шашка все время путалась в ногах.
В прихожей все так же чинно и важно восседала няня. Настройка инструментов за закрытой дверью гостиной стала уверенней и громче, а за спиною няни уже заметно прибавилось дровишек, не зря на стульях были старательно сложены пальто и шубы.
С лестничной площадки вошли две немолодые дамы в совсем немодных и уж тем более недорогих пальто: полная и худощавая.
– Здравствуйте, Алевтина Степановна, – приветливо улыбнулась няне полная дама. – Очень приятно было узнать, что наша Любочка снова занялась концертами.
– Она так музыкальна! – поддержала худощавая.
Пролепетав эти слова, дамы застенчиво сунули скомканные ассигнации в плетеную дачную корзиночку и вдруг ринулись назад, на лестничную площадку, откуда и притащили один сломанный стул на двоих.
– Извините, Алевтина Степановна, это единственные дрова, которые нам удалось раздобыть, – виновато призналась худощавая дама. – Я, увы, начала топить буржуйку книгами. Но что же делать, что?
– Кризис, – уточнила полная. – Кризис, как я теперь понимаю, это не высокая температура, как считалось при царе, а низкая. Но все равно это должно быть каким-то признаком. Или выздоровления, или наоборот.
Болтая так, дамы довольно сноровисто разломали стул и сложили обломки в кучу. Затем няня, она же Алевтина Степановна, приняла их порядком потертые в очередях пальто, и дамы, приведя в порядок седеющие прически, прошли в гостиную. И почти тотчас же зазвучал Моцарт, словно оркестранты только и ждали, когда же наконец появятся именно эти дамы.
В гостиной, кое-где сохранившей следы былого благополучия, стараниями Любочки были полукругом расставлены кресла. Их чинно занимала в основном пожилая публика, так же старательно сохранявшая следы былого благополучия, но больше, правда, в манерах. А четверо музыкантов в тесноватых и уже залоснившихся фраках и какая-то по-особому очень юная Любочка честно отрабатывали и хлеб, и поленья.
Звучал Моцарт. Ах, как томно, как истово слушали музыку все эти бывшие! Со слезой и умилением, с улыбкой и отрешенностью, с тоской о минувшем и со страхом перед будущим.
– Несчастное дитя, – тихо шепнула худощавая дама полной соседке. – Потерять отца в семнадцатом, а год назад схоронить матушку. Господи, какие страшные времена переживает Россия!
– Да, да, – согласно кивала полная дама. – Но какая сила духа у этой девочки.
– Скажите лучше, какая няня Алевтина Степановна. Не оставила сироту в такое время, когда родные отворачиваются, дети от родителей и родители от детей. А здесь посторонний, по сути, человек…
Оглянулся сидящий спереди старик, посмотрел укоризненно. Дамы смущенно примолкли, но вздрогнули, когда в прихожей глухо хлопнула входная дверь.
На пороге прихожей стоял Алексей в командирской форме и амуниции с поленом наперевес. Он не знал, что делать дальше, куда деть отмотавшее руки полено, и поэтому хмурился.
– Как не совестно шуметь, молодой человек, – укоризненно покачала головой Алевтина Степановна. – Тут приличный дом, а там, – она кивнула на гостиную, – концерт. Имеет быть.
– Виноват, – хмуро сказал Алексей и, с натугой припомнив, добавил: – Я, это… Моцарта уважаю.
– Ну, если уважаешь, тогда бревно свое к стеночке прислони. И раздевайся, у нас – приличный дом. И посильное, – Алевтина Степановна выразительно постучала корзиночкой.
– Это в момент.
Алексей аккуратно прислонил полено, куда велели, снял ремни с оружием, буденновку и шинель и вновь затянулся ремнями.
– Чего это ты, парень, в красных штанах? – удивилась Алевтина Степановна. – Ну будто дятел.
– Награда такая. За призовую стрельбу.
Не без гордости сказав это, Алексей вытащил из кармана несчитаную горсть бумажных денежных знаков и высыпал их в корзинку.
– Это много, – строго сказала Алевтина Степановна. – Сказано – посильное. Нам чужого не нужно.
– Для меня – посильное, – пояснил Алексей. – Я позавчера курсы командиров кончил, за три месяца жалованье получил. Командирское. А зачем оно мне на всем-то готовом?
– Матери отдай.
– Мать у меня от тифа померла. А отец еще в четырнадцатом без вести пропал.
– От тифа, – горько вздохнула няня. – У нас тоже от тифа. А отец еще в семнадцатом погиб. Аккурат перед Рождеством. На Святках адъютант его приехал из действующей армии…
– Да, – покивал Алексей. – На Святки.
Помолчали оба.
– Такие дела, – невесело сказал Алексей. – Можно пройти?
Музыку, звучавшую в гостиной, нарушила скрипнувшая дверь, и обе дамы тотчас же оглянулись.
У входа стоял Алексей – увешанный оружием, в ярко-красных брюках галифе и нестерпимо сверкающих сапогах. Он шагнул было, но сразу же остановился, потому что сапоги издали настолько варварский скрип, что оглядываться начали уже все.
– Вот они, грядущего гунны, – шепнула худощавая дама соседке. – Кажется, у Соловьева?.. Помните: «Слышу ваш топот чугунный по еще не открытым Памирам…»
– Какой кошмар! – с чувством откликнулась полная дама.
Тем временем Алексей углядел стул, стоявший за большими кабинетными часами, и на цыпочках подался к нему через всю гостиную, подхватив шашку. При этом сапоги продолжали скрипеть, и все провожали его испепеляющими взглядами. Однако он благополучно добрался до стула, со стуком опустил между колен шашку, перевел дух и откровенно воззрился на Любочку.
А Любочка начала сердиться. Она презрительно поводила плечиками, вздергивала подбородок и оттопыривала локотки, продолжая аккомпанировать. Публика, среди которой этот неизвестный командир был нестерпимо, вульгарно чужим, с откровенным презрением изучала его обветренное, худое, простецкое лицо, начищенные сапоги и варварские галифе.
Оркестранты продолжали играть, музыка – звучать, публика – ностальгически грустить, и никто как-то не обратил внимания на короткий странный шум в прихожей: вроде бы охнул кто-то, что ли. Все были заняты музыкой и разглядыванием красного командира в красных штанах и, по всей вероятности, восприняли этот шум как еще одно проявление уже ворвавшегося в чинную обстановку новоявленного варварства. Только Алексей настороженно прислушался, глядя уже на дверь.
Дверь распахнули ударом ноги, и в гостиную ворвались трое: Старший, Рыжий и Младший. У Старшего и Рыжего были в руках револьверы, а у Младшего – большая черная кошелка.
– Не рыпаться! – крикнул Старший.
Никто и не думал рыпаться. Даже музыка смолкла не сразу, а как бы захлебнулась: кто-то уже перестал играть, кто-то некоторое время еще прилежно концертировал. Тем временем Рыжий быстро прошел к окнам, Алексей тихо и незаметно скользнул за часы, а Младший хозяйственно раскрыл большую кошелку.
– Без шухера выворачивайте карманы, – уже вполне спокойным голосом приказал Старший. – Брошки-сережки, портмоне-портсигары и прочие уже не нужные вам остатки проклятого прошлого. Все в кошелку. Без шума. Давай.
Последнюю команду он отдал Младшему, который сразу же направился к оркестрантам, чтобы не просто грабить, но и видеть перед собою всех, кого грабил, так сказать, на общей картине.
– Эй, артисты, давай «Яблочко», – ухмыльнулся Рыжий.
– Давай, давай, наяривай!..
И оркестранты, кто в лес, кто по дрова, послушно затянули весьма популярную в те времена мелодию. Только без фортепьянного сопровождения, поскольку после требования Рыжего Любочка тотчас же встала и застыла рядом со своим инструментом, побледневшая, но решительная.
А Алексей продолжал укрываться за часами. Он присматривался, изучал противника, выжидал удобного момента, и в руке его уже привычно расположился наган.
Младший приблизился к оркестрантам, кое-как пиликавшим заказанное, и весьма возможно, что оставил бы их в покое, занявшись публикой в креслах, если бы Любочка сидела. Но она стояла, а потому Младший сразу же шагнул к ней и схватил цепочку с висевшим на ее шее кулоном, а Любочка, ни секунды не раздумывая, тут же влепила ему пощечину. Младший от неожиданности дернулся, отскочил и потянулся к голенищу за ножом.
Вот тут Алексей и шагнул из-за часов. Вскинул наган, выстрелил, почти не целясь, и Старший, выронив револьвер и болезненно охнув, схватился за руку.
– Бросай оружие, – Алексей уже развернулся и сунул револьверный ствол Рыжему в лицо. – И мордой в пол.
Рыжий поспешно исполнил указание. Алексей ногой отшвырнул его револьвер подальше и, не давая опомниться, резко выкрикнул:
– На пол, шпана! При счете два открываю огонь на поражение. Раз!..
«Два» говорить не потребовалось: все трое налетчиков легли на пол. Оркестранты по инерции все еще наяривали «Яблочко». Алексей оглянулся на них, сердито махнул рукой, и разудалая мелодия оборвалась на полуноте. А он встретился глазами с Любочкой.
– Мерси, – тихо сказала она.
– Бывает, – согласился он и вдруг нахмурился: – Мужчины есть, публика?
Несколько пожилых господ неуверенно поднялись с кресел. Первым встал еще крепкий старик в поношенном офицерском мундире:
– Так точно.
– Повяжите их. А пока – перерыв.
Сразу же громко заплакала полная дама: нервы не выдержали. А Алексей, еще раз оглянувшись на Любочку, быстро пошел к дверям. Любочка провожала его взглядом, еще ничего не понимая, но уже предчувствуя, что этот незнакомый командир в нелепых красных штанах ворвался в ее размеренную жизнь навсегда.
Алексей вышел в прихожую и сразу же плотно притворил за собою дверь.
За столом, упав головою в пустую плетеную корзиночку, по-прежнему сидела Алевтина Степановна, только с проломленного седого виска медленно стекала на уже холодеющую щеку тоненькая струйка крови…
Старый комэск
По весенней, залитой алым цветом распустившихся тюльпанов степи идет эшелон. Теплушки, платформы с тачанками и зарядными ящиками, молодые смеющиеся лица красноармейцев в распахнутых воротах вагонов, старенький паровоз. На теплушках мелом: «Даешь мировую революцию!»
Только-только начинает светать: солнце еще за горизонтом, но высоко вверху уже ясно видно небо без единого облачка. Пустыня.
По пустыне с бархана на бархан в то начинающееся утро ехали шагом три всадника. Впереди – пожилой усатый старшина, следом – Любочка в широкополой соломенной шляпе, а за нею – комвзвода Алексей Трофимов. За ним в поводу шла четвертая лошадь, нагруженная двумя корзинками и большим чемоданом.
– Жить можно, – продолжал неспешный разговор старшина. – Жить везде можно, была бы вода. Вот ужо щель проедем, значит, и жить будем.
– Какую щель? – насторожилась Любочка. Старшина понял, что переборщил в своих намеках. Крякнул с досады, попробовал успокоить:
– Ну, поговорка тут у нас такая. Это когда басмачи тут шуровали. Сейчас потише стало, за границу их вышибли.
– Значит, здесь нет басмачей?
– Ну, как сказать. Вообще-то жить можно, но бывает.
– Что бывает?
– Банды приходят. В кишлаке Огды-Су недавно всех вырезали, – старшина вдруг спохватывается. – Нет, жить можно, можно! Это я так, случай рассказал просто.
Любочка с беспокойством оглянулась на Алексея. А он ответил ей широкой счастливой улыбкой.
Пустыня кончилась. Всадники стояли перед узким проходом в обрывистой горной цепи, еще не освещенной солнцем, а потому особенно черной и особенно страшной.
– Чертова щель, – скрывая беспокойство, сказал старшина. – Горы проедем, до наших – рукой подать.
Он перебросил винтовку на грудь, снял затвор с предохранителя и решительно послал коня в Чертову щель.
В узкой и извилистой горной теснине было мрачно и сурово. Старшина уже держал винтовку в руках, опасливо и настороженно вглядываясь в нагромождения камней, ломаную линию скал, встречные расселины и тупички.
Но было тихо. Четко доносился дробный перестук лошадиных копыт.
Молодой басмач в темном халате увидел едущую по дну ущелья четверку коней с тремя всадниками сквозь прорезь прицела.
Он уже изготовился для выстрела. Но тут на его плечо легла рука. Басмач поднял голову. Над ним склонился полный туркмен в чалме. Он отрицательно покачал головой и приложил палец к губам.
Молодой послушно опустил винтовку. Кончилось темное и мрачное ущелье. Всадники проехали горную цепь, оказавшись на участке степи, покрытой цветущими тюльпанами.
– Тюльпаны, – радостно заулыбалась Любочка. – Смотри, Алеша, тюльпаны!..
– Опасное место, – сказал старшина, сделав вид, что вытирает пот, а на самом деле тайком перекрестившись. – Пронесло…
Теперь они ехали по степи, и кони вроде бы шли куда бодрее, чем до Чертовой щели. Но старшина вдруг остановился.
Впереди послышался конский топот, а затем из-за холма выехали трое вооруженных всадников в красноармейской форме. Это был дозор, и старший подъехал к Любочке, старшине и Алексею.
– Комэск приказал узнать, где вы тут. Чего задержались?
– Поезд опоздал, – сказал Алексей.
– Значит, все нормально?
– Проскочили, – улыбнулся старшина.
– В щели тихо?
– Даже перекрестился. Туда нацелился?
– Поглядим заодно. Вы езжайте покуда.
– С Богом, как говорится.
– С пролетарским напутствием, – строго поправил старший дозора. – Бога нет, выдумки империалистов.
И они разъехались.
Затерявшиеся в песках несколько казенных строений. Коновязь, колодец, глиняный дувал, будка с часовым, сложенная из почерневших бревен вышка.
Во дворе – много бойцов. Они занимаются выездкой и рубкой, чистят лошадей, стоят в очереди у кузницы с расседланными лошадьми в поводу. Или просто балагурят вместе со старшиной в узкой полоске тени.
А посреди двора – хмурый командир эскадрона. Он выглядит немолодо, но по-кавалерийски жилист и перетянут перекрестием офицерских ремней. Перед ним – Алексей: красные штаны его среди бойцов, одетых в потрепанное и разностильное обмундирование, выглядят нелепо.
Позади у корзин и чемодана – растерянная Любочка.
Комэск придирчиво изучает документы нового взводного. Потом возвращает их Алексею и громко спрашивает:
– А жену зачем привезли? У меня – три сотни бойцов, общая казарма, общая баня.
– Но, товарищ командир…
– Никаких «но». Дам сопровождающих, три дня отпуска. Отвезете в город. Все!
Резко повернувшись, он уходит в канцелярию. И почти сразу оттуда же выбегает молодой командир в казачьем бешмете с газырями, шашкой и кинжалом на узком наборном ремешке и лихим чубом из-под кубанки:
– Господи, неужто и вправду из самой Москвы? С прибытием! Командир первого взвода Иван Варавва.
– Трофимов, – Алексей делает неуверенный жест. – А это – Люба. Жена моя.
– Ваня, – Варавва звонко щелкает шпорами. – Извините, что встречаю без цветов. Клянусь, это в последний раз.
Любочка видит перед собою веселого, ловкого, подтянутого командира, в котором все – от сапог до кубанки – граничит со щегольством, и впервые несмело улыбается: – Лю…
И замолкает, глядя мимо Вараввы. И улыбка постепенно сходит с ее лица.
Во двор на полном скаку влетел всадник. Это – старший дозора. Осадив коня, крикнул сорванным голосом:
– Курбаши у Чертовой щели!..
И упал на песок, подставив солнцу окровавленную спину.
Варавва срывается с места:
– По коням!..
С разбега прыгнул в седло, бросил лошадь в галоп, тут же скрывшись за воротами. А за ним уже скачут бойцы. Скачут вразброд, полуодетыми, на скаку хватая оружие, на неоседланных лошадях, порою прыгая из окон казармы на конские спины.
Вмиг пустеет двор. Остались только растерянный старшина, местный боец-переводчик, чумазый кузнец да Алексей с Любочкой.
Чуть позже – разгневанный комэск на крыльце канцелярии.
– Куда?.. Стой!..
Но исполнять команду уже некому…
А убитый все еще лежит посреди двора. И пока старшина с переводчиком уносят его, командир эскадрона в упор смотрит на Алексея Трофимова.
И Алексей виновато опускает глаза.
– В прошлый четверг комиссара моего зарубили, – тихо говорит комэск. – За букварями для бойцов ездил… – и вдруг сухо и требовательно: – Пулеметом владеете?
– Владею… – Алексей теряется: он не привык к таким стремительным переходам. – Награжден красными революционными шароварами…
– Возьмете пулемет, установите на вышке.
– Есть!
Алексей убегает. Комэск поворачивается к Любочке:
– А вы…
Командир вдруг замолк на полуслове, и Любочка со страхом ждала, что он еще скажет. А комэск молча взял чемодан, обе корзины и перенес их в тень.
– Пожалуйста, старайтесь как можно меньше бывать на солнце. Здесь оно беспощадно, мадам.
Щелкнул шпорами, резко, по-офицерски, кивнул, точно говоря непрозвучавшее, но такое для нее знакомое «Честь имею», и ушел.
На вышке Алексей уже установил пулемет, когда туда поднялся комэск. Молча проверил прицел, просмотрел пулеметные ленты. Поймав веселый взгляд Алексея, усмехнулся:
– Какого года?
– Второго, товарищ командир.
– Значит, сразу – на курсы?
– Так комсомол приказал.
– А жениться вам тоже комсомол приказал?
– Это мой личный вопрос, – нахмурился Алексей.
– Ваш личный? Ошибаетесь, взводный. Женитьба – дело чести вашей, а не вопроса.
Алексей растерялся настолько, что, поморгав, совсем не по-уставному протянул:
– Чего-о?..
– Когда вы просите женщину вручить вам руку и сердце, вы внутренне даете самому себе слово чести, что всю жизнь будете служить ей щитом и опорой. Что в любых несчастьях, болезнях, горестях вы не покинете ее и никогда не предадите. Никогда.
– Ну это – само собой, – рассудительно сказал Алексей.
– На всю жизнь – слово чести, взводный. А жизнь может оказаться длинной. Даже при нашей с вами профессии.
– Какая же это профессия? – с ноткой превосходства удивился Алексей. – Военный – это никакая не профессия. Это просто служба такая.
– И долго же вы просто служить собираетесь?
– До победы мировой революции, – чуть запнувшись, но твердо сказал взводный.
– А потом?
– Когда – потом?
– После победы мировой революции?
– После победы? – Алексей смущенно улыбнулся. – После победы я учительствовать пойду. Вот учитель – это настоящая профессия, товарищ командир эскадрона.
– А я, представьте себе, всю жизнь гордился своим делом, – комэск вздохнул. – И отец мой им гордился, и дед. Другие знатностью гордились или богатством, а мы – профессией.
– Что же это за профессия такая?
– Родину защищать. Есть такая профессия, взводный: защищать свою родину.
И застеснявшись патетики, поднял к глазам бинокль.
Вечерело. Любочка сидела на ступеньках крыльца, а за ее спиной, в казарме, бойко стучал молоток. Двое бойцов пронесли мимо нее щиты от мишеней, густо пробитые пулями.
– Едут! – закричал дежурный. – Наши возвращаются!
Дневальные распахнули тяжелые створки ворот, и во двор въехал Варавва. За ним в окружении бойцов следовал верхом на лошади тяжеловесный угрюмый туркмен в дорогом халате со связанными руками.
– Курбаши взяли! – восторженно закричал старшина. – Варавва самого Моггабит-хана повязал!
Кричали «Ура!», салютовали клинками, подбрасывали фуражки. Переводчик, потрясая кулаками, кричал что-то, приплясывая перед белой лошадью, на которой сидел пленный курбаши, чумазый кузнец почему-то бил железным шкворнем по вагонному буферу, подвешенному у кузницы.
Комвзвода Варавва, спешившись, подошел к крыльцу и протянул Любочке букет диких тюльпанов.
– Еще раз – с приездом.
– Спасибо, – Любочка во все глаза смотрела на Варавву.
– Кто это на лошади, Ваня?
– Это? Бандит, Любочка. Командир басмачей, – он прислушался к гортанным крикам переводчика, нахмурился. – Странно. Керим неточно переводит.
– А вы знаете местный язык?
– Поживете здесь, не то еще узнаете.
И тут вдруг весь многоголосый двор примолк, замер: на крыльцо канцелярии в полной форме и при оружии вышел командир эскадрона. Только переводчик Керим все еще бесновался перед пленным курбаши. Комэск строго глянул на него. И увидел вдруг, что глаза Керима совсем не соответствуют его истерическому торжеству: в них были растерянность и страх… Впрочем, это длилось мгновение: заметив командира, переводчик сразу замолчал и скрылся среди бойцов.
– Имейте в виду, Моггабит-хан, – громко сказал комэск, – если ваши бандиты надумают освободить вас налетом, я собственноручно прострелю вам голову. Увести!
Курбаши увели. Площадь снова возликовала, но командир эскадрона поднял руку, и все смолкли.
– Комвзвода Варавва.
– Ну вот, опять влетит, – без особого, впрочем, огорчения сказал Иван Любочке и, подойдя к командиру, молча отдал честь.
– Товарищи бойцы! – громко сказал комэск. – За поимку крупнейшего бандита и ярого врага трудящихся Моггабит-хана объявляю вам благодарность!..
– Ур-ра!.. – восторженно закричали бойцы.
…И Алексей кричал вместе со всеми.
Быстро темнело. Переговариваясь, бойцы расходились со двора. Зажглись керосиновые лампы в дежурке и в казарме, засветилось окно канцелярии: за занавеской виднелась тень командира эскадрона. А Любочка с Алексеем сидели на крыльце, и за их спинами все так же бойко стучал молоток.
– Лучше ты меня в Москву отправь, – вдруг сказал она.
– Москва далеко.
– Ты меня только в поезд посади. Посади и все. Я до самой Москвы выходить не буду… – Она беззвучно заплакала, и в казарме враз смолк молоток.
– Ну ладно, ладно, – с неудовольствием сказал Алексей. – Ну поговорю завтра, потребую.
Из канцелярии вышел командир эскадрона. Прикурил: спичка на миг осветила лицо.
– Зачем же завтра? – шепотом спросила Люба. – Ты сегодня иди. Сейчас.
Алексей хмуро молчал.
– Может быть, ты только с налетчиками смелый? – настойчиво продолжала она. – Нет, уж, пожалуйста, ничего на завтра не откладывай. Ты прямо сейчас иди.
– Ну и пойду, – злым шепотом отвечал Алексей, не трогаясь с места.
– Ну и иди. Иди.
– Ну и пойду! – Он встал, одернул гимнастерку, повздыхал, посопел, но все же прошел на крыльцо канцелярии, где в одиночестве курил командир эскадрона. – Разрешите обратиться, товарищ командир?
– Тише, – с неудовольствием сказал командир. – Бойцы отдыхают.
– Виноват, – шепотом сказал Алексей. – Я спросить.
– Слушаю вас.
Алексей вздохнул, потоптался. Выпалил вдруг:
– Какой взвод принять прикажете?
– Пока никакой, – комэск с трудом сдержал улыбку. – В распоряжение комвзвода Вараввы.
– Есть, – уныло сказал Алексей и, откозыряв, вернулся к Любочке.
И вздохнул, усиленно пряча глаза. А Любочка глядела на него с тем великим сочувствием, с каким женщины смотрят на заболевших ребятишек. И вздохнула. Алексей вздохнул в ответ.
Скрипнула позади дверь. Из казармы вышел старшина.
– Вечеруете? Отбой был, между прочим.
– Да нам вроде некуда, – почему-то виновато улыбнулся Алексей.
– Как это некуда? В казарму ступайте. Командир приказал угол для вас выгородить, – сказал старшина и пошел через двор к эскадронному.
– Ну вот, видишь? – вдруг воодушевился Алексей. – Пошел, поговорил, и сразу…
Любочка так глянула на него, что он тут же нагнулся за вещами.
В длинной казарме, тускло освещенной свисавшей с потолка керосиновой лампой, фанерными щитами была выгорожена комнатка. Там тоже горела лампа, и свет ее прорывался в казарму через многочисленные пулевые пробоины.
Алексей и Любочка пробирались между нар, на которых вповалку спали бойцы. Откинули брезентовый полог выгородки и… вошли в крохотное помещение. Здесь стояли два топчана, покрытых тощими солдатскими одеялами, и маленький столик с керосиновой лампой.
– Какая прелесть, Алеша! – шепнула Любочка, восторженно оглядывая первую в ее жизни армейскую квартиру.
Алексей скептически оглядел тонкие фанерные стенки, за которыми слышались храп и бормотание бойцов, и сказал:
– Ничего. Жить можно.
Любочка начала было расстегивать кофточку, но вдруг замерла, прижав руки к груди.
– Ты чего? – спросил муж. – Спать пора, тут подъем в четыре.
– Дырки!.. – почти беззвучно прошептала она.
Алексей внимательно осмотрел мишени, проверил растопыренной пятерней расстояния, сказал с удовлетворением:
– Кучно стреляют. Молодцы!
И задул лампу.
Усталый храп стоял в казарме. На нарах, сунув скатанные шинели под головы, спали бойцы.
Алексей тихо прошел мимо и подошел к дневальному, который чинил латаную-перелатаную гимнастерку при свете маленькой керосиновой лампы.
– Не спится, товарищ командир?
– Где мне комвзвода Варавву найти?
– Наверняка еще в канцелярии. Книжки он учит.
В канцелярии за столом друг против друга сидели командир эскадрона и Иван Варавва.
– Первый закон воинской службы?.. – тянул Иван, соображая. – Атаковать, Георгий Петрович?
– Первый закон нашей службы – дисциплина, – строго сказал командир. – А ты его сегодня нарушил. Грубейшим образом!
– Георгий Петрович, но курбаши…
– Командир думать обязан, Ваня. Думать, а не просто шашкой махать. Увести эскадрон без приказа, без разведки…
– Некогда думать было, Георгий Петрович. Курбаши мог опять за границу сбежать.
Вошел Алексей. Увидев командира, неуверенно затоптался у порога.
– Что, взводный, не спится на новом месте? – улыбнулся комэск. – Ну, у вас еще вся жизнь впереди: привыкнете приходить к командиру только тогда, когда он вас вызывает.
– Да я, это…
Алексей вздохнул и замолчал. А Иван засмеялся.
– Спряжения повторить, – строго сказал ему комэск и встал. – Завтра спрошу. Счастливо оставаться.
И вышел. Алексей подошел к столу, спросил удивленно:
– Какие спряжения?
– Английские, – очень серьезно сказал Иван. – У меня, понимаешь, к языкам способности оказались. Местный сам выучил, а с английским Георгий Петрович помогает.
– Крутой командир, – вздохнул Алексей, закуривая. – А тебя и ночью в покое не оставляет?
– Все правильно, – сказал Иван. – Командир думать обязан, а не только шашкой махать.
– Это я только что слышал.
И оба весело рассмеялись.
– Слушай, Алешка, а как ты Любу уговорил замуж за тебя выйти? – вдруг очень заинтересованно спросил Варавва. – Вроде не нашего поля ягода.
– Любаша? – Алексей улыбнулся. – Сбила меня эта ягода.
– Как сбила?
– Санками. И полетел я, Ваня, вверх тормашками.
Алексей встал, распахнул окно, присел на подоконник.
И тотчас же чья-то гибкая тень выскользнула из освещенного круга.
– Я, знаешь, чего к тебе, – уже серьезно продолжал Алексей. – Любаша-то у меня беременна. Да. Ребенка ждем, – он говорил солидно, как будущий отец, но – вздохнул, не удержался. – Может, и вправду ее лучше в город отправить, а? Что скажешь?
Иван подошел, вынул из кармана монетку, подбросил, поймал, накрыл ладонью.
– Что? – заинтересованно спросил Алексей. Иван убрал ладонь, глянул:
– Остается.
И спрятал монетку в карман, так и не показав ее Алексею.
Ночь на дворе. Южная, густая.
Всхрапнула неподалеку лошадь. Выскочил из будки полусонный часовой:
– Стой? Кто идет?.. Тишина. Полумрак в казарме. Еле светит прикрученная лампа. Спит дневальный, уронив голову на стол и не долатав гимнастерку.
Вошел Алексей. Постоял над спящим дневальным, прикрутил фитилек лампы, тихо прошел в свой закуток.
– Спишь, Любаша? – шепотом спросил он. Тишина. Только храп за фанерными стенками. Алексей повалился на свой топчан и мгновенно уснул, так и не заметив, что соседний топчан, на котором должна была бы спать Любочка, пуст…
– Как это могло случиться? Гневный голос командира эскадрона гремит в притихшей канцелярии. Здесь – Варавва; подавленный, за считанное время осунувшийся Алексей и растерянный, виноватый дневальный.
– Заснул маленько.
– Арестовать.
Во дворе неожиданно гремит выстрел. И – крик дежурного:
– Басмачи!.. Двор. Раннее утро. Из казармы выбегают бойцы. Тащат пулемет, коробки с лентами. Занимают боевые ячейки вдоль глиняного дувала.
На крыльце канцелярии – комэск, Варавва и Трофимов.
– С белым флагом они! – кричит с вышки боец.
– Комвзвода Варавва, выехать на переговоры, – сухо распоряжается командир.
– Есть. Керим!
– Есть Керим! – слышится бодрый голос: от группы бойцов идет переводчик.
Старшина уже выводит из конюшни лошадей. Иван легко вскакивает в седло, одергивает бешмет.
– В пустую болтовню не вступайте… – Комэск вдруг замолкает, глядя на Керима.
Керим садится в седло, откинув полу халата. И теперь отчетливо видно, что брюки его испачканы сухой глиняной пылью.
– Понятно, товарищ командир, – нетерпеливо говорит Варавва. – Разрешите выполнять?
– Выполняйте.
Дневальные распахивают тяжелые створки ворот, и Иван с переводчиком выезжают со двора.
Трое верховых ждут на бархане. Один – с белым флагом – чуть в стороне. В центре – полный мужчина и ловкий молодой басмач в английском френче. Он нервничает, дергается и вдруг, бросив поводья, начинает кричать, бурно жестикулируя.
Против басмачей стояли Варавва и переводчик.
– Илляз-бек знает, кто взял в плен его отца, – не без удовольствия переводил Керим. – Он поклялся бородой пророка, что казнит тебя самой мучительной смертью.
Варавва невозмутимо поклонился и спокойно сказал:
– Моггабит-хан пока жив и здоров. Но если вы попытаетесь атаковать нас, мой командир пристрелит его без суда. Так мне приказано передать, и вы знаете слово моего командира.
Керим перевел. Затем медленно и солидно заговорил по-русски полный басмач:
– Джигиты не должны угрожать друг другу. Джигиты должны уважать друг друга. Мы уважаем слово вашего начальника и не будем отбивать Моггабит-хана. Мы предлагаем обмен.
– Обмен? – Варавва сразу перестал улыбаться.
– Мы предлагаем обменять курбаши на молодую жену нового командира. Это хороший обмен: мы предлагаем две жизни за одну.
– Я должен посоветоваться.
– Мы согласны ждать до вечернего намаза.
– Нет, – решительно сказал Иван. – До утреннего намаза.
Опять что-то страстно закричал Илляз-бек. Но ни полный басмач, ни переводчик не стали его переводить.
– Хорошо, мы ждем до утра, – сказал полный. – Но с первым криком муэдзина мы вынем неверного гаденыша из грешной утробы его матери, джигит. И пришлем в подарок новому командиру.
Басмачи вдруг круто развернули коней и мгновенно скрылись за барханом.
– Я не могу взять этого на свою совесть! – выкрикнул Иван.
Канцелярия. Здесь – Варавва, командир эскадрона. В углу, сгорбившись, – потерянный Алексей.
– Что же ты предлагаешь? – тихо спросил комэск.
– Отбить!
– У нас – триста сабель, у Илляз-бека – раза в три больше. Думать надо, Варавва. Думать.
– Ничего не надо, – с глухим отчаянием сказал вдруг Алексей. – Нельзя отдавать курбаши, нельзя. Мы не можем, не имеем права. Это не выход.
– Выход, – вздохнул комэск, доставая деревянный портсигар. – Закуривайте. Сама женщина уйти не могла, значит, кто-то ее увел. А увести мог только тот, кого она считала своим.
Все молча курят. Думают.
– Керим, – размышляя, не очень уверенно сказал Иван. – Керим вчера неточно переводил, Георгий Петрович. Мелочь, конечно.
– Любопытная мелочь, – карандаш командира эскадрона пополз по лежащей перед ним на столе карте-трехверстке. – В тринадцати верстах к северу – железная дорога. В будке обходчика – телефон. Наш единственный шанс.
– За ворота не выскочишь – басмачи кругом, – вздохнул Иван. – А ночи ждать – не успеем.
– Не выскочишь, это верно, – сказал комэск, что-то прикидывая. – Не выскочишь… А вот если выскользнуть… Позови старшину, Иван. И пусть заберет халат у курбаши. Халат, пояс, чалму.
– Есть, – Иван вышел.
Комэск молча разглядывал карту.
– Пустыня? – спросил Алексей.
– Песок. Тринадцать верст верхом – это тридцать по степи. А пешком – все пятьдесят.
Вошли Варавва и хмурый старшина. Старшина нес халат, пояс и чалму пленного курбаши. Молча откозырял, остался у входа.
– Есть задание, старшина, – начал командир эскадрона, – дойти до будки…
– Я пойду, – вдруг сказал Алексей.
Комэск глянул на него, снова повернулся к старшине:
– Знаю, это почти невозможно. Но не дойти – тоже невозможно.
– Пойду я, товарищ командир, – упрямо повторил Алексей. – Басмачи не знают меня…
– А сам ты что знаешь? – крикнул Иван. – Ты же только вчера прибыл, ничего ты не знаешь!..
– Пойду я, – с несокрушимым упорством повторил Алексей. – Пойду, потому что дойду. Дойду, товарищ командир! Я – дойду.
В дальнем углу двора, за кузницей и кустарником у глиняного дувала, стояли комэск и человек в чалме и халате, которые старшина снял с пленного курбаши. Это был Алексей. Командир давал последние инструкции с глазу на глаз:
– Строго на север. Басмачи – у Чертовой щели. Подробности – в пакете, зачитаешь по телефону. Пакет уничтожить при любых обстоятельствах.
Алексей молча кивнул, спрятал пакет на груди. Комэск вынул из кобуры наган, протянул Алексею:
– Этот наган хорошо выверен и пристрелян на центральный бой. Я с ним всю мировую прошел.
– Спасибо. Два – лучше, чем один.
– До вечера не пить. Язык распухнет, все равно – не пить. Ни глотка.
Алексей опять кивнул.
– Закон здесь один: живым не сдаваться. Ну, счастливо. – Комэск подставил спину, и Алексей, опершись на нее, одним махом перескочил через дувал. Командир послушал, повернулся, собираясь уходить, и вдруг остановился.
На глиняном дувале были видны отчетливые полосы: кто-то перелезал здесь, упираясь в стену коленями.
– Не дойдет, – вздохнул старшина. – Столько верст по пескам.
– Не каркай, – отмахнулся Иван.
Вошел комэск. Посмотрел на старшину, подумал:
– Керима ко мне. Срочно.
Старшина вышел. Иван и командир переглянулись, а потом Иван отошел к дверям и расстегнул коробку маузера.
Вошел Керим:
– Звал, начальник?
Комэск молча в упор смотрел на него, и переводчик, не выдержав, отвернулся.
– Зачем звал?
– Расстегни халат.
– Халат?.. Пожалуйста.
Керим развязал пояс, распахнул халат. За ремнем – маузер. Колени – во въедливой сухой глиняной пыли.
– Где ты так испачкал брюки, Керим?
– Где? А, это… Это, понимаешь…
Переводчик выхватил маузер, и тотчас же стоявший за его спиной Иван резко ударил его по руке. Маузер со стуком полетел на пол.
– Спокойно, Керим, спокойно, – сказал Варавва, поднимая упавший маузер.
– Гадина, – брезгливо поморщился комэск. – Расстрелять.
– Нет! – Керим упал на колени, пополз к ногам командира. – Все скажу, все! Только не убивайте. Не убивайте!..
Пустыня. Уже нестерпимо палит солнце. По пескам бредет Алексей. Оступается, падает, встает. Сверяет направление по компасу, шатаясь, бредет снова.
У него страшное, опаленное солнцем лицо. На черных губах запеклась кровь.
Бредет Алексей. Упрямо. С бархана на бархан. А Керим, склонившись над картой-трехверсткой, дает показания:
– Женщина спрятана в мазаре Хромого хаджи, – палец неуверенно скользит по карте. – Вот здесь.
– Охрана? – резко спрашивает командир эскадрона.
– Пять человек.
– Пароль?
– Зачем пароль? Они меня знают.
В канцелярии кроме комэска и Керима – Иван и старшина.
– Если ты соврал, Керим, или просто забыл что-нибудь сказать…
– Я ему напомню, Георгий Петрович, – сквозь зубы процедил Варавва.
– Пятеркой командует Абдула. Тот, что вырезал красных в кишлаке Огды-Су, – поспешно добавил Керим. – Он очень боится расплаты и верит только собственным глазам.
– Увести.
Старшина и Керим выходят.
– Что делать, если противник верит только собственным глазам, Ваня? – вдруг почти весело спросил комэск. – Надо сделать так, чтобы собственные глаза его обманули.
Пустыня. Солнце в зените. Короткая тень, покачиваясь, медленно движется с бархана на бархан.
С огромным трудом, хрипя и задыхаясь, Алексей поднимается на очередной бархан и вдруг ничком падает в горячий песок.
Перед ним – железная одноколейная дорога, домик обходчика, колодец. Семь лошадей привязано возле колодца.
Шестеро басмачей в тени у домика.
Алексей отползает, достает фляжку. С трудом проглатывает сухой колючий комок и, осторожно сняв чалму, льет воду на затылок. Тщательно промывает глаза. И лишь чуть-чуть смачивает губы.
Ложится на песок, раскинув руки. Он отдыхает, копит силы. Он готовится к бою.
Тесная комнатка путевого обходчика. Инструменты, флажки, фонари. И – телефонный аппарат на стене. Огромный, с ручкой, как у кофейной мельницы.
Возле него – перепуганный старик. Напротив – молодой красивый басмач. Улыбаясь, поигрывает маузером.
Резкий телефонный звонок. Старик испуганно вздрагивает. Молодой, улыбаясь, медленно поднимает маузер. Обходчик хватает телефонную трубку, кричит громким, ненатурально бодрым голосом:
– Шестьсот седьмой! Что?.. Все в порядке! Тишина у нас. Тишь говорю, благодать божия!..
Вешает трубку, дает отбой. Басмач, улыбаясь, опускает маузер.
Тишина обрывается криками во дворе. Басмач смотрит в окно.
К домику обходчика, пошатываясь, медленно бредет человек в чалме и халате.
Басмачи кричат, машут руками, но Алексей упорно идет прямо к колодцу. И когда оказывается под его прикрытием, вдруг разворачивается и выхватывает из-под складок халата два офицерских нагана-самовзвода.
Он стреляет одновременно из обоих стволов, он недаром получил красные шаровары за призовую стрельбу. Три залпа, и шестеро басмачей корчатся на песке.
А седьмой из окна стреляет в него. Дважды бьет мимо, но Алексей не успевает увернуться, и третья пуля отбрасывает его от колодца.
Улыбаясь, красивый басмач тщательно целится, чтобы добить противника. И в этот момент массивный гаечный ключ тяжело обрушивается на его голову. Басмач падает грудью на подоконник, а старый обходчик яростно продолжает бить по черной барашковой папахе. И вдруг замирает.
На пороге домика – Алексей.
– Телефон. Срочно… Вечер. Конюшня. Мерно похрустывают сеном лошади. Чьи-то руки старательно обвязывают конские копыта старой кошмой.
Вечер. Канцелярия. Варавва и командир эскадрона. – От нас до мазара в два раза дальше, чем от мазара до банды Илляз-бека, – негромко говорит комэск. – Если Абдула подаст сигнал…
– Не подаст, Георгий Петрович. Может, кто другой и попытается, а за Абдулу я ручаюсь.
– На всякий случай мы будем ждать вас в скалах. А Кериму не доверяй: единожды предавший предаст в любую минуту.
– Побоится.
– Если что… – комэск не привык к торжественности. – Я тебя к ордену представил за пленение Моггабитхана. Документы и мой рапорт в столе. Вот ключ.
– Товарищ командир… Георгий Петрович…
– Учись, Ваня. Всю жизнь учись и всю жизнь помни, что противник всегда может оказаться умнее тебя.
Вечер. Возле будки обходчика – шестеро убитых и семь лошадей. Алексей отбирает двоих, успокаивает, подтягивает подпруги. С трудом взбирается в седло, вторую лошадь привязывает сзади на длинном поводе.
Старик-обходчик приносит фляги с водой. Крепит их к седлу второй лошади, вздыхает озабоченно:
– Ранен ведь, сынок. Не доедешь.
– Доеду.
И опять в тихом голосе Алексея – суровое несокрушимое упорство.
Ночь. Беззвучными тенями скользят по пескам две лошади. Безмолвные всадники ссутулились в седлах.
– Стой!
Из темноты шагнули двое. Прищуренные глаза – на прорезях прицелов.
– Это я. Керим.
Всадники спешились. Впереди – Керим, за ним – Варавва в надвинутой на глаза папахе. Ствол его пистолета упирается в спину Керима.
– Кто это с тобой?
– Свой. У него важные известия. Где Абдула?
– В мазаре. Жрет плов и рассказывает…
Резкий удар обрушился на первого часового.
И тут же второй, выронив оружие, со стоном падает на песок.
– Правильно, товарищ командир, – прошептал Керим, – стрелять нельзя, Илляз-бек рядом. Ночь. С бархана на бархан скачет Алексей. На скаку пересаживается на свежего коня.
Ночь. Глиняный дувал чуть угадывается в темноте. Две фигуры бесшумно приближаются к дувалу. За дувалом рубиново светится тлеющий костер. У костра трое. Среди них – полный, что был на переговорах вместе с Илляз-беком, – Абдула.
– Да, это жизнь для джигита, хвала Аллаху! Граница рядом, и всегда можно уйти…
Резкий свист. Абдула поднимает голову, и казачий кинжал Вараввы вонзается ему в горло. Захрипев, Абдула падает лицом в костер.
– Сидеть! – В освещенном круге костра – Иван с маузером. – Вяжи их покрепче, Керим…
– Пора, – говорит комэск, посмотрев на часы. Дневальные распахивают створки ворот. Вслед за командиром две сотни бойцов выезжают в ночь.
– А ты, кажется, исправляешься, Керим, – улыбается Иван.
Они стоят возле тлеющего костра. Рядом – связанные басмачи и мертвый Абдула.
– Надо спешить, – шепчет Керим. – Надо женщину искать.
– Погоди, – Иван оглядывается. – Неудобно, понимаешь, без цветов…
Он шагает в темноту, сразу скрывшись из вида. Керим хватает маузер Абдулы и, торопясь, несколько раз стреляет вслед Варавве. А потом в ужасе бежит от костра, от связанных басмачей, от мертвого Абдулы к лошадям.
И тогда из темноты сухо и деловито щелкает одинокий выстрел. Керим с разбега падает лицом в песок.
Чуть светало, и внезапные эти выстрелы гулко разнеслись по пустыне.
– За мной! – крикнул комэск, переводя сотни с рыси на полевой галоп.
Любочка и Иван скакали по горной дороге. Иван был без папахи, и чуб развевался на ветру. А Любочка все еще утирала слезы.
– Извините, что встречал без цветов, – балагурил Иван, стараясь развеселить ее. – Но клянусь, это в последний…
Он вдруг замолчал, схватил ее коня за повод: навстречу скакала группа басмачей. Варавва круто развернул коней:
– Кажется, нам не сюда, Любочка. Держитесь крепче!..
Другой участок дороги.
Намертво вцепившись в конскую гриву, скачет Любочка.
За нею – Варавва. Прикрывая ее, он на скаку отстреливается от скачущих следом басмачей.
Поворот. Еще поворот. Они вырываются в долину, и из-за скал вылетает кавалерийская лава:
– Ур-ра-а!..
Впереди – комэск. Сверкает над головой клинок.
Сшиблись с басмачами, и смешалось все. Кони, люди, лошадиное ржание, крики, стоны, выстрелы…
По-прежнему прикрывая Любочку, Варавва пробился к командиру. Комэск был уже ранен, вяло отмахивался шашкой.
– Скачите в казармы! – прокричал Иван. – Я задержу!..
Сунул повод Любочкиного коня командиру, ринулся в свалку.
Отстреливаясь, комэск вместе с Любочкой постепенно выбирались из боя.
Стремительная и жестокая кавалерийская рубка. Но басмачи все подтягиваются, охватывая в кольцо небольшой отряд. И уже не с одним – с двумя, а то и с тремя приходится драться каждому бойцу.
Иван сражается с сыном курбаши Илляз-беком. Сверкают клинки, храпят кони. Иван теснит Илляз-бека, но на него тут же бросаются трое басмачей, и пока Иван отбивается от них, Илляз-бек отдыхает. Он спокоен, он уверен, что исполнит сегодня свою клятву.