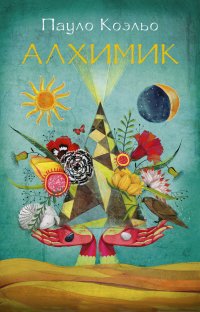Читать онлайн Адюльтер бесплатно
- Все книги автора: Пауло Коэльо
Книга издана с разрешения Sant Jordi Asociados, Barcelona, SPAIN
Originally published as Adultério by Paulo Coelho
www.paulocoelho.com
www.paulocoelhoblog.com
Все права охраняются, включая право на полное или частичное воспроизведение в какой бы то ни было форме.
Copyright © 2014 by Paulo Coelho
© Богдановский А., перевод, 2014
© ООО «Издательство АСТ», 2014
* * *
Каждое утро, открывая глаза навстречу тому, что принято называть «новый день», я хочу снова зажмуриться и не подниматься с кровати. Однако – нельзя: надо жить.
Я замужем за прекрасным человеком, который до сих пор без памяти влюблен в меня. Он владелец процветающего инвестиционного фонда и вот уж много лет по версии журнала «Билан» входит в список трехсот богатейших людей Швейцарии.
У меня двое детей, которые, как выражаются мои подруги, придают смысл моему существованию. И я встаю рано утром, чтобы накормить их завтраком и отвести в школу (пять минут пешком от дома), где они проводят целый день, давая мне возможность работать и заниматься своими делами. После уроков и до нашего возвращения домой детей опекает нянька-филиппинка.
Я занимаюсь тем, что мне по вкусу. Я – журналистка, что называется, «с именем» и работаю в солидной газете, которую в Женеве, где мы живем, можно найти на каждом углу.
Раз в год всей семьей мы проводим отпуск в каких-нибудь райских местах с великолепными пляжами и «экзотическими городами», населенными бедными людьми, отчего еще острее ощущаем, что – богаты, благополучны и щедро взысканы милостями судьбы.
Да, я ведь еще не представилась. Меня зовут Линда, очень приятно познакомиться. 31 год, 175 см, 68 килограмм, и благодаря безграничной щедрости моего мужа килограммы эти облачены в самое лучшее из того, что можно купить за деньги. Мне завидуют женщины, меня вожделеют мужчины.
Тем не менее каждое утро, когда я открываю глаза и смотрю на этот идеальный мир, желанный всем, но мало кому доступный, я знаю, что начавшийся день будет для меня катастрофой. Еще в прошлом году я не задавалась никакими вопросами, а просто плыла по течению, хоть порой и испытывала вину за то, что получила больше, чем заслуживаю. Но в один прекрасный день, когда я готовила завтрак для всей семьи (помнится, в саду уже начали распускаться цветы, значит, это было весной), вдруг спросила себя: «Так это оно и есть?»
Ах, не надо, не надо было задавать себе этот вопрос. Впрочем, виноват во всем некий писатель, у которого я накануне брала интервью. В какую-то минуту он сказал:
– Я ни в малейшей степени не стремлюсь быть счастливым. Предпочитаю жить страстями, хоть это и опасно, ибо нам не дано знать, что ждет впереди.
Я тогда подумала: «Бедняга, он никогда не будет удовлетворен. И окончит жизнь в печали и горьких думах».
А наутро вдруг осознала, что в моей жизни нет ни капли риска.
И я точно знаю, что ждет меня впереди: сегодня будет в точности похоже на вчера. Страсти? Ну какие страсти – я люблю мужа, и это гарантирует, что у меня не будет депрессии от того, что приходится делить с кем-то жизнь ради материального, так сказать, благополучия, детей или для сохранения внешних приличий.
Я живу в самой безопасной стране на свете, я хорошая мать и жена, все у меня в полнейшем порядке. Воспитана была в суровых правилах протестантской морали, которые намерена привить и моим детям. Я не совершаю необдуманных или опрометчивых шагов, ибо сознаю, что это может все испортить. Все, что ни делаю – делаю с предельной эффективностью и стараюсь не вкладывать в свои дела ничего личного. Да, в юности, как и всякий нормальный человек, страдала от неразделенной любви.
Но с тех пор, как вышла замуж, время остановилось.
И так продолжалось до тех пор, пока не появился этот писатель, будь он неладен, со своим ответом. А что плохого, хотелось бы знать, в рутинном и пусть даже скучноватом существовании?
Положа руку на сердце – ничего. Если не считать…
Если не считать, что время от времени тебя охватывает ужас при мысли, что все вокруг постоянно меняется, и эти перемены застают тебя врасплох.
И с той минуты, как в чудесное утро мне в голову пришла эта гадкая мысль, я начала бояться. Чего? Сумею ли я противостоять миру в одиночку, если муж умрет? – Сумею, отвечала я себе, потому что наследства хватит на несколько поколений. А если умру я, кто будет заботиться о моих детях? – Мой обожаемый муж. А что, если он возьмет и женится во второй раз, благо богат, умен и привлекателен? В хорошие ли руки попадут мои дети?
Для начала, как видите, я попыталась ответить на все эти вопросы и тем справиться с сомнениями, не дававшими мне покоя. Но появлялись новые и новые. Что, если я постарею, а он заведет себе любовницу? Что, если он больше не любит меня, потому что теперь мы занимаемся любовью не так, как прежде? Что, если он решит, что и у меня появился кто-то – я ведь уже года три не проявляю прежнего пыла?
Мне всегда очень нравилось, что мы не терзаем друг друга ревностью, но в то весеннее утро я пришла к выводу, что объясняется это не чем иным, как отсутствием любви.
Я делала все, что было в моих силах, чтобы отделаться от этих мыслей.
Целую неделю кряду после работы я ходила на улицу Роны и покупала там себе что-нибудь. И не то чтобы уж очень хотелось, а просто для того, чтобы почувствовать: что-то изменилось. Стало нужным что-то такое, до чего раньше и дела не было. Отыскивала какой-нибудь неведомый мне прежде усовершенствованный кухонный комбайн (хотя найти новинку в этом царстве бытовой техники было нелегко). В детские магазины я старалась не заходить, чтобы не разбаловать моих сыновей чрезмерными подарками. Избегала и магазинов, где продаются товары для мужчин, чтобы моя неожиданная щедрость не показалась супругу подозрительной.
А когда возвращалась домой, в свой уютный мирок, в это зачарованное царство, то часа на три-четыре все вновь представало мне чудесным и отрадным. Потом все уходили спать. И вот тогда постепенно вступал в свои права еженощный кошмар.
Я понимаю, что страсть – удел юных, так что ее отсутствие в моей жизни – в порядке вещей. И не это повергает меня в ужас.
Сейчас, спустя несколько месяцев после того, как все началось, я разрываюсь между двумя ужасами: меня одинаково пугают и возможность перемен, и мысль о том, что до конца дней моих ничего не изменится. Я слышала от многих, что с приближением лета нам в голову начинают приходить странные, причудливые мысли, и мы чувствуем себя моложе своих лет оттого, что больше времени проводим на воздухе и по-иному представляем себе, какой мир нас окружает. Стены квартиры раздвигаются, открывая горизонт.
Может быть. Но я больше не могу спать – и не потому, что жарко. Когда наступает ночь и все скрывается во тьме, меня начинают пугать и жизнь, и смерть, и любовь, и ее отсутствие, и то невеселое обстоятельство, что всякая новинка, входя в привычку, приедается, и ощущение, что я убиваю лучшие годы жизни в этой нескончаемой рутине, и панический страх перед неизведанным, сколь бы восхитительным ни было оно, какие бы приключения ни сулило.
Ну, естественно, я пытаюсь утешиться чужим страданием.
Включаю телевизор на каком-нибудь выпуске новостей, и на меня обрушивается лавина катастроф, аварий, стихийных бедствий. Люди лишаются крова, люди спасаются бегством. Сколько их в эту самую минуту болеют? Сколькие страдают молча или вопят от несправедливости или предательства? Сколько на планете нищих, безработных, заключенных?
Переключаю канал. На несколько минут или часов отвлекаюсь сериалом или фильмом. С замиранием сердца жду, что муж проснется и спросит: «Что с тобой, моя дорогая?» А мне придется ответить, что все прекрасно. Или – еще хуже: так уже бывало раза два-три в прошлом месяце – после этого он положит руку мне на бедро, скользнет выше, начнет трогать меня. Имитировать оргазм я научилась и много раз делала это, но не могу же я увлажниться по собственному желанию?
И мне придется сказать, что я очень устала, а муж, не выказывая разочарования или досады, поцелует меня, повернется на другой бок, проглядит на своем планшете последние новости и подождет до завтра. И, может быть, завтра мне удастся заставить себя и сделать так, чтобы он устал, очень устал.
Но бывает и по-другому. Время от времени приходится самой проявлять инициативу. Я не могу отказывать ему две ночи подряд, иначе он рано или поздно начнет искать утешения на стороне, а этого я допустить не могу. И не могу потерять его. А потому мне приходится самой подготовить себя к исполнению супружеского долга, и тогда все проходит гладко.
«Проходит гладко» значит – совсем не так, как раньше, в ту пору, когда мы с ним разгадывали тайну друг друга.
Мне кажется, что после десяти лет брака ждать прежней страсти – значит заблуждаться. Но каждый раз, когда я притворяюсь, что получаю наслаждение, какая-то частица меня словно отмирает. Частица? Да нет, опустошение настигает скорей, чем я думала.
Мои приятельницы уверены, что мне повезло – ведь я лгу им, что мы часто занимаемся любовью, точно так же, как они лгут мне, говоря, что сами не знают, как это их мужья умудряются сохранять прежнее влечение. Они твердят, что секс в браке приносит наслаждение лишь первые пять лет, а потом не обойтись без толики «фантазии». Закрыть глаза и представить, что отдаешься соседу, а он вытворяет такое, на что никогда не отважился бы муж. Или – что тебя берут одновременно сосед и муж, или вообразить еще множество каких-нибудь невиданных изысков и запретных забав.
* * *
Сегодня, отводя детей в школу, я стала рассматривать соседа. Никогда прежде я не представляла себя с ним в постели: предпочитала думать о юном репортере из нашей редакции, у которого постоянно вид человека, тяжко страдающего от одиночества. Никогда не видела, чтобы он флиртовал с кем-нибудь, и именно этим он был в моих глазах привлекателен. Все наши редакционные дамы уже не по одному разу высказались в том смысле, что «не прочь приголубить бедняжку». Полагаю, ему это известно и другого не надо: вполне довольно быть предметом вожделения, и не более того. Не исключено, что он испытывает те же чувства, что и я: панически боится сделать шаг вперед и погубить все – карьеру, семью, жизнь прошлую и будущую.
И вот наконец… Сегодня утром, пока я рассматривала соседа, мне неимоверно хотелось разреветься. Он мыл машину, а у меня в голове плыли такие мысли: «Вы подумайте – вот еще один, такой же, как мой муж и я сама. Когда-нибудь мы сами станем неотличимы от него. Дети вырастут, переедут в другой город или даже в другую страну, а мы выйдем на пенсию и будем мыть машину, хотя вполне можем заплатить, чтобы это сделали за нас. Ведь в определенном возрасте так важно заниматься всякими пустяками – исключительно для того, чтобы время шло незаметно – и показывать другим, что мы еще в порядке и в добром здравии, что не позабыли, что такое деньги, и потому продолжаем смиренно выполнять посильную работу».
Миру, в сущности говоря, совершенно безразлично, чистая у тебя машина или нет. Но в то утро ничего не было для моего соседа важней этого. Он пожелал мне удачного дня, улыбнулся и вернулся к своим трудам с таким видом, словно протирал не капот и крылья, а скульптуру Родена.
* * *
Я оставляю машину на перехватывающей парковке, следуя призыву «Пользуйтесь общественным транспортом! Не загрязняйте окружающую среду!» – сажусь в автобус и по дороге на службу вижу всякий раз одни и те же картины. Женева, кажется, совсем не изменилась с моего детства: я помню эти старинные особняки, которые отстаивают свое присутствие среди зданий, понастроенных в 50-е годы каким-то безумным мэром, открывшим для себя «новую архитектуру».
Каждый раз, когда я путешествую, я чувствую, как остро не хватает мне этого. Как хочется, чтобы сгинуло ужасающее дурновкусие стеклянно-стальных громад и скоростных магистралей. Чтобы, взламывая асфальт, пробились наружу корни деревьев – пусть даже мы будем спотыкаться о них на каждом шагу. Чтобы возникли парки с таинственными круговыми площадками, на которых зарождается невиданное разнообразие трав. Одним словом, я тоскую по городу, отличному от всех прочих, приобретших современный вид и утративших свое очарование.
Там еще говорят «добрый день» встречному и совершенно незнакомому тебе человеку и «до свиданья» продавцу в магазинчике, где ты купил бутылку минеральной воды и куда ты никогда больше не вернешься. Там еще заводят разговоры с теми, кто стоит на автобусной остановке, хотя во всем мире швейцарцев считают замкнутыми и чопорными.
Как заблуждается весь остальной мир! Ну и пусть. Даже хорошо, что это так – благодаря этому мы сумеем сохранить наш стиль и жизненный уклад еще лет на пятьсот-шестьсот, пока через Альпы не хлынут к нам орды варваров-захватчиков со своим великолепным электронным оборудованием, со своими квартирами, где спальни – крохотные, а гостиные – огромны (чтобы произвести впечатление на гостей), со своими ярко накрашенными женщинами, со своими мужчинами, чересчур громогласными и бесцеремонными, со своими подростками, одетыми вызывающе, но умирающими от страха при мысли о том, что подумают папа и мама.
Так что пусть лучше все они считают, будто мы всего лишь разводим коров, делаем сыр, шоколад и часы. Пусть верят, что в Женеве банк – на каждом углу. Нам совершенно незачем менять это их представление о нас. Нам хорошо и без их варварского вторжения. Здесь все вооружены до зубов – в нашей стране всеобщая воинская повинность, и потому у каждого гражданина дома лежит автоматическая винтовка – но почти не бывает, чтобы кто-то в кого-то стрелял.
Мы живем, столетиями ничего не меняя, и живем счастливо. Мы горды тем, что сохраняли нейтралитет, когда Европа посылала своих сынов на бессмысленные войны. Нас тешит и радует, что мы не должны никому объяснять, отчего так малопривлекателен образ Женевы с ее кафе в стиле конца XIX века и прогуливающимися по ее улицам пожилыми дамами.
«Мы счастливые люди» – не вполне корректное утверждение. Ибо счастливы все, кроме той, что едет сейчас в автобусе, мучительно пытаясь понять, что же с нею не так. Кроме меня.
* * *
Очередной рабочий день – и новые попытки найти что-нибудь заслуживающее внимания, помимо обычных автомобильных аварий, грабежа (без применения оружия) и пожара (тушить его примчались десятки машин с вышколенными расчетами), которого на самом деле не было – просто дым от забытого в духовке и сгоревшего жаркого переполошил всю округу.
Очередное мельтешение по дому, удовольствие от стряпни, и семья в полном составе собирается за накрытым столом, прося Господа даровать ей хлеб насущный. Очередной вечер, когда после ужина все разбредаются по своим углам – отец помогает детям готовить уроки, мать прибирает на кухне, наводит порядок в комнатах, готовит жалованье прислуге, которая придет завтра рано утром.
За эти нескольких последних месяцев бывали минуты, когда я чувствовала себя превосходно. Считаю, что моя жизнь исполнена смысла, а не это ли цель всякого, кто живет на этом свете? Дети понимают, что у матери в душе царит мир, супруг нежен и заботлив, и весь дом словно бы испускает собственный свет. Наше счастливое семейство – идеал и образец для всего квартала, города, региона – здесь их называют кантонами – и страны.
И вот внезапно, на ровном месте, безо всякой видимой причины я запираюсь в ванной и начинаю рыдать. В ванной – чтобы никто не услышал и не задал мне вопрос, который я ненавижу больше всего на свете: «С тобой все в порядке?»
Ну, разумеется, что со мной может быть не в порядке? Кто скажет, что в моей жизни что-то не так?
Никто. Все так.
Все, кроме того, что ночью меня терзает страх.
А минувший день не принес радости.
И в голове теснятся образы счастливого прошлого и того, что могло быть да не сбылось.
А еще томит так и не утоленная жажда приключений.
И гнетет ужас от того, что не знаешь, какая судьба постигнет моих детей.
И вот мысли в голове начинают назойливо вертеться вокруг чего-то неприятного – причем всегда одного и того же – словно какой-то демон притаился настороже в углу спальни, чтобы внезапно подскочить ко мне и сказать: то, что я называла «счастьем», было всего лишь временным преходящим состоянием, которое не может длиться бесконечно. А то я без него не знаю? Знаю. Всегда знала.
Я хочу измениться. Мне нужно измениться. Сегодня на работе я накричала на стажера, который всего лишь слегка замешкался, исполняя мое поручение. Такие вспышки гнева мне несвойственны. Я – не такая, но, похоже, постепенно начинаю терять контакт с самой собой.
И глупо было бы винить в этом писателя, давшего мне интервью. Тем более что с того дня прошло уже несколько месяцев. И эта встреча всего лишь открыла жерло вулкана, из которого теперь в любую минуту может ударить пламя и извергнуться лава, сея вокруг смерть и разрушение. Не случилось бы в моей жизни писателя, этот курок спустила бы какая-нибудь книга, или фильм, или случайная встреча с полузнакомым человеком. Мне кажется, в каждом из нас и незаметно для нас самих годами, день за днем нарастает это внутреннее давление – а потом настает момент, когда от полнейшей ерунды человек теряет голову.
И говорит тогда: «Хватит. Больше не хочу».
Одни совершают самоубийство. Другие разводятся. Третьи уезжают в Африку помогать голодающим и спасать мир.
Но я-то знаю себя. И знаю, что единственной моей реакцией будет – пытаться задушить все то, что чувствую, душить до тех пор, пока рак не сожрет меня изнутри. Потому что знаю: подавление чувств часто оборачивается болезнью.
* * *
Я просыпаюсь в два часа ночи и лежу, глядя в потолок, хоть и знаю, что вставать придется спозаранку, а я это терпеть не могу. И вместо того, чтобы настроить мысли на продуктивный лад, попытаться разобраться, что же все-таки со мной происходит, я просто не могу смирить эти вихри в голове. Вот уже несколько дней – по счастью, не очень много – я спрашиваю себя, не пора ли мне обратиться к психиатру, не лечь ли в клинику, потому что сама справиться не в силах. И удерживает меня от этого не служба и не муж, а дети. Они ни в коем случае не должны догадываться о том, что со мной.
И все это нарастает. Я снова думаю о браке – о своем браке, разумеется, – в котором ревность не примешивается ни к каким ссорам. Но у нас, женщин, есть шестое чувство. Быть может, муж нашел другую, и я подсознательно ощущаю это. Хотя у меня нет ни малейших оснований подозревать его в неверности.
Разве это не абсурд? Может быть, из всего множества мужчин, сколько ни есть их на свете, я выбрала того единственного, кто достоин считаться идеалом и совершенством? Он капли в рот не берет, он не ходит по вечерам общаться с приятелями. Он всецело посвящает себя семье.
Это не жизнь, а волшебный сон! А, может быть, не волшебный, а кошмарный? Потому что на меня ложится неимоверная ответственность – этому же надо соответствовать!
Тут я понимаю, что вычитанные в книгах, призванных внушить нам уверенность в себе и подготовить к жизни, слова «оптимизм» и «надежда» – не больше чем слова. Придумавшие их мудрецы хотели, должно быть, понять, что они значат, а нас использовали как подопытных морских свинок, наблюдая, как мы будем реагировать на такой раздражитель.
И по правде говоря, я устала от жизни счастливой и благополучной. А это может быть симптомом душевной болезни.
С этой мыслью я наконец засыпаю. Кто знает – может быть, со мной что-нибудь серьезное?
* * *
Обедаю с подругой.
Она предложила встретиться в японском ресторане, о котором я никогда прежде не слышала, что странно, учитывая мою любовь к японской кухне. Расхвалила это заведение, и я согласилась, хотя оно находится довольно далеко от моей редакции.
Добраться оказалось нелегко. Пришлось ехать на двух автобусах с пересадкой, а потом еще расспрашивать прохожих, где находится галерея с «замечательным рестораном». Нашла – и поначалу пришла в ужас от убожества обстановки, от бумажных скатертей на столиках и от отсутствия вида из окон. Однако подруга оказалась права. Кормили здесь, как, пожалуй, нигде в Женеве.
– Я всегда раньше обедала в одном и том же ресторане, – говорит она. – Там было пристойно, хоть и не более того. Потом мой приятель, который работает в диппредставительстве Японии, привел меня сюда. И в первую минуту я ужаснулась точно так же, как ты. Но вся разница в том, что и владеют заведением, и работают в нем одни и те же люди.
А я всегда хожу в одни и те же рестораны и заказываю одни и те же блюда, подумалось мне. Даже тут я не осмеливаюсь рискнуть.
Моя подруга принимает антидепрессанты. И меньше всего на свете мне хочется разговаривать с ней на эту тему, потому что сегодня я пришла к выводу, что нахожусь в одном шаге от болезни, а признать это не желаю.
И именно потому, что я сказала себе, что обсуждать это – последнее, чего бы я хотела, я немедленно завожу об этом речь. Чужая беда неизменно облегчает собственное страдание.
Я спрашиваю, как она себя чувствует.
– Гораздо лучше. Хотя лекарства действуют не сразу, они постепенно возвращают интерес к жизни, и все вокруг снова обретает вкус и цвет.
А, может быть, думаю я, страдание превратилось в источник дохода для фармацевтической промышленности? Тебе грустно? Проглоти таблетку – и все пройдет.
Осторожно, обиняками стараюсь выяснить, не хочет ли она вместе со мной поработать над большой статьей о депрессии?
– Да нет, не стоит, пожалуй. В наше время люди вываливают все, что чувствуют, в интернет.
И что же там обсуждается?
– Лекарства и побочные эффекты. Никого не интересуют чужие симптомы, потому что люди внушаемы. И внезапно начинают чувствовать такое, чего не чувствовали прежде.
И все?
– Еще упражнения по медитации. Но я не верю, что от них есть польза. Я перепробовала все, но улучшение наступило, когда решилась признать, что у меня есть проблема.
А разве сознание того, что ты не один мучаешься, совсем не помогает? Разве обсуждение того, что чувствуешь, находясь в депрессии, не будет полезно всем?
– Нисколько. Тому, кто вырвался из ада, нет никакого дела до тех, кто остался там.
Почему же она провела столько времени в таком положении?
– Потому что не верила, что у меня депрессия. И когда обсуждала это с тобой или другими подружками, все вы в один голос твердили, что это полная ерунда и что у людей с настоящими неприятностями нет времени впадать в депрессию.
Да, я в самом деле так считала и говорила.
Но я продолжаю настаивать на своем: статья в газете или блог может помочь человеку справиться с болезнью, оказать ему поддержку. И раз уж я не в депрессии и даже не знаю, что это такое – эту фразу я произношу с нажимом, – почему бы ей не просветить меня хоть немного?
Она колеблется. Но все же чутьем близкой подруги, должно быть, догадывается о чем-то.
– Это – как попасть в капкан. Ты знаешь, что схвачен, но ничего не можешь сделать…
Мои слова! Именно так я думала и чувствовала всего несколько дней назад.
Она перечисляет все признаки, общие для тех, кто уже побывал в «аду». Нежелание вставать по утрам. Геркулесовы усилия, которых требует выполнение простейших задач. Чувство вины за то, что пребываешь в таком подавленном и угнетенном состоянии, для которого у тебя нет ни малейших оснований, меж тем как столько людей в мире страдает по-настоящему.
Я стараюсь сосредоточиться на превосходной еде, которая, впрочем, сейчас почему-то уже начинает терять вкус. Подруга продолжает:
– Безразличие ко всему. Апатия. Приходится притворяться – что тебе весело, что тебе грустно, что ты кончила, что ты хорошо спала. Притворяться, что жива. Так идет до тех пор, пока ты не сознаешь, есть некая красная линия, и если переступишь ее – назад возврата не будет. И тогда ты перестаешь жаловаться, ведь это значит, что ты по крайней мере борешься против чего-то. Ты примиряешься с участью растения и хочешь только одного – спрятаться от всего мира. А это – дело очень нелегкое.
А что же вызвало у нее депрессию?
– Можно сказать, она началась на ровном месте. Но откуда такой интерес? Ты что – неважно себя чувствуешь?
Да нет, конечно! Я – в полном порядке.
Благоразумней сменить тему.
И мы говорим о политике, у которого я через два дня буду брать интервью. Это мой одноклассник, и когда-то у нас был с ним детский роман, а теперь он, наверно, уже не помнит, как мы с ним целовались, как он гладил мои едва сформировавшиеся груди.
Подруга в восторге. А я всего лишь стараюсь ни о чем не думать – говорю и двигаюсь как на автопилоте.
Безразличие ко всему. Этой стадии я еще не достигла, еще жалуюсь и недоумеваю, но легко представить, что пройдет совсем немного времени – это вопрос месяцев, дней или часов – и на меня навалится полнейшая потеря интереса к чему бы то ни было, а вернуть его будет очень и очень непросто.
Мне чудится, что моя душа медленно покидает телесную оболочку и устремляется неведомо куда – в какое-то безопасное место, где ей не придется выносить меня и мои ночные страхи. И еще чудится, что я – не здесь, не в этом японском ресторане, где такая убогая обстановка и такая прекрасная кухня – а смотрю сцену из какого-то фильма, не имея желания (или возможности?) принять в ней участие.
* * *
Просыпаюсь и совершаю всегдашний ритуал – чищу зубы, собираюсь на работу, иду будить детей, готовлю завтрак, улыбаюсь и говорю, что жизнь прекрасна. Но ежеминутно и при каждом движении ощущаю какую-то тяжесть, которую не могу определить словами, подобно тому, как зверь, попавший в капкан, не может понять, как это произошло.
Еда безвкусна, улыбка (чтобы никто ничего не заподозрил) – все шире, желание заплакать преодолено, а свет кажется пепельно-серым.
Вчерашний разговор не пошел мне на пользу: я ощущаю, что перестаю барахтаться и недоумевать и медленно, но неуклонно движусь к апатии.
Неужели никто и впрямь не замечает, что со мной творится?
Конечно нет. Никому и в голову не может прийти, что такой человек, как я – я! – может нуждаться в помощи.
Да, это серьезно, и в этом-то все дело: извержение произошло, и никакими силами не вернуть раскаленную лаву назад, в жерло вулкана, не посадить деревья, не засеять травой луг, не пустить на него овечек.
Я не заслужила такого. Я всегда старалась соответствовать ожиданиям – всех и каждого. Но вот это случилось, а я не ничего не могу сделать, разве что глотать таблетки. Быть может, под тем предлогом, что хочу написать статью о психиатрии и социальном страховании (начальство обожает такое), найду хорошего психиатра и попрошу помощи у него, хоть это и неэтично. Но на свете далеко не все этично.
У меня нет никаких увлечений, которые занимали бы меня и отвлекали. Мне наплевать на диету. Или на манию чистоты и порядка, из-за которой всегда можно было бы найти огрехи у прислуги: та приходит в восемь и уходит в пять, стирает и гладит, прибирает в доме и время от времени делает покупки в супермаркете. Я не имею права вымещать свои горькие разочарования на детях, тщась сделаться некоей супермамой, потому что иначе они сохранят на меня обиду до конца дней своих.
Я выхожу из дому и снова встречаю соседа, полирующего свой автомобиль. Позвольте, но ведь он занимался этим вчера?
И не в силах совладать с собой, я подхожу ближе и спрашиваю, зачем он это делает.
– Остались кое-какие недочеты, – отвечает он, предварительно поздоровавшись, справившись, как поживает мое семейство, и похвалив мое платье.
Я смотрю на машину: это «Ауди» (Женеву вообще называют «Аудиленд»). Мне кажется, она вылизана до блеска. Но сосед указывает на крошечный участок, который блестит все же не так, как должно.
Меняя тему, спрашиваю, чего, по его мнению, хотят люди от жизни? К чему стремятся?
– Ну, это же проще простого. Оплатить свои счета. Купить дом – такой, как у вас или у меня. Разбить перед ним сад, посадить там деревья. По воскресеньям устраивать обеды с детьми и внуками. Выйдя на пенсию, путешествовать по свету.
И это все? И больше ничего? Значит, в самом деле в нашем мире что-то неладно, и дело тут не в войнах где-то в Азии или на Ближнем Востоке.
Перед тем как появиться в редакции, мне предстоит взять интервью у Якоба – того самого одноклассника, в которого я была когда-то влюблена. Но и это меня нисколько не радует – да, похоже, я все-таки неуклонно теряю интерес к жизни.
* * *
Я слушаю то, о чем не спрашивала – что-то про социальные программы правительства. Задаю коварные вопросы, от которых Якоб очень элегантно уклоняется. Он на год моложе меня: значит, сейчас ему тридцать, хоть по виду можно дать лет на пять больше. Этим наблюдением я с ним не делюсь.
Да, конечно, я рада была его увидеть, хотя он до сих пор не спросил меня, как я жила после того, как мы получили аттестаты и каждый двинулся своим путем. Якоб сосредоточен на себе, на своей карьере, на своей будущности, я же, как дура, уставилась в прошлое, словно так и осталась подростком с брекетами на зубах, что, впрочем, не мешало другим девчонкам завидовать мне.
Немного спустя я перестаю слушать его и включаю автопилот. Маршрут прежний, всегдашний и неизменный – как урезать налоги, как уменьшить преступность, как сократить приток французов, которые отбивают рабочие места у коренных граждан. Год приходит и год уходит, а темы для разговора всегда одни и те же, потому что проблемы никуда не деваются, а решать их никто не хочет.
Минут через двадцать я начинаю спрашивать себя: а вот это полное отсутствие интереса ко всему на свете – не следствие ли того, что со мной происходит в последнее время? Вовсе нет. Ибо нет ничего более тягостного, чем интервьюировать политика. Гораздо лучше было, если бы редактор заказал мне статью о каком-нибудь громком преступлении. Убийцы – несравненно живее и искреннее, они, как бы это сказать… более настоящие, что ли.
А уж по сравнению с избранниками народа из других стран наши политики – самые пресные, самые скучные. Никто не знает подробностей их личной жизни. И скандалы происходят только по двум поводам – либо коррупция, либо наркотики. Но если уж всплывает нечто неприглядное, то газеты шум поднимают до небес – и прежде всего потому, что больше писать им не о чем.
Да кому какое дело, есть ли у них любовницы, ходят ли они к проституткам или тяготеют к однополой любви? Да никому. Лишь бы делали то, ради чего их выбрали, лишь бы не расхищали казну, и жили бы мы все мирно. Прочее неважно.
Президент страны сменяется каждый год (я не оговорилась – каждый год!) и избирается не народом, а Федеральным советом, состоящим из семи министров и управляющим страной. Но зато всякий раз, как я прохожу мимо Музея изящных искусств, я вижу призывы принять участие в очередном плебисците.
Народным волеизъявлением здесь решается все – в какой цвет красить мусорные баки (я выбрала черный), можно ли носить оружие (подавляющее большинство одобрило, так что Швейцария сейчас держит первенство по количеству стволов на душу населения), сколько минаретов может быть построено во всей стране (четыре), предоставлять ли убежище изгнанникам (я не участвовала, но, кажется, по итогам референдума был принят и уже действует закон).
– Господин Якоб Кёниг…
Один раз нас уже прервали. Тогда он, проявив большой такт, деликатно попросил секретаршу немного отсрочить заранее назначенную встречу. А мне пояснил, что моя газета – самая влиятельная во всей франкофонной Швейцарии и интервью окажется полезным для будущих выборов.
Он притворяется, что убеждает меня, а я – что поверила.
Впрочем, я довольна беседой. Встаю, благодарю и говорю, что получила от него все, что мне было нужно.
– Неужели все?
Разумеется, нет. Но язык не поворачивается сказать, чего именно не хватает.
– Может быть, мы встретимся, когда выйдет интервью?
Отвечаю, что должна забирать детей из школы. Надеюсь, он заметил мое обручальное кольцо и сказал себе: «Что было, то сплыло».
– Понятно, а если пообедаем как-нибудь на днях?
Соглашаюсь. Мне легко и просто удается обмануть самое себя и сказать себе: а вдруг у него и вправду есть что-нибудь важное и он сообщит мне некую государственную тайну, нечто такое, что изменит политику страны, а главного редактора заставит взглянуть на меня другими глазами?
Тут он подходит к двери и запирает ее, потом возвращается и целует меня. Я отвечаю, потому что в последний раз мы целовались с ним тысячу лет назад. Якоб, которого я, быть может, могла бы полюбить тогда, ныне – человек женатый, семейный. Жена его, кажется, где-то преподает. Да и я тоже – мать семейства, замужняя дама, а мой избранник, хоть и богатый наследник, но отнюдь не бездельник.
Я думаю – оттолкнуть его, сказать, что мы уже не дети, но не делаю этого, потому что мне нравятся новые ощущения. Не успела я обнаружить новый японский ресторан, как вот уже делаю нечто неправильное и запретное. Нарушаю правила. И ничего – мир не перевернулся. Давно уже не испытывала я такого блаженства.
И с каждым мгновением я чувствую себя все лучше – делаюсь свободней, отважней. Я делаю теперь то, о чем мечтала всегда, еще со школьных времен.
Опустившись на колени, я расстегиваю молнию на его брюках и начинаю сеанс орального секса. Якоб, держа меня за волосы, задает ритм. Разрядка наступает меньше чем через минуту.
– Как хорошо…
Я не отвечаю. По правде говоря, если и было хорошо, то скорее мне, чем ему, поскольку он кончил слишком рано.
* * *
После того как я согрешила, меня охватил страх – а что если совершенное как-то проявится?
По дороге в редакцию покупаю щетку и зубную пасту. Каждые полчаса хожу в туалет и внимательно рассматриваю себя в зеркале, не осталось ли следов на лице или на моей блузке от Версаче, украшенной кружевами, которые словно специально созданы, чтобы пятна были особенно заметны. Краем глаза время от времени смотрю на коллег, но никто из них (даже коллеги женского пола, обладающие специальным радаром, ловящим такие вещи) ничего вроде бы не заметил.
Почему так вышло? Кажется, мой мимолетный партнер подчинил меня своей воле и навязал мне эту механическую процедуру, где не было ни капли чувственности. Может быть, я сделала это, желая продемонстрировать Якобу, что он имеет дело с женщиной независимой, свободной, сама-себе-хозяйкой? Или чтобы произвести на него впечатление? Или в попытке убежать из того ада, о котором говорила моя подруга?
Все пойдет по-прежнему. Я – не на развилке дорог. Я знаю, куда идти, и надеюсь, что с течением времени сумею выбрать такое направление для моей семьи, чтобы в конце концов не сделать вывод, будто в мытье машины есть нечто чрезвычайное. Большие перемены происходят только со временем, а времени у меня в избытке.
По крайней мере, надеюсь, что в избытке.
Дома я стараюсь не выглядеть ни радостной, ни печальной. Но это мгновенно привлекает внимание детей:
– Мамочка, ты сегодня какая-то особенная.
Меня так и тянет ответить: нет, я такая же, как всегда, просто совершила то, чего не должна была совершать, но, тем не менее, не раскаиваюсь в этом ни секунды. И вины не ощущаю. И боюсь только одного – как бы не открылось мое прегрешение.
Появляется муж и со всегдашним поцелуем осведомляется, удачно ли прошел день и что у нас сегодня будет к ужину. Мои ответы известны ему наперед и привычны. Если он не заметит перемен в каждодневном ритуале, едва ли ему придет в голову, что несколько часов назад я, попросту говоря, отсосала одному политику.
И это, сколько помнится, не доставило мне ни малейшего удовольствия. Зато сейчас меня снедает безумное желание: я остро нуждаюсь в том, чтобы мужчина истерзал меня поцелуями, придавил мое тело своим, даруя смешанное с болью наслаждение.
* * *
Когда мы поднимаемся в спальню, я еще яснее чувствую, что возбуждена до крайности и схожу с ума от вожделения. Мне не терпится предаться любви, но я должна сдерживаться, обуздывать себя, чтобы муж ничего не заподозрил.
Приняв душ, я ложусь рядом с мужем, вынимаю у него из рук планшет, кладу на прикроватный столик. Начинаю ласкать его грудь и очень скоро добиваюсь нужного результата. У нас давно не было ничего подобного. Когда я начинаю стонать чуть громче обычного, муж просит контролировать себя, чтобы не услышали дети, но я довольно резко заявляю, что это мое право – выражать, что чувствую и так, как хочу.
Меня накрывает нескончаемая череда оргазмов. Боже, как я люблю этого человека! Мы наконец отрываемся друг от друга в изнеможении и мокрые от пота, и я снова иду в ванную. Муж отправляется следом и, шаля, направляет струю душа мне между ног. Прошу прекратить – я устала, пора спать, а потому он не должен больше заводить меня.
Пока мы вытираем друг друга, я – в отчаянной попытке изменить, чего бы это ни стоило, мой взгляд на мир – прошу, чтобы он сводил меня в ночной клуб. И, кажется, в этот миг он смутно сознает – что-то теперь не так, как прежде, а иначе.
– Завтра?
Завтра я не могу, у меня занятия йогой.
– Раз уж ты упомянула это, можно, я спрошу тебя напрямик?
Сердце у меня замирает. А он продолжает:
– Зачем тебе йога? Ты – такая спокойная, умиротворенная, всегда в ладу с собой и отлично знаешь, чего хочешь… Тебе не кажется, что ты попусту теряешь время?
Сердце обретает прежний ритм. Не отвечаю. Просто глажу мужа по щеке.
* * *
Падаю в постель, закрываю глаза и, прежде чем провалиться в сон, думаю: наверно, я прохожу через кризис, типичный для каждой, кто так давно замужем. Я пройду – и все пройдет.
Не всякий нуждается в круглосуточном счастье. Тем паче, что никто и не может достигнуть этого. Надо научиться как-то уживаться с действительностью.
Милая моя депрессия, не приближайся. Не будь назойливой. Плетись за теми, у кого больше оснований, чем у меня, глядеть на тебя в зеркало и бормотать: «Как никчемна моя жизнь». Хочешь ты или не хочешь, но я знаю, как совладать с тобой.
Депрессия, ты зря теряешь время со мной.
* * *
Свидание с Якобом Кёнигом происходит в точности так, как я представляла. Мы отправились в «Перль дю Лак», дорогой ресторан на берегу озера – некогда превосходный, а ныне перешедший в ведение городских властей. Цены остались запредельными, а кормят отвратительно. Я могла бы удивить Якоба японским рестораном, который недавно открыла для себя, но знаю, что он в этом случае решил бы, что у меня дурной вкус. Есть люди, для которых антураж и обстановка важнее кухни.
И теперь вижу, что рассудила верно. Он желает выглядеть в моих глазах знатоком вин, оценивает выдержку, букет и «слезу» – тот чуть маслянистый след, что стекает по стенке бокала. Он хочет показать мне, что вырос, выучился, преуспел в жизни и теперь в совершенстве знает мир, вина, политику, женщин – и былых возлюбленных.
Какая глупость! Мы пьем вино с колыбели и до могилы. И умеем отличать хорошее от скверного, вот и все.
Но все мужчины, которые встречались мне до замужества – и считали себя людьми образованными – воспринимали выбор вина как момент своей единоличной славы. И все делали одно и то же: с чрезвычайно сосредоточенным и самоуглубленным видом нюхали пробку, читали этикетку, пробовали ту малость, которую официант наливал на донышко их бокала, потом слегка покручивали его в руке, смотрели на свет, вдыхали аромат, медленно пригубливали, глотали и, наконец, одобрительно кивали.
Понаблюдав бессчетное множество раз эти сцены, я решила сменить круг общения и стала проводить время с так называемыми «ботаниками». В отличие от гурманов, людей предсказуемых и неестественных, они были безыскусны и не прилагали ни малейших усилий, чтобы произвести на меня впечатление. Однако я не понимала ни слова из того, что они говорили. К примеру, считали, что слово «Интел» должно быть мне знакомо, поскольку значится на всех компьютерах. А я как-то никогда не обращала на это внимания.
Ботаники добились того, что я стала чувствовать себя абсолютной невеждой, лишенной вдобавок хоть капли привлекательности, поскольку ползанье по сайтам они явно предпочитали моей груди и ногам. И в конце концов я вернулась под надежную сень знатоков. И в конце концов повстречала человека, который не пытался ни поразить меня утонченным вкусом, ни выставить полной идиоткой разговорами о таинственных планетах, хоббитах и компьютерных программах, умеющих скрывать следы пребывания на той или иной страничке. И вот после нескольких месяцев ухаживания (за это время мы побывали в ста двадцати, по крайней мере, деревнях вокруг Женевского озера) он предложил мне руку и сердце.
Я немедленно согласилась.
Сейчас я спрашиваю Якоба, знает ли он какой-нибудь клуб – я уже много лет не наблюдала ночную жизнь Женевы («ночная жизнь» – это, разумеется, всего лишь фигура речи) и сейчас мне ужасно захотелось выпить и потанцевать. Его глаза вспыхивают.
– У меня нет на это времени. Твое приглашение – честь для меня, но я мало того что женат, но и не могу появиться на людях с журналисткой. Пойдут слухи, что ее сведения…
Тенденциозны.
– …Да, тенденциозны.
Я решаю отложить пока что эту игру в обольщение, неизменно забавляющую меня. Я ничего не теряю. Я знаю все дороги и развилки, все ловушки и капканы. Знаю и цели.
Прошу его рассказать о себе. О том, что называется «личной жизнью». В конце концов, я ведь здесь – не по работе. Я – женщина и к тому же была в него влюблена в ранней юности.
Слово «женщина» произношу с нажимом.
– А у меня нет никакой личной жизни, – отвечает он. – К сожалению, не могу себе это позволить. Карьера, которую я выбрал, превратила меня в робота. Каждый мой шаг, каждое слово отслеживается, фиксируется, публикуется, комментируется.
Это уже хуже, но такой ответ обезоруживает меня. Я не сомневаюсь, что он, так сказать, знает местность, то есть отчетливо представляет, на какую почву вступает и как далеко может зайти со мной. Он уже дал понять, что «несчастлив в браке» – как поступают все зрелые мужчины, предварительно попробовав вино и с немыслимыми подробностями расписав свое могущество и влиятельность.
– В последние два года было несколько месяцев радости, был ответ на брошенный вызов, но все прочее время я цепляюсь за должность и стараюсь угодить всем, чтобы быть перевыбранным. И поневоле приходится позабыть обо всем, что доставляет удовольствие, – вот, например, о том, чтобы потанцевать с тобой на этой неделе. Или несколько часов кряду сидеть и слушать музыку и курить или сделать еще что-нибудь, что другие сочтут неподобающим.
Какое у него, однако, самомнение! Да никому и дела нет до его личной жизни.
– Наверно, скоро будет возвращение Сатурна. Каждые двадцать девять лет эта планета возвращается на то место, где она была в день нашего рождения.
Возвращение Сатурна?
Он уже спохватился, что сказал больше, чем надо, и предлагает вернуться к нашим трудам.
Нет. Мое возвращение Сатурна уже произошло, и я должна точно знать, что это значит. И Якоб дает мне урок астрологии: Сатурну требуется двадцать девять лет, чтобы вернуться туда, где он находился в день нашего рождения, повторяет он. Пока это не случилось, мы считаем, что все возможно и нам по силам, что мечты станут явью, а окружающие нас стены еще падут. Когда Сатурн завершает цикл, романтизм исчезает. Выбор становится решающим, а смена курса – практически невозможной.
– Я, конечно, не специалистка в этом… Но мой ближайший шанс выпадет, когда мне исполнится пятьдесят восемь лет и Сатурн вернется вновь. Зачем же ты пригласил мне пообедать, если Сатурн говорит – иного пути тебе не выбрать? И мы разговариваем уже почти целый час.
– Ты счастлива?
Что-что?
– Я заметил что-то у тебя в глазах… какую-то печаль, необъяснимую для такой красивой, благополучной во всех отношениях женщины. Я словно бы заметил отражение своих собственных глаз. Повторяю вопрос: ты счастлива?
В той стране, где я родилась, выросла и сейчас ращу своих детей, никто не задает подобных вопросов. Счастье не измеришь самыми точными инструментами, не вынесешь на референдум, не отдашь на анализ экспертам. Здесь не спрашивают даже, на автомобиле какой марки ездит твой собеседник, чего уж говорить о такой деликатной и неподдающейся определению материи?
– Можешь не отвечать. Твое молчание достаточно красноречиво.
Нет, не достаточно. Да и вообще это не ответ. Молчание обозначает всего лишь удивление и растерянность.
– Я – не счастлив, – говорит он. – У меня есть все, о чем мечтают люди, но я – не счастлив.
Может быть, в систему городского водоснабжения попала какая-нибудь гадость? Может быть, кто-то хочет уничтожить мою страну химическим оружием, которое повергает всех и каждого в глубочайшее уныние? Ведь не может же такого быть, чтобы все, с кем я разговариваю, испытывали одинаковые чувства тоски и разочарования?
До сих пор я не сказала ничего. Но у неприкаянных душ есть такое невероятное свойство – способность узнавать подобных себе и сближаться с ними, умножая собственные горести.
Как же я сразу не поняла? Почему скользила по поверхности его глубокомыслия, когда он рассуждал о политике, или педантизма – когда пробовал вино?
Возвращение Сатурна. Отсутствие счастья. Вот уж чего не ожидала услышать от Якоба Кёнига.
И вот, в этот самый миг – я как раз взглянула на часы: 13:55 – я снова влюбилась в него. Никто, даже мой замечательный муж, никогда не спрашивал меня, счастлива ли я. Разве что в детстве родители или бабушка с дедушкой время от времени интересовались, хорошо ли мне – и все на этом.
– Мы еще увидимся с тобой?
Я смотрю вперед и вижу не того подростка, некогда делившего со мной первую влюбленность, а – пропасть, к которой неуклонно приближаюсь по своей воле, пропасть, куда свалюсь неминуемо. В долю секунды проносится в голове мысль, что бессонница отныне станет еще более мучительной, ведь теперь появилась определенная причина для нее – то, что называется «кружение сердца».
Красные огоньки «тревога» – все, сколько ни есть их в моем сознании и в бессознательном – начинают пульсировать.
Но я говорю себе: ты просто дура, пойми, что он всего лишь хочет переспать с тобой. А до того, счастлива ты или нет, ему очень мало дела.
И тогда с какой-то самоубийственной решимостью я соглашаюсь. Как знать – а вдруг роман с человеком, который тысячу лет назад, когда мы были подростками, коснулся моей груди, пойдет на пользу моему замужеству, подобно тому, как сеанс орального секса утром привел к нескончаемой череде оргазмов ночью?
Я пытаюсь вернуться к теме Сатурна, но Якоб уже попросил принести счет и сейчас говорит по мобильному, сообщая, что немного задержится.
– Предложи ему кофе и воду.
Спрашиваю, с кем он говорил, и он отвечает – с женой. Директор крупной фармацевтической фирмы попросил о встрече и, вероятно, предложит субсидировать его избирательную кампанию. Выборы уже на носу.
Я снова вспоминаю – он женат. И несчастлив. И не может жить так, как ему хочется. В противном случае мгновенно поползут слухи о нем и о его жене – оба они на виду, чтобы не сказать – «на мушке». Я должна забыть вспышку, ослепившую меня в 13:55, и усвоить, что он всего лишь хочет поразвлечься.
И теперь, когда все стало на свои места, меня его намерение не огорчает. Мне тоже нужно затащить кого-нибудь в постель.
* * *
Мы стоим на тротуаре у входа в ресторан. Якоб озирается по сторонам, словно боится, что мы с ним можем навлечь подозрения. Убедившись, что никто не следит за нами, закуривает.
Ах, вот чего он опасался! Что увидят его с сигаретой.
– Ты, наверно, помнишь – я подавал самые большие надежды в нашем классе. И мне пришлось доказывать, что надежды эти не были несбыточны, потому что все мы отчаянно нуждались в любви и одобрении. И я от многого отказывался, многим поступался ради занятий и ради того, чтобы не обмануть ожиданий окружающих. И я окончил школу с высшими баллами. Кстати, ты не помнишь, почему оборвался наш детский роман?
Ну, если он не помнит, так уж я – тем более. В памяти осталось только, что в ту пору все соблазняли всех, и в результате никто ни с кем не остался.
– Я окончил университет, был назначен общественным адвокатом и благодаря этому повидал немало – злодеев и невинных, негодяев и порядочных людей. И то, что казалось временным занятием, повлияло на выбор жизненного призвания: я понял, что могу помогать людям. Список клиентов рос, и вместе с ним росла моя известность. Отец настаивал, что я уже вполне могу бросить это и поступить на службу в адвокатское бюро, возглавляемое его другом. Но от каждого нового выигранного дела я преисполнялся все большим воодушевлением. И понимал, что многие законы безнадежно устарели и не соответствуют требованиям времени. И что пора менять многое в управлении городом.
Все это было в его официальной биографии, но из его собственных уст воспринималось иначе.
– И вот в какой-то момент я понял, что могу баллотироваться в депутаты. Отец возражал, и поэтому мы начали кампанию практически без средств. Помогли клиенты. Я выиграл выборы – с ничтожным перевесом, но все же выиграл.
Он снова оглядывается по сторонам, прячет руку с сигаретой за спину. Но убедившись, что никто не видит, глубоко затягивается. Глаза его пусты и обращены в прошлое.
– Когда занялся политикой, спал по пять часов в день, но был полон энергии. Сейчас спал бы часов восемнадцать кряду. Медовый месяц кончился. Осталась только необходимость радовать всех, а особенно – жену, которая так самоотверженно билась за мое блестящее будущее. Марианна многим пожертвовала ради этого, и я не могу ее разочаровывать.
И это – тот самый человек, который несколько мгновений назад предлагал мне начать сначала? Но, может быть, ему именно это и нужно – говорить с кем-то, кто может понять его, так как чувствует то же, что и он?
Все-таки у меня редкий дар создавать химеры, причем – с поразительной быстротой! Я ведь уже представляла себя на шелковых простынях в шале на отрогах Альп.
– Ну, так когда мы сможем увидеться снова?
Тебе решать, когда.
Через два дня, говорит он. Я отвечаю, что у меня занятия йогой. Он просит пропустить. Отвечаю, что и так пропускаю все, что только можно, и потому поклялась себе, что буду более дисциплинированной.
Якоб, похоже, смиряется. У меня возникает желание согласиться, но все же не хочется казаться слишком уж доступной и заинтересованной.
Жизнь снова обретает смысл, потому что на место прежней апатии пришел страх. Как прекрасно испытывать страх – страх упустить шанс.
Отвечаю – нет, не получится, давай условимся на пятницу. Он кивает, звонит своему помощнику и просит вписать в ежедневник. Докуривает – и мы прощаемся. Я не спрашиваю, зачем Якоб рассказал мне так много о себе такого, что не предназначено ни для чьих ушей, а он не добавляет ничего к тому, что я услышала в ресторане.
Мне бы хотелось поверить, будто что-то изменилось после этого обеда. Одного из сотен деловых обедов, на которых мне пришлось бывать. Обеда, где подавали еду, которая просто не могла быть менее полезной, и вином, которое, хоть мы оба делали вид, что пьем, осталось почти нетронутым к той минуте, когда подали кофе. Нельзя расслабляться, нельзя ослаблять бдительность, несмотря на все эти фокусы с выбором марки и сорта вина.
Необходимо соответствовать ожиданиям. Возвращение Сатурна.
Я не одинока.
* * *
Журналистика не имеет ничего общего с тем гламуром, который мерещится читающей публике, воображающей интервью со знаменитостями, фантастические путешествия, знакомства с сильными мира сего и с завораживающе интересными маргиналами.
А на самом деле мы по большей части сидим в редакциях и висим на телефонах. Сидим все вместе, в огромных залах. Право на приватность получает только начальство, отделенное от простых смертных стеклянными перегородками, которые время от времени закрываются шторками. Но даже когда это происходит, начальство не перестает следить за нами и знает все, что происходит снаружи, а вот мы не видим, как беззвучно шевелятся их губы, словно у рыб в аквариуме.
Журналистика в Женеве, где всего-навсего 195 тысяч жителей, – скучнейшее занятие. Заглядываю в сегодняшний выпуск, хотя наперед знаю, что увижу там – нескончаемые переговоры высокопоставленных иностранных дипломатов в представительствах ООН, постоянные жалобы на предстоящую отмену банковской тайны и еще кое-что, достойное помещения на первой полосе – ну, к примеру, «Страдающий болезненной тучностью авиапассажир не смог войти в самолет» или «В окрестностях Женевы волк задрал несколько овец» или «В Сен-Жорже обнаружены следы доколумбовой цивилизации» и, наконец, вот он, главный заголовок: «После капитального ремонта прогулочный корабль “Женева”, прекрасный как никогда, возвращается в озеро».
Меня вызывают к редактору. Редактор желает знать, удалось ли выудить какой-нибудь эксклюзив у политика, с которым я накануне обедала. Как и следовало ожидать, моя встреча с Якобом незамеченной не прошла.
Нет, отвечаю. Ничего такого, чего бы не было в его официальной биографии. Обед был устроен ради того, главным образом, чтобы сблизиться с «источником», как мы называем людей, сообщающих нам важные сведения. (Чем шире раскинута сеть информаторов, тем большим уважением пользуется журналист, тем выше он котируется.)
А шеф говорит, что, по мнению другого источника, у Якоба Кёнига, хоть он и женат, роман с супругой коллеги-политика. Я чувствую острую резкую боль в том темном уголке души, где с недавних пор притаилась депрессия, и в ответ не произношу ни слова.
Меня спрашивают, смогу ли я еще больше сблизиться с ним. Подробности и особенности его похождений никого особенно не интересуют, но источник полагает: Якоба могут шантажировать. Иностранный металлургический концерн хочет скрыть кое-какие свои налоговые грешки, но не знает, как выйти на министра финансов. Им требуется так называемый «толкач».
Шеф объясняет: депутат Якоб Кёниг – это не наша цель, мы просто должны разоблачить тех, кто пытается подточить нашу политическую систему.
– Это будет нетрудно. Достаточно дать понять, что мы – на его стороне.
Швейцария – одна из очень немногих стран, где хватает слова. В большинстве других государств потребовались бы адвокаты, свидетели, подписанные документы, угроза подать в суд, если тайна будет нарушена.
– Нам нужны только подтверждение и фотографии.
Значит, я должна сблизиться с ним.
– И это тоже будет нетрудно. Наши источники уверяют, что встреча уже назначена и внесена в список его дел.
А еще говорят – Швейцария свято хранит тайну вкладов! Все всё знают.
– Применяй всегдашнюю тактику.
«Всегдашняя тактика» включает четыре пункта: 1. Всегда начинай расспрашивать о каком-то вопросе, по которому интервьюируемому захочется высказаться публично. 2. Давай ему говорить как можно больше, чтобы у него создалось впечатление, что газета отдаст под беседу несколько полос. 3. В конце ее, когда он уверится, что сам направляет ход разговора, задай тот единственный вопрос, что интересует нас на самом деле, причем дай понять, что если он не ответит, мы сократим газетную площадь, на которую он рассчитывает, так что он зря потратил время. 4. Если он отвечает уклончиво, переформулируй вопрос, но добейся ответа. Он ответит, что это никого не интересует. И все же надо получить одно, хотя бы одно заявление. В девяносто девяти случаях из ста эта ловушка срабатывает.
И этого достаточно. Остальное интервью выбрасываешь, а эту декларацию используешь в другом материале – не про того, у кого брала интервью, а в статью на какую-то другую, важную тему, и в статье этой будет официальная информация вперемежку с неофициальной из анонимных источников и прочее.
– Если он все же заупрямится и не захочет отвечать, настаивай, что мы на его стороне. Ты ведь знаешь, как устроена журналистика. И это тебе зачтется.
Еще бы не знать. Карьера журналиста так же коротка, как у спортсмена. Мы рано обретаем славу и влияние, но быстро уступаем место новым поколениям. Очень немногие могут остаться на плаву и процветать. Прочие видят, что уровень жизни упал, начинают бранить прессу, заводят блоги, читают лекции и больше времени, чем нужно, стараются произвести впечатление на приятелей. Промежуточной стадии не существует.
Я пока все еще – в роли «многообещающей». И если выполню поручение и получу декларацию, то, может быть, в будущем году не услышу: «К сожалению, мы сокращаем расходы, урезаем штаты, но вы со своим талантом и именем на улице, конечно, не останетесь».
Меня повысят? Я смогу решать, какие новости помещать на первую полосу – про волка, режущего овец в окрестностях, про исход иностранных банкиров в Дубай и Сингапур или про абсурдное отсутствие квартир в аренду. Какая блистательная перспектива на ближайшие пять лет.
Я возвращаюсь за свой стол, делаю еще два телефонных звонка – необязательных и неважных – читаю все, что есть интересного на интернет-порталах. Рядом тем же заняты мои коллеги, явно отчаявшиеся отыскать такую новость, которая смогла бы сдержать неуклонное падение тиража. Кто-то говорит, что на железнодорожной ветке, связывающей Женеву с Цюрихом, появились дикие кабаны. Пойдет?
Еще бы! Точно так же, как сообщение, только что полученное по телефону от какой-то восьмидесятилетней старушки, возмущенной тем, что в барах теперь запрещено курить. Летом, по ее словам, еще ничего, но когда придет зима, больше людей умрет не от рака легких, а от пневмонии, ибо посетители вынуждены будут выходить наружу.
Что же все-таки мы делаем в редакции газеты?
Я знаю, что. Мы обожаем свою работу и намереваемся спасти мир.
* * *
Сидя в позе «лотоса», вдыхая дым курений, слушая музыку, нестерпимо напоминающую ту, которая обычно звучит в лифтах, я начинаю медитацию. Мне уже довольно давно посоветовали попробовать это. В ту пору считалось, что я переживаю «стресс». (У меня и в самом деле был стресс, но это гораздо лучше, чем нынешнее безразличие ко всему на свете.)
– Нечистые мысли будут смущать вас. Не беспокойтесь об этом. Принимайте любые мысли. Не боритесь с ними.
Ладно. Я и так только тем и занимаюсь. Отстраняю токсичные эмоции, порождаемые гордыней, разочарованием, ревностью, неблагодарностью, сознанием своей никчемности. Заполняю пространство души смирением, благодарностью, пониманием, совестливостью и благодатью.
Думаю, что употребляю сахара больше, чем следует, и это пагубно влияет на здоровье телесное и душевное.
Отбрасываю тьму и отчаяние, приваживаю силы добра и света.
Вспоминаю в мельчайших подробностях давешний обед с Якобом.
Вместе с другими нараспев твержу мантру.
Спрашиваю себя, правду ли сказал шеф-редактор. Якоб в самом деле изменяет жене? Неужели он поддался на шантаж?
Наставница просит нас представить, что мы облачены в световые доспехи.
– Весь день и каждый день мы должны пребывать в уверенности, что эти доспехи защищают нас от опасностей и что мы не связаны больше с двойственностью бытия. Мы должны обрести срединный путь, где нет ни радости, ни горести, но только глубокий душевный мир.
Начинаю понимать, почему меня так раздражают уроки йоги. Двойственность существования? Срединный путь? Мне все это кажется таким же неестественным, как призывы моего доктора держать холестерин на уровне 70 единиц.
Световой панцирь выдерживает всего несколько секунд, а потом разлетается на тысячу кусков под натиском непреложной уверенности, что Якоб клюнет на любую привлекательную женщину. И что мне делать с нею, с этой уверенностью?
Упражнения продолжаются. Меняем позу, и преподавательница настойчиво, как на каждом занятии, требует, чтобы мы попытались хотя бы на несколько секунд «опустошить голову».
Пустота – это как раз то, чего я так боюсь и что чаще всего сопровождает меня. Если бы она знала, о чем просит меня… Впрочем, кто я такая, чтобы осуждать технику, существующую веками?
Так что же я делаю здесь?
Знаю, что делаю. Снимаю стресс.
* * *
Снова просыпаюсь посреди ночи. Иду в детскую – проверить, все ли там в порядке: такое навязчивое беспокойство свойственно время от времени всем родителям.
Потом опять ложусь и лежу, уставившись в потолок спальни.
Нет сил сказать, что я хочу или чего не хочу делать. Почему я не брошу йогу раз и навсегда? Почему не решусь пойти наконец к психиатру и начать принимать чудодейственные пилюли? Почему не могу овладеть собой и перестать думать о Якобе? В конце концов, он если на что-нибудь намекал, то лишь на то, что ему нужен человек, чтобы поговорить с ним о возвращении Сатурна и о тех фрустрациях, которые рано или поздно обрушиваются на каждого из нас по достижении определенного возраста.
Не выдерживаю больше. Моя жизнь напоминает фильм, где бесконечно повторяется одна и та же сцена.
Когда я училась на факультете журналистики, у нас было несколько лекций по психологии. И на одной из них преподаватель (интересный, кстати, мужчина, что в аудитории, что в постели) сказал, что на сеансе психотерапии пациент проходит пять стадий – защита, самовосхваление, обретение уверенности в себе, признание и попытка оправдания.
Я же сразу перескочила от самоуверенности к признанию. И начинаю говорить такое, что лучше было бы скрывать.
Вот, например: мир замер.
И не только мой, но и всех, кто вокруг. Встречаясь с друзьями, мы неизменно говорим об одних и тех же вещах и людях. Темы кажутся новыми и свежими, но на самом деле это всего лишь расточение времени и энергии. Изо всех сил стараемся показать, что жизнь по-прежнему интересна.
И все пытаются как-то совладать с чувством собственной несчастливости. Все – не только Якоб и я, но и муж, наверно, тоже. Просто он это не демонстрирует так явно.
А на опасной стадии признания, где я нахожусь в данное время, все это проявляется очень отчетливо. Я не одна такая. Я окружена людьми с подобными же проблемами и люди эти притворяются, что все в их жизни идет по-прежнему. Как у меня. Как у моего соседа. И, вероятно, как у моего шефа и у человека, который спит сейчас рядом.
После определенного возраста все мы натягиваем маску уверенности и надежности. И со временем она прирастает к лицу.
В детстве мы привыкаем к тому, что если заплачем – нас приласкают, если нам грустно – нас утешат. И если не можем убедить улыбкой, наверняка добьемся своей цели слезами.
Став взрослыми, мы уже не плачем – разве что запершись в ванной, чтобы никто не услышал, а если улыбаемся – то разве лишь своим детям. Мы стараемся не проявлять своих чувств открыто, чтобы люди не сочли нас дряблыми, рыхлыми, ранимыми и не воспользовались этим.
Короче говоря, сон – лучшее лекарство.
* * *
В условленный день встречаюсь с Якобом. На этот раз место выбираю сама, и выбор падает в конце концов на чудесный, запущенный парк Дез-О-Вив, где находится еще один отвратительный ресторан, принадлежащий муниципалитету.
Как-то раз я обедала там с корреспондентом «Файнэншел Таймс». Заказали мартини, а официант принес «чинзано».
Сейчас никаких обедов – ограничиваемся сэндвичами на эспланаде. Потому что здесь Якоб может курить вволю и отсюда открывается прекрасный обзор на все, что вокруг нас. Мы видим, кто вошел и кто вышел. Собираясь сюда, я решила быть честной и после непременных формальностей (о погоде, о работе, «как было в клубе?» – «иду сегодня вечером») прежде всего спрошу его, правда ли, что его шантажируют из-за, так сказать, связи на стороне.
Вопрос его, кажется, не удивляет. Якоб только уточняет: с кем он разговаривает сейчас – с журналисткой или с другом?
Сейчас – с журналисткой. И если он подтвердит, я могу дать слово, что газета поддержит его. Мы не напечатаем ни слова о его личной жизни, но одолеем шантажистов.
– Да, у меня был роман с женой моего приятеля, которого, полагаю, ты должна знать по работе. И инициатива принадлежала ему, поскольку обоих стал тяготить брак, сделавшийся нестерпимо пресным и скучным. Понимаешь, о чем я говорю?
Муж? Нет, не понимаю, но киваю, вспоминая то, что было трое суток назад с моим собственным мужем.
И роман продолжается?
– Нет. Интерес пропал. Моя жена уже знает обо всем. Есть такое, что скрыть невозможно. Люди из Нигерии засняли нас с той дамой вместе и угрожают распространить снимки, но это ни для кого уже не новость.
А Нигерия, как я понимаю, это та страна, где находится металлургический концерн. А жена не требовала развода?
– Она дулась на меня два-три дня, тем дело и кончилось. У нее – обширные планы на наш брак, и я полагаю, супружеская верность занимает в них вполне второстепенное место. Она изобразила приступ ревности, чтобы дать понять, как это важно для нее, но актриса она бездарная. И уже спустя несколько часов после того, как я признался, устремила все внимание на что-то другое.
Судя по всему, мир, в котором живет Якоб, существенно отличается от моего мира. Жены там не ревнуют, мужья выступают в роли сводников. Я много теряю?
– Нет на свете ничего, что не разрешилось бы со временем. Ты не согласна?
Не совсем. Смотря что. Случается, что время не только не исцеляет недуг, но и осложняет положение. Вот это и происходит сейчас со мной. Впрочем, я пришла сюда не отвечать на вопросы, а задавать их, и потому предпочитаю промолчать. А Якоб продолжает:
– Нигерийцы об этом ничего не знают. Я договорился с людьми из министерства финансов – мы подстроим ловушку. Все запишем, зафиксируем – в точности так, как они хотели поступить со мной.
В эту минуту я просто вижу, как дымом рассеивается моя будущая статья – мой шанс высоко подняться в моей отрасли, которая с каждым днем пребывает во все большем упадке. Нечего рассказывать, ничего нового – ни адюльтера, ни коррупции, ни шантажа. Швейцарские стандарты непревзойденного качества не будут поколеблены.
– Это все, что ты хотела узнать? Мы можем перейти к другому вопросу?
Да, это все. А другого вопроса у меня, по правде говоря, нет.
– А я думаю, надо бы спросить, почему я хотел снова тебя увидеть? Почему хотел узнать, счастлива ли ты? Ты думаешь, что интересуешь меня как женщина? Мы ведь не подростки. Признаюсь, я немного оторопел от того, как ты повела себя у меня в кабинете, и, разумеется, я испытал тогда наслаждение, но этого недостаточно, чтобы находиться здесь и сейчас, тем более что в общественном месте такое едва ли может повториться. Итак, тебе неинтересно, почему я захотел снова увидеться с тобой?
Он, этот непредсказуемый человек, уже озадачивший меня вопросом о том, счастлива ли я, теперь пытается высветить и другие темные углы. Что же, он не понимает, что о таком не спрашивают?
Ну, только если тебе хочется рассказать об этом, отвечаю я, провоцируя его и желая разрушить одним ударом эту его властную манеру держаться, от которой я чувствую себя так неуверенно.
И добавляю: разумеется, ты хочешь затащить меня в постель. И ты будешь не первый, кто услышит «нет».
Он покачивает головой. Я делаю вид, что все нормально, и что-то начинаю говорить про волны на глади озера, обычно таком спокойном. Некоторое время мы рассматриваем их, как будто нет на свете ничего интересней.
Но вот ему удается найти нужные слова:
– Ты уже, наверно, заметила, я спросил, счастлива ли ты, потому что вижу в тебе самого себя. Подобное притягивается к подобному. Может быть, ты не замечаешь сходства, но это неважно. Может быть, ты находишься в душевном изнеможении, убеждая себя, что несуществующие проблемы – а ты знаешь, что они не существуют, – высасывают из тебя энергию.
Я думала о том же самом за обедом: больные души узнают друг друга и притягиваются, пугая живых.
– Так вот, – продолжает он, – я чувствую то же, что и ты. Разница, быть может, лишь в том, что мои проблемы – конкретней. Так или иначе, я ненавижу себя за то, что не смог решить их, раз уж попал в такую зависимость от одобрения стольких людей. От этого я остро ощущаю свою никчемность. Думал даже обратиться к врачу, но жена воспротивилась и отговорила. Сказала, что это, если станет известно, погубит мою карьеру. Я согласился.
Ах, вот как? Он обсуждает эти дела с женой. Может быть, ночью и мне поделиться с мужем сокровенными думами? Вместо того чтобы отправиться в клуб, могу сесть перед ним и рассказать все. Интересно, как он отреагирует.
– Разумеется, я уже наделал множество ошибок. И сейчас пытаюсь заставить себя смотреть на мир иначе, но – не выходит. А когда встречаю такую, как ты – учти, я встречал многих людей, попавших в нашу с тобой ситуацию, – стараюсь приблизиться и понять, как они-то справляются с ситуацией. Пойми, мне нужна помощь, а иных путей получить ее не существует.
Ах, значит, всего лишь это? Никакого секса, никакого романтического приключения, от которого вспыхнул бы золотым огнем этот пепельный женевский день. Значит, всего лишь групповые сеансы психотерапии, взаимопомощь, наподобие той, что устраивают себе анонимные алкоголики и наркоманы?
Я поднимаюсь. Глядя ему прямо в глаза, говорю, что на самом деле – вполне счастлива, а вот он должен обратиться к психиатру. А его жена не может и не должна управлять его жизнью. Тем более что никто ничего не узнает – существует врачебная тайна. Одна моя подруга переживала нечто подобное, а потом стала принимать таблетки – и вылечилась. А он что – собирается всю жизнь жить под дамокловым мечом депрессии ради того, чтобы его переизбрали на новый срок? Неужели он хочет для себя такой судьбы?
Он оборачивается – не слышит ли кто-нибудь? Но я заранее огляделась и знаю, что вокруг никого нет, мы одни – если не считать нескольких гуляющих в верхней части парка за рестораном. Но они и не думают приближаться.
Не могу остановиться. И по мере того, как говорю, чувствую, что сама себя слушаю и себе помогаю. Я говорю, что негативизм подпитывает себя. Что Якоб должен отыскать что-то такое, что сможет доставить ему хоть какую-то радость: ну, хоть посмотри фильм, или прочти книгу, или сходи под парусом.
– Да нет же… Дело не в этом. Ты меня не понимаешь… – он, похоже, обескуражен моей реакцией.
Еще как понимаю. Каждый день на нас обрушивается лавина сведений – на рекламных щитах накрашенные девчушки прикидываются взрослыми женщинами и предлагают чудодейственные кремы, обещающие вечную молодость; по телевизору рассказывают, как престарелая супружеская чета взошла на Эверест, чтобы на покоренной вершине отпраздновать годовщину свадьбы; витрины аптек завалены новыми средствами для похудения и новыми массажерами; фильмы проводят ложную идею смысла жизни; книги сулят фантастические результаты; специалисты дают советы о том, как сделать карьеру или обрести душевный мир. И от всего этого мы чувствуем, что жизнь наша пресна и монотонна, что мы стали старыми, с обвисшей дряблой кожей, с лишними килограммами, от которых не избавиться никакими силами, что мы вынуждены подавлять желания и сдерживать эмоции, поскольку они мешают нам вписаться в рамки того, что именуется «зрелостью».
Надо отбирать поступающую к тебе информацию. Надо ставить фильтры на уши и на глаза, допуская лишь то, что не заставит тебя ощущать свою второсортность, ибо для этого с лихвой хватает обыденной каждодневной жизни. Ты думаешь, на работе меня не ругает начальство, а коллеги не сплетничают за спиной? Если думаешь, то – напрасно. Однако я научилась воспринимать лишь то, что служит к моему совершенствованию, что помогает мне исправлять огрехи и ошибки. А все прочее… – я делаю вид, что не слышала этого или просто выбрасываю из головы.
Я попала сюда ради запутанной истории адюльтера, шантажа и коррупции. Но ты превосходно справился со всем этим. Разве сам этого не понимаешь?
И тут, недолго думая, сажусь рядом с Якобом, обхватываю его голову – чтоб не вырвался – и приникаю к его губам долгим поцелуем. Долю секунды он колеблется, но потом отвечает. В тот же миг все мои прежние ощущения – гнетущего разочарования, бессилия, неуверенности – исчезают, уступая место пьянящей радости. Ликование переполняет меня. Так вот, вдруг, я сумела перехватить инициативу и осмелилась сделать такое, о чем прежде могла только мечтать. Я рискнула вступить в неведомые края, отплыть в бурное, сулящее опасности море, чтобы рушить пирамиды и воздвигать храмы.
Я снова сама распоряжаюсь своими поступками и мыслями. То, что казалось невозможным утром, стало реальным к вечеру. Я снова обрела возможность чувствовать, я могу любить то, что не принадлежит мне, и ветер, перестав раздражать и тревожить, осеняет меня благодатью, словно это бог ласково погладил меня по щеке. Дух вернулся ко мне.
Кажется, что за то время, что я целовала Якоба, прошли столетия. Мы медленно отстраняемся друг от друга, заглядываем в самую глубину наших глаз, и он нежно проводит рукой по моим волосам.
И вновь находим то, что было здесь минуту назад.
Печаль.
Только теперь она присоединилась к безответственности и глупости поступка, который – по крайней мере, для меня – все осложнит.
Мы проводим вместе еще полчаса, разговаривая о пустяках так, словно ничего не случилось. Мы, казалось, были очень близки, когда пришли сюда, в парк Дез-О-Вив, мы стали единым целым в миг поцелуя, а сейчас опять превратились в чужих друг другу, посторонних людей, которые с усилием поддерживают разговор, дожидаясь, когда приличия позволят окончить его и без особенных сожалений разойтись каждому в свою сторону.
Нас никто не видел – мы ведь сидели не в ресторане. Нашим супружествам ничего не грозит.
Я думаю: «Попросить у него прощения?», но потом понимаю, что это – лишнее. В конце концов, один поцелуй – не бог весть какое преступление.
* * *
Не могу сказать, что торжествую, но все же сумела обрести хоть какой-то контроль над собой. Дома все идет своим чередом: прежде мне было до невозможности тяжко, теперь стало лучше, и никто ни о чем меня не спрашивает.
Что ж, последую примеру Якоба Кёнига: поговорю с мужем о странном состоянии духа. Доверюсь ему, расскажу все без утайки и, уверена, найду у него поддержку.
Но ведь сегодня все так чудесно и замечательно! Так зачем же портить это признаниями – а в чем именно, я и сама толком не знаю? Продолжаю бороться. Не верю, что творящееся со мной объясняется нехваткой в организме каких-то химических веществ, как утверждается на сайте, где обсуждают состояния «резкой подавленности».
Да и нет у меня сегодня никакой подавленности. Все в порядке вещей, нормальные жизненные циклы. Я ведь не забыла нашу прощальную вечеринку по окончании средней школы – сначала мы хохотали как сумасшедшие, а потом дружно рыдали, потому что осознали, что расстаемся навсегда. И печаль эта длилась несколько дней или недель, сейчас уже не помню. И, кстати, именно это простое обстоятельство очень красноречиво свидетельствует: раз не помню, значит, все прошло. Пересечь тридцатилетний рубеж – это нелегко, и, должно быть, я еще не готова к этому.
Муж поднимается, чтобы уложить детей. Я наливаю себе вина и выхожу в сад.
По-прежнему ветрено. Мы все знаем этот ветер, задувающий в течение трех, шести или девяти дней. Во Франции, более романтической, чем наша Швейцария, его называют «мистраль»; он неизменно приносит с собой ясную холодную погоду. И в самом деле тучи рассеялись: завтра будет солнечный день.
Я неотступно думаю о нашем разговоре в парке, о поцелуе. И не нахожу в душе ни капли раскаяния. Я решилась на то, чего никогда не делала раньше, и благодаря этому начала рушить стены своей темницы.
И мне мало дела до того, что думает Якоб Кёниг. Я не могу прожить жизнь, стараясь быть приятной всем.
Допиваю, снова наполняю бокал и наслаждаюсь – впервые за несколько последних месяцев – переполняющей меня радостью, наконец-то пришедшей на смену безразличию и ощущению своей бесполезности.
Муж спускается и спрашивает, скоро ли я буду готова? Совсем забыла, что мы собирались вечером пойти потанцевать.
Бегу собираться и приводить себя в порядок.
Когда выхожу, оказывается, что наша нянька-филиппинка уже пришла и разложила на столе книги. Дети уже спят, делать ей пока нечего, и она использует это время для занятий – телевизор, судя по всему, внушает ей ужас.
Мы готовы. Я надела свое лучшее платье, хоть и рискую показаться белой вороной в той среде. Плевать. Душа просит праздника.
* * *
Я просыпаюсь от стука ветра в окно. Сквозь сон думаю, что муж мог бы притворить его плотнее. Я должна встать и выполнить мой еженощный ритуал – зайти в детскую и взглянуть, все ли там в порядке.
Но что-то не дает мне сделать это. Я слишком много выпила вечером? И начинаю думать о ряби на поверхности озера, о рассеявшихся к вечеру тучах, о том, с кем была в клубе. Все, что там было, помнится смутно: мы с мужем единодушно сочли обстановку неуютной, музыку – отвратительной, а потому уже через полчаса вернулись к нашим планшетникам и компьютерам.
А все то, что я сказала Якобу вчера днем? Разве я не должна использовать момент, чтобы немного подумать о себе?
Но спальня словно душит меня. Рядом спит мой идеальный муж, и его, как видно, шум ветра не беспокоит. Я думаю про Якоба, который, лежа рядом с женой, рассказывает ей все, что чувствует (впрочем, я уверена, что обо мне он не упомянет), и радуется, что есть человек, который поможет, когда станет совсем одиноко. Я не очень верю в то, как он описал жену, – будь все так, они бы давно расстались. Тем более что детей у них нет.
Спрашиваю себя, не разбудил ли мистраль их тоже, и о чем они разговаривают сейчас. Где они живут? Узнать нетрудно. Все эти сведения имеются в нашей газетной картотеке. Занимались ли они любовью этой ночью? Страстно ли он овладевал ею? Стонала ли она от наслаждения?
А вот я, признаться, веду себя с ним как-то странно. Оральный секс, участливые советы, поцелуй в парке. Все это так непохоже на меня… Кто же она – та женщина, что подчиняет меня себе, когда я с Якобом?
Уж явно – не взрослая женщина, а скорее – подросток, провоцирующий и дразнящий. Девушка, наделенная прочностью скалы и силой ветра, который сегодня взъерошил обычно безмятежную гладь Лемана. Забавно, что когда мы, одноклассники, встречаемся, то хоть и твердим «ты совсем не изменился!», но все же тот, кто был самым хилым, сделался здоровяком, а самая красивая из нас ужасно неудачно выбрала себе мужа, а те, которые в школе были не разлей вода, не видятся теперь годами.
Но с Якобом – по крайней мере, в начале нашей новой встречи спустя столько лет – я в самом деле могу повернуть время вспять и стать прежней – девочкой, которая не боится последствий, потому что ей всего шестнадцать лет, а до возвращения Сатурна, возвещающего пришествие зрелости, еще так далеко.
Пытаюсь заснуть, но не могу. Вот уж больше часа не могу отделаться от навязчивых мыслей о нем. Вспоминаю, как сосед мыл машину и как я подумала, что жизнь его совершенно лишена смысла, а сам он занят поэтому всякой чепухой. Но нет – это была не чепуха: вероятно, он развлекался так, упражнялся, рассматривая эти простые житейские мелочи как благословение, а не как проклятье.
Вот этого мне и не хватает – умения немного расслабиться и пользоваться жизнью. Нельзя же беспрерывно думать о Якобе. Я ведь заменяю свою нехватку счастья чем-то более вещественным и определенным – мужчиной. Это-то понятно. И если бы я пошла к психиатру, он сказал бы мне, что проблема в другом. Нехватка лития в организме, низкий уровень серотонина – и прочее в том же роде. Это не с появления Якоба началось и не с его уходом кончится.
Но я не могу забыть. В мозгу десятки, сотни раз прокручивается миг нашего поцелуя.
И я понимаю, что подсознание превращает воображаемую проблему в реальную. Так всегда и происходит. Так и возникают болезни.
Я не хочу больше, чтобы этот человек появлялся в моей жизни. Его послал сам дьявол затем, чтобы окончательно разбить то, что и так было хрупко и неустойчиво. И как могла я так стремительно влюбиться в человека, которого толком и не знаю? А кто сказал, что я влюбилась? Со мной еще с весны творится что-то неладное, вот и все. А если до тех пор все шло хорошо, не вижу оснований к тому, чтобы это не вернулось.
Твержу себе снова и снова: это – такая жизненная фаза и больше ничего. Не могу держать в фокусе и притягивать к себе то, от чего мне плохо. Разве не так я сказала ему вчера?
Надо сжать зубы и дождаться, когда минует этот кризис. А если нет, я рискую влюбиться по-настоящему и чувствовать всегда то, то что на долю секунду вселилось мне в душу, когда мы с ним обедали в первый раз. И если это случится, мне уже не удержать это в себе. Страдание и муки выплеснутся наружу.
Не знаю, сколько я ворочалась с боку на бок – бесконечно долго – потом провалилась в сон, и, как показалось, уже через секунду муж разбудил меня. День ясен, небо сине, по-прежнему задувает мистраль.
* * *
– Иди готовь завтрак. А я займусь детьми, соберу их в школу.
А давай хоть раз в жизни переменим роли? Ты ступай на кухню, а я – в детскую.
– Это бунт? Ладно же. Сейчас узнаешь, каким должен быть настоящий кофе! Ты такого и не пробовала.
Да нет, какой бунт – всего лишь попытка внести некоторые вариации в наши темы. Так, значит, тот, что я варю, недостаточно хорош?
– Послушай, не будем спорить, да еще в такую рань. Я знаю, что мы вчера оба перебрали, ночные клубы нам обоим уже не по возрасту. Ладно, займись детьми.
И он выходит раньше, чем я успеваю ответить. Я смотрю в телефоне перечень того, что предстоит мне сегодня.
Сверяюсь со списком абсолютно обязательных встреч. Чем он длинней, тем продуктивней, считается, прошел день. Многие дела следовало сделать вчера или позавчера, а они так и подвисли. И оттого список все растет и растет – и так до тех пор, пока, рассвирепев, я не уничтожаю его и не завожу новый. И тогда вдруг сознаю, что ничего уж такого особенно важного он и не содержал.
Однако есть пункт, который ни в каких списках не значится, но о котором я не забуду ни при каких обстоятельствах: узнать, где живет Якоб Кёниг, и выбрать время, чтобы проехать мимо его дома.
Когда я спускаюсь из детской, внизу уже накрыт завтрак – фруктовый салат, сыры, хлеб грубого помола, йогурты, сливы. Слева от моего прибора предупредительно положен номер газеты, в которой я работаю. Муж не признает вечно запаздывающие новости бумажной прессы и сейчас листает свой айпад. Наш старший сын осведомляется, что такое «шантаж». Я не понимаю, откуда он взял это слово, пока взгляд не падает на первую полосу. А там – большая фотография Якоба (наверно, одна из многих, имеющихся в архиве нашей редакции). Вид у него задумчивый. Сверху – заголовок: «Депутат отвергает попытку шантажа».
Это не я написала. Впрочем, когда я еще была на улице, позвонил шеф и сказал, что может отменить мою встречу, потому что сию минуту получил релиз министерства финансов и изучает ситуацию. Я объяснила, что встреча уже состоялась, что прошла она стремительней, чем предполагалось, и что мне не потребовались «рутинные процедуры». И меня тотчас командировали в ближайший пригород Женевы (он считается городом и даже имеет собственный муниципалитет), чтобы осветить протест горожан, ополчившихся на местную бакалею, где продаются, как выяснилось, товары с просроченным сроком годности. Я выслушала владельца, жителей квартала, друзей жителей квартала и пришла к выводу, что читающей публике эта история будет гораздо интересней, чем любое разоблачение какого угодно политика. Впрочем, его тоже поместили на первую полосу, но, разумеется, не на таком видном месте и не таким жирным шрифтом, как «Бакалея оштрафована. Сведений о жертвах отравления не поступало».
А сейчас, за утренним кофе, эта фотография Якоба вселяет в меня глубокое беспокойство.
Сообщаю мужу, что вечером нам с ним надо будет поговорить.
– Оставим детей на бабушку и сходим куда-нибудь поужинать, – отвечает он. – Мне тоже нужно побыть с тобой наедине. Ты и я. И чтобы не гремела эта чудовищная музыка, которая невесть почему пользуется таким успехом.
* * *
Это произошло однажды утром, весной.
Я забрела в тот уголок парка, где никогда никого не бывает. Рассматривала изразцы, которыми был отделан фасад школы. И чувствовала – со мной происходит что-то не то.
Другие дети считали меня воображалой и задавакой, и я не очень-то старалась их разубедить. Наоборот. Просила маму, чтобы по-прежнему покупала мне дорогую одежду и привозила в школу на заграничном автомобиле.
Так продолжалось до того дня в маленьком парке возле школы, когда я вдруг осознала свое одиночество. И подумала, что это, наверно, уже навсегда. Хотя мне было всего восемь лет, казалось, что меняться уже поздно и поздно говорить окружающим, что я – точно такая же, как они.
* * *
А это было летом.
Я училась уже в старших классах, и мальчишки постоянно липли ко мне, хоть я и старалась держаться от них подальше. Одноклассницы умирали от зависти, но не злились на меня, а наоборот – навязывались в подруги и постоянно терлись рядом, чтобы, так сказать, подбирать крошки с моего стола.
А я отвергала практически всех, потому что знала твердо: если кого-то впущу в свой мир, вошедший не найдет там ничего интересного. Куда лучше напускать на себя таинственный вид и намекать на возможности, недоступные окружающим.
Возвращаясь домой, заметила несколько грибов, выросших после дождя. Никто их не трогал, потому что все знали, что они ядовиты. На какую-то долю секунды мне захотелось съесть их. Мне не было особенно грустно или весело – просто хотелось привлечь внимание родителей.
Но к грибам я не притронулась.
* * *
Сегодня первый день осени – самая прекрасная пора. Скоро уж изменят цвет листья, и деревья будут отличаться друг от друга. К автобусной остановке я решаю пройти другой дорогой – по улице, которой никогда не ходила прежде.
Останавливаюсь перед школой, где училась. Выложенная изразцами стена стоит как стояла. Все по-прежнему, если не считать того обстоятельства, что теперь я не одна. Я принесла с собой память о двоих мужчинах: одного мне никогда не заполучить, с другим сегодня вечером я буду ужинать в хорошем, изысканном, тщательно выбранном ресторане.
Играя с ветром, небо прочерчивает птица. Носится из стороны в сторону, вперед и назад, то взмывает вверх, то снижается, и полет ее подчинен недоступной мне логике. А, может быть, вся логика – лишь в том, чтобы наслаждаться жизнью.
* * *
Но я не птица. Мне не удастся пропорхать по жизни, хотя многие мои друзья, у которых денег меньше, чем у нас, так и живут – от путешествия к путешествию, от ресторана до ресторана. Я сама пробовала быть такой же, но потерпела неудачу. Мой муж, человек влиятельный, устроил мне эту должность в газете. И я работаю, и время мое занято, я чувствую, что приношу пользу и что существование мое оправданно. Когда-нибудь мои дети будут гордиться мной, а подруги детства испытают небывалое еще разочарование и досаду, потому что я сумела создать нечто, а они всю жизнь только и делали, что пеклись о муже, о детях, о доме.
Не знаю, всем ли свойственно это стремление произвести впечатление на других. Мне оно присуще, не отрицаю, и стыдиться тут нечего – это оно идет лишь на пользу моей жизни и движет меня вперед. С тех пор, разумеется, как я исключила из нее неоправданный риск. С тех пор, как сумела сделать мой мир в точности таким, каков он сейчас.
И, придя на работу, я просматриваю правительственные сайты. И вот – меньше, чем через минуту, получаю адрес Якоба Кёнига, а также сведения о том, сколько он получает, где получил образование, как зовут его жену и где она работает.
* * *
Муж выбрал ресторан, расположенный на полпути от моей редакции к дому. Мы уже бывали там раньше. Было уютно и красиво, вкусно кормили, был неплохой выбор вин. Впрочем, я неизменно считаю, что дома лучше. И ужинаю в ресторане, только когда того требуют «социальные обязательства», и то при малейшей возможности стараюсь уклониться. Обожаю готовить. Обожаю находиться в кругу семьи и чувствовать одновременно, что защищаю их и что они оберегают меня.
Из списка обязательных дел одно – «проехать мимо дома Якоба Kёнига» – осталось невыполненным. Я сумела подавить этот импульс. Хватит с меня и воображаемых проблем с безответной любовью – незачем прибавлять к ним еще и реальные. То, что я чувствовала, – прошло. Больше не повторится. И в ясном сознании этого мы вступим на стезю мира, процветания и надежды.
– Говорят, тут сменился владелец, и еда уже не такая, как раньше, – замечает муж.