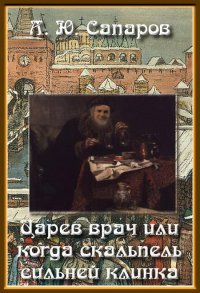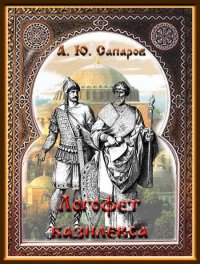Читать онлайн Личный лекарь Грозного царя бесплатно
- Все книги автора: Александр Сапаров
Я загорал на лежаке, с утра была отличная погода. Яркое испанское солнце припекало кожу. Глаза были закрыты, но шум прибоя, невнятные беседы и смех окружающих не давали забыть, что я сегодня на Майорке и впереди еще несколько дней беспечного отдыха.
Неожиданно ощущение солнечных лучей на коже исчезло, и вроде бы потемнело.
«Что за ерунда, неужели туча?» – с досадой подумал я и открыл глаза. Прямо передо мной стоял монах в черной рясе и накинутом на голову колпаке. На его груди висел большой католический крест. Лица видно не было, но я чувствовал, что горящие глаза монаха внимательно смотрят на меня.
По телу пробежала неожиданная дрожь, я вздрогнул и непроизвольно моргнул. И монах исчез – никто не загораживал мне вида на море. На душе стало спокойней, но почему-то заболела голова. Я заскрипел зубами и проснулся.
В нашей с Ириной спальне стояла жара – истопник, видимо, перестарался, натопив как в лютый мороз, хотя на улице была оттепель, и к тому же вьюшка была закрыта слишком рано.
– Сережа, ты что не спишь, ночь на дворе, – раздался встревоженный голос жены.
– Да так, – ответил я, – проснулся вот, всякая чертовщина снится.
– Ох, свят, свят, – перекрестилась Ира, – не к добру это, не к добру.
Я встал и, подойдя к ендове, зачерпнул ковшик кваса, но тот, согревшись в жаркой спальне, был теплым до тошноты. Накинув шубу на исподнее, сказал жене, что поищу квасок холодней, она уже протянула руку к колокольчику, но я покачал головой и сам в чунях на босу ногу прошлепал вниз, где в сенях рядом с кухней стояла бочка, – в ней квас должен был быть холодным. Там я сел на высокий порог и, прихлебывая ледяную жидкость, задумался о своем сне.
За время, проведенное в новом мире, снилось разное, но такого яркого и тревожного сновидения не было давно. Последний раз я примерно такой же сон видел перед тем, как провалился в прошлое. Интуиция твердила, что этот сон предвещает будущие большие неприятности. А учитывая, сколько у меня недоброжелателей, это было отнюдь не удивительно. Только одно пресечение будущей династии Романовых перевешивало все мои остальные деяния в этой жизни.
Однако долго я не размышлял, потому что по полу гулял сквозняк, а поднимаясь наверх, философски решил, что прибавление еще одной неприятности в моей беспокойной жизни ничего не изменит, и потому постарался выкинуть тревожные мысли из головы и на удивление быстро заснул.
В палатах Московской купеческой английской компании вечером было немноголюдно. За круглым столом сидели несколько руководителей, и только что приехавший эмиссар королевы Томас Мильтон сразу приступил к делу:
– Господа, ваши сообщения о последних событиях в Московии заставили королеву срочно послать меня уточнить положение дел и как эти события могут отразиться на нашей торговле. А сейчас я внимательно выслушаю ваши мнения.
Один из купцов, Годфри Уильямс, завел речь:
– Сэр Томас, хочу отметить, что в течение этих двух лет буквально на глазах изменилась обстановка царского двора. Как вы уже знаете, вестфалец Бомелиус, который являлся личным врачом Иоанна Васильевича, был зверски замучен и зажарен на сковородке. Мы скорбим по поводу его утраты. Тем не менее мы ожидали, что, несмотря на подозрения царя, он все же вновь затребует врача из Англии, однако этого не случилось. Совершенно неожиданно для нас и наших агентов он взял врачом одного молодого родовитого боярина. С этим боярином связана интересная история. Якобы в детстве он был похищен и воспитывался в глуши, у какой-то бабки-знахарки, где приобрел невиданные доселе медицинские познания.
И вот этот молодчик становится врачом монарха. А мы лишились такого рычага влияния. Но кроме того, этот малый оказался талантливым производственником. И сейчас вы можете видеть у нас на столе плоды его трудов. – И купец указал эмиссару на кипящий на столе пузатый самовар. – Но самое главное – он смог осуществить производство прозрачного стекла невиданной красоты, не хуже изделий из горного хрусталя. Я слышал, что так это стекло теперь и называют. Царь поспешил всю продукцию этой мануфактуры взять под себя. И теперь собирается продавать нам даже страшно представить по каким ценам. Но если не возьмем мы, возьмут голландцы или датчане. Этот молодой человек сейчас уже член парламента и глава медицинского министерства. Вы можете представить себе такую карьеру? Притом наши доктора, которые сдавали ему экзамен…
Сэр Томас изумленно выпучил глаза.
– Да, да, не удивляйтесь, именно экзамен, так вот они все отмечают необычайную эрудированность молодого человека в вопросах медицины, и по его иногда вырывающимся насмешливым замечаниям было понятно, что многие медицинские загадки для него ясны, как божий день. Злые языки говорят, что он выпытал тайну стекла у венецианца с острова Мурано, а потом убил его, но мы не нашли ни одного подтверждения этому факту. И где он получил столь хорошее медицинское образование, абсолютно непонятно. Сейчас мы в некотором затруднении, царь последнее время почти не принимает наших визитов и чем-то недоволен, мы не исключаем влияния на него со стороны этого дворянина с варварской фамилией Щепотнев.
– Господа, – взял слово сэр Томас, – совершенно ясно, что мы имеем дело с диверсией конкурентов. Кто подсунул этого человека царю – надо непременно выяснить. Потом, все имеет свою цену, и его надо купить. Ну а уж если мы его не сможем купить, то, как известно, «нет человека – нет и проблемы».
…Я сидел в своем приказе и занимался составлением планов обучения своих будущих учеников, когда ко мне постучался охранник и извиняющимся тоном сказал:
– Туточки немец аглицкий до вас, Сергий Аникитович. Дык как? Можно его пустить?
– Ну давай, пусть идет, не держать же под дверями.
Открылась дверь, и в нее вошел молодой мужчина в типичном средневековом европейском костюме. Я до того привык за эти годы к нашей одежде, что этот англичанин показался мне просто ряженым.
Он низко поклонился мне и махнул шляпой, что мне совсем не понравилось.
«Ишь размахался, вшей разбрасывает», – подумал я.
Встал, приветствовал гостя и предложил присесть и рассказать, что привело его ко мне.
Тот, с любопытством оглядывая обстановку, начал свои объяснения. Я между тем с интересом смотрел, как по его брови ползла здоровенная вошь. Мой собеседник не глядя поймал ее ногтями правой руки и с громким треском раздавил, отчего меня аж передернуло.
Он сообщил, что его зовут Джером Горсей, он является младшим компаньоном английской купеческой компании и что он уполномочен от имени руководства компании провести переговоры со мной.
– Мистер Горсей, вы понимаете, что я, как верный слуга своего государя, буду вынужден поставить его в известность об этом визите?
– Конечно, конечно, я все понимаю, Сергий Аникитович, но ведь тема нашего разговора никоим образом не будет касаться безопасности вашего суверена. Уважаемый боярин, я вам прямо скажу – мы в компании озадачены появлением в окружении Иоанна Васильевича столь образованного молодого человека. Не скрою, нам бы очень хотелось знать, где вы получили столь исчерпывающие знания по стольким наукам, в частности медицинским. Ваша откровенность не останется невознагражденной. Скажите мне, во сколько вы ее оцениваете. И вообще, такому талантливому человеку не место в этой ужасной стране. Мне почему-то кажется, что образованный человек должен тяготиться пребыванием среди дикарей.
– Мистер Горсей, скажите, а вы не боитесь говорить мне такие слова? Вы считаете, что живете среди дикарей. Только вот эти дикари каждую неделю ходят в баню и стирают свою одежду, а вы таскаете на себе тучу вшей, нисколько этого не стесняетесь и воняете хуже навозной кучи.
Англичанин, не ожидавший таких слов, растерялся:
– Но, мистер Щепотнев, наличие вшей – это же нормальное явление.
– Нет, мистер Горсей, это нормальное явление для дикарей, к которым вы относитесь, а для цивилизованных людей, если вы знаете, что значит это слово, норма – отсутствие на теле и в волосах всей этой гадости.
– Я вижу, разговора у нас не получается, – вздохнул мой собеседник. – Очень жаль. Но если вы передумаете, вам не будет поздно навестить наш офис здесь, в Москве, вас там будут ждать.
– Нет, почему же, у нас вполне может получиться разговор, если вы без всяких намеков, конкретно изложите по пунктам, чего ваша компания хотела бы именно от меня. Ну а я, в свою очередь, изучив ваш список, смогу вам так же конкретно изложить свою точку зрения на эти вопросы, и по всем тем просьбам, которые я смогу удовлетворить, вы получите детальные подсчеты – сколько чего, в какие сроки и, главное, сколько это будет стоить. И не стройте иллюзий, Иоанн Васильевич будет все знать о наших договоренностях. Кроме того, дорогой Джером, не обижайтесь на мои слова о дикарях, но для большинства нашего населения вы таковыми являетесь. У нас принято еженедельное мытье тела. Я знаю про ваши обычаи ходить всю жизнь грязным и ловить на себе насекомых. Но сейчас вы находитесь в нашей стране, и я вам советую, пока вы здесь, мойтесь хоть изредка. Наши носы непривычны к такой вони от людей.
Распрощавшись с растерянным англичанином, я переоделся и поднялся в Думу, где сегодня вновь продолжились споры о строительстве порта у Михайло-Архангельского монастыря.
Когда я вошел туда, в не топленной летом палате уже было жарко от спорщиков. Андрей Щелкалов бросил на меня неприязненный взгляд и громко сказал:
– А вот и Сергий Аникитович пожаловал! Не расскажешь ли нам, чего это к тебе аглицкие купцы зачастили? Я так понимаю, сейчас тоже будешь за порт ратовать.
– Андрей Яковлевич, скажи мне, каким волшебством ты раньше всех все узнаешь? Не успел от меня Горсей выйти – а ты уже все знаешь, может, сам расскажешь, о чем мы речь вели?
– А чего тут думать: уговаривал он тебя их сторону принять.
– Так вроде бы совсем недавно и ты, Андрей Яковлевич, мне говорил, что надобно порт там строить, а теперь от своих слов отказываешься.
Щелкалов поперхнулся и закашлял, закрыв рот рукой.
Царь, сидящий на троне, засмеялся:
– Что, Андрей Яковлевич, уел тебя Щепотнев? Не будешь лишнего говорить. А ты, Сергий Аникитович, расскажи – что за разговор у тебя с купцом был?
– Иоанн Васильевич, может, разрешишь мне лично с тобой это дело обговорить, а уж потом решишь – надо ли всем о том рассказывать.
– Хорошо, а сейчас скажи нам: что думаешь про порт сей? Много уже воду в ступе толчем, а решения нету.
– Иоанн Васильевич, думаю я, что порт для царства твоего там нужен. И строить его нужно таким, чтобы множество кораблей могло приходить и разгружаться и чтобы там и наших купцов корабли могли стоять, и флот военный наш.
Сзади меня негромко хмыкнул Щелкалов:
– Щепотнев уже и флот у нас нашел.
– Иоанн Васильевич, думается мне, что англичанам торговля эта нужна не меньше, чем нам. А раз нужна, пусть и мастеров присылают порт строить и корабли. Не захотят – есть и голландцы, и другие найдутся.
– Сергий Аникитович, вроде совсем недавно ты что-то про Котлин остров говорил?
– Государь, так одно другому не мешает. Великому царству твоему и два порта могут понадобиться. А сейчас ты меня спросил, нужен ли порт на море Белом, я и сказал мнение свое.
– Ну что же, бояре, слушал я вас не один день и не два, разные были слова сказаны. Но склоняюсь я все же к словам бояр моих, которые за порт в Михайло-Архангельском ратуют. Правильно Щепотнев сказал, великому царству одного порта мало, но пока хотя бы там построим.
Раздался недовольный гул, но единственный взгляд Иоанна Васильевича – и гул утих. Царь вышел, и немногочисленные думные бояре, переговариваясь между собой, тоже поспешили к выходу. Я же, помня о приказе царя, пошел вслед за ним.
– Ну давай, Щепотнев, не стой, садись напротив меня, – сказал Иоанн Васильевич. – Ты меня все время удивляешь, наверняка и сейчас что-то поновее скажешь?
– Государь, приходил ко мне компаньон Московской компании Джером Горсей. Он сейчас в ней не из первых – так, младший компаньон. Я думаю, что ко мне именно его прислали не потому, что оскорбить хотели, но дали понять, что очень сильно делами моими не интересуются. Однако это на простака уловка. Ясно, что их мои мануфактуры интересуют и стекло мое, которое не хуже крусталя горного и бешеных денег стоит. Кроме того, наслышаны они и о школе медицинской. Государь, я вот что думаю. Для аглицких немцев мы сейчас как свет в окошке. Они, почти как мы сейчас, в окружении врагов. С гишпанцами воюют, с голландцами тоже ни мира ни войны, с французами такие же дела. Мне кажется, что они за торговлю с нами на многое пойдут – и порт построят, и мастеров своих привезут. Да только вряд ли они корабли нам строить будут. Не захотят ведь себе соперников на море иметь. А нам – кровь из носу, а флот свой и торговый, и военный надо иметь. Порт построим – крепость ведь надо будет там ставить, а то швед недалеко, придет и пожжет все. А будет флот – еще не всякий враг туда сунется. Сейчас в компании думать будут, какие мне просьбы писать, а мы должны уже знать, чего с них за эти просьбы спросить.
Я помолчал.
– И еще, Иоанн Васильевич, жил я когда у бабки-знахарки в лесу, лежали у нее карты старые, ее дед рудознатцем был и всю Корелу обошел. Нашел он у озера одного руду медную. Но когда пришел домой, больной уже, умер, и никому до его карт дела не было. А мне было любопытно – выглядел все и сейчас по памяти нарисовал, где руда медная есть, главное – у озера это все, так что можно будет там рудник ставить и медь по рекам вывозить. Так вот есть у меня задумка великая – попробовать там такой рудник и заводик поставить. Только мне кажется, что англичанам это не очень понравится: ведь они сейчас нам медь привозят – а тут мы, может, сами продавать будем.
Царь сидел, задумчиво постукивая по столу пальцами правой руки, унизанными перстнями.
– Ты, как всегда, интересно говоришь, Щепотнев, и дела хорошие предлагаешь, и самое главное – вижу я, что радеешь ты не о себе, а о царстве моем. Но вот дел ты на себя взвалить хочешь больше, чем увезти сможешь. Посему с рудником этим решим так. Знаю я, что дружен ты с главой Пушечного приказа, есть там у него разные мастера, даже несколько тех, кто в рудниках таких работал. Так что составишь мне челобитную, где все как есть обскажешь, сколько и чего нужно для начала. И с князем Каркодиновым тоже обговори, он у тебя в Аптекарском приказе водку твою анисовую что, так просто пьет? Пусть поможет, управляющего понимающего даст. Если там медь найдут, дам я тебе эти земли вместе с людишками и от налога освобожу на несколько лет. Но самому тебе там делать нечего. У тебя здесь, в Москве, главные дела. А вот чего от тебя англичане захотят – мне доложишь, тогда и будем решать, как с ними дела вести.
Потом он улыбнулся и продолжил:
– И кстати, есть новость для тебя. Помнишь, говорил ты мне об астрономе известном Тихо Браге? Так вот донесли до него, что есть в Московии труба подзорная, с помощью которой можно звезды рассматривать, и загорелся он, говорят, идеей бросить все и приехать сюда, в Московское царство, и тут наукой своей заниматься, тем более что великий государь ему свое покровительство обещает. А когда он узнал, что есть у государя лекарь, который ему может новый нос сделать, то передал он послам моим в Дании письмо тайно, в котором просит уточнить – действительно ли лекарь есть такой? Так как, сможешь ли ты, Сергий, нос, когда-то отрубленный, вновь сделать?
– Иоанн Васильевич, нельзя так сразу обещать, смотреть вначале надо. А нос вообще-то сделать смогу и пришить тоже. Только, государь, астроному и астрологу башня – за звездами смотреть – нужна и вотчина: в Дании он у своего короля не бедствует.
– То не твоя забота, Щепотнев, сам понимаю, что в чести такие люди живут. И роду он благородного. Так что готовься, не знаю, когда и каким образом он со своего острова к нам прибудет, – вот тогда и будешь свои обещания выполнять.
Домой я ехал не сказать чтобы полностью довольным, но все-таки моими настояниями порт начнет строиться на несколько лет раньше. Похоже, Иоанн Васильевич проникся и моими предложениями по устранению Батория, и сейчас над этим работают. И успехи этого года в Ливонской войне не будут временными победами.
Ну а раз к нам собрался ехать датский астроном, то надо подумать над попыткой создания телескопа. Плохо только, что в сутках всего двадцать четыре часа и мне просто не провести в жизнь всех идей, которые приходят в голову.
Дома меня ждал сюрприз. Во дворе стояли телеги, полные какого-то товара. Два мужика при моем появлении бухнулись на колени и уткнулись лбами в землю. На мои попытки их разговорить только еще больше кланялись и молчали. Но тут из дома показались двое – мой ключник на пару с тиуном. Увидев меня, Лужин, как обычно, сдернул свою шапку и радостно завопил:
– Сергий Аникитович, так мы это, товару нового привезли с мельницы нашей тряпошной! Вот изволь посмотреть, что получилось.
Он сдернул дерюгу, закрывавшую груз, и размотал один из тюков. Передо мной лежала бумага. Конечно, это был далеко не ватман. Я вытащил один лист и начал разглядывать, вроде все было как надо, даже мой водяной знак был виден.
Ключник ходил вокруг с отсутствующим видом. Наверняка уже подсчитывал, сколько серебра нам отвалят за привезенное сокровище. Несло от них уже прилично.
– Ефим, ты же тиун, что же сразу за водку?
– Дык, Сергий Аникитович, мы тута с Федькой, как цены-то московские на бумагу узнали, никак не могли без энтого дела обойтись. Да вот еще что интересно: раньше мы, пока все караулы проедем, так только с нас мыто и стребовали. А сейчас как кто услышит, что людишки боярина Щепотнева товар везут, так сразу нам все пути-дороги открыты. Ну, от такого дела вон наши мужики чуть от страху не сомлели. Мы, говорят, и не думали, что наш боярин важный такой есть.
Я повернулся к по-прежнему стоявшим на коленях мужикам:
– Эй, вас что, силой, что ли, поднимать? Давайте идите в людскую, поешьте хоть с дороги.
Потом, уже повернувшись к тиуну, сказал:
– Ты, Ефимка, как тиуном стал, заважничал – чего мужиков не накормил?
Тот заюлил глазами:
– Виноват, Сергий Аникитович, так вот получилось, заговорились мы тут с ключником.
– Точно так, – подтвердил, покачиваясь, Федька.
– Ох, пораспустил я вас, – угрожающе сообщил я им, – в будний день водку трескаете. Ладно, на этот раз прощаю, но еще такое дело – и на конюшню, а то у меня конюх засиделся, заскучал, вчера еще жаловался, что давно розог в руках не держал.
Пока я разговаривал с людьми, на крыльцо вышла моя жена и с улыбкой смотрела, как я распекаю подчиненных.
– Сергий Аникитович, – крикнула она, – хватит уж отчитывать, иди скорее, ужин ждет.
Еще зимой, перед свадьбой это была девчонка с блестящими любопытными глазами, но беременность изменила ее совершенно. Даже походка сделалась другой. И она уже стала не девочка, а женщина, осознающая свою красоту и новую жизнь, которую носит в себе.
И вновь, как почти каждый вечер, я подумал: «Как же мне повезло, ведь на ее месте могла оказаться любая другая женщина». Но сейчас мне казалось, что мне всегда нужна была только она одна. Нет, наверно, все-таки есть Бог на белом свете, что подарил мне такое счастье, которого никогда у меня не было в прошлой жизни.
Я закончил разговор и быстрым шагом поднялся на крыльцо и, поцеловав Иру, прошел вместе с ней в дом под многозначительное переглядывание дворни.
После ужина я вызвал к себе Ефимку, который уже достаточно протрезвел и был в состоянии обстоятельно рассказать о делах в моих владениях. Кроме того, с собой он принес две корзины. Из первой, пахнущей керосином, он начал извлекать жестом фокусника небольшие бутылки, заполненные фракциями нефти, полученными уже в Заречье.
– Лужин, мать твою! Ты что, совсем ума лишился, зачем ты эту вонь сюда приволок?! Давай пойдем во двор, покажешь, что там есть! – закричал я на него.
Тот вновь аккуратно сложил все бутылки обратно в корзину, и мы пошли во двор, а по дороге Ефимка обиженно бормотал, что он специально принес в кабинет и никому не показывал, думал, что это тайна великая.
Я прямым ходом направился в мастерские к Кузьме, где Лужин поставил корзинки на пол и стал заново вынимать бутылки, воняющие керосином. Во второй корзине, переложенные стружкой, лежало несколько стеклянных плафонов для керосиновых ламп.
Ефимка, с интересом глядя на них, сказал:
– Слава тебе господи, наконец хоть узнаю, что это за штуки. У нас там все от любопытства помирают, что это такое будет, а больше всех Дельторов – он даже сам хотел ехать смотреть. Хорошо хоть стрельцы его не пустили.
– Кузьма, – спросил я, – где там твои светильники, которые ты мне делал?
Кузьма, который с не меньшим любопытством смотрел за извлекаемыми из корзин вещами, полез наверх и снял две керосиновые лампы, пока еще без стекол.
Под внимательным взглядом обоих мужиков я обнюхивал каждую бутылку и наконец, найдя жидкость, по цвету больше всего напоминающую керосин, капнул ее на плошку и поджег… Да, пожалуй, это было похоже больше на керосин, чем на соляру. Снял с обеих ламп крышки с протяжным устройством для фитиля и креплением плафона и налил в них немного керосина. Затем продел уже давно приготовленные фитили в протяжное устройство и надел крышки назад. Когда я поджег фитили и они загорелись тусклым коптящим пламенем, в глазах Кузьмы мелькнуло разочарование, и, похоже, он еле удержался, чтобы чего-то мне не сказать.
Я тщательно протер два плафона и вставил их в держатели на лампах. Подождав пару минут, чтобы они прогрелись, я немного прибавил длину фитиля – и яркий свет цивилизации осветил темное до этого помещение мастерской.
Потрясенные наблюдатели, открыв рот, смотрели на невиданное чудо. Затем они оба посмотрели на меня. И если в глазах Кузьмы было преклонение перед умом придумавшего такой светильник, то в глазах моего тиуна, похоже, мелькали одна за одной серебряные монеты, которые будет зарабатывать мануфактура.
– Вы еще не все поняли, – сказал я, – эти стекла, если сразу огня прибавить, будут трескаться, и вообще их уронить можно, разбить, так что если кто такую лампу купит, за стеклами к нам все время приходить будет.
Но деятельный ум Кузьмы уже решал следующую задачу:
– Сергий Аникитович, а почему под колпаком получается огонь ярче?
– Так ты, Кузьма, легко сам на этот вопрос ответишь: тяга-то под колпаком воздушная сильнее, и огонь жарче и ярче, а изменение нагрева – по-научному называется температура. Если она ниже – то холод, если выше – то тепло.
– Погодите, Сергий Аникитович, я сейчас слово это запишу. – И мой ювелир на стене, где у него уже был записан не один десяток слов, аккуратно, под мою диктовку, периодически глядя в алфавит, написанный там же, записал современными русскими буквами: «Температура».
Я уже с весны активно внедрял среди своих учеников новые слова. А лекари – те вообще писали только на современном русском языке. Решение было простым: если я хочу, чтобы моя школа была центром медицины современного мира, то про латынь надо забыть, да и с церковью проблем будет меньше, хотя она все равно будет сопротивляться любому нововведению. Но я в беседах с митрополитом налегал на то, что лекарям нужен свой язык, на котором они все будут учиться, а ежели кто из иностранцев когда-то будет учиться у нас – пусть также учит этот язык, чтобы понять, о чем ведет речь преподаватель.
Конечно, это значительно прибавило мне работы. Все-таки до переноса я много лет работал в узкой специальности и забыл массу терминов. И сейчас по вечерам, нарисовав очередную кость, начинал сочинять названия для очередных бороздок, щелей и отверстий.
Если бы не молчаливая поддержка царя, глыбой возвышающаяся за моей спиной, гореть мне уже, наверно, на костре. И хотя я всеми силами старался не раздражать церковь, она настолько своими нитями пронизывала всю жизнь общества, что все время возникали какие-нибудь коллизии.
Затушив обе лампы, продолжил осмотр бутылок и нашел что-то напоминающее бензин. Я капнул насколько капель на глиняную плошку и сверху положил немного ветоши. Затем чиркнул кресалом по кремню – и на плошке от попавших искр вспыхнул голубой, почти бесцветный огонек.
Кузьма восторженно завопил:
– Сергий Аникитович, так вот эта штука-то получше вашего керисина!
– Кузьма, горит-то она красивее, только очень быстро и взорваться может. А вот что нужно для нее сделать, я сейчас тебе нарисую.
И вскоре перед мастером в нескольких ракурсах была изображена зажигалка. Смысл ее мастеру был абсолютно понятен – непонятно было, из чего делать кремень и пружину для его подачи. На это я только мог сказать:
– Кузьма, у тебя почти двадцать человек в подмастерьях. Посади одного посмышленей, пусть берет все подряд и ищет, какой материал такую искру может дать. А пружинку что же – вытяни проволоку потоньше, скрути и закаливай. На первый раз не получится – на сто первый получится. Сам знаешь, терпение и труд все перетрут. А сам этим делом не занимайся, твое дело сейчас – трубы подзорные, и мой микроскоп давай заканчивай.
– Так, Сергий Аникитович, уже почти все сделано. Вот еще дня три – и труба подзорная для Иоанна Васильевича будет готова.
– Ну, тогда давай закрывай тут все, а мы с Ефимкой еще пойдем поговорим.
Усевшись в кабинете, я начал допрос тиуна:
– Ну, теперь давай рассказывай, как вы там живете, мне в этом году совсем недосуг к вам ездить.
– Так, Сергий Аникитович, вашими заботами у нас благодать. Таперича, как стрельцы стоят, тихо вокруг стало. Перед тем как им прийти, появлялись у нас разные лихие люди. А как развесили троих таких образин по березам, так никого не видно и не слышно. Вот только, Сергий Аникитович, опять все та же история начинается. Лето-то к концу идет. Наслышаны в округе про твои успехи, и на Юрьев день народу к тебе опять собирается прийти немерено.
– Ефимка, ты мне такие слова – «немерено», «много» – забудь, ты же главный человек там, должен знать, сколько человек перейти хочет, какие ремесла знают, куда посадишь на землю. Чтобы осенью, когда оброк будешь доставлять, все в цифрах подробно было мне записано.
Ефимка посмотрел на меня глазами загнанного оленя:
– Так это, боярин, я же ни счета и ни письма не разумею.
– Ефимка, а меня это не волнует нисколько – крутись, вертись, найди человека или сам выучись. Видел, как Кузьма слова на стенке пишет? А чтобы мне этой осенью весь расклад до единого человека был. Так чтобы я потом в поместном приказе на равных с дьяками разговаривал, и они мне своими бумажками в нос не тыкали. Все понял?
– Все, Сергей Аникитович, все. Да еще хотел сказать, когда купец-то Пузовиков за стеклом приезжал, так он, когда крустал увидел, горькими слезьми плакал, все переживал, что такой товар Иоанн Васильевич в казну забрал.
– Ну а Пузовиков-то все забрал, что обещал?
– Забрал, да еще говорил, что мало, все спрашивал, когда вторую печь ставить будем.
– Лужин, слушай, перестань дураком прикидываться, если мысли есть хорошие – говори, не бойся.
– Так вот, Сергий Аникитович, говорили мы тут с Дельторовым, надо нам дело-то шире ставить, подмастерья уже сами в мастера рвутся, рабочие руки есть. Мы так прикинули, что еще лет двадцать нам и леса на уголь не надо ни у кого покупать, пока свой есть. А что уж дальше будет, один Бог ведает.
– Вот видишь, Ефим, дело хорошее предлагаешь, а ни читать ты, ни считать не умеешь. Так что давай ищи себе помощника грамотного, и потом, когда все расходы посчитаете, мне отправьте. Если понравится, то можете и стройку начинать.
Утром я собирался уже уезжать в Кремль, когда ко мне подошел задумчивый Кузьма:
– Сергий Аникитович, вот со вчерашнего вечера, как ты это слово сказал – «температура», я думать начал, ведь каждый металл или другое что при разных температурах плавится или вот вода замерзает, когда холодно, а как бы это измерить, чтобы не на глаз получалось?
– Кузьма, мне сейчас недосуг с тобой эти дела обсуждать, не до этого мне. Ты вот сам попробуй подумать, как это можно сделать. А вечером я приеду – тогда и расскажешь, чего надумал, а потом уже решим, как и что, дело-то нужное для нас.
Когда приехал в Кремль, меня срочно вызвали к царю. Иоанн Васильевич нервничал, это было видно невооруженным глазом.
– Сергий Аникитович, митрополит Антоний занемог. Лежит в покоях своих и не встает второй день, я сам только что об этом узнал. Слушай, Щепотнев, ты свой язык на замке держишь – это хорошо, так вот я с Антонием часто ссорился, много он крови у меня попил, но не время сейчас митрополита менять. Так что езжай к нему и ежели можешь что-то сделать, то делай. А уж если встанет Антоний на ноги – сам знаешь, я в долгу не останусь, мое слово крепкое.
В ответ я только поклонился и, пообещав сделать все, что смогу, вышел из царских палат.
…У резиденции митрополита стояли монахи. Увидев меня, они без слов расступились и пропустили в двери.
Когда я вошел в темную палату, где лежал Антоний, там почти ничего не было видно. Я попросил сопровождающих зажечь свечи. На кровати полусидел митрополит. Его лицо и глаза были желтоватого цвета. А сам он казался осунувшимся и похудевшим.
«Гепатит?» – была первая мысль.
Я поклонился митрополиту, тот был в ясном сознании и также приветствовал меня.
– Вот уж не думал, что меня ты, греховодник, лечить будешь, – слабо улыбнулся он.
Усевшись рядом с больным, я неспешно начал расспрос, и, похоже, гепатитом здесь не пахло, зато при пальпации живота в проекции желчного пузыря было явное раздражение брюшины.
«Плохи дела, – думалось мне, – интоксикация, пожилой возраст, капельниц у меня нет, эфирный наркоз, все одно к одному, умрет на операционном столе, скорее всего».
Антоний проницательным взором как будто читал все сомнения, написанные у меня на лице:
– Давай рассказывай, Сергий, что ты у меня наглядел?
– Владыко, плохи дела у тебя. Есть под печенью желчный пузырь, так вот полон он камней, и один камень выход из пузыря закрыл, если этого пузыря не снять, то он лопнет – и вскоре умереть придется.
Митрополит пожевал пересохшими губами и произнес:
– Ну а ты, раб божий, что можешь предложить?
– Владыко, могу я предложить снять этот пузырь, только болезнь ослабила тебя, и от дурман-водки моей можешь ты не проснуться.
Антоний поднял глаза на окружающих:
– Все слышали, что Щепотнев говорил? Так вот думаю я, что лучше от дурман-водки не проснусь, а если Господь решит, что жить мне еще нужно, то жив буду. Давай, лекарь, делай свое дело.
Через три часа митрополит, уже раздетый, лежал, привязанный к операционному столу, у меня в больничке. Все подворье было заполнено монахами, которые молились и крестились за здравие Антония. А отец Варфоломей уже служил внеочередную службу в забитой до отказа домовой церкви.
Ну, вот пришел час первого настоящего испытания для меня и моих помощников. Сегодня их у меня было пять человек, стоявших в холщовых балахонах и масках. По моей команде один из них начал давать наркоз. Второй лекарь стоял рядом с подобием мешка Амбу, сделанного из тонких рыбьих шкур. Третий контролировал пульс и частоту дыхания, а четвертый и пятый ассистировали мне. Операционное поле было уже отграничено и обработано йодом.
Я мысленно перекрестился и начал разрез. Выдрессировал я своих помощников хорошо: не успел протянуть руку – как в ней уже был иглодержатель с иглой и ниткой. Быстро перевязав сосуды и просушив рану, я открыл брюшную полость и вручил расширители одному из ассистентов.
Дальше я все делал как на автомате – выделение пузырного протока, его перевязка, перевязка пузырной артерии, и только коротко прошипел сквозь зубы, когда мне дали в руку иглодержатель с шелком.
– Вашу мать, с кетгутом дай.
Затем осторожно выделил сам пузырь из серозной оболочки, выложил его на приготовленную плошку. Когда я начал гемостаз оставшейся полости, мне сообщили испуганным голосом:
– Сергий Аникитович, митрополит дышать перестает.
Я похолодел.
– Давайте быстро, как я учил, маску на лицо – и дышать!
Дрожащими руками мой ученик начал качать мешок.
– Какой пульс, – крикнул я.
– Пока один раз на счет «сто» один – «сто два».
Так, наркоз у нас прекращен, дыхание пока искусственное, я ушиваю операционную рану, оставляю стерильные холщовые тампоны – увы, резиновых дренажей пока нет.
А теперь дышать и дышать – увы, никаких стимуляторов дыхательной и сердечной деятельности у меня нет. Вдруг мне показалось, что впалая грудь митрополита слегка поднялась не во время сжатия мешка.
– Георгий, погоди, не качай!
И на наших глазах Антоний вздохнул сам, затем еще раз, я проверил пульс, который был, по моим прикидкам, уже шестьдесят в минуту.
Постепенно больной порозовел – видимо, артериальное давление немного поднялось. И, похоже, наркоз перешел уже в постнаркозный сон.
Я, в насквозь мокром халате, взял плошку с пузырем, разрезал пузырь скальпелем и вылил содержимое в баночку. Развернув его, я увидел большой пролежень во входе в пузырный проток. Да, еще немного – и перитонит старику был бы обеспечен. Мои же ученики с удивлением впервые в жизни смотрели на желчные камни.
Когда я вышел из операционной, на меня уставились колючие взгляды нескольких сановитых монахов.
– Пока все хорошо милостью божьей, – сказал я, – все, что нужно, сделал. Теперь надо только молиться Господу, чтобы даровал нашему митрополиту выздоровление.
Пришлось проявить настойчивость, поскольку митрополита не хотели оставлять у меня. Но с этим решилось очень просто – я сказал, что в таком случае за все последствия подобного действия будет отвечать тот, кто это решил, и все монахи сразу потупили свои взоры. Так что, оставив несколько человек для ухода и присмотра, все остальные разъехались по своим местам обетованным. Я же остался наблюдать за все еще спящим митрополитом. К сожалению, доверить кому-либо наблюдение я еще не мог. И мне предстояла бессонная ночь. Антоний долго не просыпался, но все же наконец открыл глаза и первым делом, болезненно скривясь, прошептал:
– Ну как все прошло?
– Владыко, все милостью божией пока хорошо, вот испейте воды прохладной. – И я поднес стакан с водой к губам митрополита, тот мелкими глотками выхлебал его и устало закрыл глаза.
Два монаха, сидящие рядом на скамье, бдительно следили за моими действиями. Мне же оставалось только сесть рядом с ними и присоединиться к их молитве. Антибиотиков у меня не было, ничего у меня не было, и мне, как и всем остальным, оставалось только уповать на небеса.
И они в этот раз не подвели.
На следующее утро Антоний чувствовал себя сносно, температуры не было, побаливал операционный шов, и было немного отделяемого на тампонах, а так все укладывалось в обычную картину послеоперационного больного.
Есть я ему сегодня не давал, разрешил только питье воды и немного нежирного бульона.
Пришлось практически весь день посвятить единственному больному. К вечеру его немного залихорадило, но после стакана отвара сухих стеблей малины он слегка пропотел, и температура нормализовалась. После успокаивающей микстуры митрополит заснул. На следующее утро он проснулся раньше меня и хотел встать для молитвы, – с большим трудом удалось его уговорить хотя бы сегодня делать это в кровати. Живот был спокойным, шов – сухим, я удалил все тампоны, отделяемого не было, и я постепенно стал успокаиваться. Сегодня Антония покормили жидкой кашкой, после чего он уже начал уделять внимание окружающей обстановке и потребовал показать ему, что за камни были у него в желчном пузыре.
Когда я протянул ему блюдце с камушками, он, как ребенок, начал их перебирать и разглядывать на свет.
– Сергий Аникитович, и как же такая напасть получается. Смотри, твердые какие, и не сломать.
– Владыко, такая болезнь у всякого может случиться. Камни могут ведь и в почках быть. А чаще всего они получаются по каким-то причинам, из-за еды или из-за питья, пузырь желчный воспаляется – и вначале появляется там крупинка мелкая, и постепенно на ней все больше твердого тела откладывается, и возникают камни такие. Вот когда ты, отец Антоний, к себе поедешь, я подробно распишу, какие травы пить и пищу какую вкушать.
Митрополит положил мне на колено свою исхудавшую руку.
– Погоди, Сергий, я хочу сказать тебе кое-что. Когда ты мне сказал про болезнь мою, я решил, что Господь такое испытание дает, и, вверяясь тебе, думал, что, если дела твои от дьявола, не жить мне вовсе. А сейчас я вижу ясно, как в день погожий, правду люди говорят: лежит на тебе божья благодать, недаром ты имя такое носишь. И значит, все, что ты делаешь, по воле Господа нашего, и где нам, смертным, с нею спорить. Посему не будет у меня к тебе претензий никаких больше. Вижу я, как после того, как ты царским лекарем стал, великий государь здоровьем лучше сделался, все об этом говорят. Но и врагов ты этим приобрел себе немало. Если я, бог даст, поправлюсь, приезжай ко мне, длинный разговор у нас с тобой будет. А сейчас я пока не могу ничего говорить, устал я. – И он взглядом показал на развесивших уши монахов.
За эти дни я не имел возможности даже посмотреть, что делается у Кузьмы. Когда же наконец нашел время и пришел в мастерские, он со смущенным видом достал с полки какую-то медную штукенцию и протянул мне. Только я хотел спросить, что же это такое, как понял, что это – зажигалка.
Да, эта зажигалка нисколько не напоминала моих изящных рисунков. Грубо спаянная емкость для бензина с торчавшим фитильком и приделанная к ней конструкция с большим колесиком с видневшимся под ним кусочком обточенного квадратом кремня.
Кузьма извиняющимся тоном сказал:
– Сергий Аникитович, все перепробовали, парень аж руки о кресало стер, ничто, кроме кремня, не искрит. Вот и сделал я кремень поменьше.
Он ловко крутанул большим пальцем колесо, и из-под него брызнула целая куча искр, и фитиль загорелся синеватым пламенем.
– Не знаю, – продолжил он извиняющимся голосом, – нужна ли будет кому такая забава. Ведь ежели куда ехать, надо и бутылку с вашим бензином везти.
– Ну и совсем необязательно, – возразил я, – вон у тебя емкость какая большая, быстрее кремень сотрется, чем бензин кончится. И смотри, ты в дождь попробуй в поле костер разжечь – трут сухой где найдешь? А такой зажигалкой запросто. Так что давай сделайте дюжину, я для начала подарю несколько, а там посмотрим, будут брать – будем и делать. Вот только нужно кое-что доработать, чтобы огонь ветром не задувало, да и крышка нужна к ней, я тебе ее сейчас нарисую.
– Погоди, Сергий Аникитович, – остановил меня Кузьма, – вот посмотри, – и он достал с полки микроскоп, который пылился там уже почти все лето. – Сделал я наконец все. Теперь принимай работу.
Я смотрел на бронзовый микроскоп и даже не знал, что сказать. Быстро схватив предметное стеклышко из коробки, где они лежали уже пару месяцев, я капнул на него воды и положил на столик над конденсором, повернул зеркальце, чтобы оно направляло солнечный свет на препарат, и приник к окуляру, движение винтом – и вскоре увидел мелькание простейших в толще водной глади.
Да, это был уже микроскоп.
Кузьма с пониманием следил за моими движениями.
– Ежели бы ты, Сергий Аникитович, знал, сколько я с этими линзами мучился. Они же крохотные совсем должны быть. Их в руках не удержать. Хорошо, что можно самому теперь через стекла смотреть. И спиртовки теперь у меня разные имеются. Но все равно на десяток испорченных линз только одна хорошая получается, а то и меньше. Пока придумал, как их в окулярах закреплять, тоже много поломал… Но теперь я уже больше знаю, и если второй микроскоп делать, то быстрее получится. И стекло сейчас у Дельторова лучше стало. Он ведь мне совсем по-другому теперь его варит.
Итак, что я имею? А имею я мастера, который сам еще не знает себе цены. Зато некоторые личности цену ему прекрасно понимают. Придется, пожалуй, и его отправлять в Заречье, под охрану стрельцов. А то в один прекрасный день пойдет он на торг или еще куда – и исчезнет.
– Кузьма, а из подмастерьев есть ли, кто науку эту постигает?
– Да есть парочка, интересно им все это дело.
– Тогда слушай внимательно. С сего дня все мастерские передаешь на Матвея. А ты с подмастерьями занимаешься только линзами. Сам учись и их учи. Ты начал грамоту изучать – вот пусть и они с тобой вместе и грамоту, и цифирь учат. Что не будешь в начальниках, не переживай, жалованье вдвойне тебе с этого дня пойдет. Твое дело теперь измысливать, как лучше подзорные трубы делать и микроскопы. Только придется тебе теперь с подворья если куда идти, то без охраны ни шагу, Кошкарова я предупрежу.
Парень жалобно посмотрел на меня:
– Сергий Аникитович, такое дело у меня, тут в посаде девица на примете есть. Так как же быть, мне туда тоже с охраной ходить?
– А кто она, твоя девица?
– Да дочка же наставника моего, из-за чего и уйти мне тогда пришлось. Отец-то все ее метил повыше пристроить.
– Так что же молчал, дурья голова? Давно бы сказал, уже бы высватали тебе девицу! Так что не горюй, завтра сватов зашлем и посмотрим, смогут ли нашим сватам от ворот поворот дать.
Оставив обнадеженного Кузьму, я вернулся к митрополиту. Тот, лежа в кровати, уже активно руководил толпой монахов, собравшихся вокруг него.
Увидев меня, он решительно сказал:
– Все, Щепотнев, сейчас за мной возок прибудет, и поеду я к себе. Дел у меня много, недосуг в кровати вылеживать. А ты – когда там говорил надо швы снимать, через десять дней? Вот через седмицу и приезжай, есть нам о чем поговорить. От меня передай благодарность великую Иоанну Васильевичу, что тебя прислал, а когда его увижу, самолично поблагодарю.
Когда Антония под руки выводили и укладывали в возок, вокруг собрались все присутствующие, а за воротами волновалось людское море. Уже вся Москва знала, что митрополит болен был смертельно и что царский лекарь болезнь от него отвел.
Антоний благословил всех – и возок выехал в открытые ворота, где по мере его проезда все ожидающие падали на колени и крестились.
Когда я, провожая возок, ненароком вышел за ворота, стоявшие там, увидев меня, вновь попадали на колени. Не зная, как реагировать на такое, я быстро смылся к себе на подворье.
Да уж, вылечил я митрополита на свою голову. И до этого меня уже чуть не вся Москва знала, а теперь и подавно, хоть на улицу не выходи.
Дав распоряжение конюху приготовить для меня коня, я пошел собираться для поездки в Кремль. И все равно, когда с охраной выехал на рысях из ворот, почти до самого Кремля нас сопровождал гул голосов.
Меня безошибочно узнавали, многие кричали:
– Благослови тебя Господь, боярин.
В приказе я переоделся и прошел к царю.
Иоанн Васильевич по-прежнему, как и три дня назад, имел озабоченный вид.
Было видно, что вопросы о здоровье митрополита он задает без особого интереса. Волновало его что-то другое.
Махнув рукой страже, чтобы все вышли, он посмотрел на меня и сказал:
– Весть сегодня мне гонец доставил: вот уж несколько дней как Стефан Баторий погиб.
Я сделал слегка удивленное лицо:
– Великий государь, хоть и ужасное событие произошло, но для царства твоего одним врагом меньше стало. Можно ли мне полюбопытствовать, что же с королем Польским и великим князем Литовским приключилось?
– Как донесли мне, – сказал государь, – пошел Баторий на Гданьск. Вот во время штурма крепости Вислоустье ранен был король стрелой травленой – и помер через сутки. Войска от Гданьска после его смерти в беспорядке отошли. И вроде бы великая замятня сейчас у ляхов. Начались споры, кто королем будет. А у литвинов сейчас вновь споры идут – не всем им Люблинская уния по нутру. Так что жду я, Сергий, послов литовских со дня на день. Приказ Посольский в этом деле много лет, все, что они скажут, я наперед знаю. А ты сейчас один, кого я могу спросить, зная, что нет у тебя предпочтения ни к кому. Как мне поступить?
– Великий государь. Я не очень хорошо знаю, что происходило в царстве твоем в прежние годы. Сам знаешь, где я был в это время. Но кажется мне, что литвинов мы сами к схизматикам толкнули. Может, надо было осторожней действовать, и уния была бы не с поляками, а с нами, а великим князем Литовским мог Иоанн Иоаннович быть. И сейчас легче бы со шведами все решалось.
Мы проговорили еще немного, и царь меня отпустил. Выглядел он устало – видимо, со смертью Батория мог начаться переломный момент во всей затянувшейся Ливонской войне, и Иоанн Васильевич решал, что ему необходимо предпринять в данное время.
Меня он, наверно, выслушал в последнюю очередь, и единственным, почему он интересовался моим мнением, было то, что я – один из немногих, кто абсолютно заинтересован в укреплении его власти.
Я ушел к себе, где меня среди прочих уже ожидал глава Пушечного приказа князь Семен Каркодинов. Пришлось вновь отложить дела и принять знатного гостя.
Вкус князя был известен, и вскоре подьячий наливал ему граненый стаканчик анисовой, я тоже взял стаканчик, но значительно меньшего размера.
– Сергий Аникитович, что же ты мне ничего не говоришь? Оказывается, ты еще и руды успел найти медные! Помощь тебе приказано оказать. Сам-то чего не подошел? Все же знакомство уже год водим.
– Семен Данилович, прости Христа ради, видишь сам, совсем замотался. Хотел еще третьего дня зайти, сразу после разговора с государем. Так сам знаешь, что случилось.
Князь понятливо мотнул головой, перекрестился и осушил стаканчик.
– Дай Бог здоровья митрополиту, чтобы возносил молитвы Господу за нас, грешных.
И мы вновь дружно осенили себя крестным знамением.
– Так вот, Семен Данилович, доподлинно знаю я рудные места в Кореле. Даже на карте начерчу, где ямы надо копать для проб. Слыхал я, что есть у тебя два немца, что кроме литейного дела еще и плавкой руды занимались. Надобно их будет к этому делу привлечь, пусть составляют список всего, что нужно для начала работ. Ныне осень уже наступает. Так вот надо, чтобы до зимы и льда все было отправлено водой в те места. Летом где мы работников возьмем? А зимой в самый раз, местные карелы все равно в отхожий промысел какой ходят, так будут при заводе.
Когда говорил эти слова, я вспоминал свое детство в прошлой жизни, когда, бродя с удочкой по берегу Кончезера, поднимал странно тяжелые необычные камни, обточенные прибоем, или вместе с друзьями пытался пролезть в полузаваленные шурфы, откуда когда-то вывозились тонны медной руды, и лазил в развалинах Кончезерского медеплавильного завода.
Не знаю, будет ли в этой истории Петр Первый, но меди из этих месторождений ему уже не видать.
– Так что готовься, князь, если дело пойдет, летом следующего года на Пушечный двор первую медь из Корелы закупать.
Мы обговорили еще кое-какие подробности, и Каркодинов стал прощаться, намекнув, что неплохо начало этого дела отметить пирком на моей территории. Ну что же делать, все равно надо обзаводиться друзьями-приятелями, не все же с одним Хворостининым общаться, тем более что он не особо частый гость у меня.
Я надеялся, что этим визитом тяжелый длинный день закончится, но ошибся. Ко мне на прием заявился Джером Горсей.
Сегодня при его появлении по комнате не распространился, как в прошлый раз, запах немытого тела, смешанный с какими-то благовониями. И вообще англичанин выглядел посвежевшим.
«Неужели в баню сходил?» – подумал я.
И точно, после приветствия, когда мой гость уселся на стул, начались рассказы о банных ужасах.
Горсей, как наблюдательный и умный человек, рассказывал о посещении бани с долей юмора. Сходил он в баню к одному из работающих на компанию москвичей. Баня, конечно, топилась по-черному, и хотя ее тщательно вымыли после топки, все равно запах дыма оставался. Когда же хозяин предложил попарить гостя березовым веником и для примера подкинул парку и прошелся по себе, гость, бросившись на пол, ползком выбрался в предбанник.
– Хотя знаете, сэр, – заметил он с глубокомысленным видом. – Наверно, что-то в этом есть. Дело в том, что после пребывания в бане мое самочувствие заметно улучшилось.
После этого небольшого рассказа, явно рассчитанного на меня, Горсей приступил к деловой части разговора:
– Сергий Аникитович, мы в компании обсудили нашу последнюю беседу с вами – и вот я снова здесь, чтобы постараться обсудить наше взаимовыгодное сотрудничество. Мы все остались при мнении, что вы получили образование в Европе, но умело скрываете это. Зачем вам это нужно, мы можем только догадываться. В настоящее же время нас больше интересуют вопросы торговли. В частности, нас интересует ваш крустал. Такого стекла пока никто не может предложить, и какое-то время у вас практически не будет конкурентов, ну и у нашей компании, если вы сможете повлиять на Иоанна Васильевича, чтобы он дал право на монопольную скупку этого стекла из казны. Потом, мы знаем, что вы в настоящее время озабочены открытием в Москве лекарской школы. Я теперь уже уверен, что вы опытный врач, знающий много того, что пока неизвестно медицинской науке. Но даже вы в одиночку не сможете поднять такого замысла. Поэтому мы предлагаем вам помощь в найме в Англии нескольких преподавателей для вашей школы, которые будут преподавать ученикам свои дисциплины, а вы в свою очередь поделитесь с ними своими знаниями и опытом. Хотя откуда он у вас взялся, извините, никак не пойму. – Эти слова с досадой слетели с языка Герсея.
– Джером, – осторожно произнес я. – Мне понятны все ваши сомнения. Что я хочу сказать. Да, я благородный человек по рождению и занимаю сейчас при дворе немалое место, но в то же время я человек дела и поэтому сразу вам скажу: я не стану уговаривать царя на монополию для вас на крустал. Уже решено, что он будет продаваться партиями на аукционах, на которые могут прийти все иностранные купцы, имеющие разрешение на торговлю в Русском царстве, и тот, кто даст большую цену, купит такую партию, притом за серебро. Другое дело, что партии будут достаточно большими и не каждый купец-негоциант сможет осилить такую покупку. Что же касается вашего предложения по найму ваших преподавателей, я обдумаю это предложение, и возможно, что оно будет принято. Кстати, хотя я напрямую этим не занимаюсь, спрошу. Вы уже знаете, что Думой решено и утверждено государем строительство нового порта в Михайло-Архангельском? Порт, складские помещения потребуют достаточных денежных вложений, но в результате значительно возрастут объемы товаров, привозимых в этот порт за короткое время навигации. Кроме того, принято решение о создании торгового и военного флотов. Мне кажется, что здесь мы могли бы найти немало точек соприкосновения. Вы сами понимаете, что у вас здесь есть конкуренты, которые не спят и также ищут возможности заработать.
Горсей озадаченно смотрел на меня.
– Сэр, я точно уверен, что вы воспитывались не в лесу, как рассказывают наши люди. Для того чтобы так говорить, надо иметь хорошее образование. Хотя где вы его получили, загадка не меньшая, чем все остальные, связанные с вами.
Возвращался я домой уставшим до смерти. У меня даже не было сил порадоваться за Кузьму, который был весь при счастье. Наших сватов, которых возглавил Кошкаров, встретили как родных.
– Мелкой дрожью хозяин трясся, – на ухо мне сказал Борис. – Язык аж к заднице прилип. А я-то что, всего и сказал: такому жениху, за которого боярин Щепотнев хлопочет, не отказывают.
Следующим днем, когда я ехал по Москве, весь город кипел. Прошел слух, что прибыли неожиданно послы литовские. И государь готовится принять их с пышностью невиданной. Пока добрались до Кремля, предполагаемый состав посольства менялся несколько раз, но суть приезда оставалась прежней, народ в толпе толковал:
– Приехали Иоанна Иоанновича великим князем звать.
Когда я пришел в Думу, там стоял шум и гам, все бояре что-то орали друг другу, доказывали и чуть не таскали собеседников за бороды. Пожалуй, народ на улицах был прав: действительно прибыло литовское посольство. Возглавлял посольство Ян Геронимович Ходкевич, который, по слухам, после смерти Батория сам занемог, – он все пытался отговорить Батория от стояния под Гданьском из-за опасности со стороны Москвы. Второй посол, Остафий Волович, насколько я слышал от бояр, был противником Люблинской унии, и его присутствие обнадеживало. Я судорожно пытался вспомнить свои школьные познания по истории и, к своему стыду, убедился, что ни черта не помню, но единственное, что я точно знал, – надо любыми путями отрывать Литву от Польши, и тогда можно будет разговаривать с Европой совсем по-другому.
Но вот как это сделать – сейчас ведь вновь бояре будут наезжать на литвин, выдавливая из них всевозможные уступки. Но если действительно посольство явилось просить старшего сына Иоанна Васильевича быть великим князем Литовским, то наверняка можно будет вполне договориться и закончить эту длинную войну, в которой Москве, а это я все-таки помнил, удачи не будет.
Самого царя в Думе не было, тут ко мне подошел его стольник и предложил пройти в царские покои.
Когда я вошел, Иоанн Васильевич был не один, вокруг него стоял чуть ли не весь Посольский приказ в полном сборе во главе со Щелкаловым.
Царь выглядел утомленным, под глазами были темные тени. Видимо, беседа длилась уже с раннего утра и совещавшиеся не могли прийти к определенным выводам.
– Ну а что думает боярин Щепотнев? – как бы ни к кому не обращаясь, спросил он.
– О чем, государь? – в ответ переспросил я.
– Так все о том же – как с посольством разговор вести?
– Думаю я, государь, что послы люди значительные, так что уважительно разговор вести. И сейчас возможность появилась унию польско-литовскую развалить. Так неужели нам такой божьей милостью воспользоваться грех? Ежели они Иоанна Иоанновича великим князем назовут, унии точно не быть. И по Ливонии договориться так, чтобы шляхта литовская себя ущемленной не чувствовала. Неужели пара городков, которую они могут потребовать, стоит мира? А если там твой сын князем будет, так это все равно что наши города будут. Так что я думаю, требования выставлять умеренные, чтобы послам не обидно было, а станет Иоанн Иоаннович великим князем – вот тогда и можно попробовать уже свою унию заключить. И решать, как дальше быть со шведами и поляками.
Иоанн Васильевич слушал меня с тем же непроницаемым видом. А на лице главы Посольского приказа, как всегда при моих словах, появлялась скептическая усмешка.
– Ну хватит на сегодня, и так все утро одно и то же говорим, уже обедня скоро, – заявил государь.
Его слова прозвучали приказом, и все, низко кланяясь, поспешили выйти.
– Сергей Аникитович, подожди, – обратился государь ко мне.
Когда все вышли, он все с тем же озабоченным видом сказал:
– Щепотнев, приставы сопровождающие говорят, плох один из послов – Ян Ходкевич. Сейчас посольство в доме его дальнего родственника обитает. Ну воевода смоленский! Ежели Ходкевич богу душу отдаст, сядешь ты у меня на кол за то, что три дня посольство с места двинуться не могло… А ты, Сергий Аникитович, поезжай к посольству вместе с дьяком приказным – и пусть он сообщит, что честь великую государь оказал, своего лекаря к страждущему отправил. Посмотри, может, сможешь что сделать. Нехорошо будет, если умрет литовский посол в Москве.
– Иоанн Васильевич, все сделаю, что в силах моих, – заверил я государя и с поклоном оставил его.
Когда вышел во двор, там меня уже ожидала когорта сопровождающих. Я уселся в роскошную царскую карету, в которой не то что не сидел, а даже и не знал, что такая существует, и процессия медленно двинулась к выезду из Кремля.
Вскоре мы подъехали к богатому дому, стоявшему за высоким забором, нас встречали стрельцы, бывшие в карауле. Выскочивший из рядов моих сопровождающих посольский дьяк быстро переговорил с начальником караула, и карета медленно въехала во двор.
В середине двора стояла бочка с черпаком, рядом с которой лежали и сидели несколько человек. На мой вопросительный взгляд сопровождающий услужливо пояснил:
– Припасы для посольства от великого государя были недавно привезены. А это бочка водки для людишек из сопровождения посольского.
Когда я вышел из кареты, нас с тревожным выражением на лице уже встречал хозяин дома. Но когда он увидел меня, лицо его прояснилось:
– Милость государь моему дому оказал, лекаря своего прислал, – пояснил он стоявшим рядом нескольким бритым, богато одетым мужчинам.
Тут и посольский дьяк подтвердил милость государя, приславшего своего лекаря к послу.
Насколько я понял из неподдельного удивления окружающих, такое происходило не часто.
Меня пригласили в дом. Пройдя по темному коридору, мы вошли в небольшую комнату, где было посветлей, там на кровати лежал тяжело дышащий пожилой мужчина. Он не спал, его внимательные глаза быстро оглядели меня с ног до головы.
После этого он заговорил с хозяином. К моему удивлению, говорили они на русском языке, и я вполне все понимал.
«Интересно, а кто же тогда говорит на литовском?» – подумал я.
– Какой ты, лекарь, молодой?! – вопросительно, уже обращаясь ко мне, сказал больной. – Слыхал я, что есть у царя лекарь знающий, но думалось, что постарше будешь.
– Дело не в молодости, Ян Геронимович, а в знаниях и руках, – если это есть, можно и царским лекарем стать.
– Так-то оно так, но опыт еще надо иметь большой. Вон поставь моего племянника, – кивнул он на богато разодетого парня моих лет, стоявшего со всеми, – полком командовать, так ведь сразу не получится ничего, а повоюет лет десять – и справится.
– Ян Геронимович, прислал меня государь, чтобы я вас посмотрел и, если нужно, лечение назначил.
На лице старого воина появилась усмешка:
– Конечно, если я здесь окочурюсь, много слухов разных пойдет. Понимаю я беспокойство государя твоего. Ладно, смотри, спрашивай, от меня не убудет, может, действительно чем поможешь. Хотя меня уже три врача смотрели, только руками разводят. Видно, пришла пора помирать.
Я начал расспрашивать больного, и вскоре причина его плохого состояния была для меня ясна: из-за сильного сужения в двенадцатиперстной кишке у него практически не проходила пища, а вот что было причиной сужения – совершенно неизвестно. Конечно, скорее всего, это была застарелая язва, но не исключался и вариант рака желудка. И тут я без рентгена и фиброгастроскопии мог только гадать на кофейной гуще.
Я закончил осмотр и сидел, задумавшись, что говорить больному. Но тот сам прервал мои мысли:
– Сергий Аникитович, вижу я, понял ты болезнь мою, давай не томи душу, говори.
– Ян Геронимович, болезнь твоя мне известна. Кишка, что от желудка отходит, заросла, и через нее пища плохо идет. Вижу я, что худеть ты начал, рвоты каждый день. Так что никаким лекарством здесь не обойтись. Умрешь ты вскоре от голода из-за этого. Единственное, что могу сказать, – надо эту кишку, что сильно заросла, вырезать, а желудок с хорошей кишкой снова сшить. Только дело это тоже очень опасное – половина на половину, что умрешь, не могу я тебе обещать, что жив останешься.
Присутствующие в комнате загомонили, но взмахом руки Ходкевич заставил их замолчать.
– Лекарь, так когда мне умирать? Еще месяц проживу?
– Месяц проживешь, конечно, но слабость будет усиливаться, и худеть будешь. И с каждым днем надежда, что вырезать кишку удастся, будет меньше.
– Тогда слушайте меня все, – сказал больной, – выполню я вначале волю Рады нашей и посольство доведу до конца, а потом вверяюсь я твоим рукам, лекарь, надеюсь, Господь не оставит меня.
После этого я расписал больному диету, как и сколько раз должен он принимать пишу и в каком виде. О сроках операции мы не говорили, потому что было неизвестно, когда Иоанн Васильевич соблаговолит принять послов, хотя по сегодняшнему утру можно было понять, что эта аудиенция не задержится.
Затем я торжественно отбыл в Кремль, по-прежнему в царской карете. Я трясся на ухабах, сидя на жестком сиденье, и думал: «Ох и высоко ты взлетел, Щепотнев, в точности как бабка Марфа обещала, – гляди в оба, как бы падать больно не пришлось».
Когда прибыл в Кремль, меня уже ожидал тревожно переминающийся молодой стольник.
– Сергий Аникитович, Иоанн Васильевич требует немедленно, как приедешь, к нему подняться.
Когда я вошел в царские палаты, там уже сидело несколько воевод, с которыми Иоанн Васильевич, по-видимому, обсуждал будущие переговоры. Среди воевод был и Хворостинин, который приветливо кивнул мне.
По приказу царя все вышли, и мне пришлось рассказать о своем посещении послов.
Когда царь узнал, что болезнь Ходкевича неизлечима, он заметно помрачнел.
Видимо, я не все знал, и на этого шляхтича у царя были особые планы, а не только посольские дела.
Я сообщил, что могу попробовать вылечить больного, но за результат ручаться не могу – очень большая вероятность, что Ходкевич умрет во время операции.
– А сам-то он что думает? – спросил меня государь.
– Решил он лечиться у меня после аудиенции царской и положился на волю Господа нашего.
И мы с Иоанном Васильевичем, поглядев друг на друга, одновременно перекрестились.
Выйдя от царя, я направился в свой приказ – мне необходимо было узнать, как идут дела у моего аптекаря. Уже второй месяц он по моему заданию работал с каучуком, который собирали у меня в вотчине. К моему удивлению, сухого каучука получилось несколько килограммов. Хотя за сбор корней одуванчика дети получали ничтожные деньги, в целом пришлось потратить на этот небольшой тючок приличные средства. Я передал Аренту каучук, но не говорил, каким образом получена эта субстанция. Затем коротко объяснил, что эта упругая желтоватая масса называется «каучук», растворяется она в бензине, с которым аптекарь уже был знаком. Потом я рассказал, что при повышении температуры каучук становится мягким и липким, а при морозе твердым. Я, конечно, знал, что резина получается путем вулканизации каучука с серой, но не помнил ни соотношений, ни степени нагрева, поэтому, рассказав об этом Аренту, потребовал от него провести необходимые исследования и выяснить, при каких условиях возможно получить необходимые мне образцы.
Арент быстро сообразил, что мне нужно, и с энтузиазмом принялся за эти исследования.
Сейчас я сидел перед столом, уставленным аптечным оборудованием, и, держа в руках лабораторный журнал, разглядывал маленькие образцы получившейся резины – результаты месячной работы аптекаря. Все было у него сделано согласно правилам искусства.
Образцы пронумерованы, стояли даты их обработки. В лабораторном журнале на латыни каллиграфическим почерком были записаны условия проведения опытов. Я, просмотрев образцы, выбрал самые удачные с моей точки зрения, затем начал объяснять Аренту, что нужно сделать из оставшегося материала. По мере моих объяснений глаза аптекаря загорались фанатичным блеском, которым уже горели глаза моего «Кулибина» – Кузьмы.
– Сергий Аникитович, я теперь понимаю, почему вы не сказали, откуда взяли такой материал, – это уже не серебро, за такие вещи золотом будут платить.
Я вышел в свой кабинет и принес ему уже давно лежащие у меня в кабинете рисунки катетеров в их реальную величину, трубок для фонендоскопа и капельниц и два бронзовых слепка моих ладоней, почти год ожидавших своего назначения. А когда ему был показан эскиз резиновой клизмы, у голландца перехватило дыхание: наверняка в мыслях он уже продавал эти клизмы врачам-иностранцам по занебесным ценам.
Немало времени у нас ушло на то, чтобы согласовать, по каким образцам резины делать то или иное изделие, после этого я сделал своему подчиненному следующее предупреждение:
– Классен, вы ведь понимаете, что все, что вы делаете, – большая тайна. Вы пока не знаете, где и как добывается этот каучук. Но нет ничего тайного под Луной, рано или поздно все секреты открываются. Но для вашего здоровья будет лучше, если этот секрет будет не разгадан как можно дольше. А я пока получу все возможные преференции от этого открытия, ну вы тоже не будете забыты. Тем более что я не претендую на лавры первооткрывателя, и они достанутся вам, пусть и не сразу.
После этого я еще заказал ему сделать несколько литров физиологического раствора из бидистиллированной воды. В моей памяти еще оставались больные в сельской больнице, которых трясло на внутривенное введение физиологического раствора, сделанного в местной аптеке. Мне не хотелось, чтобы моих больных так же трясло от внутривенных вливаний. Это задание тоже очень заинтересовало Арента, притом больше его беспокоило, зачем нужны предосторожности, с какими он должен был стерилизовать этот раствор. Я это легко объяснил ему, напомнив, что он видел в воде, когда глядел в микроскоп. Как приготовить поваренную соль для раствора и нужную ее концентрацию, ему также было объяснено. Увы, к сожалению, растворы Рингера и глюкозы мне пока были недоступны.
Я ехал на коне домой в сопровождении охраны и размышлял, получится ли у Арента сделать все, что нужно, до того как у меня на операционном столе будет лежать Ян Ходкевич. Каучука было катастрофически мало, я был уверен, что шустрые крестьянские детки вычистили все поля в вотчине от одуванчиков и на следующий год собирать уже почти нечего. Так что пока больше взять его негде, надо будет все то, что получится сделать, беречь как зеницу ока. Я уже давно заказал, чтобы мне привезли семена одуванчиков, растущих в окрестностях Астрахани, но кто поручится, что это семена именно тех одуванчиков, с повышенным содержанием латекса, а не взятые прямо у дороги перед Москвой?
Скорее всего, придется в аптекарском огороде посадить человека, чтобы занялся выведением именно таких одуванчиков. Да только сколько времени это займет? Наверно, как раз чтобы в Бразилии начали добычу каучука из гевеи. Ну и ладно, зато к этому времени у нас уже будет отработанная схема получения этого продукта, и, может быть, изделия из него займут достойную нишу в торговле. Как правильно сказал сегодня Арент, «за золото будем продавать».
Когда я приехал домой, меня уже, как обычно, ждали мои ученики. Все они были под впечатлением недавней операции, проведенной митрополиту, и смотрели после нее на меня почти так же, как на иконы в красном углу.
Я занимался с ними уже больше года, и они хоть общались со мной и достаточно почтительно, но уже не падали каждый раз на колени, когда обращались ко мне. Сейчас было у меня одиннадцать человек монахов, которые приходили ко мне для изучения трав, я воспринимал их как дополнительную нагрузку.
Из этих одиннадцати человек мне удалось создать неплохую учебную группу, и парни с прилежанием овладевали знаниями, тем более что работали они в нашей небольшой больничке с весны самостоятельно и оставляли для меня только тех больных, с которыми не могли разобраться сами. Конечно, собственно больных было маловато – та молодежь, которой посчастливилось остаться в живых в первые годы жизни, была практически здорова. Стариков было немного, и они считали лишним ходить по лекарям, так что в основном лечились мелкие и средней тяжести травмы, переломы, раны. И с каждым днем мои ученики становились все более уверенными в себе.
Я мысленно уже распределил их в качестве будущих преподавателей. Кто за какие дисциплины будет отвечать, мне уже было ясно. Конечно, как совершенно правильно заметил Горсей, в одиночку очень тяжело поднимать такое дело, особенно первый год, но брать к себе и переучивать уже сложившихся европейских врачей мне совершенно не хотелось.
Вот и сегодня мои лекари, оказывается, уже знали, что я осматривал одного из послов, и завалили меня вопросами по больному.
Я воспользовался этим случаем, и мы обсудили проблемы стеноза привратника и язвенной болезни луковицы двенадцатиперстной кишки, их симптомы и лечение. К сожалению, об ингибиторах протонного насоса я мог только мечтать и рассказал своим слушателям, какую диету следует назначать, в какое время года следует ждать обострения болезни. А вот трав для лечения у меня было сколько угодно, и два часа я говорил внимательным слушателям о фитотерапии язвенной болезни.
Уже под вечер я по дороге домой не мог не зайти к своему главному оптику.
Кузьма сидел в одиночестве и, надвинув на глаза увеличительные стекла, наносил риски на очередной металлический метр.
Еще в самом начале работы с моими мастерами возник этот вопрос единообразия и стандартизации размеров, и я решил, что в своем хозяйстве буду пользоваться своими мерками и только в десятичной системе. Был сделан металлический метр и килограммовая гиря, которую я привязал к кубическому дециметру веса воды, – наверняка они прилично отличались от настоящих, из моей прошлой жизни, по размеру и весу, но меня это особо не волновало. Эти образцы – метр и гиря – сейчас хранились у меня в Аптекарском приказе, потому что я хотел распространить эти меры на лекарства, которые делаются в аптеках.
Конечно, в Заречье тоже пользовались только такими мерами, поэтому стеклодувам стало гораздо проще с выполнением заказов. Теперь мы все отлично понимали друг друга, когда начинали говорить о размерах чего-либо.
Увидев меня, Кузьма оторвался от своего дела и неожиданно встал на колени.
– Сергий Аникитович, отец родной, благослови тебя Господь за все, что для меня и Аннушки сделал, не гневайся, приглашаю я тебя на свадьбу мою.
И он уткнулся лбом в пол.
Как меня раздражал этот обычай, не могу даже сказать, хотя в какой-то мере уже свыкся с этим: сам первые годы жизни в этом мире только этим и занимался. Это сейчас даже царю я отвешиваю глубокий поясной поклон, а на колени встаю только перед митрополитом.
– Кузьма, я не гневаюсь, встань с колен. Где свадьбу играть будешь, у тебя даже дома-то нет.
– Так мы вроде уже с ключником все обговорили, горенку нам он выделит над клетью с припасами.
– Ты что, Кузьма, смеешься, что ли, я своему лучшему мастеру горенку дам?! Где Федька? Зови его сюда быстро!
Через несколько минут запыхавшийся Федька стоял передо мной.
– Федор, завтра чтобы тут артель плотников была и дом отдельный для Кузьмы до свадьбы уже стоял. Все понятно?
– Дык так-то оно так, я, Сергий Аникитович, все хотел сам такое дело предложить, да побаивался маленько, есть у меня на примете артель ладная, завтра на Москву-реку пойду, может, к вечеру лес завезем, а дом чего рубить – три дня, и готово.
Пока мы говорили, Кузьма, стоявший рядом, переводил глаза с меня на Федьку, было видно, что он совсем ошалел от такой неожиданности.
Когда мы закончили разговор, он вновь хотел пасть на колени, но я его удержал и сказал:
– Это тебе мой подарок на свадьбу, за твою работу и усердие.
У меня сегодня был еще один подарок, который сейчас сидел в караульной будке у ворот и развлекал моих боевых холопов. Куча здоровых парней сидела и смотрела, как один из них привязал щепку к веревке и таскает ее перед маленьким котенком, который с задорным видом набрасывается на нее. Периодически вся компания громко ржала при особенно уморительном его прыжке.
– Это вы так службу несете? – спросил я вскакивающих воинов.
Те стояли со смущенным видом, не зная что сказать.
– Так мы это, просто не видели зверюшки такой, вот и интересно. На всей улице ни у кого такой нет, – наконец пробормотал старший.
– Ну смотрите мне, – пробурчал я в ответ и, взяв котенка в руки, пошел домой.
Сегодня я воспользовался своим положением царского лекаря и экспроприировал одного котенка во дворце. Скорее всего, он был потомок любимого кота Иоанна Васильевича. А кухонная кошка в этом году уже третий раз приносила котят, вот мне и повезло с такой редкостью.
Когда я вошел в дом, Ира уже встречала меня, – увидев котенка, она вначале испугалась, потом с восторженным визгом схватила его в руки и стала разглядывать. Я смотрел на свою располневшую во время беременности жену и думал: «Господи, какая же ты еще, в сущности, девчонка».
Но Ира быстро вспомнила о своих обязанностях и, сунув котенка в руки опешившей служанке, пошла помогать мне раздеваться.
Раздевался я долго, пока жена, убирая с груди задранные туда платья, не взмолилась:
– Ну, Сережа, хватит уже, еще ведь ночь впереди.
После этого я все-таки переоделся, и мы пошли ужинать.
Прошло два дня. Сегодня вся Москва стояла на ушах. С утра весь народ ринулся поближе к Кремлю разглядывать посольский поезд и сопровождающих. Даже на крышах домов устроились сотни наблюдающих. Казалось, что сюда сбежались почти все москвичи и остальной город стоит безлюдный. Дико завыла музыка, когда по дороге, вдоль которой стояли сотни стрельцов, поехали кареты посольства, направляясь к Спасским воротам Кремля. Там уже стояли разряженные бояре, ожидающие послов. За ними также толпилась огромная масса людей.
У крыльца карета остановилась, обоим послам помогли выйти из кареты и повели к левой из трех лестниц. Увидев это, они многозначительно переглянулись. Ходкевич шел с трудом, его слегка покачивало, но старый воин держался. Как обычно, при таких приемах в палатах сидело множество пожилых старцев в шапках высотой в метр, с тщательно расчесанными бородами, с каменным выражением на лице смотревших на проходящих мимо них послов.
Те наконец вошли в палату, где на престоле сидел царь, в руках у него был золотой посох с навершием в виде креста. По правую сторону от него висел образ Спасителя, а над головой образ Божьей Матери. Также по правую руку от него стояли оба его сына, притом Иоанн стоял ближе к престолу, чем Федор. Четыре рынды в белых одеждах стояли на страже около престола. Послы глянули на левую сторону от царя – я знал, что они там высматривали: обычно при приеме послов-католиков там стояла позолоченная лохань, прикрытая полотенцем, в которой государь после приема таких послов омывал руки. По разговорам моих коллег по Думе я знал, что такая процедура сильно задевала схизматиков. Но сейчас послы были православные, и лохани на ее привычном месте не было.
Дождавшись, когда думный дьяк объявит об их прибытии, послы подошли к престолу и передали письмо от Рады Великого княжества Литовского.
По обычаю царь должен был встать и поинтересоваться здоровьем государя, от которого были послы, но послы-то были от Рады, и сейчас никто не знал, как поступит Иоанн Васильевич. И когда он встал и поинтересовался здоровьем послов, в палате раздался тихий вздох удивления. Пока растерянные послы отвечали, государь уже вновь уселся на престол, и все пошло уже по обычаю. Послы по очереди целовали руку государю и, поклонившись на все стороны, уселись на скамью, которая им уже была приготовлена. Посольская свита между тем также лобызала царскую руку, а думский дьяк громко зачитывал, кто это такой и какой подарок он преподнес царю.
Когда эта процедура закончилась, Иоанн Васильевич встал и предложил послам отведать хлеба-соли и вместе с ними скрылся в другую палату. Сразу после того как государь покинул Грановитую палату, она взорвалась шумом голосов, все кинулись обсуждать поступок государя и что могло значить такое нарушение обычая.
Я стоял за престолом с сумкой, полной всякой всячины для неотложной помощи, но пока моя помощь, слава богу, никому не понадобилась. И сейчас я просто слушал все, что говорили рядом. Мои раздумья нарушили братья Иоанн и Федор, которые стояли немного впереди меня. После известных событий младший сын царя меня избегал – видимо, считая виновником гибели родственников его жены. Но так как государь не тронул семью Федора, то его неприязнь ко мне постепенно сходила на нет. Тем более что он прекрасно понимал, что его брата эти родственнички чуть не свели в могилу. Но все равно некая холодность в его обращении со мной присутствовала, в отличие от Иоанна, который практически вел себя со мной как с другом.
Рядом со своим братом Федор казался совсем маленьким и толстым, хотя на самом деле он был среднего роста, но около рослого брата терялся. Мне казалось, что даже сейчас, во время нашего разговора, он молился про себя.
Иоанн Иоаннович дружески обратился ко мне:
– Сергий Аникитович, скажи хоть ты Федьке, что никак нельзя ему поститься без меры, уже совсем еле ходит. Вот и батюшка тебя слушается, постами себя не изнуряет, соблюдает, как положено, и все.
– Федор Иоаннович, – почтительно сказал я, – брат твой дело говорит, негоже царскому сыну самому церковные заповеди нарушать, ведь растолковано все, каким образом поститься следует, и если старцу в скиту изнурение плоти своей святость дает, то тебе невместно так поступать.
Федор уставился на меня внимательным взглядом. С уголка его рта стекала небольшая струйка слюны. После длинной паузы он сказал:
– Сергий Аникитович, знаешь же сам, в монастырь я бы хотел уйти, нет мне радости во дворце. День и ночь молюсь с надеждой, что разрешит мне батюшка это сделать, в подвиге духовном вижу свое назначение.
Сказав это, он несколько раз перекрестился и начал шептать слова молитвы.
За его спиной брат устало вздохнул и покачал головой.
Иоанн Иоаннович был явно взволнован, и его обращение ко мне было, похоже, просто попыткой отвлечься от мыслей, что происходит там – за закрытыми дверями. Он периодически бросал туда взгляды и явно был настроен ожидать конца беседы с послами.
Я был более скептичен и не думал, что сегодня уже все решится. Пока все вопросы, интересующие государя, не будут согласованы, не слышать царскому сыну согласия отца на его выезд в Литву. Интересно, а что сейчас делает Курбский – собирает ли вещички для переезда в Польшу?
Вскоре вокруг началось шевеление, в палате накрывали столы для пира. Мне вроде бы здесь делать было больше нечего, я ушел к себе в приказ, зная, что Иоанну Васильевичу будет не до меня.
Первым делом я направился к Аренту – у него уже сегодня должны быть готовы первые изделия. Я пришел вовремя: он как раз стягивал резиновые перчатки с бронзовых ладоней. На его лице, как три дня назад, было недоумение.
– Может быть, вы объясните, Сергий Аникитович, зачем вам такие перчатки?
– Классен, они пригодятся не только мне, но и вам: многие манипуляции гораздо безопаснее делать в таких перчатках, – вы ведь надеваете рукавицы, когда берете что-то горячее, так будет и здесь. Только не горячее, а, например, работать с концентрированной кислотой. А мне эти перчатки необходимы, чтобы оперировать людей. Ведь на наших ладонях нисколько не меньше мельчайших зверушек – назовем их микробами, – чем вы видели в капле воды под микроскопом. Если я буду оперировать больного и занесу туда этих микробов, то он может от этого запросто умереть. Так же и я, если от больного получу других микробов на руки, то могу заболеть, а возможно, и умру. А перчатки препятствуют этому процессу.
Голландец смотрел на меня открыв рот.
– Я знаком со многими врачами, но никогда не слышал от них ничего подобного.
– Ну если вы этого никогда не слышали, это совсем не значит, что такого в природе не существует, – заметил я.
Взял в руки перчатки и скривился: конечно, это было совсем не то, что надо. Они были сделаны по размеру моих ладоней и так плотно, как обычные не сидели. Но на безрыбье и рак рыба.
– Классен, у вас где-то стоял флакон с тальком…
Аптекарь подал мне флакон, и я щедро насыпал порошка в перчатки, потряс их и надел. Пошевелил пальцами, взял руками шпатель, лежащий на столе.
– Ну что же, работать можно. Классен, следующие перчатки постарайтесь сделать немного тоньше.
Мне было очень интересно, сколько стерилизаций выдержит резина, – я вовсе не собирался надевать такую драгоценность каждый день, но очень надеялся, что, может, хотя бы раз десять – пятнадцать они выдержат. Конечно, надо проводить опыты дальше, искать пластификаторы, но мне просто было жалко материала, которого и так в обрез. Однако с перчатками было все ясно, из коагулированного латекса ничего приличного не получится. Поэтому придется заниматься перчатками там же, где будет отжиматься латекс из одуванчиков, и сразу пускать его в дело. А вот трубки для капельниц и фонендоскопа получились на уровне, правда, катетеры были, пожалуй, чересчур жестковаты.
– Надо будет, наверно, делать следующие по другому образцу, – сказал я Аренту, пытаясь согнуть желудочный зонд.
Я собрал все, что изготовил аптекарь, и бережно завернул в тряпицу: скоро эти изделия пройдут проверку делом.
Следующие дни лихорадочно проводилась подготовка к возможной операции, объяснения моим будущим ассистентам ее этапов. Был сделан не один десяток рисунков, в которых была разобрана вся топография внутренних органов, связки, артерии, вены, которые необходимо будет в ходе операции выделить, перевязать.
А в это время мой Кулибин занимался еще одним аппаратом, который тоже, как и микроскоп, обещал навеки прославить его и мое имена.
И это был аппарат для измерения артериального давления. Так что в этой реальности для итальянца Рива Роччи места уже не было.
О таком аппарате я мечтал давно, но без резины это все оставалось только мечтой. Однако сейчас у меня были две прорезиненные манжетки с трубками, две груши, а Кузьма, воплощая в жизнь мои замыслы, теперь мастерил три металлических клапана, без которых вся моя задумка не удалась бы. Стеклянных трубок у нас хватало, было и немного ртути для экспериментов. Суть аппарата была настолько проста, что много объяснять мне не пришлось. Другое дело, что мастер абсолютно не понимал, что я эдакой штукой буду делать.
Но за два дня он соорудил мне незамысловатую конструкцию из толстостенного стеклянного сосуда, в который была вертикально впаяна стеклянная трубка, а сбоку торчал стеклянный хвостовик для резиновой трубки, треть сосуда занимала ртуть.
Естественно, при нагнетании туда воздуха ртуть будет подниматься по трубке, и ее высота покажет давление в манжетке, обернутой вокруг руки больного. Была сделана шкала на триста миллиметров, эти миллиметры, в общем, мало отличались от настоящих. Но я собирался перемерить этим аппаратом давление всем моим ученикам, домочадцам, чтобы уточнить погрешность прибора.
Выпускной клапан Кузьме удалось сделать без проблем, а вот с клапанами для груши он застрял и в который раз уже их переделывал, потому что они не держали воздуха. Я не хотел мешать мастеру, но по вечерам меня тянуло в мастерскую как магнитом – очень хотелось наконец услышать, что все готово и работает.
Однако все же проблемы были решены, и я принес всю эту конструкцию, размещенную в деревянном ящичке, в класс и начал измерять артериальное давление своим ученикам.
Через два часа они все уже вполне умело работали с фонендоскопом и грушей и могли сообщить, какое давление намерили. Похоже, что с миллиметрами я практически не промахнулся, потому что практически у всех, в том числе и у меня, давление было в пределах нормы.
Увлеченный своими делами, я почти не следил за ходом переговоров с литовскими послами. Из слов бояр в Думе я знал, что подобные переговоры могут идти месяцами, будут подниматься старинные документы, споры могут идти даже из-за единого слова в титуловании. Но, видимо, государю в данном случае хотелось решить вопрос быстрее, и через неделю переговоров все было решено.
Иоанн Иоаннович принимал титул главы Великого княжества Литовского! Подробностей договора я не знал, но знал одно – что уже практически все идет не так, как в истории моей Родины в прежней жизни.
Уже с деревьев облетали желтые листья, на лужах по утрам появлялся тонкий ледок. Шел пятый год моей жизни в новом мире.
Почти седмица как отправились лодии в Корелу для поисков и начала разработок месторождения медной руды. Заканчивался ремонт в Сретенском монастыре, где в октябре должны были появиться первые студенты и начать свое обучение с изучения нового алфавита и счета.
А у меня в больнице появился новый пациент – Ян Ходкевич, и сейчас я пытался хотя бы немного улучшить его общее состояние перед операцией.
Он со времени моего осмотра еще больше сдал, но все же был настойчив в своем решении оперироваться.
Моя операционная за последние дни претерпела множество изменений. В ней были переделаны окна, и, пожалуй, во всей Москве, кроме царского дворца, таких окон больше не было. Сами стекла не очень велики, но они были собраны в большие оконные переплеты, и помещение казалось непривычно светлым. Над операционным столом висело мое изобретение – металлический круг, на котором стояло несколько керосиновых ламп с большим бронзовым отражателем над ними. По моим прикидкам, их заправки керосином хватит на четыре часа работы.
Кроме того, в операционной стоял легкий запах формалина.
С самого начала своей деятельности хирурга я был озабочен получением хоть какого-нибудь антисептика. По вечерам я пытался устраивать что-то вроде медитации, стараясь вспомнить все, что учил когда-то. И вот все-таки кое-что всплыло в моей памяти. Несложный эксперимент, когда пары метилового спирта, проходя через нагретую медную сетку, окисляются на ней кислородом воздуха в формальдегид. И в результате я получаю вещество, которое можно использовать для множества целей, в том числе и антисептических. А для больных артритами, радикулитом появится новое средство лечения – муравьиный спирт.
Осталось всего ничего – получить метиловый спирт. Пару вечеров я просидел над чертежами и затем пошел к Каркодинову. Тот долго непонимающе разглядывал мои рисунки, а потом вызвал мастера-литейщика, который, в отличие от главы приказа, соображал, что тут нарисовано. Мы обговорили с ним все вопросы, и мне за достаточно умеренную оплату был отлит чугунный котел. С чугуном мастера работали нечасто, с первой отливки у них ничего не получилось, но со второй или третьей попытки все было в порядке, и чугунный котел с плотно закрывающейся крышкой поехал в Заречье. Его сопровождал человек, которого я заставил просто заучить все, что нужно было делать с этим котлом.
А делать нужно было все то же, чем у меня занималась там мануфактура во главе с Антоном, то есть перегонкой. Но на этот раз это была перегонка сухой древесины. Вернувшийся холоп с ухмылкой рассказывал, как его слушал Антон:
– Сергей Аникитович, он, кажись, подумал, что я ума лишился и не то говорю. Как, мол, из сухих дров что-то можно выгнать, деготь только, да и он в котле сгорит. А когда котел вмазали в печь, в него дров положили, крышку на глину тоже замазали, трубку толстую стеклянную в дырку в крышке вставили, печь растопили и когда из трубки чернота какая-то закапала – он в себя до вечера прийти не мог.
Но Антоха был парень соображалистый и быстро понял дальнейшие инструкции. Когда повторно перегнал получившуюся жидкость, он получил уже вполне приличный метиловый спирт. Очищал он его по уже сложившейся технологии, так что мне привезли в стеклянных бутылях литров десять прозрачного метилового спирта. Кстати, в моих инструкциях также было для него передано, что получившаяся жидкость смертельно ядовита и что ее надо держать под замком.
В приказе мы с Арентом собрали несложное устройство, в котором при нагревании пары метилового спирта проходили через разогретую медную сетку, сделанную Кузьмой, и капали уже после змеевика в стеклянную банку жидкостью с таким знакомым мне запахом.
Арент, как обычно в таких случаях, был возбужден. Очень интересовался, что за жидкость мы получили, для каких целей. Моими краткими пояснениями он был явно не удовлетворен, но что ему оставалось делать – только выполнять распоряжения главы приказа. Что он и сделал, перегнав почти весь спирт в формальдегид.
Я успокоил аптекаря тем, что сводил его в Сретенский монастырь на экскурсию – показать, где он будет преподавать студентам. Когда он увидел помещения химической лаборатории, не мог сказать ни слова. Еще бы! Вытяжные шкафы, алхимические печи, полки со стоящими на них колбами, ретортами и прочим стеклом, новые перегонные кубы. Он ходил, трогал все дрожащими руками. И, пожалуй, впервые в его взгляде на меня было видно настоящее уважение.
– Сергий Аникитович, я такого никогда и нигде не видел. Я что, действительно буду здесь работать?
– Классен, я же не могу разорваться, у меня и так будет очень много проблем. Конечно, одного я вас не оставлю, мы вместе будем проводить эксперименты, чтобы получать новые лекарства и улучшать старые.
Так что Арент остался доволен и был настроен продолжить составлять планы для учебы своих будущих подопечных. Он ушел, а мне пришлось еще остаться и удовлетворять любопытство архимандрита монастыря.
Отец Кирилл, как обычно, затащил меня к себе, где мне вновь пришлось продуть ему партию в шахматы. Хорошо играл архимандрит, мне с ним нечего было и равняться. Довольный победой, он с удовольствием продолжил беседу, а затем вдруг сказал:
– Сергий Аникитович, пойдем покажу я тебе одну вещь, стоит она у меня уже лет пятнадцать, надо мне с ней что-то сделать наконец.
Он привел меня в полуподвальное помещение, освещавшееся только тусклым светом из маленьких, забранных решетками оконцев, находившихся под потолком. Когда мы зажгли свечи на канделябре, стоявшем при входе, посреди зала я увидел странное сооружение из дерева и металла и вначале даже не мог понять, что это такое. «Пресс, что ли, какой? Что они тут им отжимают? Вроде виноград здесь не растет… – И тут до меня дошло. – Да это же печатный станок! Ничего себе, вот это вещь!»
Тут отец Кирилл заговорил:
– Видишь, Сергий Аникитович, началось это все, когда государь еще дьякона Николо-Гастунской церкви Ивана Друкаря поставил печатное дело начать. Он тогда святую книгу «Апостол» напечатал, зело мне она понравилась, и попросил я его мне в монастыре такой станок сделать. Начал он его делать, и уже вроде к концу дело подходило, а тут митрополит Макарий преставился, гонения начались – и сбежал Друкарь в Литву, а штука эта так и стоит с тех пор. Сколько денег на нее монастырь потратил, лучше не вспоминать. Так вот мыслю я, что много нужно будет книг для твоей школы, и знаю к тому же, что собрал ты у себя мастеров хороших. Выкупи ты у меня Христа ради эту штуку, доведешь до ума, и к делу она тебе придет.
Я смотрел на это стоявшее посреди комнаты чудище и думал – а стоит ли овчинка выделки? Обойдя вокруг станка, отметил, что дерево не повреждено ни грибком, ни жуками, только на металлических частях небольшой налет ржавчины.
– Отец Кирилл, сейчас ничего не могу сказать, надо мне мастеров сюда привести, чтобы посмотрели, много ли еще работы надо делать, да и не развалится ли от старости станок этот. Да, кстати, сколько ты хочешь за него?
– Так, Сергий Аникитович, я по-божески – за две тысячи рублев отдам.
Я, глядя на него, махнул рукой и молча пошел обратно.
– Постой, постой! Сергий Аникитович, за тысячу отдам.
Я продолжал идти.
– Сергий Аникитович, пятьсот рублей всего прошу.
Я повернулся к нему и спокойно сказал:
– Этому хламу в базарный день цена двадцать рублей, не больше.
Настоятель удивленно уставился на меня:
– Сергий Аникитович, мы тогда двести рублей потратили.
– Отец Кирилл, так пятнадцать лет прошло, я его на казенные деньги куплю, а он, может, развалится через неделю. Что со мной Иоанн Васильевич за такие траты сделает, сам знаешь.
И тут мне в голову пришла идея, я даже на минуту отключился, обдумывая ее.
– Отец Кирилл, завтра приду с мастерами, посмотрят они, скажут, сколько чего надо. Хотя они ведь тоже ничего такого раньше не делали, так что сразу вопроса расходов дальнейших не решим. Мысль у меня появилась интересная. Может быть, так сделаем? Станок этот у тебя я сам выкуплю. Есть у меня художники хорошие, сам учил, двое из них по дереву хорошо режут. Так вот предложение мое. Станок мы здесь оставляем, мои мастера будут его в порядке держать, художники будут буквицы и парсуны делать, а монаси твои здесь работать начнут, чтобы дело с молитвой и под благословением божьим было, и посторонних здесь не будет, а вы всегда сможете проверить, что печатают, дабы непотребства не допустить. Мне завтра надо к митрополиту идти, так, может, мы вместе поедем? Можно будет сразу поговорить, чтобы со Священного Писания начать. Если благословение митрополита Антония получим, то смотри, отец Кирилл, – станок мой, художники мои, бумага с моей мануфактуры, литейка небольшая у меня есть, чтобы буквицы отливать, чернил если еще не закупать, а у вас в монастыре делать, не скажу, что озолотимся, но монастырь бедствовать не будет. А государь, я точно знаю, против такой затеи ничего не скажет.
Отец Кирилл смотрел на меня большими глазами.
– Сергий Аникитович, теперь понимаю я, как ты в столь молодом возрасте лекарскую науку превзошел. Разложил мне все как по полкам, а я пятнадцать лет на эту штуку глядел – и подобного в голову не пришло. Вот только надо бы мне митрополита известить, что завтра с тобой к нему приеду, – неудобно так, без предупреждения, а то разгневается еще.
– Так ты согласен, отец Кирилл, с моим предложением?
Архимандрит улыбнулся и сказал:
– Так кто же в здравом уме от денег отказывается? Только не я. Все же на благо монастыря, мне врученного, пойдет. Давай, Щепотнев, вознесем Господу молитву, чтобы наше дело удалось.
И мы с отцом Кириллом повернулись в красный угол, откуда на нас смотрел мрачным взглядом потемневший образ Спасителя, и еле слышно проговаривали слова молитвы.
Следующим холодным утром мы с отцом Кириллом прибыли к митрополиту.
Антоний, как всегда, это время проводил в молитве, и нам пришлось еще ждать, когда можно будет предстать перед ним.
Когда я увидел Антония, его было не узнать – черты лица округлились, и он производил впечатление практически здорового человека.
Я осмотрел ему живот, снял швы и, сообщив, что все в порядке, дал ему лист бумаги с перечнем диет и трав, которые ему надлежит принимать.
После этого мы, уже втроем, уселись на лавки в его аскетической келье, за грубым, сбитым из досок столом.
Отец Кирилл посмотрел на меня и взглядом попросил начать разговор.
«Вот же хитрозадый поп, – мелькнуло у меня в голове, – ничего на себя взять не хочет».
Но делать нечего, и я рассказал Антонию о моем замысле книгопечатания.
В конце добавил, что можно напечатать первый экземпляр Священного Писания и отдать ему на рассмотрение. Хотя я не очень хорошо в свое время учил историю, но все же помнил, что раскол начался после того, как Никон внес исправления в святые книги, и сейчас я специально акцентировал внимание митрополита на исправлениях:
– Владыко, ежели мы начнем печатать Священное Писание, то надо, чтобы разночтений никаких не было, а то, если, не дай бог, ошибка какая будет, придется все книги сжигать. Посему прошу тебя не одного книгу святую читать, а чтобы епископы многие смотрели и искали там несообразности какие. И когда к совместному решению придете, исправленную книгу нам для печати вернете.
Тут в разговор, видя благосклонное лицо Антония, вступил и отец Кирилл, который со своей стороны подтвердил, что не допустит у себя в монастыре непотребных вещей и богохульства.
Тут я глубоко вздохнул и приступил к следующему весьма щекотливому вопросу:
– Владыко, долго я размышлял, молился Господу, чтобы вразумил меня, как дальше мне быть, как учить будущих лекарей в школе своей. И пришла мне в голову идея одна – изменил кириллицу, специально для лекарей. Чтобы могли они этими буквами все слова, которые мы изучать будем, записывать. Ведь сейчас почти все книги медицинские на латыни написаны. А я мыслю, что ни к чему православным на чужом языке учиться. И вот еще счету их будем учить цифирью индийской. Очень легко на ней счет вести, простой и дробями, а для лекаря очень нужно счет знать, чтобы лекарства сколько нужно дать. Вот принес я тебе букварь новый с буквицами этими, тут у меня все они выписаны, и примеры есть, как слова на них будут писаться.
Антоний без слов взял у меня листы бумаги и уставился в них, близоруко сощурившись.
Несколько минут прошли в тишине.
Неожиданно митрополит поднял голову и с недовольным видом спросил: