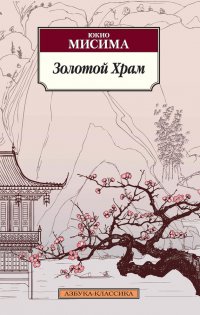Читать онлайн Исповедь маски бесплатно
- Все книги автора: Юкио Мисима
© Г. Чхартишвили, перевод, 1993
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016
Издательство АЗБУКА®
* * *
«…Красота – это страшная и ужасная вещь! Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя потому, что Бог загадал одни загадки. Тут берега сходятся, тут все противоречия вместе живут. Я, брат, очень необразован, но я об этом много думал. Страшно много тайн! Слишком много загадок угнетают на земле человека. Разгадывай как знаешь и вылезай сух из воды. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человек и с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом содомским в душе не отрицает и идеала Мадонны, и горит от него сердце его, и воистину, воистину горит, как и в юные беспорочные годы. Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил. Черт знает что такое даже, вот что! Что уму представляется позором, то сердцу сплошь красотой. В содоме ли красота?.. А впрочем, что у кого болит, тот о том и говорит».
Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы
Глава первая
Я очень долго пытался доказать окружающим, что помню момент своего рождения. Взрослые всякий раз поначалу смеялись, а потом решали, что я над ними издеваюсь, и смотрели на бледного мальчика с совсем недетским лицом неодобрительно и укоризненно. Если это были какие-нибудь малознакомые люди, бабушка, боясь, что ее внука сочтут за идиота, резким голосом приказывала мне пойти куда-нибудь поиграть.
Все еще посмеиваясь, взрослые обычно пускались в какие-нибудь научные рассуждения. Стараясь выражаться попроще, чтобы ребенок понял, они понемногу распалялись. Младенец рождается с закрытыми глазами, говорили они. Но если даже и с открытыми, все равно его память не способна удержать увиденное. «Ну как, понял?» – спрашивали взрослые, похлопывая по плечику все еще сомневающегося ребенка. Тут они обычно спохватывались, вообразив, что попались на удочку маленького шутника. С детьми надо держать ухо востро. Чертенок наверняка подлавливает нас, чтобы спросить про «это самое». Сейчас пролепечет своим невинным голоском: «А откуда я родился? И почему?»
Поэтому в конце разговора взрослые всякий раз умолкали и смотрели на меня с какой-то непонятной оскорбленной улыбкой.
На самом деле их подозрения были совершенно безосновательны. Я вовсе не собирался расспрашивать их про «это». Да и потом, мне в голову бы не пришло расставлять взрослым какие-то ловушки – я слишком боялся вызвать их неудовольствие.
И все же, невзирая на все насмешки и разъяснения старших, я твердо знал, что помню миг своего рождения. Может быть, мне рассказал кто-то из присутствовавших при родах, а я потом об этом забыл? Или виной всему мое своевольное воображение? Как бы то ни было, одна картина так и стоит у меня перед глазами. Это край тазика, в котором купали новорожденного. Тазик был совсем новый, из отполированного свежего дерева; изнутри я видел, как на его бортике ослепительно вспыхнул луч света – яркий, золотой, и всего в одном месте. Лившаяся в тазик вода пыталась слизнуть этот золотой блик, но так и не сумела. Наоборот, вода вокруг меня, то ли отражая луч, то ли вобрав его, и сама заискрилась огоньками, по ней прошла мелкая сияющая рябь.
Самый сильный аргумент против подлинности этого воспоминания состоит в том, что я родился не днем, а в девять часов вечера. Так что никакого солнца в тот момент сиять не могло. Надо мной подшучивали, говоря, что это, наверное, был свет электричества, но я без труда отмахивался от соображений здравого смысла и по-прежнему оставался непоколебим: пусть это было хоть глубокой ночью, все равно край тазика вспыхнул золотым сиянием. И я был твердо уверен, что видел тот яркий луч не когда-нибудь, а именно сразу после своего рождения.
А родился я через два года после Великого землетрясения. За десять лет до этого события мой дед, губернатор одной из колоний, был вынужден подать в отставку: чтобы замять один крупный скандал, он взял на себя вину своего подчиненного. (Я не приукрашиваю эту историю – в жизни не встречал человека, который с таким абсолютным, идиотским доверием относился бы к окружающим, как мой дед.) И с тех пор дела нашей семьи со стремительным, я бы даже сказал, каким-то залихватским ускорением покатились под гору. Чудовищные долги, опись имущества, продажа имения – чем хуже шли денежные дела семейства, тем болезненнее воспалялось тщеславие его членов, словно одержимых некоей темной силой.
Вот почему на свет я появился в запущенном наемном особняке, расположенном в далеко не самом престижном районе столицы. Этот дом, с мрачными, закопченными стенами, стоял на склоне холма; с одной стороны в нем было два этажа, с другой – три. Вид он имел довольно заносчивый и нелепый: помпезные железные ворота, широкие газоны, гостиная размером с буддийский храм. В особняке было множество плохо освещенных комнат и целых шесть служанок. Всего под этим скрипучим, как старый сундук, кровом жили десять человек: дед, бабушка, мои родители и прислуга.
Причина злосчастий нашего семейства коренилась, с одной стороны, в неуемном предпринимательском пыле деда, а с другой – в вечных болезнях и безрассудной расточительности бабушки. Дед то и дело увлекался какими-то сумасшедшими проектами, которые подсовывали ему всякие сомнительные приятели, и отправлялся за тридевять земель в погоне за золотым дождем. Бабушка, происходившая из старинного рода, относилась к своему супругу с ненавистью и презрением. Нрава она была неустойчивого, но душу имела поэтическую – с некоторым налетом безумия. Хроническая невралгия постепенно подтачивала ее нервную систему, одновременно придавая еще бо́льшую остроту ее уму. Допускаю, что приступы депрессии, мучившие бабушку вплоть до самой смерти, были следствием тех страданий, которые доставлял ей дед своими похождениями в более молодые годы.
Вот в какой дом привел мой отец хрупкую и очаровательную невесту, мою будущую мать.
Утром 14 января 1925 года у нее начались схватки. А в девять часов вечера она разродилась хилым младенцем, весившим немногим более двух килограммов. На седьмой день ребенка нарядили в розовое фланелевое белье, шелковое кимоно с узорами, и дед в присутствии всех домочадцев торжественно написал мое имя на свитке, который поместил в семейный алтарь – токонома.
Волосы у меня долго оставались светло-золотистыми. Их натирали оливковым маслом до тех пор, пока они не почернели. Отец с матерью жили на втором этаже, и на сорок девятый день бабушка забрала меня у них, заявив, что таскать ребенка по лестнице вверх-вниз опасно. Таким образом, моя кроватка оказалась в вечно закупоренной комнате бабушки, где пахло старостью и болезнью. Там я и рос.
Когда мне был год, я упал с третьей ступеньки лестницы и расшиб себе лоб. Бабушка была в театре кабуки, и, радуясь свободе, мать с гостившими у нас двоюродными братьями и сестрами отца устроили шумное веселье. Когда мать пошла за чем-то на второй этаж, я побежал за ней следом, наступил на край ее кимоно и упал.
В театр срочно позвонили. Вернувшаяся бабушка остановилась в дверях, опираясь на палку, и пристально поглядела в лицо вышедшему ее встречать отцу. Потом медленно, чеканя каждый слог, спросила странно спокойным голосом:
– Он умер?
– Нет.
Тогда бабушка величественно и уверенно, словно жрица в храм, вошла в дом…
В новогоднее утро – мне тогда шел пятый год – я внезапно ощутил приступ тошноты, и меня вырвало чем-то кофейно-коричневым. Домашний доктор, осмотрев меня, заявил, что не ручается за мое выздоровление. Меня всего истыкали уколами камфары и глюкозы. Пульс не прощупывался. Через пару часов собрались все домашние посмотреть на мое мертвое тело…
Сшили саван: принесли мои любимые игрушки, приехали родственники.
Еще через час я вдруг обмочился. Старший брат матери, сам доктор, воскликнул: «Он выживет!» Появление мочи означало, что сердце снова заработало. Вскоре я обмочился вновь. Щеки у меня постепенно порозовели от света возвращавшейся жизни.
Эта болезнь – она называлась «самоинтоксикация» – стала хронической. Раз в месяц она непременно навещала меня, то в легкой форме, то в тяжелой. Неоднократно случались опасные приступы. Со временем я научился различать по первым признакам приближающегося кризиса, близко он подведет меня к смерти или не очень.
Примерно к этому периоду относится мое первое, уже несомненное, воспоминание; его странная тень доставила мне немало страданий.
Я не помню, кто в тот день вел меня за руку – мать, няня, горничная или тетя. Не помню и время года. Предвечернее солнце неярко освещало дома на холме. Женщина – какая-то женщина – вела меня за руку вверх по улице, мы возвращались домой. Навстречу нам кто-то спускался, и моя провожатая, сильно потянув меня за ладонь, освободила проход. Мы остановились.
Эта картина бесчисленное количество раз воскресала в моей памяти, приобретая все новые и новые оттенки смысла, по мере того как я сосредоточенно размышлял над ней. Из всей сцены, мутной и размытой, мне совершенно ясно и отчетливо запомнилось лишь одно: этот кто-то, спускавшийся нам навстречу. Еще бы – ведь то было первое из видений, терзавших и преследовавших меня всю жизнь.
По улице спускался молодой парень. Через плечо он нес две деревянные бадьи для нечистот, голова его была обмотана грязным полотенцем, румяные щеки сияли свежестью, глаза ярко блестели. Парень ступал осторожно, чтобы не расплескать свой груз. Это был золотарь. Он был одет в облегающие синие штаны и матерчатые рабочие тапочки. Я, пятилетний, смотрел на незнакомца во все глаза. Тогда впервые я ощутил притяжение некоей силы, таинственный и мрачный зов – хотя, конечно, и не мог еще уяснить значение произошедшего. То, что сила эта в первый раз предстала передо мной в облике золотаря, весьма аллегорично. Ведь нечистоты – символ земли. Это сама мать-земля поманила меня своей недоброй любовью.
Меня охватило предощущение того, что в мире есть страсти, обжигающие не меньше огня. Я смотрел на золотаря снизу вверх и вдруг подумал: «Хочу быть таким, как он». И еще: «Хочу быть им». Отчетливо помню, что больше всего меня привлекли две вещи. Во-первых, синие в обтяжку штаны. И во-вторых, ремесло этого парня. Штаны плотно облегали его ноги и нижнюю часть туловища. Тело под ними жило и двигалось, приближаясь мне навстречу. Я ощутил прилив невыразимой любви к этим узким штанам – сам не понимая почему.
А что до его ремесла… В тот миг во мне родилось жгучее желание вырасти и стать золотарем. Я мечтал об этом с таким же пылом, как другие мальчишки мечтают сделаться великими полководцами. Отчасти причиной моего решения были синие штаны, но, конечно, не только они. Было и еще нечто, странным образом зревшее во мне по мере того, как усиливалось желание стать золотарем.
Я чувствовал в этом ремесле какую-то особую скорбь, именно к этой испепеляющей скорби меня и влекло. Я очень осязаемо, даже чувственно ощущал трагичность работы золотаря. Мне мерещилось в ней и самоотвержение, и безразличие ко всему на свете, и родство с опасностью, и удивительная смесь тщетности жизни с жизненной силой. Все эти качества совершенно покорили пятилетнего мальчика. Наверное, я неправильно представлял себе ремесло золотаря. Скорее всего, мне рассказывали про какую-то совсем другую профессию, а я перенес услышанное на того парня, пораженный его нарядом. Другого объяснения быть не могло.
Поэтому неудивительно, что со временем мной овладели иные мечты. Сначала я хотел стать водителем «цветочного трамвая» (так назывались разукрашенные трамваи, ездившие по улицам в дни праздников), потом – контролером в метро. А все потому, что мне чудилось в их работе нечто «трагическое», нечто такое, о чем я не имел понятия, от чего я был навечно отстранен. Вот, например, контролер метро: разве не веяло ароматом трагедии от того, как дисгармонировала его синяя, украшенная золотыми пуговицами форма с резким запахом резины и мяты, которыми постоянно несло тогда из подземки? Я был просто уверен, что жизнь человека, вынужденного находиться среди такого запаха, непременно «трагична». Итак, у меня было собственное определение «трагического»: нечто, происходящее в недоступном мне месте, куда стремятся все мои чувства; там живут люди, никак со мной не связанные; происходят события, не имеющие ко мне ни малейшего отношения. Я отторгнут оттуда на вечные времена; и эта мысль наполняла меня грустью, которую в мечтах я приписывал и той, чужой, жизни, тем самым приближая ее к себе.
Мое детское увлечение «трагическим» было, наверное, предчувствием грядущего несчастья: мне предстояла жизнь одинокого изгнанника.
Вот еще одно из моих первых воспоминаний.
Я научился читать и писать в шесть лет. А ту книжку с картинками прочесть я еще не мог – значит, мне было лет пять.
Из всех многочисленных книжек, имевшихся в нашем доме, я полюбил только одну, да и в той всего лишь одну-единственную картинку. Когда я разглядывал ее, долгий и скучный день пролетал незаметно. Если же кто-то ко мне приближался, я чувствовал непонятный стыд и поспешно переворачивал страницу. Назойливая опека нянек и горничных выводила меня из себя. Мне хотелось рассматривать эту картинку с утра до вечера, день за днем, и так всю жизнь. Каждый раз, когда я раскрывал заветную книгу, мое сердце сжималось; но лишь одна страница действовала на меня подобным образом, остальные я проглядывал равнодушно.
На картинке была изображена Жанна д’Арк с поднятым мечом, верхом на белом коне. Конь свирепо раздувал ноздри и бил о землю мощным передним копытом. На серебряных доспехах Жанны д’Арк был какой-то красивый герб. Сквозь забрало виднелось прекрасное лицо – лицо серебряного рыцаря, который, занеся меч высоко-высоко, в синее небо, мчался навстречу смерти или, во всяком случае, навстречу чему-то злобному и опасному. Я был твердо убежден, что в следующий миг воин погибнет. Мне казалось: если очень быстро перевернуть страницу, то непременно увидишь картинку, на которой рыцарь лежит уже убитый. Кто их знает, эти книжки с картинками, – вдруг есть какая-то хитрость, позволяющая заглянуть в то, что случилось дальше…
Но однажды моя няня совершенно случайно открыла книгу именно на этом месте (я исподтишка наблюдал за ней) и спросила:
– А ты знаешь, кто тут изображен?
– Нет.
– Наверное, ты думаешь, это мужчина? А вот и нет, это женщина. Она переоделась в мужской наряд и отправилась воевать, чтобы спасти свою страну.
– Женщина?!
Я был сражен. Тот, кого я считал мужчиной, вдруг превратился в женщину. Во что же можно верить, если такой прекрасный рыцарь оказывается женщиной? (У меня и поныне вид женщины, переодетой в мужское платье, вызывает глубокое, необъяснимое отвращение.) Как долго и сладко мечтал я о гибели рыцаря, и вот такое жестокое разочарование! Это была первая месть реальности, испытанная мною в жизни.
Годы спустя я прочел у Оскара Уайльда строки, воспевавшие смерть прекрасного рыцаря:
- Прекрасен рыцарь, что лежит, сраженный,
- Средь тростника и камыша…
А книгу про Жанну д’Арк после того случая я ни разу больше не раскрыл. Даже не прикасался к ней.
Гюисманс пишет в романе «Там, внизу» о Жиле де Ре, назначенном по приказу короля Карла VII телохранителем к Жанне д’Арк: этот человек, вскоре свершивший «самые утонченные преступления и изысканнейшие жестокости», сделался мистическим злодеем под воздействием невероятных чудес, которые сотворила его госпожа. На меня Орлеанская дева подействовала иначе (я испытывал к ней глубочайшую неприязнь), но и в моей жизни она сыграла немаловажную роль.
И еще одно воспоминание.
Это запах пота. Он подгоняет меня вперед, влечет, манит, я совершенно покорен им…
Я прислушиваюсь и слышу глухой, неясный звук, мерный и грозный гул. Потом трубит труба, доносится, постепенно приближаясь, простая и странно жалобная песня. Я тяну горничную за собой, тороплю – хочу, чтобы она отвела меня к воротам и подняла повыше.
Мимо нашего дома проходили солдаты, возвращавшиеся с учений. Военные любят малышей, и мне всякий раз доставались в подарок пустые патронные гильзы. Бабушка запрещала их брать, говорила, что это опасно, поэтому удовольствие еще и усугублялось чувством нарушения табу. Какого мальчишку не привлекает топот тяжелых сапог, вид грязных гимнастерок, лес винтовочных стволов?! Но меня манило не это, и даже гильзы были не главным – меня влек запах пота.
Солдатский пот, похожий на аромат прилива, золотистого морского воздуха, проникал в мои ноздри и пьянил меня. Наверное, это было первым запомнившимся обонятельным ощущением в моей жизни. Конечно, мое возбуждение еще не было эротическим, просто я страстно, неистово завидовал судьбе солдата – трагизму его ремесла, близости к смерти, тому, что он увидит дальние страны.
…Таковы были первые, и весьма необычные, картины и образы, запечатленные моей памятью. Они обладали совершенством и с самого начала жизни не покидали меня. В них было все. Они стали источником, из которого в дальнейшем произошли и мое сознание, и все мои поступки.
С ранних лет мое отношение к человеческой жизни полностью совпадало с августинианским постулатом предопределенности. Несмотря на все бессмысленные, тщетные сомнения – а они продолжают терзать меня и поныне, – я ни разу не отклонился от своего детерминизма, почитая любые колебания за духовный соблазн. Можно сказать и так: мне вручили меню, в котором значился перечень всех моих бед, еще до того, как я научился читать. Оставалось лишь повязать салфетку и садиться за стол. Вот и странную эту книгу я, верно, пишу оттого, что так с самого начала обозначено в моем меню.
Детство – это сцена, на которой время и пространство переплетены. Мне, например, представлялись совершенно равнозначными и одинаково существенными и новости внешнего мира, о которых я слышал от взрослых, – извержение вулкана или какой-нибудь военный мятеж; и наши семейные происшествия – ссоры или приступы бабушкиной болезни; и вымышленные события, разворачивавшиеся в мире моих фантазий. Вселенная представлялась мне не более сложной, чем игрушечный дом из кубиков, и я сомневался, что пресловутое «общество», членом которого мне со временем предстояло стать, окажется увлекательнее и ярче мира моего воображения. Так, незаметно для меня самого, наметилась одна из детерминант моей жизни. Я боролся с ней всеми силами, и от этого мои разнообразные фантазии с самого начала обретали привкус отчаяния, до странности всепоглощающего, а потом похожего на пламенную страсть.
По ночам, лежа в постели, я видел, как во мраке возникает и разрастается некий сияющий город – город удивительно тихий, преисполненный света и загадочности. На лицах обитателей я видел печать тайны. Они возвращались по домам в полночь, в их словах и жестах я распознавал потайной язык, вроде того, каким пользуются масоны. В облике жителей моего города читалась такая ослепительная усталость, что смотреть на нее глазам было больно. Казалось: если мне удастся дотронуться до этих людей, на моих пальцах останется серебряная пыль, как от прикосновения к рождественской маске, и я тогда смогу понять, в какие цвета раскрашивает ночной город своих жителей.
Итак, ночь приоткрыла передо мной свой занавес. И я увидел сцену, где выступала знаменитая иллюзионистка той эпохи Тэнкацу Сёкёкусай. (Она как раз гастролировала тогда в Токио. Через несколько лет в том же самом театре я видел выступление иллюзиониста Данте, куда более сложное и грандиозное. Но ни оно, ни даже представление гамбургского Цирка Хагенбека на Международной выставке не произвело на меня подобного впечатления.)
Тэнкацу неторопливо прохаживалась по помосту; ее пышное тело было облачено в одеяние великой блудницы из Апокалипсиса. Держалась актриса с особой надменностью, присущей лишь фокусникам и аристократам-изгнанникам; от нее исходило какое-то печальное очарование, она казалась романтической героиней. И все это удивительным, меланхолическим образом гармонировало с вульгарным, фальшивым великолепием ее наряда, с кричащей косметикой, как у дешевой певички, с толстым слоем пудры, покрывавшей все ее тело до самых кончиков пальцев, с многочисленными браслетами, усыпанными поддельными самоцветами. Точнее говоря, изящный рисунок тени, отбрасываемой дисгармонией, рождал совершенно по-особому гармоничное сочетание.
Я смутно понимал, что мечта стать таким, как Тэнкацу, по самой своей сути отлична от мечты стать водителем «цветочного трамвая». Главное различие состояло в том, что в ремесле иллюзионистки начисто отсутствовала «трагичность». Можно было хотеть превратиться в Тэнкацу и при этом не испытывать мучительного чувства, в котором влечение смешивалось со стыдом.
И вот однажды с отчаянно бьющимся сердцем я прокрался в комнату матери и открыл шкаф, где хранились ее наряды.
Я вынул самое роскошное и яркое кимоно, взял парчовый пояс с расписным узором из алых роз и обмотал его вокруг талии на манер турецкого паши. На голову я повязал крепдешиновый платок. Когда я встал перед зеркалом и увидел, что этот импровизированный головной убор делает меня похожим на пирата из «Острова Сокровищ», я весь засветился от возбуждения. Однако до совершенства было еще далеко. Следовало всего себя, до кончиков ногтей, разукрасить так, чтобы свершилось таинственное перевоплощение. Я засунул за пояс ручное зеркальце и слегка припудрил лицо. Потом вооружился длинным серебристым фонариком, старомодной металлической авторучкой и разными другими сверкающими предметами, попавшимися мне на глаза.
И лишь после этого с самым торжественным видом ворвался к бабушке. Там, не в силах сдержать безумный восторг, я закружился по комнате, повторяя:
– Я – Тэнкацу! Я – Тэнкацу!
Кроме больной бабушки, там были мать, кто-то из гостей и сиделка, но я никого не видел. Меня возбуждало то, что на созданную моими руками Тэнкацу смотрят чужие глаза, и я собой любовался. Но внезапно взгляд мой упал на лицо матери – она сидела бледная и какая-то растерянная. Когда наши взгляды встретились, она отвела глаза.
И я понял. Я все понял и залился слезами.
Что́ же я понял в тот миг, или, вернее, что́ меня заставили понять? Наверное, впервые мне открылось то, что будет занимать так много места в более поздние годы моей жизни, – раскаяние в еще не совершенном преступлении. Или я извлек другой важный урок: сколь убогим и нелепым выглядит одиночество в глазах любви? И уяснил обратную сторону этого открытия: мне суждено вечно отвергать любовь?
Сиделка схватила меня за руку, утащила в соседнюю комнату и грубо, деловито содрала с меня наряд Тэнкацу – словно цыпленка ощипала.
Моя страсть к маскараду еще более усилилась, когда я познакомился с кинематографом. Это продолжалось лет до десяти.
Однажды я в сопровождении мальчика, прислуживавшего у нас в доме, отправился смотреть музыкальный фильм «Фра Дьяволо». Исполнитель главной роли носил камзол с кружевными манжетами, произведший на меня неизгладимое впечатление. Как мне хотелось обрядиться во что-нибудь подобное! Когда я сказал своему сопровождающему, что с удовольствием надел бы такой же пудреный парик, подросток презрительно засмеялся. А ведь я знал, что он иногда забавляет служанок, изображая перед ними княжну Яэгаки.
Вслед за фокусницей Тэнкацу моими думами завладела Клеопатра. Как-то в снежный зимний день, перед самым Новым годом, один друг нашей семьи, врач, после долгих упрашиваний с моей стороны взял меня с собой в кино.
Народу в зале по случаю приближающегося праздника было совсем мало. Мой спутник немедленно уснул, положив ноги на спинку переднего ряда. И я, совершенно зачарованный, остался наедине с Клеопатрой. Вот царица египетская въезжает в Рим; она сидит в затейливом паланкине, который несут многочисленные рабы. Вот ее скорбные глаза, веки которых сплошь зачернены тушью. А ее не поддающиеся описанию одежды! И еще: ее полуобнаженное янтарное тело, когда Клеопатра поднимается с персидского ковра…
Я стал разыгрывать царицу египетскую тайком от взрослых (я уже отлично знал сладость запретного) перед младшими братом и сестрой. Чем так влекли меня эти женские одеяния, чего я от них ожидал? Много позднее я узнал, что той же страстью грешил порочный Гелиогабал, один из позднеримских императоров, монарх-декадент, ниспровергший древних богов Рима.
Вот я и рассказал о предвестиях моей грядущей жизни. Напомню: речь шла сначала о золотаре, Орлеанской деве и солдатском поте, а потом о Тэнкацу и Клеопатре.
Теперь я должен поведать еще об одном.
В детстве я обожал читать сказки и прочел их несметное количество, но должен сказать, что появляющиеся в них принцессы никогда мне не нравились. Мне нравились только принцы. Особенно те, которые погибали или были обречены на злую судьбу. Я вообще любил читать про юношей, которых в сказке убивают.
Я еще и сам не понимал, отчего это. Почему из всех сказок Андерсена самую глубокую тень в мою душу заронила одна – «Розовый эльф»? В ней злодей огромным ножом убивает прекрасного юношу в тот самый миг, когда тот целует розу, полученную в дар от своей возлюбленной. А потом злодей еще и отрубает несчастному голову… И из сказок Оскара Уайльда мне больше всего полюбилась одна – «Рыбак и его душа», где волны выбрасывают на берег труп юного рыбака, сжимающего в мертвых объятиях русалку.
Разумеется, нравилось мне многое и из таких вещей, которые любят обычные дети. У Андерсена, например, я часто читал сказку «Соловей», с удовольствием рассматривал комиксы. Но сердце мое неудержимо тянулось туда, где царили Смерть, Ночь и Кровь.
Меня постоянно преследовали видения, в которых присутствовали «сраженные принцы». Объяснит ли мне кто-нибудь когда-нибудь, отчего образ юного принца в восхитительно облегающих лосинах, принца, обреченного на жестокую смерть, вызывал такой восторг в моей детской душе?
Я помню одну венгерскую сказку с замечательными цветными картинками, выполненными на удивление реалистично. Одна из них надолго завладела моим сердцем.
Там был принц, одетый в черные рейтузы, розовый кафтан с золотой вышивкой, синюю мантию с алым подбоем и опоясанный зеленым с золотым ремнем. Голову его венчал такой же золотисто-зеленый шлем, на боку висел ярко-красный меч, за спиной – зеленый кожаный колчан со стрелами. В левой, одетой в белую перчатку руке принц сжимал лук, а правой опирался о ствол могучего дерева. С величаво-меланхоличным выражением лица юноша смотрел вниз, прямо в пасть ужасного дракона, готового на него наброситься. В чертах принца читалась решимость встретить смерть. Если б ему суждено было выйти из схватки победителем, разве был бы я до такой степени заворожен этой картиной? К счастью, принц был обречен.
Но, увы, гибель его оказалась не окончательной. Для того чтобы спасти сестру и жениться на прекрасной волшебной принцессе, он должен был семь раз вынести испытание смертью. Но во рту у принца имелся заветный алмаз, благодаря которому он всякий раз воскресал и в конце концов добился своего счастья. На моей любимой картинке изображалась его первая смерть – испытание пастью дракона. Потом принца схватит гигантский паук, который пронзит его тело отравленным жалом и «пожрет без остатка». Еще герою сказки предстояло утонуть, сгореть в огне, быть искусанным осами и змеями, свалиться в яму, «утыканную бесчисленными и острыми саблями», пасть под «дождем из огромных камней».
Гибель в пасти дракона описывалась весьма красочно и подробно: «Дракон тут же жадно впился в принца клыками. Разрываемому на мелкие кусочки юноше было невыносимо больно, но он терпел муку, пока чудовище не изжевало его целиком. Тут принц вдруг ожил, тело его срослось, и он выскочил из драконьей пасти! И не было на нем ни единой царапины. А дракон бухнулся оземь и издох».
Я прочел этот абзац раз сто, не меньше. Но предложение «И не было на нем ни единой царапины» казалось мне серьезной ошибкой, которую непременно следовало исправить. Автор допустил тут огромный промах, он меня предал – так я думал.
И в конце концов я сделал замечательное открытие: оказалось, что можно закрыть пальцами совсем небольшой кусочек текста, и сказка станет идеальной: «Дракон тут же жадно впился в принца клыками. Разрываемому на мелкие кусочки юноше было невыносимо больно, но он терпел муку, пока чудовище не изжевало его целиком. Тут принц вдруг… бухнулся оземь и издох».
Взрослому подобная цензура показалась бы абсурдом. Да и сам юный своенравный цензор отлично видел противоречие между тем, что чудовище изжевало принца целиком, и тем, что он потом «бухнулся оземь и издох», но не желал отказываться ни от первого, ни от второго.
Я часто с наслаждением воображал, как погибаю в бою или падаю, сраженный рукой убийцы. И в то же время я панически боялся смерти. Бывало, доведу горничную до слез своими капризами, а на следующее утро смотрю – она как ни в чем не бывало подает мне с улыбкой завтрак. Я видел в этой улыбке скрытую угрозу, дьявольскую гримасу уверенности в победе надо мной. И я убеждал себя, что горничная из мести замыслила меня отравить. Волны ужаса раздували мне грудь. Я не сомневался, что в пище отрава, и ни за что на свете не прикоснулся бы к ней. А после завтрака, вставая из-за стола, смотрел в лицо горничной с торжеством: что, мол, съела? Я воображал, что она глядит на остывший, невыпитый бульон вне себя от горя – ведь ее коварный замысел разгадан.
Бабушка запрещала мне играть с соседскими мальчишками, во-первых опасаясь за мое слабое здоровье, а во-вторых не желая, чтобы я учился у них всяким гадостям. Поэтому участницами моих игр были няньки, служанки да еще три жившие неподалеку девочки, специально отобранные бабушкой. Малейший шум – хлопанье дверьми, звук игрушечной трубы, громкая возня – немедленно вызывал у хозяйки дома невралгию в правой коленке, так что играть приходилось только в тихие девчоночьи игры. Посему я с большой охотой проводил время в одиночестве, читая, складывая кубики, рисуя или предаваясь фантазиям. Позднее, когда родились сестра и брат (которых, как меня, не отдали на попечение бабушки), отец позаботился о том, чтобы они росли свободно и привольно. Но я уже не завидовал их шумным забавам.
Другое дело, когда я попадал в гости к своим кузинам. Там от меня требовалось, чтобы я вел себя, «как положено мальчику». Помню один случай. Это было весной того года, когда я начал ходить в школу, мне шел седьмой год. Я гостил в доме своей двоюродной сестренки – назовем ее Сугико. Моя тетка так расхваливала меня: какой я стал большой и взрослый, – что польщенная бабушка позволила мне попробовать блюдо, которое считалось для меня запретным. Страшась приступов моей самоинтоксикации, бабушка почему-то решила, что мне нельзя есть «рыбу с голубой чешуей». Поэтому мне всегда подавали камбалу, карпа либо палтуса, у которых мясо белого цвета. Картофель я получал только в виде жиденького пюре. Мне запрещалось есть соевые сладости – только тоненькие бисквиты, вафельки и галеты. На десерт я получал протертое яблоко и несколько долек мандарина. Вот почему первую в своей жизни «рыбу с голубой чешуей» (это был желтохвост) я ел с огромным удовольствием. Ее вкус казался мне чудесным, ибо в нем я ощущал сладость «взрослости»; но вместе с тем было и смутно тревожное, тяжелое чувство – я боялся становиться взрослым; мне и сейчас делается не по себе, когда я ем эту рыбу.
Сугико была крепким, жизнерадостным ребенком. Когда ночью меня укладывали спать к ней в комнату, моя кузина, едва коснувшись головой подушки, сразу же засыпала, словно отключалась. Я же, вечно мучившийся бессонницей, лежал и смотрел на нее со смесью легкой зависти и восхищения.
В гостях у Сугико мне предоставляли куда больше свободы, чем дома. Здесь не было воображаемых соперников, только и думающих, как отобрать меня у бабушки (то есть моих родителей), поэтому она со спокойной душой позволяла мне резвиться на воле. Дома же я постоянно был обязан находиться в поле ее зрения.
Но на время обретаемая свобода не приносила мне радости. Я чувствовал себя как человек, поднявшийся с постели после тяжелой болезни: все его движения скованны и неуверенны, он делает их словно по обязанности. Куда с большим удовольствием выздоравливающий улегся бы обратно в кровать. И потом, в доме Сугико считалось само собой разумеющимся, что я буду вести себя как самый нормальный мальчишка. И я начинал играть роль «нормального мальчишки», к которой мое сердце вовсе не лежало. Примерно тогда я понял одну вещь: когда я являю окружающим свою подлинную суть, они почитают это лицедейством; когда же я разыгрываю перед ними спектакль, люди считают, что я веду себя естественно.
Именно роль «нормального мальчишки» заставила меня предложить Сугико и еще одной нашей кузине: «Давайте играть в войну!» Вообще-то, для девочек игра была не самая подходящая, и обе амазонки отнеслись к моей идее без особого энтузиазма. Должен сказать, что игру в войну я затеял из-за превратного представления о том, каким должен быть «нормальный мальчишка»: гонять девчонок и не давать им спуску.
И вот в доме и во дворе началась скучная, никому из участников не интересная игра в войну. Сугико засела в кустах и изображала пулемет: «Та-та-та-та». Я решил, что пора положить этому занудству конец, и кинулся обратно в дом. Пулеметчица побежала за мной, не прекращая «стрелять». Тогда я схватился за грудь и рухнул на пол.
– Ты чего? – испугались кузины.
Не двигаясь и не открывая глаз, я ответил:
– Я убит в бою.
Как приятно это было – представлять себя лежащим навзничь. Невыразимый восторг охватил меня от одной фантазии, будто я застрелен и умираю. Я подумал, что случись со мной такое, я бы, наверное, даже боли не чувствовал…
Детство, детство…
Мне вспоминается образ, который можно назвать символом тех лет. Он олицетворяет для меня сегодня все мое детство. Именно в тот миг оно, готовое меня покинуть, прощально взмахнуло рукой. У меня тогда возникло странное ощущение: будто мой внутренний отсчет времени прекратился, время хлынуло волной и вдруг замерло перед этой картиной, вбирая в себя людей, движения, звуки; когда точная копия будет составлена, оригинал растворится в глубинах времени, а мне на память останется портрет, точный макет моего детства. У каждого, наверное, хранится в памяти какое-нибудь событие, ставшее символом ранних лет жизни. Только в большинстве случаев воспоминание это бывает нечетким, как бы смазанным, его и событием-то не назовешь.
А случилось вот что. Однажды, во время летнего праздника, в ворота нашего дома снежной лавиной ворвалась шумная церемониальная процессия.
Бабушка попросила организаторов, чтобы ради старухи с больными ногами и ее маленького внука праздничное шествие прошло по нашей улице и завернуло к нам во двор. Обычно процессия следовала другим путем, но каждый год этот маршрут немного менялся, так что старейшина праздника согласился, а потом шествие мимо нашего дома постепенно вошло в традицию.
Все домашние, и я в том числе, стояли во дворе. Витые железные ворота были широко распахнуты, свежевымытые каменные плиты мостовой сияли чистотой. Неровный гул барабанов понемногу приближался.
Вскоре послышалось и пение; размеренное и заунывное, оно прорывалось сквозь крики и шум; я мог разобрать лишь отдельные слова, но песня явно заключала в себе главный смысл всего этого суетного и хаотического действа. Песня прославляла вульгарность единения человека с вечностью и еще ту грусть, которую несет в себе это единение, достигаемое смешением набожности и распущенности. Слились воедино все звуки: звон медных колец на церемониальном шесте священника, глухой рокот барабанов, вопли парней, тащивших носилки с алтарем. Сердце мое колотилось так сильно, что я едва мог дышать. (С тех пор радостное нетерпение для меня не столько сладостно, сколько мучительно.) Священник, несший церемониальный шест, был в маске лиса-оборотня. Золотые глаза этого мистического зверя смотрели прямо на меня, их взгляд завораживал. Я схватился за рукав кого-то из домашних и вдруг ощутил, что в ликовании, которое вызывает во мне все это зрелище, есть нечто почти пугающее. Я уже готов был бежать оттуда. Именно тогда сформировалось мое отношение к жизни: когда я слишком страстно чего-то жду, когда мое воображение заранее разукрашивает грядущее событие сверх всякой меры, в конце концов получается вечно одно и то же: наступает долгожданный миг – и я убегаю прочь.
Мимо пронесли оплетенный соломенными веревками сундук для пожертвований; толпа ребятишек, весело толкаясь, протащила детский алтарь; и вот показался главный алтарь, величественный черно-золотой о-микоси. Я еще издалека увидел золотого феникса, венчавшего алтарь; священная птица ослепительно вспыхивала, как бы покачиваясь на людских волнах, и мою душу охватило какое-то странное беспокойство. Вокруг алтаря воздух сгустился, там царило ядовитое тропическое безветрие. Ленивым, жарким, порочным облаком клубилось оно над голыми плечами молодых носильщиков. А внутри о-микоси, за мишурой красно-белых шнуров, перилец, блестевших черным лаком и позолотой, за плотно закрытой золоченой дверцей, таился куб кромешной тьмы; в такт движениям толпы этот прямоугольный кусок ночной пустоты покачивался вправо, влево, вверх, вниз, безраздельно властвуя над безоблачным летним полднем.
Алтарь приблизился к нам. Тащившие его парни были одеты в одинаковые цветные куртки, распахнутые на их голых телах; носильщики двигались так беспорядочно, что казалось, будто о-микоси напился пьян. Ноги парней заплетались, глаза словно бы и не смотрели ни на что земное. Один, с веером распорядителя в руке, бегал вокруг носильщиков и подбадривал их зычными криками. Временами алтарь угрожающе накренивался, и тогда все тонуло в едином оглушительном вопле толпы.
Тут кто-то из домашних, наверное, забеспокоился: не двинется ли под воздействием некоего порыва вся эта дикая толчея в нашу сторону. Кто-то крикнул: «Осторожно!» Меня вдруг дернул за руку тот взрослый, за кого я держался, и куда-то потащил. Мы бегом промчались через двор, взбежали на второй этаж, и то, что было дальше, я видел уже с балкона. Затаив дыхание, я смотрел, как толпа со своим черным алтарем беснуется перед нашим домом.
Я долго размышлял потом, стараясь понять: что за сила управляла этими людьми? Но все-таки не понял, почему несколько десятков горланящих парней вдруг разом, будто подчиняясь единой воле, ринулись в наши ворота.
Толпа с упоением растоптала все, что росло в саду. Скучный, давно надоевший мне двор совершенно преобразился. После пьяных метаний алтаря из стороны в сторону там не уцелело ни одного кустика. Я так и не проникся смыслом случившегося. На празднике самые разнообразные звуки временами как бы поглощали друг друга, и мне казалось, что в наш дом поочередно заглядывали то застывшее безмолвие, то бессмысленный грохот. Точно так же запечатлелись в моей памяти и цвета: золотой, алый, лиловый, зеленый, желтый, синий, белый перемешались, слились воедино, и в этой гамме господствовали то золотые тона, то синие.
Но ярче всего мне запомнились не звуки и не цвета, а нечто совсем другое, повергшее меня в ужас и перевернувшее всю мою душу. То были лица носильщиков алтаря – на них застыла маска такого неистового, развратного опьянения жизнью!..
Глава вторая
Мне было двенадцать лет, и я вот уже целый год страдал, как страдает ребенок, которому досталась удивительная и непонятная игрушка.
Игрушка эта иногда вдруг набухала и всем своим видом намекала, что если научиться с ней обращаться, возможны какие-то очень интересные игры. Но инструкции к ней не было, и всякий раз, когда игрушка выказывала желание вовлечь меня в свои забавы, я терялся. Иногда от унижения и нетерпения мне хотелось ее разломать. Но в конце концов я уступал этой своенравной мучительнице, в чьем облике таилась какая-то сладкая тайна, и просто пассивно наблюдал – что будет дальше.
Со временем я стал прислушиваться к игрушке более спокойно, желая понять, куда она меня зовет. И тогда я обнаружил, что у нее есть свои определенные склонности, свое внутреннее устройство. Склонности эти постепенно выстраивались в единую цепочку: детские фантазии; загорелые тела юношей на пляже; пловец, которого я видел в бассейне; смуглый жених одной из моих кузин; мужественные герои приключенческих романов. Прежде я заблуждался, полагая, что мое влечение к подобным вещам имеет чисто поэтическую природу.
Кроме того, моя игрушка поднимала голову каждый раз, когда я представлял себе смерть, кровь и мускулистое тело. У паренька, прислуживавшего в нашем доме, я тайком брал иллюстрированные журналы, на красочных обложках которых были изображены кровавые поединки, молодые самураи, делающие харакири, и солдаты, падающие на бегу, прижав ладони к окровавленной груди. Встречались в журналах и фотографии молодых борцов сумо – неименитых и еще не успевших заплыть жиром… При виде подобных картинок игрушка немедленно оживлялась, проявляя все признаки любопытства. Возможно, точнее было бы назвать это не «любопытством», а «любовью» или, скажем, «требовательностью».
Когда связь этих событий стала мне ясна, я начал стремиться к наслаждению уже сознательно, намеренно. Возникла система отбора и подготовки. Если мне казалось, что картинка в журнале недостаточно красочна или выразительна, я брал цветные карандаши, перерисовывал ее на лист бумаги, а дальше уже подправлял как хотел. Так появились рисунки цирковых атлетов, корчащихся от удара штыком в грудь, и разбившихся канатоходцев с расколотым черепом и залитым кровью лицом. Свои «жестокие картинки» я прятал в самом дальнем углу книжного шкафа и, помню, иногда, сидя в школе на уроке, переставал слышать учителя и замирал от ужаса при одной мысли, что кто-то из домашних найдет мой тайник. Однако уничтожить их не решался – слишком уж привязалась к ним моя игрушка.
Так и жил я со своей капризной игрушкой день за днем, месяц за месяцем, не имея представления не то что о главном предназначении этого инструмента, но даже о вспомогательной его функции, которую со временем я стал называть своей «дурной привычкой».
А в жизни нашей семьи тем временем происходили перемены. Мы оставили особняк, в котором я появился на свет, и теперь семейство, разделившись пополам, проживало в двух домах, расположенных неподалеку друг от друга. В одном жили бабушка, дедушка и я, во втором – мои родители, брат и сестра. Отец уехал в служебную командировку за границу, побывал в разных европейских странах, потом вернулся обратно. Вскоре после этого они с матерью опять переехали на новое место. Воспользовавшись поводом, отец наконец-то потребовал, чтобы меня вернули родителям. Произошло расставание с бабушкой (отец назвал эту сцену «современной трагедией»), и я оказался в родительском доме. Теперь до особняка, где жили бабушка и дедушка, путь был не очень близким: несколько остановок на электричке, а потом еще и на трамвае. Осиротевшая бабушка день и ночь рыдала, сжимая в руках мою фотокарточку. Я был обязан раз в неделю ночевать у нее в доме, и, если мой визит почему-либо срывался, с ней происходил припадок. Так в двенадцать лет я обзавелся страстной шестидесятилетней возлюбленной.
Вскоре отец был переведен работать в Осаку, куда уехал один, без семьи.
Однажды из-за простуды я не пошел в гимназию и сидел у отца в кабинете, с интересом рассматривая альбомы, привезенные из-за границы. В особенности меня покорили греческие скульптуры из итальянских музеев. Эти черно-белые фотографии волновали меня больше, чем прочие репродукции обнаженной натуры. Скорее всего, объяснялось это очень просто: скульптуры выглядели более живыми.
В тот день я впервые держал в руках нечто подобное. Отчасти это объяснялось тем, что отец, вечный скупердяй, спрятал дорогие альбомы подальше, чтобы дети не хватали их грязными руками (еще он не хотел, чтобы я разглядывал там голых женщин, – о, какое заблуждение!); да потом, я и сам не очень интересовался живописью, не ожидая от нее такого наслаждения, какое доставляли мне иллюстрированные журналы.
Итак, я сидел и перелистывал справа налево страницы альбома, их оставалось уже совсем немного. И вдруг взору моему открылся образ, созданный специально для меня и давно меня дожидавшийся.
Это была репродукция «Святого Себастьяна» кисти Гвидо Рени, из картинной галереи генуэзского палаццо Россо.
Святой Себастьян был привязан к черному кривому стволу дерева; за его спиной виднелся по-тициановски мрачный фон: темный лес, вечернее небо, тусклый ландшафт. Обнаженное тело божественно прекрасного юноши было прижато к дереву, но, кроме веревок, стягивавших высоко поднятые руки, других пут видно не было. Бедра святого Себастьяна прикрывал кусок грубой белой ткани.
Я догадался, что это какой-то христианский мученик. Однако в творении Гвидо Рени, мастера позднего Ренессанса и последователя эклектизма, даже чисто христианский сюжет обрел аромат язычества. Тело Себастьяна, не уступавшего красотой самому Антиною, прекрасно; на нем не видны следы истязаний, как у других святых, над ним не властна старость. Оно излучает лишь сияние молодости, красоты и наслаждения.
Это ослепительно-белое тело, оттененное мрачным, размытым фоном, светоносно. Мускулистые руки преторианца, привыкшие владеть луком и мечом, грубо заломлены над головой; запястья их стянуты веревкой. Лицо поднято вверх, широко раскрытые глаза созерцают свет небесный, взгляд их ясен и спокоен. В напряженной груди, тугом животе, слегка вывернутых бедрах – не конвульсия физического страдания, а меланхолический экстаз, словно от звуков музыки. Если б не стрелы, впившиеся одна слева, под мышку, другая справа, в бок, можно было бы подумать, что этот римский атлет отдыхает в саду, прислонившись спиной к дереву.
Но стрелы глубоко вонзились в его напряженную, юную, благоуханную плоть, обожгли ее пламенем невыносимой муки и невыразимого наслаждения. Нет потоков крови, как на других картинах с изображением святого Себастьяна, да и стрелы всего две; их мирные грациозные тени легли на мрамор кожи мученика, словно тени ветвей на ступени античной лестницы.
Естественно, все эти мысли и наблюдения относятся к более позднему времени. Когда же я увидел картину впервые, всего меня охватило просто какое-то языческое ликование. Кровь закипела в жилах, и мой орган распрямился, будто охваченный гневом. Казалось, он вот-вот лопнет от чрезмерной раздутости; на сей раз он настойчиво требовал от меня каких-то действий, клял хозяина за невежество и возмущенно задыхался. И моя рука неловко, неумело задвигалась. Тут из самых глубин моего тела стремительно поднялась некая темная, сверкающая волна. И не успел я прислушаться к новому ощущению, как волна эта разлетелась брызгами, ослепив и опьянив меня…
Немного придя в себя, я с испугом огляделся по сторонам. За окном шелестел клен, пятна света и тени от его листвы покрывали весь письменный стол: учебники, словари, альбомы, тетради, чернильницы. И повсюду – на золотом тиснении книжного корешка, на обложке словаря, на стенке чернильницы – лежали белые мутные капли. Одни лениво и тяжело стекали книзу, другие тускло поблескивали, как глаза мертвых рыб. К счастью, альбом я успел прикрыть ладонью – чисто инстинктивно – и репродукция не запачкалась.
Это была моя первая эякуляция, а заодно и первый опыт, случайный и неуклюжий, моей «дурной привычки».
Магнус Хиршфельд помещает изображения святого Себастьяна на первое место среди всех произведений скульптуры и живописи, пользующихся особым расположением гомосексуалистов. Это очень интересное наблюдение. Оно свидетельствует о том, что в большинстве случаев у гомосексуалистов, в особенности прирожденных, склонность к однополой любви сочетается и замысловатым образом переплетается с садистскими импульсами.
Согласно преданию, святой Себастьян родился в середине III века, стал трибуном преторианской гвардии и отдал жизнь за христианскую веру, не дожив и до тридцати лет. В год его гибели (288 г. христианской эры) правил император Диоклетиан. Этот монарх выдвинулся наверх из самых низов, добился всего собственными руками и слыл человеком нежестоким, но его соправитель Максимилиан отличался лютой ненавистью к новой вере. Известно, что он повелел казнить юного африканца Максимилиануса, отказавшегося исполнять обязанности солдата, ибо они противоречили христианскому пацифизму. Точно так же умертвил он центуриона Марцеллуса, упорствовавшего в верности Христу. Вот при каких обстоятельствах встретил свою мученическую кончину святой Себастьян.
Когда стало известно, что трибун преторианцев втайне исповедует запрещенное вероучение, посещает заточенных в темницы христиан и склоняет к своей религии римлян, включая самого римского градоправителя, Диоклетиан велел предать смутьяна смерти. Утыканное стрелами, брошенное палачами тело забрала одна благочестивая вдова, дабы предать прах убиенного земле. Тут обнаружилось, что в праведнике еще теплится жизнь. Вдове удалось выходить Себастьяна, но, едва встав на ноги, он снова бросил вызов императору и его языческим богам, после чего был забит до смерти палками.
Историю о воскрешении Себастьяна после расстрела, конечно же, следует отнести к категории «чудес». Разве может человек, пронзенный таким количеством стрел, остаться в живых?
Для того чтобы читатель лучше понял, сколь неистово чувственная радость овладевала мною при мысли о святом Себастьяне, приведу здесь неоконченное произведение в прозе, которое я написал несколько лет спустя.
Святой Себастьян
Поэма в прозе
Однажды я сидел в классе и смотрел, как за окном ветер гнет и никак не согнет невысокое деревце клена. У меня защемило сердце – столь поразительно прекрасен был тот клен. Узким треугольником с закругленной вершиной высился он над травой, его симметричные ветви, отягощенные своим зеленым грузом, напоминали свечи канделябра, а сквозь листву проглядывал эбеновый пьедестал несокрушимого ствола. Так стоял клен, утонченный, но не утративший изысканной безыскусности, что свойственна живой природе; он хранил светлое молчание, как если б разом был собственным творцом и творением. И все же клен был вещью сотворенной, произведением искусства. Быть может, музыки. Пьесой для камерного исполнения, сочиненной каким-нибудь великим немецким композитором. То была тихая, исполненная глубокого религиозного чувства мелодия – звук божественный и небесный, напоминающий своей трогательной суровостью старинный гобелен…
И в сходстве клена с музыкальной пьесой увидел я особый смысл; форма и звук, соединившись, нанесли по моей душе двойной удар. И тогда мной овладело восхитительное чувство – нет, отнюдь не лирического свойства, а скорее близкое сумеречному экстазу, охватывающему душу, когда религия и музыка сливаются воедино. И я спросил свое сердце: «Уж не то ли самое дерево видишь ты перед собой? Дерево, к которому были привязаны руки юного святого. Дерево, по коре которого струями дождя стекала священная кровь мученика. Римское дерево, к которому в предсмертных страданиях прижималось молодое тело, как бы прощаясь со всеми терзаниями и наслаждениями земной жизни».
Жизнеописание святых великомучеников повествует, что в те годы, когда на римском престоле воцарился Диоклетиан, возжаждавший власти столь беспредельной, сколь беспределен полет птицы в синем небе, служил в императорской гвардии молодой трибун, телесной красотой не уступавший легендарному рабу, коего так возлюбил порфироносный Адриан. Глаза трибуна своей непроницаемостью могли сравниться с морской пучиной. А служил он гонимому Богу, и за это преступление его схватили.
Юноша был прекрасен и надменен. Каждое утро девушки города прикрепляли к его шлему белую лилию, и, когда во время краткого перерыва между воинскими упражнениями он отдыхал, стебель цветка грациозно льнул к его мужественному челу, похожий на шею белоснежного лебедя.
Никто не знал, где родился и вырос этот юноша. Но чутье подсказывало людям, что он, обладающий телом раба и ликом принца, не долго пробудет среди них. Юноша казался им Эндимионом, кочующим по свету со своим стадом, ибо он избран, дабы найти самое зеленое на свете пастбище.
А некоторые девушки верили, что он явился из глубин моря. И действительно, дыхание его мощной груди напоминало шум волн. И в глазах его мистическим образом навек запечатлелась бескрайняя линия горизонта, как у каждого, кто родился и жил на море. Дыхание воина было горячее летнего пассата и источало терпкий аромат выброшенных на берег водорослей.
Разве не была подобная красота обречена на скорую гибель? Пышнотелые женщины Рима, чья чувственность взросла на крепком, сладком вине и мясе с кровью, первыми учуяли привкус злого рока, нависшего над Себастьяном (так звали молодого трибуна), когда он и сам еще не догадывался об уготованной ему судьбе. Уж не потому ли и домогались римлянки с такой страстью его любви? Алая кровь под белой кожей Себастьяна мчалась по жилам с утроенной силой и быстротой, словно искала и не могла найти отверстия, из которого ей предстояло брызнуть, когда прекрасная плоть будет истерзана. И женщины безошибочным чутьем слышали бег этой неистовой крови.
Тяготевший над Себастьяном рок не вызывал жалости. О нет, ничего пробуждающего сострадание в трибуне не было! Была гордость, была трагедия. И еще – нечто сияющее.
Кто знает, сколько раз в момент сладчайших лобзаний на чело Себастьяна ложилась тень грядущих смертных мук?
Он, верно, и сам если не сознавал, то смутно догадывался, что перед ним лишь один путь – принять мученичество за веру. Именно эта страшная печать судьбы выделяла его из низменной толпы.
И вот настало то утро. На рассвете Себастьян отбросил одеяло и рывком поднялся с ложа – его ожидали обычные заботы солдатской службы. Перед мысленным взором трибуна еще витало ночное видение: стая недобрых птиц сорок опустилась ему на грудь и прикрыла его рот своими трепещущими крыльями. Но грубая постель, на которой спал Себастьян, источала аромат высушенных водорослей, словно маня обещанием иных, более приятных снов о морских просторах. Воин облачился в скрипучие доспехи, встав у окна, рассеянно глядя куда-то вверх, за окруженный рощей храм. Там, в светлеющем небе, угасало созвездие, именуемое Маззарос. Потом глаза трибуна остановились на великолепном силуэте языческого капища, и в них отразилось бескрайнее, почти страдальческое презрение – выражение, столь шедшее этому лицу. Себастьян призвал Бога Единственного и едва слышно прошептал слова молитвы. Тихие эти звуки были подхвачены, тысячекратно усилены, и от языческого храма с его колоннадой, расчертившей звездное небо, явственно донесся глухой стон. Нет, не стон, а могучий гул, словно со звездоносного небосвода обрушилась некая таинственная лавина. Юноша улыбнулся. Взгляд его устремился ниже, и он увидел, как в лучах занимающегося дня к его дому робко приближается стайка девушек для тайного ежеутреннего моления. Каждая держала в руке еще не раскрывшуюся после ночного сна белую лилию…
Зима. Я учусь во втором классе гимназии средней ступени. Все мы, гимназисты, уже давно привыкли к длинным брюкам, привыкли обращаться друг к другу попросту, на «ты». (В начальных классах учителя требовали, чтобы мы величали соучеников «господин такой-то» и даже в летнюю жару носили гольфы до колен. Помню, какое это было счастье – перейти с коротких штанишек на брюки и больше не возиться с тугими и неудобными гольфами.) Привыкли мы и ко многим другим удовольствиям гимназической жизни: издеваться над преподавателями, поочередно устраивать товарищам угощение в буфете, к шумным играм в соседней роще (она по этому случаю переименовывалась в «джунгли»), к веселому пансионному существованию. Из всех этих прелестей мне была незнакома только последняя. Несмотря на то что каждому гимназисту средней ступени полагалось год, а то и два прожить в пансионе, чрезмерно заботливые родители, ссылаясь на мое слабое здоровье, добились для меня исключения. На самом деле, полагаю, им просто хотелось оградить меня от «дурного влияния».
Таких, как я, ходивших на уроки из дому, было всего несколько. В последнем семестре нашего полку прибыло – появился еще один вольнопосещающий, которого звали Оми. Его выгнали из пансиона за какие-то безобразия. До того момента я не обращал на Оми особенного внимания, а тут, когда на него легло клеймо «хулигана», я вдруг почувствовал, что он мне необыкновенно интересен, прямо глаз от него не могу отвести.
Однажды ко мне, пыхтя и сияя счастливой улыбкой, подбежал мой приятель, мальчик толстый и добродушный. Он всегда необычайно оживлялся, если узнавал какой-нибудь любопытный секрет.
– А что я знаю! – выпалил он.
Я немедленно покинул уютное место возле теплой батареи и отвел толстяка в коридор. Мы встали около окна, из которого была видна площадка для стрельбы из лука, продуваемая всеми ветрами. У этого подоконника чаще всего и происходили самые интимные наши беседы.
– А Оми-то…
Тут мой приятель смешался и густо покраснел. Он вообще был очень смешной – помню знаменитую фразу, сказанную им в пятом классе начальной школы, когда разговор зашел об «этом самом». «Уверяю вас, – заявил он. – Все это полная чушь, и ничего такого на свете не бывает. Уж я-то знаю». В другой раз, когда отца одного нашего соученика разбил паралич, толстяк посоветовал мне держаться от этого мальчика подальше, чтобы не заразиться.
– Ну, чего ты – язык проглотил? – поторопил я его. – Что Оми?
Дома меня заставляли разговаривать вежливо и безо всяких «словечек». Зато уж в гимназии я отводил душу.
– Я точно узнал. У этого Оми… было! – выдохнул приятель.
Это известие походило на правду. Оми сидел в классе не то второй, не то третий год, был старше всех нас, более развитым физически, и лицо его светилось какой-то особенной юношеской силой, что тоже отличало Оми от одноклассников. Держался он всегда заносчиво и насмешливо. Все на свете вызывало у него только одно чувство – презрение. Оми презирал отличников за то, что они отличники; учителей за то, что они учителя; полицейских за то, что они полицейские; студентов за то, что они студенты; служащих за то, что они служащие.
– Неужели? – ахнул я.
Мне почему-то вспомнилось, как на занятиях по военному делу Оми ловко управлялся с разборкой и чисткой винтовки. Из всех преподавателей его любили только учитель гимнастики и военный инструктор – Оми так лихо командовал своим взводом.
– А ты думал! – осклабившись так хорошо знакомой всякому гимназисту непристойной улыбочкой, хихикнул толстяк. – Вот почему у него эта штука такая здоровенная. Не веришь? Можешь сам убедиться. Вот будем в «похабника» играть – цапни его.
«Похабником» называлась традиционная забава, пользовавшаяся огромной популярностью у первых и вторых классов средней ступени. Это повальное увлечение больше походило не на игру, а на какую-то заразную болезнь.
Выглядела она таким образом. Где-нибудь на перемене, когда кругом было полно народа, надо было выследить какого-нибудь зазевавшегося растяпу, молниеносно подскочить к нему и ухватить за определенное место. Если номер удавался, озорник отскакивал на безопасное расстояние и начинал вопить:
– Ого-го! Ну у тебя и штуковина!
Я уж не знаю, каковы были истинные мотивы участников этой игры, но считалось, что вид приятеля, испуганно ронявшего на пол тетради и учебники и хватавшегося обеими руками за причинное место, необычайно забавен. Однако, скорее всего, с помощью оглушительного хохота гимназисты пытались избавиться от стыда, тайно терзавшего каждого из них. Глядя на залившегося краской товарища и покатываясь со смеху, они испытывали облегчение, ибо могли безнаказанно поглумиться над собственным чувством стыда.
Всякий, кто становился жертвой подобного нападения, почему-то непременно кричал с возмущением:
– Ах ты, похабник!
И хор голосов радостно подхватывал:
– Ах он, похабник! Ах он, похабник!
Оми был признанным мастером этой игры. Атаки его были стремительны и почти всегда успешны. Я даже подозревал, уж не мечтают ли жертвы втайне подвергнуться нападению Оми. Вокруг него постоянно кружили «мстители», но у них ничего не выходило: Оми всегда держал одну руку в кармане и при покушении немедленно прикрывался двойным щитом: одной ладонью – в кармане, изнутри, другой – снаружи.
Сообщение толстяка посеяло в моей душе некие семена, проросшие ядовитой травой. До той поры я играл в «похабника» безо всякой задней мысли, как и многие прочие. Но поразительная весть привела к тому, что и в моем мозгу пресловутая «дурная привычка», которую я подсознательно выделял в особую сферу – это была моя, и только моя жизнь, – вдруг соединилась с игрой в «похабника», то есть с жизнью общественной, которую я делил с другими. Вот почему слова «цапни его» проникли мне в самую душу и наполнились смыслом, недоступным пониманию ни толстяка, ни прочих моих наивных товарищей.
С этого дня я не участвовал больше в любимой гимназической игре. Мне страшно было представить себе, как я стану нападать на Оми, и многократно страшнее вообразить, как Оми бросится на меня. Как только возникала опасность очередной игры в «похабника» (а этот порыв рождался внезапно, безо всякого видимого повода, как бунт или мятеж), я поспешно отходил в сторону и смотрел на Оми немигающим взглядом…
Мы все находились под чарами Оми, хоть сами об этом не догадывались.
Взять историю с носками. В ту эпоху господствовала доктрина военизированного образования, не обошедшая стороной и нашу гимназию. В большом ходу был завет генерала Эноки молодому поколению: «Простота и мужество», а посему школьное начальство запрещало нам носить яркие шарфы и носки. Шарф вообще считался нежелательным предметом одежды; рубашка полагалась непременно белая, а носки черные или, на худой конец, темные. Один лишь Оми щеголял в белоснежном шелковом шарфе и пестрых, разноцветных носках.
Этот первый нарушитель табу превосходно умел придавать своим проступкам вид бунтарства. Он рано понял, что мальчишки весьма падки на прелести этого красивого слова. Оми в присутствии своего приятеля, нашего военного инструктора (этот унтер из деревенских ходил у него чуть ли не в оруженосцах), намеренно неторопливо обматывал вокруг шеи белый шарф и поднимал воротник усыпанной золотыми пуговицами шинели на манер Наполеона.
Как известно, толпа в своем бунтарстве лишь бездумно следует чьему-то примеру. А посему мы, остальные, стремясь вкусить запретный плод мятежничества, но при этом по возможности избежать расплаты, дальше вольностей с носками так и не пошли. Я не был исключением.
По утрам, перед началом занятий, мы обычно сидели верхом на партах и болтали о том о сем. Тот, кто в этот день набрался смелости явиться в гимназию в фривольных носках с каким-нибудь невиданным узором, садился на парту, как бы случайно подтягивая брюки повыше. Тут же раздавались восхищенные стоны:
– Ух ты, вот это носочки! Класс!
Более выразительного слова, чем «класс», мы просто не знали. Когда оно звучало, у всех перед глазами возникало надменное лицо Оми, хотя тот неизменно появлялся в аудитории лишь в последнюю минуту, перед самым построением.
Однажды утром, после долгого снегопада, я торопился в гимназию. Мне накануне позвонил один из приятелей и сказал, что сегодня будет большое сражение. Я всегда плохо сплю, если назавтра ожидается нечто из ряда вон выходящее, а потому встал в то утро ни свет ни заря и сбежал из дома раньше обычного.
Снегу выпало не так уж и много – он едва доходил до верха ботинок. В этот предрассветный час заснеженный город казался не похорошевшим, а, наоборот, каким-то особенно жалким. Улицы словно замотали свои раны и язвы грязноватым бинтом. Ведь раны улицы – это и есть ее красота.
Когда электричка подъезжала к станции, где находилась гимназия, я увидел из окна еще почти пустого вагона, как над крышами заводского района восходит солнце. И пейзаж наполнился радостью и цветом. Унылая шеренга фабричных труб и скучный ряд однообразных строений задрожали от страха, когда утреннее солнце высветило напяленную миром ликующую снежную маску. Именно на таких заснеженных театральных сценах разыгрываются трагедии: восстания и революции. И лица людей, бледные от сияния окружающей белизны, делаются похожими на лица заговорщиков.
Я еще совсем недалеко ушел от станции, проходил мимо конторы транспортной компании, а с крыш уже закапала талая вода. Мне почудилось, что это падают вниз брызги солнечного света. С отчаянными криками бросались они навстречу гибели, вниз, прямо в слякоть грязного, истоптанного ногами бетонного тротуара…
В школьном дворе снег лежал нетронутым. Раздевалка еще была закрыта, и я пошел прямо в нашу классную комнату, которая располагалась на первом этаже. Распахнув окно, я стал смотреть на присыпанную снегом рощу. С заднего двора гимназии через рощу к учебному корпусу вела дорожка, и я увидел цепочку следов, тянувшуюся по ней к самому окну нашего класса, а потом сворачивавшую влево, к лабораторному флигелю.
Значит, меня кто-то опередил? Кто-то прошел через задние ворота, заглянул в окно пустой аудитории, увидел, что там никого нет, и отправился дальше.
Но почти никто из учеников не приходил в гимназию через рощу – всего несколько человек. И среди них Оми, про которого болтали, будто он ночует у женщины, живущей где-то в той стороне. Но это не мог быть Оми – ведь тот всегда появлялся перед самым звонком, не раньше. И в то же время следы были такие большие. Никто, кроме Оми, у нас не носил обуви подобного размера.
Я высунулся из окна, вгляделся в отпечаток ноги и увидел сквозь снег черную, вызывающе свежую землю. От следов исходила какая-то уверенная, могучая сила, неодолимо притягивавшая меня. Я испытал неудержимое желание рухнуть головой вниз и зарыться лицом в эти следы. Но, как обычно, мои неуклюжие мышцы помешали осуществлению страстного желания. Когда я, бросив ранец на стол, с трудом карабкался на подоконник, мне пришлось навалиться на его каменную поверхность всем телом, и пуговицы глубоко впились в мою хилую грудь. Я испытал острую боль – смешанное ощущение горечи и наслаждения. Боль прошла не сразу; спрыгнув вниз, я еще чувствовал ее волнующий отзвук, предвещавший неведомые опасности. Мне удалось попасть точнехонько в заветные следы.
Оказалось, что их размер не настолько уж больше моего. Я не учел, что большинство гимназистов (и я в том числе) носили галоши, считавшиеся тогда особым шиком. Увы, судя по всему, тут ходил не Оми. И все же меня тянуло пройти по этому черному следу, хоть тревожное чувство и подсказывало, что в конце пути меня ожидает разочарование. Возможно, дело здесь было не только в надежде увидеть Оми – любопытство и обида подбивали меня посмотреть, кто же истоптал снег первым, кто нарушил его тайну.
Тяжело дыша, я отправился по цепочке, шагая из следа в след. В одних виднелась черная блестящая земля, в других сухая трава, грязный слежавшийся снег или камень мощеной дорожки. Вскоре я обнаружил, что двигаюсь широким, смелым шагом. Так ходил Оми.
Я свернул за угол лабораторного флигеля и вышел на освещенный снегом холмик, за которым располагался стадион. Трехсотметровый эллипс беговой дорожки слился с игровым полем – их прикрыла ровная пелена сверкающего снега. На дальнем краю стадиона росли две гигантские дзельквы – их по-утреннему длинные тени придавали заснеженному пространству асимметрию и неправильность, без которых не бывает подлинного величия. Сочетание голубого небесного фона, снежного сияния и косого солнечного света делало деревья как-то неестественно, по-пластмассовому точеными; с ветвей то и дело осыпалась вспыхивавшая золотом белая пыль. Все вокруг безмолвствовало, все еще спало – и корпуса пансиона, и роща, – и потому я слышал, как падает с дзелькв снежная осыпь.
В первый миг я, ослепленный этим сияющим простором, ничего не разглядел. Снежный пейзаж чем-то напомнил мне свежие руины. Было нечто античное в том, как этот ложно траурный ландшафт тонул в бескрайнем искрящемся свете.
А потом на краю этого мертвого города я разглядел огромные, метров по пять, буквы, прочерченные по снегу. Сначала гигантское О, дальше М и еще дальше незаконченное И.
Все-таки это был Оми. Цепочка следов вела через поле к О, от О к М, а от М к самому Оми, который, обмотанный белым шарфом, с засунутыми в карманы пальто рукавами сосредоточенно вытаптывал в снегу букву И. Его тень с восхитительным высокомерием тянулась через белое поле, параллельно теням двух гигантских дзелькв.
Щеки мои горели огнем. Я слепил снежок и кинул в Оми, но не добросил. Однако тот, закончив букву И, поднял глаза и увидел меня.
– Э-ге-гей! – закричал я.
Почему-то я был уверен, что мое появление вызовет у Оми недовольство, но все же, охваченный страстным порывом, заорал во все горло и побежал под горку, на стадион.
И тут случилось чудо – зычным голосом, в котором явно звучало дружеское расположение, Оми проорал в ответ:
– Осторожно! Смотри на буквы не наступи!
Сегодня он определенно казался не таким, как обычно. Оми никогда не учил домашних заданий, учебники так и лежали в его шкафчике, в гимназической раздевалке, а он являлся на занятия налегке, руки в карманах, – причем всегда с неподражаемой точностью: скинет пальто, встанет в шеренгу, и в тот же миг звонок. А в это утро Оми пришел ни свет ни заря, разгуливал в одиночестве по школьной территории и даже улыбнулся своей грубоватой улыбкой мне, несчастному молокососу, которого прежде и взглядом не удостаивал! О, как долго я ждал и надеялся увидеть его улыбку, этот ряд молодых белых зубов!
Но чем ближе подходил я к улыбающемуся Оми, тем слабее становился порыв, заставивший меня кричать и бежать через все поле. Я вдруг осознал одну вещь и разом скис. Он потому и улыбался, что я застал его врасплох, я его понял, и созданный мною образ прежнего Оми рассыпался.
Когда я увидел вытоптанные в снегу огромные буквы О-М-И, то не столько разумом, сколько интуитивно постиг всю глубину его одиночества. Мне стало ясно то, чего, возможно, не понимал и сам Оми, – почему в это снежное утро его потянуло сюда в такую рань… Если б мой кумир сейчас снизошел до какого-нибудь пошлого оправдания (вроде: «Сегодня у нас снежное сражение, вот я и пришел пораньше»), я бы лишился чего-то очень для меня важного, и эта утрата была бы несравнимо болезненней, чем ущерб, нанесенный гордости Оми. Вот почему я поспешил прийти ему на помощь и сказал первым:
– Вряд ли сегодня удастся в снежки поиграть. Маловато все-таки снегу выпало.
Лицо Оми приобрело равнодушное выражение. Скулы его затвердели, в брошенном на меня взгляде читалось легкое презрение. Он изо всех сил пытался уверить себя в том, что я – жалкий сосунок, и от этого усилия в глазах его зажглись недобрые огоньки. Оми был благодарен мне за то, что я ни словом не обмолвился о буквах, но в то же время старался подавить в себе это чувство. Как сладко было мне наблюдать за этой внутренней борьбой!
– Чего ты в вязаных перчаточках ходишь, как дитя малое, – фыркнул он.
– Взрослые тоже носят такие, – возразил я.
– Эх ты, бедолага. Поди и не знаешь, что такое настоящие кожаные перчатки. Вот, гляди.
И он внезапно потер своей мокрой от снега перчаткой по моей щеке. Я отшатнулся. Щека вспыхнула нестерпимым чувственным пламенем, словно помеченная огненным тавром. Я почувствовал, как прозрачен и ясен взгляд моих глаз, устремленных на Оми.
Именно в тот миг я в него и влюбился.
Это была первая в моей жизни любовь, если, конечно, ко мне применимо столь прямолинейное слово. Причем любовь моя явно и недвусмысленно основывалась на физическом желании.
С каким нетерпением ждал я наступления лета, когда мог представиться случай увидеть Оми раздетым. У меня была страстная, заветная мечта – посмотреть на его «здоровенную штуку».
В моей памяти, как два электропровода, спутались две истории, связанные с перчатками. Кроме тех, кожаных, я часто вспоминаю еще пару белых парадных перчаток, и уже сам не знаю, какое событие произошло в действительности, а какое плод моей фантазии. К грубоватому облику Оми, пожалуй, больше подошли бы кожаные перчатки, хотя, может быть, по контрасту он лучше смотрелся бы в белых.
Я сказал «грубоватый облик», и перед моими глазами встает самое заурядное лицо, лицо юноши, чувствующего себя одиноким среди мальчишек. Оми не был у нас в классе самым высоким, но зато никто не мог с ним сравниться ладностью фигуры. Наша гимназическая форма, имитировавшая мундир морского офицера, на узких ребячьих плечах смотрелась довольно убого, и лишь одному Оми она была впору. В этом синем наряде он так и излучал мужественную силу и чувственность. Уверен, что не я один с завистью и обожанием смотрел на эту великолепную мускулатуру, проступавшую под тонкой саржевой тканью.