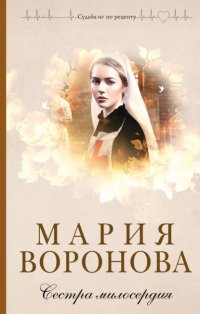Читать онлайн Врачебная ошибка бесплатно
- Все книги автора: Мария Воронова
© Воронова М., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2018
Врачебная ошибка
Лестница тяжело скрипнула под ногами Льва Абрамовича, и Зиганшин подумал, что теперь все стало тяжело и тускло.
Он посмотрел на деда. Тот отрицательно покачал головой.
Зиганшин открыл холодильник.
– Мама котлеты с пюрехой привезла, будешь?
– Давай, – вздохнул Лев Абрамович, сел за стол и начал кончиком ножа обводить узоры на клеенке.
Зиганшин включил газ под сковородкой, подождал, пока она раскалится, налил масла и положил две котлеты, в центр – горку белого картофельного пюре и стал перемешивать, чтобы не пригорело.
По кухне поплыл приятный аромат домашней пищи, но не вызвал ничего, кроме тоски и отвращения.
Зиганшин разложил еду по тарелкам, крупно порезал изумрудный кривой огурец и сел за стол.
Вкуса он не почувствовал, но это было уже дело привычное.
– Жаль, ты не пьешь, – сказал Лев Абрамович, заметив, как мало убывает у Зиганшина на тарелке, – тяжело такое на сухую переносить.
– Да ну ты что, Абрамыч!
– Может, и Фриде полегче было бы.
Зиганшин не ответил.
Лев Абрамович тоже ел без аппетита.
– Вообще ничего не поела? – спросил Зиганшин.
– Совершенно ничего. Я говорю: Фрида, как ты думаешь поправляться, если ничего не ешь? Молчит. Если б знать, как заставить…
– Да как? Я тоже через силу глотаю. Но я-то здоров.
Зиганшин выбросил остатки еды, быстро помыл посуду и поднялся в спальню.
Фрида лежала в постели, как показалось ему, в том же положении, в котором он ее оставил. Зиганшин прилег рядом и погладил ее по плечу, уже привычно расстроившись, какое оно стало тонкое и хрупкое. Фрида не ответила.
– Надо есть, – сказал он тихо, – хоть немножко. Что тебе принести? Может, сладенькое что-нибудь?
– Нет, спасибо.
– А хочешь, закутаем тебя и в сад отнесем?
– И там оставим, – буркнула Фрида.
– Зачем ты так? Просто подышишь свежим воздухом, может, есть захочется, и уснешь получше.
– Не хочу.
– Фрида, но тебе сейчас надо делать всего две вещи: есть и спать. А ты не хочешь.
– Не хочу.
– Может, что-нибудь особенное? Селедки там или абрикосов?
– Ничего не нужно.
– Фрида, подумай. О! – Зиганшин вспомнил о разговоре с Львом Абрамовичем. – Давай вина тебе налью.
– Отвяжись от меня, Слава.
Она лежала спиной к нему, уткнувшись лицом в подушку, и приходилось напрягаться, чтобы понять, что она говорит.
Зиганшин лег под одеяло и обнял жену. Сквозь ткань ночной рубашки нащупал грубый шов на животе – смерть ударила своей когтистой лапой и навсегда оставила глубокий след.
– Скажи, что ты хочешь, все, что угодно, – прошептал он, – лишь бы только тебе стало полегче.
Она впервые повернулась к нему лицом:
– Слава, есть одно, что мне действительно хочется.
– Говори.
– Не тормоши меня, пожалуйста. Дай мне побыть самой с собой, хорошо?
Он нахмурился:
– Это неправильно, Фрида. Но если ты так хочешь, то хорошо.
Она снова легла лицом в подушку, по пути сбросив его руку.
Зиганшин лежал молча и пытался составить картинку из трещинок на потолке. Сколько можно еще ждать, прежде чем кормить ее насильно? Может, надо ставить капельницу с питательным раствором или показать психотерапевту, чтобы прописал какие-нибудь таблетки от депрессии? Давно, наверное, пора действовать, а он сидит…
– Ты сам-то как держишься? – вдруг спросила Фрида и взяла его за руку. Зиганшин осторожно сжал ее ладонь.
Как он держится? Он этого не знал. Негодование и отчаяние, наверное, разъедали его душу, но Зиганшин не давал им воли. Они у него были как пьяные хулиганы, надежно запертые в камере. Слышно на весь отдел, и даже можно заметить, как железная дверь сотрясается под их ударами, но ясно, что вреда они никому не причинят, и работа идет своим чередом.
– Я нормально, Фрида, – сказал Мстислав и поцеловал ей руку, – нормально.
После несчастья бессонница стала его верной спутницей, не подвела и сегодня. Он посчитал овец, пробовал дышать в такт со спящей Фридой, но все было бесполезно. Зиганшин покосился на тумбочку возле изголовья жены, увидел в холодном лунном свете контуры пузырька со снотворным и быстро сел. Искушение взять таблетку оказалось таким сильным, что он вышел из спальни, тихонько притворив за собой дверь. Сейчас он единственный остался на ногах после удара и не имеет права одурманивать себя. Никак нельзя этого делать.
Зиганшин спустился вниз. Дом спал, но он знал, куда ступать, чтобы половицы не скрипели.
Оказавшись в кухне, он выпил стакан воды и осторожно открыл форточку, вдохнул сырого осеннего воздуха и увидел, как на лес опускается пелена тумана. В окне был виден нижний край луны; огромная, близкая, она сияла белым беспощадным светом.
«Неудивительно, что я никак не усну», – вздохнул Зиганшин и резко задернул занавеску, но свет все равно проникал в кухню.
Он включил бра над столом и поискал глазами Найду. Собака спала на диване в гостиной, своем законном месте. Женившись, Зиганшин хотел отучить ее, но Фрида сказала, что не надо. Почувствовав взгляд хозяина, собака тяжело поднялась, подошла к хозяину и со вздохом положила голову ему на колени. Зиганшин погладил ее и подумал, не вывести ли на улицу, но стук входной двери мог всех разбудить и напугать.
– Подожди до утра, – сказал он и дал Найде сушку из вазочки.
На столе лежало забытое Светой вышивание, урок по труду. Что ж, он все равно не спит, да и взаимовыручка в семье прежде всего… Зиганшин притянул к себе пяльцы, разобрался со схемой и приступил к делу. Однообразный труд вызывает однообразные мысли, это лучше, чем пытаться отвлечь себя чтением или соцсетями.
Фрида после больницы так и не прикоснулась к своему телефону, даже с матерью не хочет говорить. Хорошо бы Мария Львовна приехала, но она не может оставить детей, и Фрида на нее, наверное, за это злится.
Кажется, первый раз в жизни Зиганшин не знал, что делать и как быть.
Он быстро работал иглой, и хоть не ошибался в крестиках, но сосредоточиться на вышивке не удавалось. Все думалось, что Света с Юрой скоро выучатся, и больше никогда не будет в его жизни школы и уроков, и дети попали к нему уже довольно взрослыми, так что некоторые вещи он не знал и теперь уже не узнает никогда. Не придется никого учить кататься на велосипеде, стоять на коньках и плавать, и в первый раз в первый класс он тоже никогда никого не поведет. Гладиолусы на клумбе растут без надобности… Тот, кто мог бы их понести первого сентября, лежит в земле, и ничего не будет.
У Фриды больше не может быть детей, а на внуков какая надежда… Света и Юра вроде бы любят его, и к Фриде сильно привязались, только это совсем другое чувство, чем любовь к родителям. Вырастут и уедут, а когда обзаведутся собственными семьями, там для будущих внуков найдутся настоящие бабушки и дедушки.
Страшная пустота образовалась на месте будущего, которое он уже почти считал настоящим, уже жил в нем. Но хватило нескольких минут, чтобы все осыпалось. Зиганшин запретил себе думать дальше и нарочно перешел к самому трудному участку, стараясь вышить глаз зайца так аккуратно и точно, словно от этого что-то зависело.
Всю беременность Фрида чувствовала себя прекрасно, и настроение у нее тоже было отличное. Она не изводила себя тревогами, не боялась родов, а когда обследование не выявило у ребеночка никаких отклонений, совершенно успокоилась и отдалась радости грядущего материнства. Зиганшин настоял, чтобы она перешла на легкий труд, раз уж не хочет увольняться, сам съездил к главврачу, поговорил с ним по душам, и Фриду на время беременности перевели в методический отдел, где она изнывала от скуки над разными бумажками.
Это было время счастья и спокойствия, и Зиганшин почти не думал о плохом. Надо, конечно, поволноваться для порядка, поизводить себя, чтобы потом еще сильнее обрадоваться благополучному разрешению, но всем понятно, что все будет хорошо. Они с Фридой здоровы, медицина теперь справляется с любыми проблемами, все вокруг рожают здоровых детей, и нет никаких причин думать, что у них будет иначе.
Ближе к родам у них возникло небольшое разногласие: Зиганшин хотел поместить жену в какую-нибудь элитную клинику, а она сказала, что хочет рожать у себя на работе. Все там ее знают, любят и отнесутся, соответственно, как к своей. Мстислав Юрьевич возразил, что за сумму, которую он готов заплатить в клинике, к Фриде отнесутся, как к своей в квадрате, но жена покачала головой и сказала, что деньги в медицине это еще далеко не все. Личные отношения тоже очень важны, а уж если медики будут знать, что муж готов вознаградить их по-царски, то будет такое внимание, которому позавидуют даже настоящие цари. И Зиганшин дал себя уговорить, настояв только на том, что хочет быть рядом с Фридой как можно больше, пока его присутствие не нарушит стерильности и покоя других рожениц. Что ж, это ему обещали. Фрида показала ему роддом, познакомила с докторами и акушерками, и Мстислав Юрьевич остался доволен, убедившись, что в коллективе Фриду любят по-настоящему и хотят ей добра.
Он успокоился, тем более что мама с Львом Абрамовичем встали на сторону Фриды. Оказывается, если нет никаких патологий, в маленьких сельских роддомах лучше, чем в больших. Поток меньше, стало быть, у персонала есть время на пациентов, да и с точки зрения санитарии тоже лучше.
Был только один минус – Зиганшин всегда, проезжая по делам мимо этого здания серого кирпича, весной живописно утопающего в кустах сирени, томился каким-то тягостным предчувствием. Не нравилось ему это место, да и все, хотя ничего плохого с ним тут никогда не случалось, и до женитьбы он вообще не знал, что это роддом.
Только Зиганшин не верил в приметы и предзнаменования и был убежден, что этой внезапной тоске, как и вещим снам, найдется, если подумать, вполне разумное объяснение. Наверное, он когда-то, глядя на этот дом, вспомнил о чем-то очень плохом или грустном, а подсознание зафиксировало, вот и все. И он не стал пугать Фриду своими предчувствиями, тем более что жена очень гордилась, что провела всю беременность на свежем воздухе, а не в загазованном Питере, и не хотела перед самыми родами знакомить ребенка с выхлопными газами. Потом, сказала она, чтобы лечь заранее, нужны медицинские показания, а она здорова, значит, ехать придется, когда роды уже начнутся. Здесь она доберется за двадцать минут, или муж ее отвезет или дедушка, а в Питере совсем не то. Там есть вполне реальный шанс родить в пробке в машине «Скорой помощи».
Эти доводы показались Зиганшину разумными, и он подавил свое внутреннее сопротивление. Тем более он пошел в отпуск перед самыми родами и каждую секунду готов был стартовать в роддом, два раза в день проверяя, на ходу ли джип, а сумка с вещами, документами и обменной картой стояла собранная у дверей.
Фрида почувствовала приближение родов в воскресенье утром. День выдался очень хороший, солнечный, прощальный взмах уходящего лета, и по дороге они говорили, как здорово, что ребенок появится на свет в такую прекрасную погоду. До первого сентября осталось совсем чуть-чуть, и хоть формально день рождения летом, но в это время ребята уже возвращаются с каникул, так что праздновать можно со всеми друзьями.
Схватки приходили редко, гнать было незачем, и Зиганшин вел машину аккуратно, объезжая каждую яму на разбитой дороге. Он смотрел на бездонное синее небо с уже по-осеннему бледным солнцем, видел вдали кромку леса, на которую надвигающаяся осень уже накинула золотую вуаль, слушал Фридины идеи насчет имени для ребенка и не знал, что судьба отсчитывает ему последние часы безмятежного счастья.
Он думал о погоде – чтобы простояла до дня, когда он будет забирать жену и сына из роддома.
Врач в приемном покое была Зиганшину незнакома, и Фрида тоже едва ее знала. Мстислав Юрьевич не был склонен к поспешным суждениям, но почему-то сразу почувствовал неприязнь к этой красивой и холеной молодой женщине. Она показалась ему высокомерной, грубой и к Фриде отнеслась с презрением. Когда жена попыталась наладить контакт, врач тут же ее оборвала: «Сейчас вы не работаете, а рожаете», и Фрида замолчала.
Зиганшина она хотела сразу выгнать, сказала: «Нечего ему здесь делать», супруги растерянно переглянулись, но положение спасла акушерка, уговорила строгую докторшу оставить мужа при роженице за ее немалые заслуги перед больницей.
Мстислав Юрьевич покорно переоделся в одноразовый бумажный костюм и вместе с Фридой оказался в маленькой комнатке с двумя клеенчатыми топчанами. Акушерка предупредила его, что придется уйти, если вдруг место понадобится для еще одной роженицы.
Но пока было тихо, они с Фридой медленно ходили по комнатке, читали плакаты санитарного просвещения. Врач предупредила, что роды начнутся еще не скоро, Фрида волновалась, как он будет голодный, и гнала его пообедать, но Зиганшин знал – если он сейчас выйдет, то обратно его уже никто не пустит, поэтому терпел.
Врач сказала, что все в порядке, Фрида чувствовала себя настолько хорошо, насколько это возможно для рожающей женщины, но Зиганшина вдруг охватила непонятная тревога.
– Давай уедем, – предложил он, – время еще есть, а я за сорок минут домчу тебя до нормальной клиники, где хорошие врачи, а не эта хамка.
– Мне от нее не вежливость нужна, – фыркнула Фрида. – Как говорится, наша работа спасать ваши задницы, а не целовать их. А специалист она хороший, уж ты мне поверь.
Зиганшин постыдился признаться, что он, как истеричка, готов позволить предчувствиям управлять собой, и не стал настаивать.
Они еще походили, потом Фрида прилегла. Акушерка запретила Зиганшину садиться на кушетку, поэтому он устроился рядом на корточках, как матерый зэк, держал жену за руку, и пытался если не унять свое беспокойство, то хотя бы не дать ему прорваться наружу.
Последний раз он так явно, всей кожей, чувствовал опасность много лет назад, будучи на войне. Инстинкт кричал, что срочно надо спасаться, бежать или наступать, но Зиганшин решил, что это обычная реакция человека в преддверии отцовства. Если бы он сам рожал, то не волновался бы, а тревога за жену вылилась в такую странную форму, вот и все.
Схватки не учащались, и Фрида сказала, что, может, сегодня еще и не родит. Зиганшин хотел снова предложить другую клинику, но осекся. Зачем баламутить человека своими иррациональными страхами? Условия тут, конечно, ужасные по сравнению с частной клиникой, и врач после приемного ни разу не подошла, хотя они тут уже три часа, но раз Фрида спокойна, то все хорошо. Мстислав Юрьевич только попросил жену сообщить главврачу или начмеду, что она рожает, чтобы тот позвонил высокомерной докторше и заставил ее быть внимательной к сотруднице-пациентке. Фрида ответила, что так будет только хуже, подобные вещи наоборот вызывают неприязнь. Попал к ним в реанимацию один пациент, милейший дядька, но с кучей родственников. Пока врачи тихо-мирно вытаскивали дядечку с того света, родственники выжимали административный ресурс, и разные высокопоставленные лица звонили в реанимацию с интервалом в четверть часа, спрашивали, как там чувствует себя больной такой-то и просили позаботиться о нем как следует. В результате пациента, конечно, спасли, как и планировали, но возненавидели.
– Все будет в порядке, не волнуйся, – улыбнулась жена.
Наконец заглянула врач, быстро посмотрела Фриду и, бросив, что все в порядке, ушла, но спокойней Зиганшину не стало.
Фрида поднялась с кушетки и, бодрясь, стала наставлять его, куда ехать и сколько чего купить для малыша. Зиганшин слушал, хотя подробный список уже две недели лежал у него в бумажнике.
Вдруг она вскрикнула, согнулась и схватилась за живот. Лицо резко побледнело.
– Что? – вскочил Зиганшин.
– Очень больно, – простонала Фрида, – будто пополам разрывает.
Она пошатнулась, он подхватил ее и уложил на кушетку.
– Что-то мне нехорошо, – прошептала Фрида.
Он выбежал в коридор, показавшийся очень длинным и пустым, и стал бестолково тыкаться в белые одинаковые двери. Наконец обнаружил акушерку, та пила кофе, аромат которого почему-то показался Зиганшину омерзительным. Она обещала вызвать врача. Вернувшись, он нашел Фриду повеселевшей, она сказала, что чувствует себя хорошо и, наверное, это просто была минута слабости.
Доктор появилась только через четверть часа, с очень недовольным лицом, тоже пахнущая кофе, быстро посмотрела Фриду и процедила, что все идет по плану.
– А кто вам сказал, что рожать не больно? – фыркнула она.
На лице врача ясно можно было прочесть, как же ей надоели эти тупые и капризные тетки, не умеющие нисколько терпеть боль и дергающие медперсонал по любому поводу.
Зиганшин с Фридой снова остались одни.
Она пыталась шутить, успокаивала его, но через полчаса снова вскрикнула от боли, и ее вырвало, так внезапно, что Зиганшин едва успел подать полотенце.
– Слушай, так, кажется, не должно быть, – сказал он, – я ж изучал роды в школе милиции…
– Ты в школе милиции, а я в медицинском институте, – прошептала Фрида, а Зиганшин с ужасом увидел, как стремительно меняется ее лицо, бледнеет, покрывается испариной и вокруг глаз ложатся темные тени.
– Фридочка, что с тобой?
– Что-то мне нехорошо. – Она через силу улыбнулась, попыталась подняться и потеряла сознание.
Он схватил ее на руки, выбежал в коридор и закричал.
Акушерка вышла не торопясь, но, увидев Фриду, повисшую у него на руках, стремительно бросилась к телефону.
Вызвав доктора, она побежала в конец коридора, Зиганшин побежал за нею.
Через секунду они оказались в операционной, он опустил жену на стол, хотел растормошить ее, но акушерка вытолкала его вон.
Прошло очень много времени, а может быть, всего несколько секунд, и появилась врач.
Потом подъехала «Скорая», стукнула внизу тяжелая входная дверь, и мимо Зиганшина быстро прошли хирург и анестезиолог – Фридины коллеги, которых он неплохо знал. Анестезиолог сразу скрылся за дверью операционной, а хирург на секунду задержался возле него:
– Иди на улицу, Слава, ради бога, не путайся под ногами.
Зиганшин молча кивнул.
Он будто завис во времени, как муха в янтаре. Что-то делал, кажется, переоделся в свое и вышел в садик. Ходил вокруг роддома, смотрел на клумбы с яркими осенними цветами, лишь бы не видеть окно, горящее мертвенно-белым светом. Окно операционной, где сейчас что-то делают с Фридой и с их сыном.
Вдали, за березовой рощей, виднелся золотой купол церкви, и Зиганшин подумал, что надо помолиться. «Пожалуйста, сделай так, чтобы они остались живы», – шептал он, понимая, что этого не будет.
Он не знал, сколько прошло часов или минут, прежде чем к дверям роддома снова подъехала «Скорая». Выскочили санитары, с грохотом раскрыли задние двери и выкатили носилки. «Значит, жива», – подумал Зиганшин и подошел ближе.
Фрида лежала на каталке бледная, как восковая. Анестезиолог шел рядом и дышал за нее мешком, сестра несла капельницу. Зиганшин понял, что она еще под наркозом, и остановился. Нельзя сейчас мешать врачам.
Фриду погрузили в машину, и «Скорая» уехала, завывая сиреной. Мстислав Юрьевич поймал себя на мысли, что жена проснется от громкого звука и ей станет больно.
На крыльцо вышел хирург и закурил. Зиганшин дал ему сделать несколько затяжек и только после этого подошел.
– Ну что, – сказал хирург отрывисто, – кровопотеря колоссальная, поэтому побудет у нас в реанимации два-три дня как минимум.
Зиганшин кивнул.
Хирург глубоко затянулся, выдохнул и нахмурился:
– А ребенка не спасли, – сказал он.
– Слава богу, Фрида осталась жива.
– Если бы взяли хоть на пятнадцать минут раньше, может, живым бы достали, – вздохнул хирург.
– Главное, она жива, – повторил Зиганшин.
Следующая неделя помнилась ему смутно. Он ездил в больницу, сидел возле Фриды, держал за руку и ждал, когда жена очнется. Но ее состояние оставалось таким тяжелым, что врачи целую неделю продержали ее в наркозе.
Он старался быть полезным, помогал сестрам ворочать больных, но все равно долго ему не разрешали находиться в реанимации и выгоняли.
Сначала Зиганшин хотел оттянуть похороны сына, чтобы Фрида могла с ним проститься, но потом решил, что для нее это будет слишком тяжело, и сделал все сам.
Ее выписали только через месяц, худую, слабую и раздавленную горем.
Мстислав Юрьевич закрепил нитку и оглядел свою работу, держа в вытянутой руке. Что ж, Свете краснеть не придется.
Вышивка готова, а сон все не идет. Он встал, потянулся и остановился возле окна. Луна светила все ярче, и, кажется, подул ветер, потому что верхушки деревьев стали сильно раскачиваться. Летом кто-то из дачников упустил полиэтиленовый пакет, тот зацепился за ветку клена, да так и остался, так что теперь на ветру казалось, будто это какое-то живое существо трепещет, не находит покоя…
Зиганшин резко отвернулся.
К концу его отпуска жена еще не окрепла настолько, чтобы встать с постели. Она почти ничего не ела, лежала безучастно, глядя в одну точку. Это было так не похоже на его Фриду, активную и любопытную, что у Зиганшина болело сердце. До больницы она читала запоем, книги были везде, и даже в кровати, желая обнять жену, он непременно натыкался на какой-нибудь том.
Забрав Фриду из больницы, он набрал в «Буквоеде» кучу новинок, но стопка книг лежала на подоконнике нетронутой. Тогда Зиганшин купил ей последний айпад, чтобы жена смотрела сериалы онлайн, или слушала аудиокниги, или хотя бы просто общалась с матерью на большом экране. Но Фрида даже не открыла коробку, только вяло сказала: «Мы теперь бездетные и можем тратить кучу денег на себя», и Зиганшин испугался, что оскорбил ее этим подарком.
Безучастность жены и то, что он ни разу после больницы не видел ее слез, тревожили его больше, чем физическая слабость и полное отсутствие аппетита.
Если бы только мог, он бы остался дома, но надо идти служить.
К счастью, Лев Абрамович не оставляет внучку и помогает с детьми, и мама приезжает через день, так что Фрида редко бывает одна, но все равно боязно уезжать на целый день.
А еще Зиганшину было очень стыдно, что ему хочется на службу. Стремясь вернуться к работе, он предает Фриду, отмежевывается от их общего горя, и Мстислав Юрьевич уговаривал себя, что просто подчиняется необходимости. Он – единственный кормилец и не имеет права раскисать.
Субботним вечером он спохватился, что надо постирать форму, о которой он совсем забыл, и обнаружил, что порошок закончился.
Пришлось ехать в супермаркет. С тех пор как забрал Фриду из больницы, Зиганшин не бывал в райцентре. Он специально выбрал магазин, на пути к которому не нужно было проезжать мимо роддома, но все равно тоска охватила его с удвоенной силой.
Он быстро взял с полки первый попавшийся порошок и направился к кассе, как вдруг увидел ту самую докторшу, к которой, на свою беду, попала Фрида.
Накатила такая мощная волна ярости, что Зиганшин вынужден был остановиться.
Врач тоже заметила его и подошла. Обычная молодая женщина, красивая, даже милая. Видно, высокомерное и презрительное выражение у нее припасено только для работы.
– Добрый вечер, – сказала она. – Как себя чувствует Фрида?
– Вашими молитвами…
Она пожала плечами:
– Зачем вы так? Я действительно за нее волнуюсь.
– Поздновато начали, – процедил Зиганшин, чувствуя, что теряет самообладание. – Ну да что мы все о моей жене! Вы-то как? Кофе удалось вам попить? Никто не помешал?
– Ну, знаете, продолжать разговор в таком тоне я не вижу смысла, – врач поджала губы. – У вашей жены случилось редкое осложнение…
– Довольно! Вы убили моего ребенка и чуть не угробили жену, и не надо ничего мне объяснять.
– Вы ошибаетесь…
– Нет, это вы ошиблись. До свидания.
Он развернулся и пошел к выходу.
Работала только одна касса, перед которой скопилась небольшая очередь. Докторша встала через одного человека после Зиганшина, он чувствовал спиной ее взгляд, и от этого было неловко и тягостно. Как назло, девочка за кассой работала медленно, и Мстислав Юрьевич сильно пожалел, что вообще поехал за этим чертовым стиральным порошком.
Когда подошла его очередь, юная кассирша совсем запуталась. Зиганшин протянул ей карточку, но она попросила наличные.
Он раскрыл пустой бумажник.
– Пожалуйста, снимите в банкомате, – на девочку было жалко смотреть, – я вам комиссию верну.
– Ну такой расход я могу себе позволить, – улыбнулся Зиганшин. – А в чем дело-то?
– Я случайно нажала вам оплату наличными. Простите, пожалуйста… – Девочка готова была заплакать, и Зиганшин снова растянул рот в улыбке:
– Да ничего страшного.
– Целый день сегодня касса глючит, – пролепетала она.
– Пусть это будет вашим самым большим огорчением на сегодня.
Он быстро вставил карточку в банкомат, расположенный в трех шагах от кассы, получил деньги и расплатился.
– И комиссию не взяли, так что все в порядке, – сказал он, пока кассовый аппарат печатал чек, – а на будущее мой вам совет: когда что-то идет наперекосяк, сосредоточьтесь на текущей задаче.
Он подмигнул кассирше, потому что ему действительно стало жалко эту растерянную девочку, и вышел.
Возле небольшого ларька со сладостями Зиганшин ненадолго задержался, купил Свете с Юрой по фигурной шоколадке, а Фриде – ее любимое желе, хотя и знал, что она не станет есть.
Протирая зеркала от дорожной пыли, он снова увидел докторшу. Она толкала к своей машине тележку, и Зиганшин заметил среди ее покупок много фруктов и бутылки дорогой минералки. «Не бедствует, живет в свое удовольствие», – в бешенстве подумал он и отвернулся, но женщина оставила свою тележку и подошла к нему:
– Простите, но я видела, как ласковы вы были с этой недотепой на кассе. Вы разумный, благородный человек, так что, пожалуйста, поймите, что виновата не я, а грозное акушерское осложнение.
– Одна чашка кофе.
– Что, простите?
– Одна не выпитая вами чашка кофе, и мой сын был бы сейчас жив. Вы могли успеть!
Она покачала головой.
– Могли, – повторил Зиганшин, – если бы внимательнее отнеслись к моей жене и сразу поставили диагноз. Но вы пили кофе.
Врач вдруг усмехнулась.
– Вам весело?
– Ну что вы, нет, конечно. Да, мы могли бы успеть, и ваш сын был бы жив, но скорее всего остался бы глубоким инвалидом. И сколько времени вы продержались бы рядом с ним, прежде чем начать все заново с другой женщиной?
Зиганшин отступил. Врач вдруг заговорила так страстно, что ему показалось, будто она сумасшедшая:
– Да что я говорю, вы и так от жены уйдете, потому что она у вас не может больше иметь детей, а вы ж мужчина, у вас должны же быть дети. И самое забавное, что меня вы с дерьмом мешаете, а зато себе найдете оправдание очень быстро. Оглянуться не успеете, как уговорите себя, что все вокруг виноваты: я, Фрида, кто угодно, а вы один в белом пальто.
– Никуда я не уйду!
– Это вы сейчас так думаете.
Зиганшина замутило.
– Не уйду, – повторил он, сам не понимая, зачем оправдывается перед этой бабой.
– Уйдете. Те, кто обвиняет, всегда потом уходят.
Он вернулся как больной. Болела голова, знобило, и, засунув форму в стиральную машину, Зиганшин с трудом сообразил, какие кнопки надо нажимать.
Он поднялся в спальню, хотел обнять жену, но она уже приняла снотворное и спала.
– Никогда не уйду, – шепнул Зиганшин.
Мысль, что можно бросить жену и попытать счастья с другой, была как грипп или отрава.
Зиганшин лежал и представлял себе, как оно будет. Объяснение с Фридой, проникновенное «ты должна меня понять», и ее быстрое согласие: да, должна. Сбор чемодана с минимумом вещей, потому что он же благородный человек и, естественно, оставит жене все до последней нитки. Небольшая неловкость, легкий укус совести (совсем легенький, потому что он так нагоревал, настрадался), и вперед, под бочок к какой-нибудь веселой теплой бабехе.
Первое время будет скучать по славной Фриде, а когда родятся дети, перестанет и очень быстро убедит себя, что все было сделано ради них, а значит – правильно. В конце концов, цель жизни как продолжение рода еще никто не отменял.
Можно даже не бросать Фриду окончательно, а видеться с нею, принимать участие в ее делах, вешать всякие там полочки и переставлять шкафы, и походя проворачивать нож в ее ране, повторяя, какая она хорошая и любимая, и если бы только могла подарить ему сына…
Он вдруг вспомнил, как в самом начале службы выезжал на самоубийство. Тоже у женщины в родах возникли осложнения, ребенок погиб, и больше она не могла иметь детей. Муж не нашел ничего лучше, как прямо в больнице сообщить ей, что разводится, и женщина в отчаянии выбросилась из окна. Вид тела, лежащего на снегу в одной больничной рубашке, долго преследовал его, а потом как-то забылось, отошло под потоком новых впечатлений…
Вдруг эта женщина предстала перед ним так ярко, что Зиганшин еле успел добежать до ванной, где его долго и мучительно рвало.
Когда спазмы прошли, он умылся холодной водой и посмотрел в зеркало. Лицо как лицо, ничего особенного. Фрида не испугается, если вдруг проснется.
И сразу вспомнил другое лицо, красивое и высокомерное. Интересно, что делает сейчас эта женщина, перечеркнувшая всю их с Фридой жизнь? Наверное, у нее муж, дети и способность родить еще в любую минуту, как только захочется. Она счастлива, безмятежно пьет чаек в окружении домочадцев и не думает о молодой женщине, которую лишила радости материнства, а о муже этой женщины не думает тем более. Возможно, она знает, что совершила ошибку, и когда-нибудь, передавая опыт, расскажет, что был в ее практике случай, когда она чуть-чуть промедлила, но совесть не поднимет голову, потому что это жизнь и ошибки неизбежны. Наоборот, она будет гордиться своей самокритичностью.
В конце концов, она спасла жизнь Фриде, Зиганшин руки ей должен за это целовать, а он, тварь неблагодарная, что-то еще хочет!
Но и об этом она долго не станет думать. Сидит сейчас, наслаждается своим семейным счастьем, которого по ее вине никогда не будет у них с Фридой, и не вспоминает о пациентах, потому что работу надо оставлять на работе.
Зиганшин почувствовал такую острую ненависть, что его снова стошнило.
«Сука, – простонал он между спазмами, – какая же ты сука!»
На службе ему были, кажется, не рады, и совсем не потому, что вернулась твердая рука. Люди не знали, как с ним теперь общаться, и эта неловкость очень чувствовалась. В большинстве сотрудники старались избегать с ним прямого контакта, от этого выполняли распоряжения так быстро и точно, как никогда раньше.
Зиганшин всегда сохранял дистанцию с подчиненными, а теперь оказался прямо-таки в изоляции, но все равно эта отстраненность была лучше, чем попытка начальницы паспортного стола его утешить и приголубить. Мстислав Юрьевич передернулся от сладкой заботы, в ответ на «бедненькие, как же вы теперь с Фридой будете» буркнул: «Как-нибудь без вас» – и выпроводил сердобольную даму из своего кабинета. Больше никто к нему не лез, только Вася Шаларь неловко сунул конверт с деньгами.
– Зачем? – пожал плечами Зиганшин. – Ребенок умер, так что раздай обратно.
– Лишними не будут, – буркнул Вася и быстро выскочил из кабинета.
Зиганшин убрал конверт в стол, неожиданно подумал, что вместо денег лучше поговорил бы с Васей, и сам удивился, откуда у него такие мысли.
За время отпуска накопилось много нерешенных вопросов, и Мстислав Юрьевич погрузился в дела. На службе он не думал о том, что сын умер и у него больше никогда не будет детей, а вечером, по дороге домой, терзался угрызениями совести за эту восьмичасовую передышку. Он может отвлечься, а Фрида лежит, погрузившись в горе, и никто не может дать ей хоть секунду отдыха. Мама приезжает почти каждый день, Лев Абрамович тоже не отходит от внучки, но это все не то.
Позвонил полковник Шляхов. Они вместе служили в армии, поступили в школу милиции, а потом Шляхова распределили на Дальний Восток, где его карьера сложилась как нельзя лучше.
– Я тебе с оказией посылочку передал, – сказал Шляхов, – икры для жены и разных вкусных штучек. Чистый белок, для восстановления после операции незаменимая вещь.
– Спасибо. – Зиганшин удивился, как на другом конце страны стало известно об его несчастье, но уточнять не стал.
– Только можешь в аэропорту человека встретить? А то это целый полковник, да еще из старших братьев, не по чину за тобой гоняться.
– Хорошо.
– А потом еще одному кексу пакетик завезешь?
– Ну началось, – вздохнул Мстислав Юрьевич, – нашли себе слугу.
– Товарищ подполковник, – по голосу чувствовалось, что Шляхов сильно навеселе, – вы должны быть готовы умереть за своего командира!
– Я и умираю, – согласился Зиганшин, – только очень медленно. Как тельце-то узнать?
– Просто напишешь на бумажке «полковник Альтман», оно само к тебе подойдет.
Сказав это, Шляхов почему-то захихикал.
В положенное время Зиганшин стоял в зале прилета «Пулково» и думал, как по-идиотски выглядит его приветственная табличка. Шляхов над ним по пьяни подшутил, а он не понял. Конечно, надо было имя писать, а не звание.
Наконец в воротах стали появляться первые пассажиры. Зиганшин вглядывался в крепких дородных мужиков, которых среди прибывших оказалось довольно много, гадая, кто из них Альтман, и махал своей табличкой как дурак. Вдруг к нему подошла сухопарая женщина и энергично кивнула, привлекая его внимание.
– Слушаю вас, – сказал Зиганшин и активнее замахал табличкой.
– Это я.
Мстислав Юрьевич нахмурился и внимательнее посмотрел на назойливую даму. Миловидная, свежая, на лице – ни грамма косметики. Рыжеватые волосы убраны в балетную кичку. Она вообще похожа на балерину, только одета совсем не по-балетному. Джинсы, кроссовки, под распахнутой ветровкой из брезента – майка с дурацким рисунком. «Хипстерша какая-то, сейчас будет проситься в машину», – подумал он с неудовольствием.
– Вы меня встречаете, – сказала женщина и ткнула пальцем в табличку.
– Полковник Альтман – это вы?
Она кивнула.
– И вы женщина? – вырвалось у него.
– Да. Человек. Женщина. Полковник Альтман. – Женщина протянула руку, и он пожал – ладонь оказалась узкой, сухой и теплой.
Зиганшин подхватил дорожную сумку и повел Альтман к машине.
Полковник Альтман села спереди, положив на колени сумку из грубой кожи, похожую на колчан Робин Гуда. Почему-то всплыло в голове, что такие сумки называются «ягдташ» и что когда-то он получил трояк за диктант, написав то ли «ягташ», то ли «якдаш», и с тех пор это коварное слово ни разу ему не понадобилось.
Вырулив на проспект, он уловил аромат приятных и явно очень дорогих духов, совсем не вязавшихся с ее сиротским прикидом. На светофоре он осторожно поглядел на свою пассажирку. Может, она специально надела эти лохмотья в самолет, чтобы легче перенести дорогу? Но в гардеробе полковника ФСБ такой дурацкой майки в принципе не должно быть.
Интересно, какую должность она занимает? Но после слишком непосредственной реакции на ее пол неудобно спрашивать.
Альтман резким движением открыла портфель, достала пачку сигарет и зажигалку.
– Для вас оказалось неожиданностью, что я женщина?
– Приятной неожиданностью.
– Да?
– Да.
– Странно. Обычно мужчинам такое неприятно. Больше скажу: я сама терпеть не могу работать с женщинами.
– Не знаю, мне нравится. Пол, национальность, возраст – все это ничего не значит перед деловыми качествами и заслугами.
– Вы еще забыли ориентацию.
– Не забыл. Вы уж меня простите, что позволил себе такое шовинистское высказывание, но это от удивления, ни от чего больше.
– Конечно, и я прекрасно вас понимаю, – кивнула полковник Альтман. – Все же не женское это дело – погоны носить.
– Вы серьезно?
– Безусловно. Женщина должна заниматься семьей, детьми, а не вот это вот все, – Альтман ткнула в себя пальцем. – С делами мужчина справляется гораздо лучше. Можете это проверить на любом примере. Бухгалтер-мужчина всегда быстрее сведет баланс, а парикмахер пострижет лучше, чем парикмахерша.
«Тебе-то откуда знать?» – подумал Мстислав Юрьевич, покосившись на ее кичку.
– Что вы говорите? – вежливо поддакнул он, когда сообразил, что пауза затянулась.
– Да, это так. По себе сужу. Я часто работала лучше идиотов, но всегда хуже дельного и компетентного мужика. Специалист моего уровня, только мужского пола, всегда справлялся лучше моего.
Зиганшин усмехнулся и заметил, что, по последним научным данным, женщина – тоже человек.
– Вы напрасно иронизируете. Мой карьерный взлет обусловлен только тем, что дельных и компетентных мужиков катастрофически мало. Можно сказать, их и вовсе не осталось. И лучше ситуация с этим не станет, – вздохнула Альтман. – Как ни воспитывай детей, а наследственность никто не отменял. Настоящие мужики родятся у настоящих мужиков, а их почти всех перебило в войну.
Зиганшин стиснул зубы.
– И еще такой момент, – кажется, Альтман развивала давно волнующую ее идею, – раньше риски делились поровну между полами. Война холодным оружием была не такой опасной, как теперь, и мирное население при ней страдало минимально. Мужчина шел махать мечом, зная, что в принципе, конечно, если зазевается, может быть убит, но в то же время в случае успеха его ждали чужие женщины и богатые трофеи. Но шанс выжить был намного выше, чем сейчас. У женщин же совсем наоборот. В Средние века забеременеть и родить, в смысле угрозы жизни, было все равно что сходить на войну, даже опаснее…
– Товарищ полковник, простите, мы можем поговорить о чем-нибудь другом? – перебил Зиганшин, чувствуя, что еще секунда, и он потеряет над собой контроль.
– О! Безусловно! – Альтман достала новую сигарету, закурила и закашлялась. – Простите мою бестактность.
– Ну что вы, вы же не знаете…
– Я знаю. И я действительно бестактна, – холодно продолжала она, – существует стереотип, что люди с математическим складом ума не умеют коммуницировать, и я, к сожалению, укладываюсь в этот стереотип. Мой долг был развлечь вас светской беседой, только, не учтя ваших личных обстоятельств, тему я выбрала крайне неудачно. Простите.
– Ничего. А откуда вы знаете о моих обстоятельствах?
– Мы с полковником Шляховым много об этом говорили. Вам очень сочувствуют.
– Спасибо.
– Мстислав, раз уж мы коснулись вашего несчастья, то я могу помочь с усыновлением.
– Простите? – вскинулся Зиганшин.
– Исключительно в порядке информации сообщаю, что я могу помочь с усыновлением ребенка, – отчеканила полковник Альтман.
Зиганшин выехал на Московский проспект. Слава богу, до гостиницы осталось минут двадцать, и скоро он избавится от этой любительницы ковыряться в чужих ранах, если она, конечно, не захочет ехать с ним вручать остальные посылки.
Альтман достала из сумки визитку и воткнула ее в щель бардачка.
– Надумаете, позвоните мне. Есть связи. Кроме того, могу поспособствовать вашему делу.
– Какому делу? – Зиганшин подумал, уж не пьяна ли она. Иначе чем объяснить такую странную откровенность и бесцеремонность?
– Вы же подали в суд на врача? Или хотя бы в прокуратуру написали?
Он отрицательно покачал головой. По левую руку в плотной осенней тьме сиял огнями большой торговый центр, и Зиганшин вспомнил, как они всей семьей ездили сюда на школьный базар и никак не могли подобрать Свете туфельки, девочка не понимала, подходит ей или не подходит; тогда Фрида, несмотря на живот, опустилась на колени и стала проверять, где находится большой палец, а потом не смогла сама встать, так что Зиганшину пришлось ее поднимать.
Потом дети носились по канцелярскому отделу, выбирая тетради, а Зиганшин сидел с Фридой на скамеечке, держал руку на ее животе, чувствовал, как ворочается его сын, и был счастлив.
Черт возьми, разве справедливо, если тот, кто это разрушил, ничем не поплатится?
– Мы никуда не подавали, – сказал он, – все-таки врач – женщина, а я с женщинами не воюю.
– Неправильно, – бросила Альтман. – Это она дома женщина или в бане. А на работе – врач, и точка. Раз взялась за дело, так и делай! Прекрасно знаю эту манеру – ах, я не хуже мужика, дайте мне должность мужика и оклад мужика, а как обделается, сразу – ой, я же женщина, меня нельзя наказывать.
– Думаете, надо писать?
– Я ничего не думаю и никогда никому ничего не советую.
– Неужели?
– Да. Мое мнение такое, что от советов до репрессий один шаг. Сначала ты лучше знаешь, как человеку жить, а потом – а жить ли ему вообще. Так что от меня никаких советов. Просто примите к сведению, что я могу поспособствовать с усыновлением – раз, восстановить справедливость и примерно наказать врача – два. А больше я не знаю, чем вам помочь. Сочувствовать не умею, утешать тоже. Если у вас есть какие-то соображения, озвучьте, я рассмотрю.
Зиганшин усмехнулся.
– Я говорю серьезно, – продолжала Альтман, – вы превосходный специалист, ветеран боевых действий, попали в такую трагическую ситуацию, и наш долг помочь минимизировать ущерб.
– Что случилось, то случилось. Ничего не поделаешь.
– Мстислав, я доложила вам свои возможности и оставила координаты. Думайте, звоните.
– Спасибо.
Зиганшин проводил свою пассажирку до фойе гостиницы. Прощаясь, Альтман энергично, по-мужски пожала ему руку:
– Не знаю, что сказать вам. Крепитесь? Держитесь? В общем, визитка моя у вас.
– Простите, что вам достался такой проблемный водитель. – Зиганшин растянул губы в улыбке и быстро ушел.
Когда он вернулся домой, Фрида еще не спала.
– Прости, что задержался, – сказал Зиганшин, – встречал в аэропорту одну сумасшедшую.
Жена пожала плечами.
– Зато привез тебе икры и еще какой-то морской гадости. – Быстро переодевшись в домашнее, он сел на край постели, взял Фриду за руку и вдруг заметил, что обручальное кольцо совсем не держится на ее пальце. – Ты опять ничего не ела?
– Ела.
– Надо еще. Давай принесу тебе чаю и бутерброд с икрой?
– Не надо. Пусть дети поедят, им важнее.
– Там такой пакетище, что всем хватит.
– Слава, а ты можешь отвезти меня на кладбище? – вдруг спросила Фрида.
Он покачал головой:
– Тебе надо сначала немного окрепнуть. Там на машине не подъехать, метров двести, а то и больше, надо пешком. Фрида, не волнуйся, я все сделал как надо. Место хорошее выбрал, на яру такой мысочек. Внизу речка, корабельные сосны растут кругом, будто и не кладбище.
– Но ты меня отвезешь?
– Конечно, как только поправишься.
Фрида вздохнула:
– Не знаю, я что-то не хочу поправляться. Тебе, наверное, противно на меня смотреть, что я лежу, как квашня, но если вставать, то придется жить и что-то делать, а я боюсь. Слабая я, Слава, малодушная стала.
– Ты начни хотя бы есть.
– Никак. Кстати, скажи, пожалуйста, Ксении Алексеевне, чтобы она больше специально для меня не готовила. Если смогу, то и простой еды поем, а из-за ее кулинарных изысков я крайне неловко себя чувствую.
Зиганшин кивнул.
– Слушай, – сказал он, вытягиваясь рядом с ней, – мне тут предложили заявление в прокуратуру написать на эту гадину. Давай?
– О чем ты вообще?
– На врачиху твою.
Фрида резко приподнялась на локте:
– Ты с ума сошел?
– Нет. Эта тварь должна ответить за то, что сделала с нами!
– Слава, опомнись!
Он хотел обнять Фриду, но она оттолкнула его с неожиданной силой.
Зиганшин встал с кровати и поправил жене подушки.
– Фридочка, ты почувствуешь себя спокойнее, если ее накажут.
– Вообще не вижу связи. С какой стати мне станет хорошо, если ей будет плохо?
– Фрида, возмездие важно. Это не смягчает боль утраты, но дает силы жить, иначе зачем нужна вся правоохранительная система, сама подумай.
– Зиганшин, оставь эту идею! Вот просто сейчас забудь о ней, и все.
– Слушай, но я же не замышляю постыдный самосуд, а просто хочу, чтобы человек, разрушивший нашу жизнь, был наказан по закону. Подумай сама, разве справедливо, что наш ребенок мертв, ты едва выжила, а эта стерва гуляет как ни в чем не бывало.
Фрида нахмурилась:
– Подойди ко мне, Слава. Сядь.
Он повиновался.
– Виновата не врач, а осложнение, – сказала Фрида. – Да, она проглядела это осложнение и упустила время, но такое бывает со всеми, даже с самыми опытными врачами. Тебе сказали, что не хватило каких-то пятнадцати минут, чтобы достать нашего сына живым, и ты больше всего мучаешься от этого, что был шанс, а его не сумели использовать. Только, Слава, ничего уже не изменишь. Даже если мы расстреляем всех людей на земле, все равно не сможем вернуть эти пятнадцать минут.
– Но сможем восстановить справедливость, – буркнул он. – Если рассуждать, как ты, то вообще не надо преступников ни ловить, ни наказывать. Пусть гуляют, людей-то все равно не оживить.
– Ты передергиваешь.
Мстислав Юрьевич нахмурился, подыскивая слова. Первый раз он не мог объяснить жене то, что представлялось ему очевидным.
– Нет, Фрида, я прав.
Она опустилась в подушки и перевела дыхание.
– Но и я права и прошу тебя, давай никуда ни на кого подавать не станем. Мне там работать еще, на минуточку.
– При чем тут это?
– Как я буду людям в глаза смотреть?
– Ну, знаешь, эта занюханная больничка с неграмотными врачами далеко не предел мечтаний. Фрида, я хоть сейчас позвоню Руслану или Яну Александровичу, и они в три секунды найдут тебе достойную работу, и сделают это с удовольствием, потому что знают, какой ты прекрасный специалист.
Фрида покачала головой:
– И на этой достойной работе сразу узнают, что я подвела коллегу под монастырь.
– И станут на твою сторону, если нормальные люди.
– Я не могу так рисковать, в конце концов, работа – это все, что у меня осталось.
Зиганшин сжал ее ладонь:
– Не все, Фрида, совсем не все.
– А если моя карьера для тебя не аргумент, напомню тебе известную максиму, что душевный покой дает прощение, а не возмездие.
– Если виновный раскаялся. Но эта сука живет припеваючи и о нас даже не вспоминает! – Зиганшин почувствовал, что сейчас сорвется на крик, и больно ущипнул себя за ногу, чтобы успокоиться. – И плевать ей, что она переехала всю нашу жизнь! Ты дышать не можешь от боли, а она в ус не дует, просто случай из практики у нее такой! Добавление в копилку врачебного опыта! Ай!
Он вскочил и заходил по комнате, а потом выбежал на улицу и вдохнул сырой осенний воздух.
Холод немного отрезвил, и Зиганшин сделал круг по участку, кстати, захватил брошенный Светой велосипед, откатил в гараж и вдруг сообразил, что ни разу не говорил с ребятами о произошедшем, не спрашивал, горюют ли они по маленькому братику. Как-то априори все посчитали, что скорбь детей не может быть глубокой.
Фрида слишком слабая, чтобы заниматься с детьми, он в отпуске был поглощен горем и заботами, а теперь целыми днями пропадает на службе. Нет, он следит, чтобы Света с Юрой были сыты, одеты и ходили в школу, но на этом все.
Только если Лев Абрамович с ними говорит, но на это слабая надежда. Когда страдает родная внучка, тут уж не до чужих ребятишек.
Зиганшин вернулся в дом и с раскаянием подумал, что раньше дети до ночи торчали в гостиной, а теперь сразу после школы скрываются у себя наверху.
Он поднялся, постоял под дверью детской и вернулся к себе в спальню. Он не знал, что сказать Свете и Юре.
Быстро раздевшись, он лег под одеяло. Вдруг Фрида обнимет его, скажет, что передумала и сделает, как он хочет, но жена лежала безучастно, глядя в стену.
Зиганшин погладил ее по плечу, она не ответила.
– Слушай, Фрида, а почему ты так сопротивляешься именно тому, что реально может тебе помочь?
Он поцеловал жену в затылок, смягчая резкость своих слов, но она не шелохнулась.
– Ну да, – продолжал Зиганшин, – мы стараемся, все делаем для тебя, лишь бы ты окрепла, а ты сводишь на нет все наши усилия. Тебе надо есть – мы готовим, мама изобретает такие блюда, которые тебе было бы легко проглотить и усвоить, а ты говоришь – не надо тебе. Сказано было – двигаться и дышать свежим воздухом, пожалуйста, давай! Я весь отпуск возле тебя просидел, чтобы поднимать тебя, выносить на улицу, если ты сама еще не можешь, а ты не пошевелилась. Так мало надо от тебя – немножко есть и немножко двигаться…
– Ты реально не понимаешь, почему я так себя веду? – вяло спросила Фрида, не оборачиваясь.
– Нет, не понимаю.
– Ну так нечего и объяснять.
– Фрида, но мы никогда не играли с тобой в эти игры, зачем сейчас-то начинать? Я только одного хочу – чтобы ты поправилась, все делаю, а ты… Ладно, что говорить, действительно… Я знаю, что тебя ничем не утешить, но хоть чуть-чуть помочь… Если эту тварь накажут, тебе правда станет легче, Фридочка. Это не я придумал, это так и есть. Справедливость исцеляет, а ты как ребенок, который отказывается пить лекарство, потому что оно горькое.
Фрида легла на спину и тяжело вздохнула:
– Знаешь, Слава, если тебе обязательно надо кого-то обвинить и наказать, вини меня.
– Фрида, ну что ты…
Он потянулся обнять жену, но она сбросила его руку:
– Да, это я виновата в том, что не смогла родить. В том, что храбрилась, хотела выглядеть терпеливой роженицей и не сказала доктору, какая страшная была боль, и что она совсем не похожа на боль от схваток. Я ж отличница, Слава, я стремилась родить на «отлично», за что и поплатилась. Так что вини меня.
– Выкинь эти мысли из головы немедленно. Ты доверилась этой врачихе, и вся ответственность лежит на ней. Это она должна была тебя спросить, похожа боль на схватки или не похожа. Да, в конце концов, я без медицинского образования и то сразу понял, что с тобой что-то не то, а она сказала – все в порядке. Бывают такие ситуации, когда действительно заболевание протекает так коварно, что пасуют даже опытные профессора, но это не наш с тобой случай. Наша врачиха просто наплевала на тебя. Она видела, что мы спокойные, адекватные люди и раз вызвали ее, значит, действительно что-то не так. Кто мешал ей провести дополнительное обследование, УЗИ сделать или еще что-нибудь? Клянусь, если бы она добросовестно все проверила, я бы слова не сказал. Человек сделал все, что мог, а ни с кого не спросишь больше этого. Но тут, Фрида, преступная халатность в чистом виде.
– Ну хорошо, вини меня за то, что я настояла на этом роддоме и не послушалась тебя, когда ты предлагал хорошие клиники. Помнишь, ты предложил уехать сразу, как только ее увидел? Я бы могла согласиться…
– Слава богу, что осталась! – быстро перебил он. – Мы бы не успели.
– И тогда все уже кончилось бы.
У Зиганшина заболело сердце, так равнодушно она это произнесла.
– В конце концов, она спасла мне жизнь, – продолжила Фрида. – Или ты за это хочешь на нее в суд подать?
– Ляг ко мне на плечо, как раньше, – попросил он.
Она покачала головой и отвернулась.
Зиганшин гладил ее по голове, по плечам, не зная, что сказать. Он всегда с трудом говорил о любви и не умел найти слов, все казались ему фальшивыми и выспренными. Раньше, до болезни, они ложились в постель, и все становилось ясно, а теперь Фриде нельзя, да он и сам стыдился думать о сексе. Просто хотел держать жену в объятиях, обнимать, целовать, казалось, так будет легче, но Фрида не отвечала на его ласки и старалась уклониться от них.
– Хорошо, зайчик, не буду на тебя давить, – вздохнул он. – Только ты подумай, ладно?
– Нет.
– Просто подумай.
Фрида молча протянула руку к тумбочке и взяла пузырек со снотворным. Медленно открутила крышечку, вытряхнула на ладонь таблетку и проглотила, не запивая. Зиганшин внезапно подумал, вдруг однажды она возьмет и выпьет сразу все таблетки, а его не будет дома.
От ужаса перехватило дыхание.
– Все будет, как ты скажешь, зайчик, не волнуйся.
Фрида притулилась к нему, положила голову на грудь, как раз там, где у него был рубец после ранения.
– Прости меня, Слава.
– Не за что прощать. Только обещай, что завтра поешь.
– Обязательно. Ты не волнуйся за меня, я выздоровею.
– Да уж пожалуйста.
Он неподвижно лежал, пока Фрида засыпала у него на плече, и потом, когда ее дыхание стало ровным, долго еще не шевелился. Думал, что с бессонницей надо что-то делать, иначе недалек день, когда он перестанет нормально соображать и допустит на службе ошибку не хуже той, что совершила докторша.
Зиганшин осторожно высвободил руку и сел в кровати. Взял Фридин планшет, наушники и включил первую попавшуюся аудиокнигу. Было все равно что слушать, убаюкивал сам голос чтеца.
А если бы сын остался жив, то Зиганшин сам читал бы ему сказки на ночь и пел колыбельные. Фрида бы не смогла, потому что у нее ни голоса, ни слуха, а он поет не как Шаляпин, но нормально. Серенького волчка бы исполнял, что там еще? Из «Долгой дороги в дюнах» отличная колыбельная «За печкою поет сверчок», потом «Спи моя радость, усни».
Спит сейчас сын. Вечным сном.
Зиганшин изо всех сил стиснул кулаки, чтобы не заорать.
Понял, что сегодня не уснет, и тихонько спустился вниз.
В дни, когда отчим был занят, мама оставалась ночевать, чтобы утром ехать в город вместе с Зиганшиным. Он чувствовал себя лучше, когда она рядом, вместе с Ксенией Алексеевной в дом возвращалась не жизнь, конечно, но хотя бы тень прежней жизни.
В такие дни в кухне на плите кипел фирменный мамин борщ, шипели на сковородке котлеты, а в духовке покрывалась золотистой корочкой картошка, и Зиганшин вспоминал, как раньше радовался этим простым человеческим радостям. А главное, Света с Юрой сидели тут же, разложив тетрадки на кухонном столе, мама одним глазом посматривала в задачи и, быстро нарезая салат на крохотном островке свободного от школьных дел пространства, подсказывала детям правильные ответы.
Он соскучился по радостной и уютной жизни, и приятно было видеть, что для кого-то она еще не кончилась.
Дети хотели освободить ему стол, но Зиганшин положил ладони им на плечи. Заглянул в Светину тетрадку, ничего не понял и подумал, что на службе совсем отупел. Теорема Пифагора – его максимум, и то доказать ее он теперь бы ни за что не смог. Другие родители следят за успехами детей, помогают им делать уроки, а заодно и развивают собственный мозг, а он как дурак ходит.
Внезапно став отцом двух школьников, он сразу не подумал, что должен участвовать в их образовании, и Света с Юрой привыкли полагаться исключительно на самих себя.
Плохо это, только исправить ошибку или хотя бы повторить ему не суждено…
Зиганшин устроился на табуретке возле плиты, и мама налила ему полную тарелку супа. Он не чувствовал вкуса, механически ел, чтобы не огорчать мать. Потом, на полный желудок лучше спится, вдруг сработает?
– А Фрида ела что-нибудь?
– Не знаю, Митя. Сейчас с ней Лев Абрамович, может, и уговорит.
– А ты сама ее не кормила?
Мама не ответила. Только когда дети ушли наверх, а он пересел к столу пить чай, потрепала ему волосы и мягко сказала:
– Мне кажется, Митюша, она не очень рада меня видеть.
– Ты выдумываешь.
Мама покачала головой:
– Нет, это правда. Девочка чувствует себя виноватой, что не смогла подарить мне внука.
Зиганшин молча размешивал сахар в чае. Ложечка противно звенела о стенки кружки, но он никак не мог остановиться, пока мама не придержала его руку.
– Сам посуди. Да, она твоя жена и официально мне родственница, но мы с ней не близкие люди, не подруги. Мы просто не так давно знакомы.
– Ну я тоже ее не с детства знаю, – буркнул Зиганшин.
– Так ты с ней живешь, слава богу! А мы виделись – по пальцам можно пересчитать. У меня своя жизнь, у вас – своя. Так и надо, это гораздо лучше, чем сосаться в десны, но факт в том, что сродниться нам с твоей женой пока не удалось. И тут она еще так меня разочаровала!
– Ты к чему это ведешь?
– К тому, что она думает, что я буду подзуживать тебя с ней развестись. Естественное заключение, я бы на ее месте именно так считала бы. Родные внуки главнее чужой тетки. Я сейчас для нее враг, а кто берет пищу из рук врага?
– А ты будешь подзуживать?
Мама подошла к лестнице и прислушалась, не спускается ли Лев Абрамович. Все было тихо, она вернулась и села за стол напротив него.
– Давай, друг мой, раз и навсегда проясним этот момент.
– Давай, – вяло сказал он.
– Если ты с ней разведешься или заделаешь ребенка от какой-нибудь шмары и попытаешься это обнародовать, то я тебе больше не мать.
– Да?
– Да. Я, конечно, не в восторге, что наш древний царский род прервется, но что делать, раз такие обстоятельства. Придется смириться.
– Ты же не любишь смиряться с обстоятельствами.
– Ну, милый мой, смирение это не когда ты не можешь ничего сделать, а когда можешь, но не будешь. Когда ты рванул на свою дурацкую войну, думаешь, я не могла тебя отмазать? Да в три секунды, но не стала, потому что таково было твое решение. Помнишь, что ты тогда сказал?
Зиганшин покачал головой.
– А я вот помню. Я что-то вякнула в том духе, что Родина без тебя обойдется, а ты мне ответил: Родина без меня обойдется, а я без нее – нет. И я заткнулась. То же самое и сейчас. Потеряешь Фриду – потеряешь себя, вот и все.
– Мама, не надо сыпать афоризмами. Я это и без тебя прекрасно знаю.
– Ладно тогда. А внуки – что ж? Я бы все равно не стала с ними сидеть. У нас на работе одна женщина вдруг резко захотела внуков и стала с этим бизнес-планом доматываться до своих дочек. Серьезно так на них давила, такие-сякие, замуж выйти не можете, родить не можете, за что мне такое наказание. В итоге девки все-таки произвели на свет долгожданных внуков, и что ты думаешь? Она с ними занималась? Ни фига подобного! Ни разу не посидела, только долбала доченек ценными указаниями в форме приказов, а потом контролировала выполнение. Ну, девчонки смекнули, что помощи от бабки ноль, а геморрою – выше крыши, да и послали ее подальше. Просто общаться – с дорогой душой, а диктовать нам ты больше не будешь. К сожалению, моя знакомая не умела просто общаться, и двери домов дочек для нее захлопнулись. Результат – полное одиночество.
– К чему ты это? Типа, бойся своих желаний?
– Типа того. Знаешь, что тебе нужно делать?
– Что?
– Стать донором.
– Давно уже. Сдаю кровь каждые четыре месяца.
– Не таким донором.
Зиганшин почувствовал, что краснеет.
– Мама, ты понимаешь, чем предлагаешь мне заняться на старости лет?
– Ничего, не ослепнешь. Зато будешь знать, что где-то там бегает плоть от плоти твоей. Большинству мужиков для счастья этого достаточно.
Он отмахнулся, но мама продолжала:
– Сынок, у тебя хорошая генетика, так почему бы не помогать нуждающимся женщинам? Лучше пусть они от тебя беременеют, чем от какого-нибудь алкаша!
– Может, хватит говорить глупости?
– Не хватит! – отрезала мама. – Произошло то, что произошло, и надо думать, что можно сделать, чтобы смягчить удар. А если ты станешь предаваться отчаянию, то оглянуться не успеешь, как окажешься на какой-нибудь шалаве, о которой будешь знать только одно – что она способна зачать от тебя ребенка.
Он поморщился.
– И не кривись мне тут. Я дело предлагаю.
– Ага. Навязываешь мне мировоззрение мужского цветка щавеля.
– Вот именно. Производи пыльцу, а остальное предоставь трудолюбивым пчелам.
Зиганшин засмеялся, и вдруг накатила страшная боль оттого, что ему может быть весело. Такая боль бывает, когда в тепле начинают отходить замерзшие пальцы. Но так нельзя, нельзя! Нельзя возвращаться к жизни!
Он вскочил, извинился перед мамой и вылетел на улицу. Сел в машину и поехал без цели. Когда в свете фар показался поворот на старую лесную дорогу, Зиганшин крутанул руль, преодолел метров двести и остановился, зная, что ехать дальше нельзя. Дорогу давно размыло дождями и завалило старыми деревьями, упавшими от сильных ветров.
Он вышел. Темный осенний лес стоял тихо, теряясь в ночи. Только свет фар выхватывал седую кору старой ели, огромный расколотый валун и кусок земли с пожухлой, давно мертвой травой.
Зиганшин приблизился к старому дереву и со всей силы саданул по нему кулаком.
– Господи! – закричал он, зная, что никто его не слышит. – Господи, за что ты меня наказываешь? Я же хотел быть хорошим! Хотел семью! Жить так, как хочешь ты, чтобы люди жили! Зачем ты отбираешь все, к чему я потянусь? Что ты хочешь? Чтобы я тебя ненавидел?
Он снова ударил по дереву и опустился на колени. Стоять на старых, вылезших из земли корнях было очень больно, но Зиганшин не поднимался, потому что надеялся, что заплачет и это принесет ему облегчение. Но слезы так и не пролились.
Он смотрел на серый мох, покрывающий кору, заметил потек смолы, давно застывший и тусклый от лесной пыли, и вспомнил, как в детстве с пацанами отколупывал такую смолу и жевал, даже ощутил на языке горьковатый вкус. Мама говорила, что так деревья залечивают свои раны.
А его раны никогда не затянутся, потому что, если они заживут, будет еще хуже.
– Ладно, Господи, – сказал Зиганшин, проведя рукой по сухому шершавому мху, – знаю, за что. Я не был хорошим. Наверное, потому, что ты не дал мне то, что я хотел, сразу. Ты отобрал у меня все, когда я был еще ни в чем не виноват, и понеслось. Только Фрида почему должна мучиться? Она-то уж точно хорошая! Почему ты так устраиваешь, что для возмездия плохим страдают невинные? Не хочу я больше тебе верить и утешения в тебе тоже не найду. Ты даже слез мне послать не можешь…
Он поднялся, отряхнул колени и поехал домой.
Мама и Лев Абрамович встретили его с встревоженными лицами.
– Ты куда это сорвался? – спросила мать, пристально вглядываясь в него.
Зиганшин отвел глаза.
– Письмо надо было срочно отправить, – пробормотал он.
– А уезжать-то зачем?
– Большой файл, дома Интернет не берет.
Он не принял совет матери всерьез, понимая, что просто ей хотелось предложить ему хоть какой-то выход из безвыходного положения. Что с того, что какая-то неизвестная женщина родит ребенка именно от него? Он ведь не сможет забрать у нее малыша и воспитывать его вместе с Фридой.
Зиганшин теперь обращал внимание на малышей, и ему казалось, что их очень много на улице. Каждая вторая женщина шла с коляской или вела за руку ребенка, везде мелькали яркие маленькие курточки и слышался детский смех. Как-то он, не зная, чем пробудить аппетит жены, заехал в любимую кондитерскую Фриды и встал в очередь за дамой с девочкой лет четырех. Зиганшин не понял, что случилось, но малышка вдруг горько заплакала. То ли духота оказалась виноватой, то ли недосып, но Зиганшин вдруг почувствовал, что от звуков детских рыданий теряет сознание, еле успел выйти на улицу и привалиться к стене, ну а там уж отдышался.
Он все время думал о пятнадцати минутах, которых не хватило его сыну, и ненависть к докторше становилась сильнее с каждым днем. Нельзя ничего вернуть и исправить, но почему ошибку совершила она, а страдают Зиганшин с женой? Почему она не должна разделить с ними последствия своей ошибки?
Вдруг, если докторшу справедливо накажут, мысль о безнадежно упущенном времени перестанет его терзать и он найдет в себе силы примириться с потерей?
Но Фрида запретила…
Вдруг он начал думать о Лене, своей первой любви, на которой мечтал жениться, только она не дождалась его из армии. А если бы дождалась? Сейчас их дети уже поступали бы в институт, а может, и внуки уже проклюнулись… Если бы он только не так сильно любил Лену, если бы ее предательство не стало таким ударом, то он женился бы гораздо раньше, не ждал бы до тридцати семи лет. На третьем курсе уже носил бы обручальное кольцо, а на четвертом нянчил первенца. Ну и жена была бы ничего такая. Нашел бы хорошую девушку. Может, она была бы хозяйственная, может, наоборот, какая разница. Может, даже такая социопатка, как полковник Альтман, а может, она сама бы и была. Ужились бы как-нибудь.
Тогда он бы с Фридой не познакомился. Или просто она стала бы чудаковатой соседкой, и он, верный муж и заботливый отец, естественно, не влюбился бы, потому что на фиг человеку лишние проблемы? Или влюбился бы, только виду не показал.
Сколько у него родилось бы детей? Наверное, много. Он – мужик крепкий, добытчик, мог бы прокормить целую футбольную команду. Ну, вместо джипа ездил бы на «Жигулях» или даже на маршрутке и дом выстроил бы не в два этажа… Хотя нет, детям нужно место. Ну, в другом поджался бы, завел не породистую овчарку, а дворнягу, а вместо второй собаки – кошку.
Фантазии об альтернативных жизнях подполковника Зиганшина преследовали его, но не приносили облегчения, только хуже мучили, но выкинуть их из головы он почему-то не мог. Видения были яркими, как сны.
Вдруг позвонила Лена. Он не хранил в памяти телефона ее номер и, увидев на дисплее незнакомый набор цифр, решил, что это какой-нибудь банк хочет предложить кредит, поколебался, отвечать – не отвечать, но потом все-таки принял звонок и чуть не задохнулся от удивления, услышав голос бывшей возлюбленной. Она сказала, что знает об его несчастье через адвоката, которого он ей посоветовал, чтобы навести порядок в делах после смерти мужа, что приносит соболезнования и хочет предложить свою помощь.
– Пошла вон, – ответил Зиганшин.
– Митя, я просто хочу помочь.
– Извини, ничего личного. Это я просто для краткости сказал, чтобы не объяснять, как моей жене будет неприятно, если она узнает, что мы общаемся. Помочь ты ничем не можешь, а что сочувствуешь, я и без твоего звонка догадался.
– Может, денег…
– Не заставляй повторять!
Закончив разговор, он поскорее удалил звонок и против собственной воли подумал, что Лена теперь вдова. Разойтись с Фридой и жениться на ней, завести общих детей, как и мечталось двадцать лет назад. Мечты должны сбываться…
Зиганшин сильно потер лоб, будто хотел вычистить из головы эти подлые мысли. Нельзя так думать.
…Зиганшин вдруг задремал возле Фриды и увидел сон, будто им звонят из больницы и говорят, что ошиблись, перепутали и сын жив. Его можно забрать домой. Сон оказался ярким, и Зиганшин был уверен, что все происходит наяву, даже приснилось, как он думает, уж не сон ли это, и понимает, что точно не сон.
Как он был счастлив в этом сне, пока не пробудился, будто от толчка, и все равно первые несколько секунд счастье еще держалось, пока он понимал, что лежит в спальне и никто ему не звонил.
Почему-то он понадеялся, что теперь сможет заплакать, поэтому быстро спустился вниз, чтобы не расстраивать Фриду.
Была суббота, дети с Львом Абрамовичем еще не вернулись из школы. Зиганшин сел в пустой кухне, обхватил голову руками, но слезы так и не прорвались наружу.
Он открыл холодильник: мама всего наготовила на три дня вперед. Кашеварить не надо, и в саду делами тоже не займешься – на улице идет дождь, шумит по крыше, наверное, от этого уютного шума он и уснул и увидел такой сон.
Зиганшин отворил дверь: да, серый осенний дождь, косой и мелкий, будто пеленой застилает небо и лес вдали, и лужи не кипят пузырями, как летом. Рано в этом году все отошло, облетела листва, пожухла трава, и они с Фридой так и не видели золотой осени. А если снег выпадет поздно, так и будет все стоять унылое и печальное, и Фриде не захочется на улицу. Никому не хочется высовывать нос в такую промозглую погоду, разве что собакам. Да и те выходят больше для того, чтобы потом наследить в гостиной.
Но сейчас псы чинно лежали на полу и не собирались снабжать его работой. Что же делать? Тут Зиганшин посмотрел на подоконник и сообразил, как вырваться из плена праздности. С тех пор как въехал, на окне кухни стоял горшок с какой-то, может быть, пальмой, а может, каким-то другим комнатным растением. Как оно попало в дом, Зиганшин не знал, скорее всего, кто-нибудь подарил на новоселье. Не сам же горшок прикатился, в самом деле.
Став деревенским жителем, Зиганшин завел огород и клумбы, но больше для моциона, чем для урожая. Ему нравился труд, а не результат, а поскольку для роста домашней пальмы не надо было прилагать усилий, он периодически про нее забывал. Она жила на окне за занавеской, однажды Зиганшин эту занаваску отдернул и обнаружил, что от пальмы остался один сухой ствол.
Он хотел выкинуть растение вместе с горшком, но дал ему последний шанс и полил остатками своего чая.
«Завтра выброшу», – решил Зиганшин, но утром увидел, что пальма выглядит все еще плачевно, но явно пободрее, чем вчера. Он снова полил ее, теперь уже не пожалев нормальной воды из бочки, дал чуть-чуть подкормки, и пальма воспряла. «Стойкий боец», – подумал Зиганшин с уважением и больше так надолго ее не забывал.
С тех пор растение сильно вымахало, ему стало тесно в горшке, да плюс еще Света, когда ела апельсины, запихивала в землю косточки, и они исправно всходили.
Зиганшин расстелил на полу кухни газеты, принес из сарая маленькие горшочки для рассады, накопал ведро земли и задумался, куда пересадить пальму. Наконец нашел пластиковое ведро. То, что надо. Он пробил в днище дыру для дренажа и приступил к работе. Конечно, новый горшок не поражает красотой, зато просторный, и Света потом сможет его декорировать.
Садовые работы всегда успокаивают, земля будто вытягивает горе и тревогу, когда опускаешь в нее руки, и Зиганшин сам не заметил, как увлекся и стал напевать себе под нос.
– А я молодой, – выводил он, – просто седой, снег упал на плечи…
– Да, ты молодой, – вдруг услышал он и выронил из рук ведро. Оно покатилось по полу, оставляя за собой черный земляной след.
– Фридочка, – Зиганшин протянул к ней перепачканные руки, – как хорошо, что ты спустилась вниз!
Она слабо улыбнулась и села на табуретку.
– Да, ты молодой, – повторила она.
– Так и ты молодая.
– А толку-то? Родить все равно больше не смогу.
Фрида усмехнулась. Он хотел сказать что-то утешительное, но боялся, что сделает только хуже. Это от чужих людей можно слушать всякие глупые банальности типа «ничего страшного», а в устах родных они звучат предательством.
– А я тут занялся… – Зиганшин неловко вытер руки о штаны. – Ну ничего, сейчас быстренько уберу и сделаю тебе что-нибудь покушать.
Фрида покачала головой:
– Работай спокойно. Я просто спустилась, потому что надо с чего-то начинать. Больше нельзя тянуть.
– Тебе есть сейчас важнее, чем ходить. Начнешь питаться, тогда появятся силы и двигаться.
– Я не хочу, чтобы у меня появлялись силы, – вздохнула Фрида. – Я слабая и малодушная и не хочу выздоравливать.
– Фрида, ну что ты говоришь…
– Как нерешительный самоубийца. Потому что, как только я начну ходить, мне надо будет от тебя уйти. А я боюсь и оттягиваю. Ты уж меня не торопи, пожалуйста.
– Зайчик, что ты выдумываешь?
Фрида вздохнула. На табуретке ей было тяжело сидеть, и она перешла на диван в гостиную. Раньше она была такая быстрая, стремительная, Зиганшин любовался ее легкой походкой, а теперь двигалась неуверенно, будто на ощупь.
Он вымыл руки и сел рядом с нею.
– Ты же знаешь, что я больше не могу иметь детей, – сказала Фрида, – а тебе нужно стать отцом. Почему ты должен отказываться от этого счастья ради меня, ты ж меня и не любил никогда особо.
– Любил. И люблю. Я твой, Фрида, и все здесь вокруг твое, поэтому уходить никуда не надо.
– И ты таки скажешь мне то же самое через десять лет?
– Конечно.
– Ой, сомневаюсь. Сам представь, что нас ждет: я не могу тебе дать того, что тебе нужно. Единственного, что тебе по-настоящему от меня нужно, я не могу тебе дать. И как ты видишь, чем я это тебе компенсирую?
– Фрида…
– Не перебивай, я долго думала об этом.
– А надо было не думать, а вставать и есть.
– Я стану искупать свою вину перед тобой…
– Нет никакой вины!
– Ну свой изъян, не важно, я сказала тебе не перебивать. Буду готовить тебе разные деликатесы, один вкуснее другого, охотиться за каждой пылинкой, настирывать-наглаживать твои вещи, делать тебе массаж.
– Ну массажистка ты так себе.
– Ну видишь. И этого не могу. Короче, ты понял, что я создам тебе райские условия, но это будет все не то.
– Все то, – вздохнул Зиганшин и притянул Фриду к себе. – Короче, не надо мне ничего, лишь бы ты поправилась скорее. Мы повенчались с тобой, значит, ты моя, я твой, души наши навсегда вместе, а плоть немощна, в любую секунду может преподнести сюрприз. Я тоже могу заболеть, так что ж теперь, не жить, не любить?
Фрида вздохнула:
– Ты прав в теории. А на практике я каждый день буду провожать тебя на работу и думать, что сегодня ты уже не вернешься, останешься у другой женщины. Буду вздрагивать от каждого телефонного звонка и бояться, что услышу голос, который сообщит мне, что у тебя есть ребенок на стороне, которому нужен отец, и ты давно хочешь меня бросить, только не решаешься, потому что хороший человек. А возвращаясь в пустой дом, я первым делом буду искать записку, где сказано, что ты ушел навсегда. Ты станешь обнимать меня, а я буду думать, что ты делаешь это из жалости, а сам давно видишь во мне только препятствие к своему счастью и мечтаешь, чтобы я куда-нибудь исчезла.
– Я думал, ты мне веришь.
– Верю, Слава. Но я помню, как ты хотел сына. Я не могу дать тебе ребенка, и рано или поздно ты найдешь мне замену.
– Нет.
– Но ты уже нашел.
– В смысле? – Зиганшин отшатнулся, с ужасом подумав, что Фриде каким-то образом стало известно о звонке Елены.
– В смысле, что я не могу готовить и вести хозяйство, и ты сразу вызвал мать.
– Так а что делать-то было?
– Не знаю, но когда ты говоришь «мы справимся», это должно означать «мы с тобой», а не твоя мама.
– Слушай, ты сейчас глупость какую-то говоришь. Мама просто хочет помочь.
– Так и какая-нибудь одинокая женщина тоже просто захочет помочь тебе стать отцом.
Зиганшин посмотрел ей в лицо и увидел, что жена побледнела, глаза будто ввалились, а над верхней губой выступили капельки пота.
– Ты устала, – сказал он, – слишком резко поднялась и давно голодаешь, поэтому тебе и представляется какая-то чушь. Мозгу просто не хватает глюкозы.
Фрида начала потихоньку вставать и есть, но давалось ей это очень тяжело. Пища вызывала отвращение, и если жена заставляла себя проглотить несколько ложек, то потом ее тошнило. Зиганшин кутал ее в одеяло и выносил на крыльцо, надеясь, что свежий воздух возбудит аппетит, покупал острые приправы, но от их запаха Фриду тошнило еще до еды.
На следующий день после разговора с женой он в обед поехал к матери и попросил больше пока не приезжать.
– Сам додумался?
Он кивнул.
– Молодец, взрослеешь.
– Я вообще-то думал, что ты обидишься.
– Митя, это ваша жизнь и ваш дом, и так должно оставаться. Думаешь, я не смогла бы сама заботиться о Свете с Юрой?
– Думаю, ты просто не хотела.
– Да нет, они чудесные дети и скрасили бы нашу с Виктором Тимофеевичем старость. Но Наташа была твоя сестра, а не моя.
– Ну да, – вздохнул Зиганшин, – каждый должен нести свой крест.
– Вот вроде взрослый ты человек, Мстислав, а такой дурак, – усмехнулась мама. – Только благодаря Свете с Юрой ты справился с потерей сестры. Крест при чем тут?
– За крест тоже можно уцепиться…
– Оставь свои поповские штучки! – отрезала мама. – Тут все очень просто: вы – семья, и если хотите и дальше оставаться ею, должны сами выкарабкиваться, все вместе. Нельзя изолировать ребят от вашего горя только потому, что они маленькие, им от этого только хуже. Может, я их накормлю повкуснее, чем ты, и со мной веселее, но они чувствуют себя изгоями. Вы с Фридой купаетесь в своем горе, оплакиваете мертвого ребенка и не видите живых детей, которым очень нужны вы оба, молодые, полнокровные, а не старая бабка. Ну Фрида – ладно, с нее грех спрашивать, а ты-то? Ходишь с каменной физиономией мимо ребят, думаешь, им не страшно?
– Мама, я стараюсь, чтобы они жили, как раньше.
– А не надо как раньше! – отрезала мама. – Все изменилось, и они это видят. Наступила другая жизнь, в которую их почему-то не берут. Сынок, скажи, можно ли меня назвать токсичным родителем?
– Что?
– В соцсетях надо зависать, а не ерундой всякой заниматься, – фыркнула мама. – Знал бы тогда свою горькую долю! Ладно, перевожу для необразованных: можешь ли ты сказать, что я когда-нибудь заедала твою жизнь?
– Вот уж чего нет, того нет.
– Но сейчас, пожалуйста, сделай так, как я прошу: поговори с детьми, Митюша, просто поговори.
Зиганшин нахмурился:
– И что я должен им сказать?
– Просто объясни как есть. Съезди с ними на могилку. Позволь им горевать вместе с тобой.
– А тебе не кажется, что они свое нагоревали, когда потеряли мать? Зачем им снова через это проходить? Братик умер, так он для них, считай, что и не родился, а что у нас с Фридой больше не будет детей, их вообще никак не касается. Для них ничего не изменилось, с какой стати я буду их вовлекать? Это непорядочно просто.
– Митя, поговори!
Он покачал головой:
– И что я им скажу?
– Не знаю. Может, и ничего. Может, это они тебе что-то скажут. Родные люди должны разговаривать, Митюша.
– Раз так, может, ты сама с Фридой поговоришь?
Мама нахмурилась:
– Сынок, к сожалению, что бы я ей ни сказала, какие бы доводы ни привела, все они разобьются о тот факт, что у меня есть живой и вполне здоровый сын. Сейчас кто угодно для нее советчик и утешитель, только не я.
– Да почему ты так решила?
– Потому что она даже с собственной матерью не хочет общаться.
Зиганшин молча смотрел в окно. Кажется, он сидел на этом же месте, когда понял, что Фрида ждет ребенка, только тогда было утро, а не вечер, но за окном все равно было сумрачно. Лежал и чуть искрился снег на деревьях, новогоднее настроение, предвкушение счастья, а теперь ветер машет за стеклом голыми ветками и ничего не будет.
До сего часа Зиганшин верил, что Мария Львовна действительно не может оставить семью и прилететь, хотя он сто раз предлагал оплатить дорогу, а теперь выясняется, что Фрида не хочет видеть мать. Припомнилось, как они разговаривали по скайпу, и вдруг Зиганшин услышал, как Фрида довольно резко произнесла: «Ты мне уже насоветовала, мама. Учись, учись, первым делом образование получи, а потом уж рожай, это от тебя никуда не денется. Как видишь, делось!»
Наверное, зря он тогда вышел, надо было вмешаться в разговор. Ну, получил бы и от той и от другой, подумаешь… Зато женщины объединились бы.
Люди должны говорить, это верно. Нельзя решать за другого, что он думает и чувствует, даже если это – твоя собственная жена. Он уже совершил эту ошибку, решив, что Фрида не хочет видеть Свету с Юрой, потому что возненавидела их за то, что они – не ее дети. Он не осуждал, не злился, наоборот, понимал, что у жены сейчас в сердце правят древние инстинкты, такие мощные, что против них все ничто. Зиганшин просто не пускал детей к ней, хотя они рвались, Света говорила, что уже большая и может сама ухаживать за Фридой после школы, а Юра обещал читать ей вслух.
Мстислав Юрьевич что-то врал детям, изворачивался, а потом поговорил с женой откровенно, и выяснилось, что нисколько она не ненавидит ребят, наоборот, скучает по ним, просто не хочет пугать их видом своей слабости и горя.
А если бы Фрида не призналась, что не доверяет ему, сам бы он догадался или нет? Понял бы, в каком аду она живет?
Очнувшись от раздумий, Зиганшин увидел, как мама переливает суп в трехлитровую банку. На столе уже громоздилась целая пирамида из кулечков и контейнеров.
– А вы с Виктором Тимофеевичем чем будете ужинать?
– Сходим в ресторан.
– Тоже дело, – согласился Зиганшин, думая, что забрать всю пищу из материнского дома – это не самый лучший способ справляться самому.
Доверие такая хрупкая вещь, сберечь его труднее, чем любовь. И так горько понимать, что ты утратил доверие, ничего еще не сделав. Просто потому, что ноша кажется слишком тяжелой твоему спутнику, и он думает, что ты не выдержишь, сбросишь.
Не верит, что дойдешь до конца.
И придется не только тащить, но и убеждать, что не так-то и тяжело и ты сильнее, чем есть на самом деле.
Ну а если отбросить метафоры, то жизнь, конечно, предстоит нелегкая. Каждое движение придется обдумывать на предмет – вызовет ли это у Фриды тревогу или нет. Сейчас он спокойно сажает полковника Альтман к себе в машину, а потом уже не сможет, потому что Фрида услышит запах чужих духов и ничего не скажет, но расстроится.
Или работать допоздна – до того, как они потеряли ребенка, Фрида позволяла ему торчать на службе сколько влезет, только чтобы периодически сообщал, что жив-здоров, а как теперь? Наведет семейную дисциплину? Нет, скорее всего, ничего не скажет, но будет мысленно прощаться с ним навсегда каждый одинокий вечер.
Раньше Зиганшин охотно выходил на службу в субботу или воскресенье, особенно зимой, когда нет работы в саду, а теперь придется с этим по возможности завязать, потому что Фрида будет думать, что он поехал к любовнице. И разговоры по телефону тоже придется свернуть, потому что настанет момент, когда они покажутся Фриде подозрительными.
Вместо прежней свободы наступит скованность, он не сможет пальцем шевельнуть, не подумав прежде, не вызовет ли это у Фриды плохих мыслей, и главная ирония в том, что сама эта скованность будет возбуждать самые лютые подозрения.
Зиганшин вдруг вспомнил сказку про Русалочку, которую с детства ненавидел. Русалочка стала человеком, чтобы быть рядом с возлюбленным, но за это при каждом шаге ей приходилось испытывать невыносимую боль.
Теперь они с Фридой будут как две Русалочки. Ну что ж, придется терпеть, раз иначе нельзя.
Зажмурившись, он представил себе совсем другую жизнь: здоровая и счастливая Фрида ждет его дома с сыном на руках. Немножко сонная, немножко растрепанная, может, подурневшая от новых забот, но главное – она не думает, где он был и почему задержался.
Пятнадцать минут отделяют его от этой жизни. Так мало…
Невежество и невнимательность врача убили их ребенка, о котором нельзя даже сказать «новорожденный». Он не рождался, не сделал ни одного вдоха, не закричал, а утонул в материнской крови.
И они с Фридой живы теперь гораздо меньше, чем раньше, и все будет не так, как мечталось. Не потому, что они делали что-то дурное, нет, просто доверились не тому человеку.
Если бы только жена разрешила ему подать жалобу на врачиху… Нет, полковнику Альтман он звонить не станет и пользоваться другими своими коррупционными связями тоже. Любая протекция придаст всему оттенок личной мести, а он чувствовал, что успокоится, только если эту сволочь накажут строго по закону. Есть прокуратура, есть суд, пусть они и решают, в конце концов, могут согласиться с Фридой, что докторша ни в чем не виновата.
Надо еще раз поговорить с женой.
Фриде не становилось легче, хоть она и пыталась теперь вставать и есть. Запах теперь уже любой еды вызывал у нее позывы на рвоту, и Зиганшин после работы заехал к Максу Голлербаху посоветоваться.
Тот, по обыкновению, коротал вечер на кафедре, в своем кабинете, от пола до потолка уставленном стеллажами с книгами. На немногих свободных местах висели портреты профессоров с такими проницательными глазами, что стразу становилось ясно – обдурить этих корифеев не удавалось никому.
Из современного в кабинете были только сиротские жалюзи на окнах.
Друг-психиатр был очень аккуратным, даже щеголеватым мужчиной, одевался тщательно, как английский аристократ, и только с близкими людьми позволял себе оставаться без галстука и пиджака. Расстегнутый воротник сорочки и закатанные рукава открывали мощную шею и жилистые руки, и Зиганшин невольно подумал, что Макс, хоть на лицо и некрасив, все же выдающийся экземпляр мужской породы, а до сих пор почему-то одинок и детей у него нет. Страдает ли он от этого или живет, как нравится?
Когда все случилось, Макс очень помог, в сущности, взяв на себя все организационные вопросы. Зиганшин тогда пребывал в какой-то прострации и соображал плоховато, просто послушно ходил вслед за Максом и подписывал там, где ему велели.
И потом, после похорон, звонил, предлагал помощь, но Зиганшин с Львом Абрамовичем всякий раз отвечали, что все нормально и помощь не нужна.
– Я очень рад, что вы пришли, – сказал Макс, – очень.
Сдвинув в угол клавиатуру от почти устаревшего компьютера, Макс накрыл чай прямо на рабочем столе. Постелил явно старинную салфетку с монограммой в уголке, поставил вазочку с сухарями, чашки тонкого фарфора и круглый чайничек с узором из незабудок. Потому, наверное, молодой профессор и одинок, что очень уж старомоден…
Присев на краешек стула, истершаяся кожаная обивка которого была приделана к дереву гвоздиками с круглыми медными шляпками, Зиганшин залпом осушил свою чашку и сказал, что заскочил на минутку: посоветоваться насчет Фридиной анорексии.
Макс нахмурился, хотел что-то спросить, но быстро сам себя перебил:
– Да что гадать, в самом деле! Давайте я поеду с вами и посмотрю вашу супругу.
Зиганшин обрадовался, на такую любезность он не рассчитывал, все-таки живет за сто километров, и завтра рабочий день.
Из вежливости пытался что-то возразить, но Макс отмахнулся, быстро сполоснул чашки и потянулся за курткой. Договорились, что поедут на машине Зиганшина, Макс заночует, а утром Мстислав Юрьевич привезет его на работу.
Дорогой Зиганшин рассказал про свой сон.
Макс только вздохнул:
– Это теперь всегда будет сниться. Не избавитесь.
– А может, это знак, что надо усыновить поскорее ребенка?
– Не знаю, но в таком ответственном деле не стоит полагаться на сны. Наяву вы как считаете?
– Я предлагал Фриде, – признался Зиганшин. – Говорю, ты сейчас еще слабая, но как только поправишься, давай возьмем малыша. Так за хлопотами о горе и забудем.
– А она?
– Сказала, что я эгоист, а ребенок – не игрушка. Нельзя за его счет решать собственные проблемы. Наверное, она права.
Макс пожал плечами:
– Может, да, а может, и нет. Большинство родителей решают собственные проблемы за счет своих детей, откуда, собственно, у меня столько работы. А вы – хорошие люди и просто подарили бы ребенку счастье жить в семье, вот и все.
– Ну в любом случае сейчас нечего обсуждать, пока Фрида не поправится.
Внезапно Зиганшин подумал, что жена целых две недели не знала о смерти сына. А вдруг надо было не сидеть и горевать, а найти подходящего младенца? Ей-богу, связей у него достаточно, чтобы провернуть такую комбинацию. Может, удалось бы даже Льва Абрамовича надуть, и о том, что сын умер, знал бы только он один, а остальные жили бы счастливо. И он тоже стал бы счастлив, глядя на них, и очень скоро забыл о своем обмане.
Эта идея внезапно показалась Зиганшину прекрасной, и он чуть не слетел в кювет от досады, что она вовремя не пришла ему в голову.
Когда приехали, Макс сразу поднялся к Фриде и оставался у нее очень долго. Зиганшин попытался помочь детям с уроками, но думал только о том, как идет разговор наверху, от этого был невнимателен и отвечал невпопад.
Только когда настало время рисовать контурную карту по истории, смог сосредоточиться и изобразить стрелочками ход какого-то древнего сражения.
И все же ему казалось, что дети чувствуют его рассеянность и, наверное, принимают ее за равнодушие. Только мама права: не следует гадать, а нужно просто с ними поговорить.
– Ребята… – начал он, и тут спустился Макс с таким странным выражением лица, что Зиганшин обо всем забыл.
– Ну что? – вскочил он.
– По моей части ничего нет, – сказав это, Макс замялся и взглянул на детей.
– Вы курить хотите? – нашелся Зиганшин. – Пойдемте на крыльцо.
Некурящий Макс кивнул, и они вышли в темноту под моросящий дождик.
– Не хочу вас пугать, – вздохнул Макс, – но Фриду надо показать хирургу, и как можно скорее.
– Как?
– Я вижу у нее клинику перитонита.
– Да господи…
– Я уже позвонил Руслану, нас ждут. Дай бог, чтобы я ошибся, но проверить необходимо.
– И сейчас?
Макс кивнул:
– Кроме всего прочего, я с огромным трудом уговорил Фриду ехать. До завтра она откажется.
Зиганшину показалось, что он сходит с ума. Все расплывалось перед глазами, он что-то делал и тут же забывал. Вдруг увидел в гостиной Льва Абрамовича, удивился, как он сюда попал, и тут же сообразил, что пять минут назад сам привел его. Сначала решили, что Зиганшин с дедом повезут Фриду, а Макс останется с детьми, но Мстислав Юрьевич понял, что не сможет сесть за руль, и Лев Абрамович тоже слишком сильно разволновался.
В итоге деда оставили сидеть с детьми, Макс сел на водительское место, а Зиганшин устроился сзади с Фридой на руках. Он боялся, что Фрида с трудом перенесет дорогу, но Макс оказался таким аккуратным водителем, что жене удалось даже подремать.
Руслан сам встретил их в приемном отделении. Время позднее, не рабочее, и он не стал надевать протез, к которому до сих пор не привык, был на костылях, и Зиганшин вдруг испытал к нему острую зависть. Да, без ноги, но зато у него прекрасный здоровый ребенок, и Лиза ждет второго, потому что Руслан, на минуточку, доктор медицинских наук, был убежден, что, когда кормишь грудью, ни за что не забеременеешь. А ведь когда-то он с ужасом думал о горькой судьбе Руслана: ах, как это он живет, и что может быть хуже, чем молодому мужику остаться инвалидом. Вот судьба и показала ему, что именно может быть хуже этого. Если бы можно было выбирать, он бы две ноги дал себе отрезать, лишь бы не то, что сейчас!