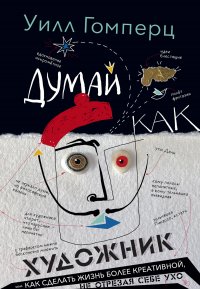Читать онлайн Непонятное искусство. От Моне до Бэнкси бесплатно
- Все книги автора: Уилл Гомперц
Will Gompertz
WHAT ARE YOU LOOKING AT?
150 Years of Modern Art in the Blink of an Eye
Copyright © Will Gompertz, 2012
First published in Great Britain in the English language by Penguin Books Ltd. This edition published by arrangement with Penguin Books Ltd. and Andrew Numberg Literary Agency
Перевод с английского Ирины Литвиновой
Предисловие
Существует множество изумительных работ по истории искусства, начиная от классической «Истории искусства» Эрнста Гомбриха до задиристого и познавательного «Шока новизны» Роберта Хьюза (Хьюз охватил только современное искусство, тогда как Гомбрих замахнулся на все сразу, хотя где-то к 1970 году выдохся). Я не собираюсь соревноваться с такими авторитетами – куда мне! – а хочу предложить нечто иное: собственную познавательную, веселую и легкую для восприятия книгу, охватывающую хронологическую историю современного искусства (от импрессионистов до наших дней), но изложенную с точки зрения сегодняшнего дня. Чтобы, скажем, объяснить, почему такое направление, как конструктивизм, возникшее еще в 1915 году, актуально по-прежнему, как совокупность художественных, политических, технологических и философских обстоятельств, породивших его, обусловила будущее искусства и нашего общества, – и в то же время посмотреть свежим взглядом на то, что этому направлению предшествовало.
Моим знаниям, с которыми я взялся за эту задачу, явно не хватает академизма, да и с практической стороной не ахти: четырехлетний ребенок рисует лучше меня. Вся надежда – на мои способности журналиста и радиоведущего. Как говорил великий покойный Дэвид Фостер Уоллес[1] о своих эссе, популяризация – это такая сфера обслуживания, где человеку, не лишенному интеллекта, дают время и пространство, чтобы он вникал в разные вещи в интересах других людей, у которых есть занятия поважнее. Кроме того, мое преимущество – это опыт, не зря я столько лет проработал в странном и завораживающем мире современного искусства.
За те семь лет, что я был директором галереи Тейт, мне удалось посетить как величайшие музеи мира, так и менее известные собрания, лежащие в стороне от проторенных туристических маршрутов. Я бывал у художников дома, внимательно изучал богатые частные собрания и наблюдал за многомиллионными аукционами современного искусства. Я окунулся в него с головой. Когда я начинал, то не знал ничего; теперь мне кое-что известно. Конечно, еще многому предстоит научиться, но надеюсь, та малость, что я успел впитать (и удержать в себе), хоть немного поможет вам оценить и понять современное искусство. А это, как я убедился, одно из самых больших удовольствий в жизни.
Вступление
Непонятное искусство
В 1972 году лондонская галерея Тейт приобрела скульптуру «Эквивалент VIII» американского минималиста Карла Андре. Созданная в 1966 году, она состоит из 120 огнеупорных кирпичей, которые, если следовать инструкциям художника, могут быть сложены в восемь разных форм одинакового объема (отсюда и название «Эквивалент VIII»). Выставленная в галерее в середине 1970-х годов композиция являла собой параллелограмм глубиной в два кирпича.
Ничего особенного в этих кирпичах не было – любой мог приобрести точно такие же по несколько пенсов за штуку. Но галерея Тейт выложила за них более двух тысяч фунтов. Английская пресса как с цепи сорвалась. «Транжирят национальные финансы на груду кирпичей!» – вопили газеты. Даже высокоинтеллектуальный искусствоведческий журнал The Burlington Magazine задался вопросом: «Не сошла ли Тейт с ума?» Всем хотелось знать, с какой стати Тейт так безрассудно тратит государственные деньги на то, что «под силу любому каменщику».
«Деточка, не говори ˝деривативный˝ это нехорошее слово!»
Прошло еще три десятка лет, и Тейт снова потратила деньги британских налогоплательщиков на необычное произведение искусства. На этот раз она решила купить людскую очередь. Впрочем, не совсем так. Не самих людей – в наши дни это противозаконно, – а только очередь. Или, если еще точнее, листок бумаги, на котором изложил свою идею словацкий художник Роман Ондак. Его замысел состоял в том, чтобы нанять нескольких актеров и выстроить их в очередь перед запертой дверью. После расстановки, или, говоря языком галеристов и художников, «инсталляции», актеры должны были обратить свои взоры на дверь и замереть в позе смиренного ожидания. Предполагалось, что это заинтригует прохожих, которые либо присоединятся к очереди (как правило, случается именно так), либо пройдут мимо, недоуменно морща лоб и пытаясь понять, какой художественный смысл ими упущен.
Идея забавна, но искусство ли это? Если каменщику под силу создать аналог «Эквивалента VIII» Карла Андре, то и фальшивую очередь Ондака вполне можно было бы счесть эксцентрической выходкой в духе дурацких розыгрышей. По идее прессе надлежало в этом случае впасть в полнейшую истерику.
Но дело ограничилось недовольным ворчанием: ни тебе критики, ни негодования, ни даже двусмысленных заголовков от наиболее остроумных участников таблоидного сообщества – ровным счетом ничего! Единственным откликом на состоявшуюся сделку стала пара одобрительных строчек в одном респектабельном журнале, в рубрике событий в мире искусства. Так что же произошло за эти тридцать лет? Что поменялось? Почему передовое современное искусство, казавшееся поначалу дурацкой шуткой, стало восприниматься не то что с уважением – с пиететом?
Не последнюю роль тут сыграли деньги. За минувшие десятилетия огромное количество презренного металла было вложено в мир искусства. Государственные средства щедрыми потоками тратились на «облагораживание» старых музеев и создание новых. Крушение коммунизма и отказ от вмешательства государства в рыночную экономику (и как результат – глобализация) привели к увеличению популяции мультимиллионеров, для которых приобретение предметов современного искусства стало очень выгодной инвестицией. Покуда падали фондовые биржи и лопались банки, стоимость знаковых произведений современного искусства продолжала расти, как и число участников этого рынка. Еще несколько лет назад международный аукционный дом Sotheby's рассчитывал на покупателей из трех стран. Сейчас таких стран уже более двух десятков, и никого не удивишь присутствием новых богатых коллекционеров из Китая, Индии и Южной Америки. Основные рыночные экономики включились в игру «спрос-предложение», причем первое значительно превышает второе. Стоимость работ умерших художников (которые в силу этого уже не создадут новых произведений) – Пикассо, Уорхола, Поллока, Джакометти и других – продолжает стремительно расти.
«Просто нам удобнее работать с мертвыми художниками!»
Она растет благодаря новым богатым банкирам и теневым олигархам, а также честолюбивым провинциальным городкам и ориентированным на туризм странам, которые хотят «создать собственный Бильбао»[2], – иными словами, изменить свой имидж и повысить привлекательность за счет впечатляющей художественной галереи. Все уже давно поняли: мало купить гигантский особняк или архитектурный памятник. Наполненный скандальными произведениями искусства, он станет куда интереснее для посетителей. А таких произведений не так-то много.
Если не удается заполучить «классиков» современного искусства, выручают «современники». Это работы ныне здравствующих художников, продолжающих традицию современного искусства (началом которого условимся считать творчество импрессионистов семидесятых годов XIX века). Но и в этом сегменте цены взлетели: стоимость работ именитых художников, таких как американский мастер поп-арта Джефф Кунс, сегодня запредельна.
Кунс знаменит своим огромным, украшенным цветами «Щенком» (1992), а также многочисленными карикатурными скульптурами из алюминия, имитирующими фигурки, сделанные из воздушных шариков. В середине 1990-х годов работу Кунса можно было приобрести за несколько тысяч долларов. К 2010 году его композиции, яркие, как леденцы, продавались уже за миллионы. Его имя стало брендом, а работы узнаются мгновенно, как логотип Nike. На волне сегодняшнего коллекционерского бума он стал баснословно богат – наряду с многими другими сегодняшними художниками.
Некогда нищие, художники теперь – мультимиллионеры со всеми атрибутами, положенными гламурным звездам: друзья-ми знаменитостями, личными самолетами и вниманием падкой на сенсации прессы, следящей за каждым их шагом. Невероятно разросшийся в конце XX века сегмент глянцевых журналов с восторгом помогает новому поколению творцов в создании публичного имиджа – в обмен на право публиковать фотографии с их закрытых вечеринок. Фотографии художников на фоне собственных произведений в ослепительных дизайнерских интерьерах, где собираются богатые и знаменитые, сродни возможности заглянуть в замочную скважину, и читатели глянца с жадностью заглатывают такую информацию (даже галерея Тейт наняла издателя Vogue для выпуска собственного журнала под названием Tate Members).
Такого рода журналы вместе с цветными газетными приложениями создали модную космополитичную аудиторию для модного космополитического искусства – свежего зрителя, равнодушного к «тусклой» живописи прошлого, перед которой благоговело предыдущее поколение. Многочисленные сегодняшние завсегдатаи галерей хотят сегодняшнего искусства – свежего, динамичного и яркого. Искусства «здесь и сейчас». Современного и востребованного, как и они сами, искусства сродни рок-н-роллу: шумного, бунтарского, развлекательного и крутого.
Новые зрители сталкиваются с той же проблемой, что и все мы перед лицом искусства, – с проблемой осмысления. Не важно, кто вы – опытный арт-дилер, ведущий академик или музейный куратор – любой может растеряться при взгляде на холсты или скульптуры, только что доставленные из мастерской создателя. Даже Николас Серота, уважаемый во всем мире директор британской императорской галереи Тейт, время от времени приходит в замешательство. Как-то он признался мне, что немного пугается, заходя в студию художника и видя его новую работу. «Даже не знаю, что и думать, – сказал он. – Иной раз страшно делается». Если уж мировой авторитет в области нового современного искусства теряется, то разве можно об этом искусстве судить всем остальным?
Думаю, все-таки можно. Ведь проблема не в том, является данное произведение шедевром или нет, – ее за нас решит время. Важнее понять, как и почему данное произведение вписывается в историю искусства. В этом и заключается парадокс нашего флирта с современным искусством: с одной стороны, миллионы людей посещают Центр Помпиду, нью-йоркский Музей современного искусства и галерею Тейт в Лондоне, но, с другой стороны, самый частый комментарий в разговорах о современном искусстве звучит так: «Ой, я же совсем в этом не разбираюсь».
Это радостное признание собственного невежества отнюдь не подразумевает нехватку культуры или интеллекта. Я слышал, как то же самое говорят знаменитые писатели, успешные кинорежиссеры, политики высокого ранга и университетские преподаватели. Разумеется, все они, за редкими исключениями, ошибаются. В искусстве они очень даже разбираются. Они знают, что Микеланджело – автор фресок в Сикстинской капелле, а Леонардо да Винчи написал «Мону Лизу». И уж наверняка почти все знают, что Огюст Роден был скульптором и в большинстве своем смогут назвать одну-две его работы. На самом деле они имеют в виду что не разбираются в современном искусстве. Хотя и это не совсем так. Ведь они знают, например, что Энди Уорхол нарисовал 32 банки супа «Кэмпбелл», просто не воспринимают эти картины. Они не могут понять, почему то, что может сделать и ребенок, безоговорочно признается шедевром. И в глубине души подозревают, что это откровенное надувательство, – просто теперь, когда мода изменилась, говорить такое не принято.
Мне это не кажется надувательством. Новое искусство (понятие, охватывающее период с 60-х годов XIX века по 70-е XX) и современное искусство (этот термин применяется в основном к дню сегодняшнему и лишь изредка для произведений, созданных после Первой мировой войны) – это не долгоиграющий розыгрыш, исполняемый перед доверчивой публикой несколькими хорошо осведомленными специалистами. Множество созданных ныне произведений не выдержат испытания временем, однако среди них есть и такие работы, которые, оставшись незамеченными сегодня, завтра будут признаны шедеврами. Такие по-настоящему уникальные произведения искусства, созданные сегодня и в прошлом веке, в самом деле являются величайшими достижениями человечества. Только глупец может ставить под сомнение гений Пабло Пикассо, Поля Сезанна, Барбары Хепуорт, Винсента Ван Гога и Фриды Кало. Не надо быть искушенным меломаном, чтобы знать, что Бах умел сочинить мелодию, а Синатра – ее спеть.
Я думаю, что, когда речь заходит о признании современного искусства, отправной точкой должно стать не суждение о том, хорошо оно или нет, а понимание его эволюции от классических работ Леонардо до сегодняшних заформалиненных акул и неубранных постелей. Как и в случае с большинством кажущихся на первый взгляд непостижимыми объектов, искусство чем-то напоминает игру – стоит освоить основные правила, и поначалу непонятное сразу приобретает некий смысл. И, если принять концептуализм за такое правило для современного искусства – которое никто не может ни понять, ни кратко объяснить за чашечкой кофе, – то все становится на удивление просто.
Все, что нужно для постижения основ, вы найдете в предлагаемой истории последних 150 лет, когда искусство меняло мир, а мир трансформировал искусство. Все художественные течения, все «измы» сложно переплетены друг с другом, они нерасторжимы, как звенья одной цепи. Но у каждого направления есть собственный канон, свой подход, свой творческий метод, возникший как соединение самых разных художественных, социальных, политических и технологических воздействий.
Вас ждет захватывающий рассказ, который, как я надеюсь, сделает ваше следующее путешествие в галерею Тейт, в Музей современного искусства или в местную художественную галерею чуть менее пугающим и гораздо более интересным.
А дело было как-то так…
Глава 1
Фонтан, 1917
Понедельник, 2 апреля 1917 года. В Вашингтоне американский президент Вудро Вильсон уговаривает Конгресс официально объявить войну Германии. А тем временем в Нью-Йорке три хорошо одетых моложавых господина покидают двухэтажные апартаменты в доме номер 33 по 67-й Западной улице и направляются в сторону центра. Они ведут беседу, улыбаются, иногда негромко смеются. Для худощавого элегантного француза в центре и его коренастых друзей с флангов такие прогулки всегда в радость. Месье – художник, он не прожил в этом городе и двух лет: достаточно для того, чтобы хорошо ориентироваться, но слишком мало, чтобы пресытиться его волшебными, чувственными чарами. Он до сих пор всякий раз волнуется, проходя через Центральный парк на юг к площади Колумба. Картина того, как деревья постепенно сменяются зданиями, кажется ему одним из чудес света. На его взгляд, и сам Нью-Йорк – великое произведение искусства; это некий парк скульптур, полный великолепных современных форм, куда более живых и актуальных, чем здания Венеции – другого великого архитектурного творения человечества.
Троица неспешно шествует по Бродвею. Это одинокий гудроновый бродяга, что затесался среди богатых и нарядных улиц, но оба коренастых – признанные американские эстеты – понятия не имеют о его сумасбродном нраве. И только французу с его гиперчувствительностью ясно: такая уж у Бродвея судьба, и никакими перестройками, переделками и инициативами мэра не изменить того, чем уже отмечено будущее этой улицы – прирожденной вульгарности, над которой бессильно даже время. Тем не менее француз находит в ней определенный шарм. Точнее, некое обаяние естественности.
Покуда трое приближаются к центру города, солнце опускается все ниже, и уже скоро его лучи не могут пробиться через преграды из стекла и бетона; тени исчезают, и от их погибших душ становится зябко. Коренастые переговариваются через голову француза – его волосы откинуты назад, обнажая высокий лоб и залысины. Эти двое болтают, а он тем временем думает. Они идут дальше, а он останавливается. Заглядывает в витрину магазина хозяйственных товаров. Прикладывает к стеклу сложенные чашечкой ладони, защищаясь от солнечных бликов, так что видны длинные жилистые пальцы с ухоженными ногтями: есть в нем что-то от породистого жеребца.
Пауза длится недолго. Француз отходит от витрины и оглядывается по сторонам. Его друзья уже ушли. Он недоуменно пожимает плечами и закуривает сигарету. Затем переходит дорогу, но не для того, чтобы догнать своих спутников, а в поисках теплого объятия солнца. Уже 4:50 пополудни, и волна беспокойства захлестывает француза. Магазины скоро закроются, и ждать придется до утра понедельника, но тогда уже будет поздно.
Он ускоряет шаг, но не слишком. Старается не реагировать на внешние раздражители, но мозг противится – здесь столько всего, что надо понять, обдумать, попробовать на вкус. Кто-то окликает его – француз оглядывается: это Уолтер Аренсберг, один из двух его спутников, тот, который пониже. Аренсберг постоянно поддерживал все художественные начинания француза в Америке с тех самых пор, как тот сошел с парохода ветреным июньским утром 1915 года. Аренсберг знаком велит приятелю вернуться на другую сторону дороги и, миновав Мэдисон-сквер, выйти на Пятую авеню. Но сын нотариуса из Нормандии уже задрал голову, разглядывая огромный бетонный ломтик сыра, – Флэтайрон-билдинг очаровал французского художника задолго до прибытия в Нью-Йорк как визитная карточка города, в котором сразу захотелось поселиться.
Первое знакомство француза с двадцатидвухэтажным шедевром состоялось еще в Париже по фотографии, сделанной Альфредом Стиглицем в 1903 году и впоследствии опубликованной во французском журнале. А теперь, спустя четырнадцать лет, и Флэтайрон-билдинг, и Стиглиц, американский фотограф и галерист, оба стали частью новой жизни в Новом Свете.
Из задумчивости художника выводит очередной окрик, в котором на этот раз слышится некоторое недовольство. Дородный Аренсберг, меценат и коллекционер живописи, энергично машет рукой. Третий компаньон стоит рядом и смеется. Это Джозеф Стелла (1877–1946), он тоже художник и понимает своего друга с его острым галльским умом и способностью в восхищении замирать перед тем, что ему интересно. Стелле и самому знакома эта оторопь перед лицом захватывающего зрелища – так отец смотрит на новорожденного младенца и видит будущую красоту и таланты в, казалось бы, жалком маленьком уродце.
Воссоединившись, троица движется дальше на юг по Пятой авеню и останавливается у дома номер 118, где находится магазин сантехники Дж. Л. Мотта. Внутри Аренсберг и Стелла едва сдерживают смешки, наблюдая, как их галльский компаньон что-то выискивает среди оборудования для ванной и дверных ручек, выставленных на витрине. Вот он подзывает продавца и указывает пальцем на самый обычный белый настенный фаянсовый писсуар. Насторожившись, продавец сообщает трем товарищам, что данная модель сделана в Бедфордшире. Француз кивает, Стелла ухмыляется, а Аренсберг, звонко хлопнув продавца по спине, говорит, что писсуар он покупает.
Они выходят. Аренсберг и Стелла отправляются ловить такси. А философски настроенный приятель-француз замер на тротуаре с тяжелой покупкой в руках, предвкушая предстоящую проделку с pissotiere[3], которую задумал вместе с друзьями. Этим розыгрышем они точно взбаламутят затхлый художественный мир. Оглядывая сияющую белую поверхность, Марсель Дюшан (1887–1968) улыбается про себя: вот будет заварушка!
Купленное изделие Дюшан привез к себе в студию, все на ту же 67-ю Западную улицу, где находились и шикарные апартаменты, которые Аренсберг согласился оплачивать для Дюшана в обмен на право первого выбора будущих (в том числе пока еще неведомых) шедевров. Француз положил тяжелый фаянсовый предмет плоской стороной на пол и повернул, так что тот оказался как бы вверх ногами.
После чего вздохнул и на левой стороне внешнего ободка писсуара черной краской вывел свой псевдоним с указанием даты: «Р. Матт 1917». Теперь до завершения проекта осталось лишь одно: дать ему имя. Пусть это будет «Фонтан». Так объект, что несколько часов назад был лишь стандартным, ничем не примечательным санитарно-техническим приспособлением, в результате манипуляций Дюшана превратился в произведение искусства (ил. 1).
Ил. 1. Марсель Дюшан. «Фонтан» (1917)
По крайней мере так представлялось самому Дюшану. Он был уверен, что изобрел новую форму скульптуры, подразумевающую, что художник выбирает предмет массового производства без сколь-либо очевидных эстетических достоинств и лишает его функционального предназначения, – иными словами, делает бесполезным, – после чего, присвоив имя и изменив контекст и ракурс, превращает в настоящее произведение искусства. Свое изобретение он назвал «реди-мейдом», то есть готовым изделием.
Эту идею Дюшан разрабатывал уже несколько лет – во Франции он начал с того, что приделал к табуретке колесо на велосипедной вилке. Конструкция предназначалась для собственной забавы. Марселю нравилось крутануть колесо и наблюдать за его вращением. Но впоследствии он начал рассматривать это изделие как произведение искусства.
Перебравшись в Америку, наш герой продолжил эксперименты подобного рода: как-то он купил лопату для уборки снега и вывел на ней надпись, прежде чем подвесить за ручку к потолку. Он подписал лопату своим именем, но указал, что она «от Дюшана», а не «сделана Дюшаном», тем самым четко определив собственную роль в процессе: художественный замысел, а не фактическое воплощение. «Фонтан» перенес этот замысел на иной, более публичный и конфронтационный уровень. Дюшан намеревался представить его на Выставке независимых художников 1917 года – крупнейшем вернисаже современного искусства из когда-либо проводившихся в Америке. Сама выставка – вызов американскому художественному истеблишменту – была организована Обществом независимых художников – группой свободомыслящих интеллектуалов, ориентированных на будущее и противостоящих Национальной академии художеств с ее консерватизмом, удушающим, по их мнению, современное искусство.
Создатели Общества объявили, что за один доллар стать его членом может любой художник и каждый имеет право представить две своих работы на Выставке независимых художников 1917 года при условии уплаты пяти долларов за экспонат. Марсель Дюшан был главой Общества и членом оргкомитета выставки, что по крайней мере отчасти объясняет его решение экспонировать на ней свой хулиганский экспонат под псевдонимом. И в этом весь Дюшан – любитель игры слов и острых шуток в адрес высокопарного художественного мира.
Ведь, используя псевдоним «Матт» (что в переводе с английского означает «дурак»), он попросту переиначил название магазина «Мотт», где был куплен писсуар. Говорили, будто псевдоним – аллюзия на комикс о Матте и Джеффе, впервые опубликованный в «Сан-Франциско кроникл» в 1907 году: один из его персонажей, А. Матт, – недалекий мошенник с пристрастием к авантюрам и разработке идиотских способов быстрого обогащения, а его доверчивый дружок Джефф – обитатель приюта для душевнобольных. Учитывая, что Дюшан с помощью «Фонтана» намеревался поддеть жадных коллекционеров и невежественных, но пафосных галеристов, подобное толкование псевдонима выглядит вполне оправданным. Так же как и предположение, что «Р.» подразумевает «Ришар» – французское разговорное наименование для толстосума. С Дюшаном вообще всегда было не слишком просто; не зря же он в конце концов предпочел искусству шахматы.
Сознательно выбирая писсуар для превращения в скульптуру, Дюшан преследовал и другие цели. Он намеревался поставить под вопрос само понятие «произведение искусства», как оно трактовалось учеными критиками, которых он считал самопровозглашенными авторитетами и не слишком профессиональными арбитрами. Ибо художнику самому решать, что является произведением искусства, а что нет. Позиция Дюшана заключалась в следующем: если художник, сознавая контексты и смыслы, объявил свою работу произведением искусства, то так оно и есть. Он понимал: это предложение при всей своей простоте и доступности способно совершить революцию в художественном мире, как только оно обретет популярность и станет общепризнанным.
Дюшан стремился опровергнуть концепцию, согласно которой материал – будь то холст, мрамор, картон или камень – диктует художнику, что ему делать. Считалось, первичен материал, а художнику лишь позволено воплощать в нем свои идеи с помощью кисти, пера или ваяния. Дюшан хотел перевернуть этот порядок. Материалу он придавал второстепенное значение: главное – идея. Только после того как художник сформулировал и развил ее, он выбирает тот материал, который может максимально успешно передать замысел. И если для этого понадобится фаянсовый писсуар, не беда. По сути, искусством может быть все что угодно, если так считает художник, и в этом заключается основополагающий принцип творчества.
Существовала и еще одна распространенная точка зрения, которую Дюшан хотел разоблачить как фальшивку, а именно: что художник есть некая высшая форма человеческой жизни. Что он заслуживает того величественного статуса, которым наделяет его общество за исключительный интеллект, проницательность и мудрость. Дюшан считал, что все это чепуха: художники относятся к себе и воспринимаются другими уж слишком серьезно.
Скрытые смыслы «Фонтана» не ограничивались игрой слов и провокацией. Дюшан умышленно выбрал именно писсуар, поскольку этот предмет многозначен в первую очередь в сексуальном плане, – эту тему Дюшан часто использовал в своих работах. Перевернутый вверх дном писсуар не требовал от зрителя большого воображения, чтобы заметить его сходство с вместилищем теплой живительной силы, изливающейся из пениса, – женскими гениталиями. Однако этот намек не дошел до тех, кто заседал рядом с Дюшаном, так что они отказались демонстрировать «Фонтан» на Выставке независимых художников 1917 года вовсе не поэтому.
Как только указанное произведение было доставлено в выставочный зал на Лексингтон-авеню (спустя всего несколько дней после прогулки троицы по Бродвею), оно сразу же вызвало у всех смешанное чувство оторопи и отвращения. И, несмотря на то что в конверте с сопроводительным письмом от мистера Р. Матта лежали необходимые шесть долларов (один за участие в выставке и пять за демонстрацию экспоната), у большей части руководства Общества (куда, впрочем, входили и Аренсберг, и, естественно, Дюшан, прекрасно знавшие провенанс и предназначение шедевра и страстно выступавшие в его защиту) создалось впечатление, что мистер Матт издевается над ними, что, собственно, соответствовало истине.
Это был вызов остальному руководству Общества, проверка его устава на прочность. Дюшан подначивал коллег – станут ли они на практике следовать тем идеям, которые сами и провозгласили, а именно: в пику авторитарному мнению консервативной Национальной академии дизайна отстаивать новый, либеральный подход: если ты художник и заплатил собственные деньги, то твоя работа должна быть выставлена. И точка.
Консерваторы победили в этом сражении, но, как все мы теперь знаем, с треском проиграли войну. Экспонат мистера Р. Матта сочли слишком оскорбительным и вульгарным лишь на том основании, что это был писсуар, то есть предмет, не очень подходящий для беседы пуритански настроенных обывателей. Дюшан со своими соратниками незамедлительно вышел из руководства Общества. «Фонтан» никогда не демонстрировался на публике. Никто так и не знает, что случилось с этим произведением. Полагают, будто его расколотил кто-то из руководителей Общества, решив тем самым проблему, выставлять писсуар или нет. Между тем через пару дней в своей галерее «291» Альфред Стиглиц сделал снимок пресловутого объекта, хотя это мог быть уже новый, спешно изготовленный экземпляр «реди-мейда». Который тоже исчез.
Но великая сила открытия заключается в том, что обратно его уже не закроешь. И фотография Стиглица сыграла тут решающую роль. Тот факт, что снимок «Фонтана» сделан одним из наиболее уважаемых в художественном мире фотографом, который вдобавок еще владеет знаменитой галереей авангардного искусства на Манхэттене, оказался важен по двум причинам. Во-первых, он удостоверял статус «Фонтана» как полноправного произведения искусства, а потому подлежащего обязательной регистрации в качестве такового. Во-вторых, теперь имелось документальное подтверждение его существования, поэтому противники могли сколько угодно громить работы Дюшана, ведь он всегда мог снова зайти в магазин Дж. Л. Мотта, купить очередной писсуар и сделать точную копию автографа, воспользовавшись фотографией Стиглица. Так, собственно, и случилось. В коллекциях, рассеяных по всему миру, существует пятнадцать экземпляров «Фонтана», удостоверенных авторской подписью.
– Слева «реди-мейд», в центре копия, а справа вещь по мотивам «реди-мейда»…
Когда одна из таких копий выставляется, весьма забавно наблюдать, до чего серьезно воспринимают ее посетители. Толпы ценителей без тени улыбки обступают одиозный предмет и, вытянув шеи, без конца всматриваются в него, время от времени отступая назад, чтобы взглянуть под другим углом. А это просто писсуар! И даже не оригинал. Потому что искусство – это идея, а не предмет.
Та почтительность, с которой относятся к «Фонтану» сегодня, наверное, развеселила бы Марселя Дюшана. Ведь он выбрал писсуар именно из-за отсутствия в нем эстетической привлекательности (того, что он именовал «искусством для сетчатки»). Этот готовый арт-объект, так никогда и не представленный широкой публике, задумывался исключительно как провокация, но стал тем определяющим произведением искусства XX века, которое изменило мир. Воплощенные в нем идеи повлияли сразу на несколько художественных течений: дадаизм, сюрреализм, абстрактный экспрессионизм, поп-арт и концептуализм. Безусловно, Марсель Дюшан является самым почитаемым и наиболее часто упоминаемым из всех художников-модернистов от Ай Вэйвэя до Дэмиена Херста.
Да, но искусство ли это? Или Дюшан всего лишь пошутил? Выставил нас всех болванами, которые задумчиво чешут подбородки, «оценивая» последнюю выставку современного концептуального искусства? Одурачил легион респектабельных коллекционеров и доверчивых богатеев, которых ослепила собственная алчность, превратив в гордых обладателей груды барахла? А его вызов, брошенный музейным кураторам, чтобы заставить их взглянуть на вещи шире и прогрессивнее, не привел ли к обратному эффекту? Заявляя, что идея важнее средства ее передачи, предоставляя философии приоритет над техническими приемами, не навязал ли он собратьям по искусству новую догму, заставив относиться к мастерству с опаской и снисходительностью? Или он все-таки гений, который вызволил искусство из средневековой темницы, как тремя веками раньше Галилей освободил науку, заложив основы ее процветания и в конечном итоге спровоцировав интеллектуальную революцию с далеко идущими последствиями?
Я придерживаюсь последнего предположения. Дюшан предложил новое понимание того, что такое искусство и чем оно может стать. Конечно, оно по-прежнему включало и живопись, и скульптуру, но лишь как два из бесчисленных носителей, служащих для передачи замысла художника. Несомненно, именно Дюшан виноват в возникновении пресловутой дискуссии на тему «Искусство ли это?», к которой он, собственно, и стремился. С его точки зрения, роль художника в обществе схожа с ролью философа, и не важно, умеет ли он вообще рисовать. Задача художника не в том, чтобы доставлять эстетическое удовольствие – для этого есть дизайнеры, – а в том, чтобы, немного отстранившись от мира, попытаться его осмыслить или высказаться о нем при помощи идей, единственное назначение которых – быть идеями. Предельную реализацию дюшановская концепция нашла в конце 1950-х и в 1960-х годах как искусство перформанса усилиями, в частности, Йозефа Бойса (1921–1986), который был не только автором идей, но и материалом для их воплощения.
Влияние Марселя Дюшана ощущается на всей истории современного искусства: сначала как одного из первых апологетов кубизма, а впоследствии как отца концептуализма. Но он не единственный герой этой истории, в ней немало неординарных личностей, каждой из которых досталась не последняя роль. Вспомним Клода Моне и Пабло Пикассо, Фриду Кало, Поля Сезанна и Энди Уорхола, плюс, возможно, менее известных Гюстава Курбе и Кацусику Хокусая, Дональда Джадда и Казимира Малевича.
Дюшан отнюдь не родоначальник современного искусства, он – его порождение. Его не было на свете, когда в последней четверти XIX века мировые события точно сговорились сделать Париж самым интеллектуальным городом планеты. Отсюда пока не выветрились тревожные наполеоновские флюиды и запах революции покуда еще витал в воздухе. Этим-то воздухом и надышались вольнодумные художники, которым предстояло перевернуть устоявшийся художественный миропорядок и возвестить приход новой эпохи – модернизма.
Глава 2
Преимпрессионизм: в стремлении к реальности, 1820-1870
Это событие было нетривиальным, а если принять во внимание место действия, так и вообще из ряда вон выходящим. Все произошло в нью-йоркском Музее современного искусства (МоМА) тихим утром понедельника. Я приготовился к мирному созерцанию шедевров, когда у входа в галерею началась какая-то неприятная возня.
Без предупреждения и с пугающей стремительностью маленькому мальчику закрыли руками глаза. Он не увидел, как все началось, а теперь уже и вовсе ничего видеть не мог. Это было абсолютно физическое насилие с целью вполне конкретной – лишить мальчика зрительной способности.
Я с изумлением смотрел, как паренька грубо затолкала в дальний угол галереи разъяренная, но изысканно одетая особа. Смущенный мальчуган – растерянный и сбитый с толку – явно рассчитывал увернуться, уйти из опасной зоны, но был резко остановлен, так что едва не ткнулся носом в стену.
Теперь мальчик тяжело дышал, растерянный и смущенный. Наконец особа убрала свои ладони с его глаз. Пока он моргал, начался допрос.
– Итак, что ты видишь? – поинтересовалась нападавшая.
– Ничего, – ответил тот безучастно.
– Не говори глупости, уж что-то ты, конечно, видишь.
– Нет, действительно ничего, все как-то смазано.
– Тогда отступи на шаг, – послышался отрывистый приказ.
Мальчик отставил левую ногу назад и послушно отодвинулся от стены.
– Ну и?..
– М-мм… нет, ничего не могу разобрать, – произнес ребенок срывающимся от волнения голосом. – Ну зачем ты так со мной? – спросил он. – Что ты хочешь, чтобы я ответил? Пойми же, ведь я ничего не вижу.
Все более разочарованная укротительница схватила мальчика за плечи, оттащила его от стены еще метра на три и с нескрываемым раздражением снова задала вопрос:
– А сейчас?..
Мальчик стоял неподвижно, уставившись на стену; ответа не последовало. Он продолжал молчать. Прошло довольно много времени, и он больше не мог сдерживать эмоции. Он медленно повернул голову к своей мучительнице и произнес:
– Это просто круто, мам.
Лицо матери превратилось в одну сплошную улыбку, демонстрирующую превосходные зубы и духовную радость.
– Я не сомневалась, что тебе это понравится, дорогой, – ласково прощебетала она, заключив его в сверхжаркие объятия, уместные разве что если дитя чудом избежало гибели либо для демонстрации исключительного родительского удовлетворения поведением чада.
Мы по-прежнему оставались единственными посетителями в знаменитом зале Моне Музея современного искусства, но постепенно я начал сомневаться в своем существовании, поскольку мать и дитя абсолютно забыли о моем присутствии. Но вот мамаша освободила свою жертву, которая еще раз (и исключительно по собственной воле) повторила мучительное признание, и повернулась ко мне, смущенно улыбаясь, как это делают взрослые, когда домработница застает их танцующими голыми у себя на кухне под песенку «Незамужние дамы» в исполнении Бейонсе. И пояснила, что я стал свидетелем кульминации плана, который она вынашивала на протяжении многих месяцев, начиная с того самого момента, когда решила взять своего старшего сына (ему было лет десять) в Нью-Йорк, пока супруг оставался дома и присматривал за другими детьми.
Она решила, что это был ее единственный шанс внушить своему десятилетнему отпрыску любовь к трем гигантским полотнам Моне «Водяные лилии» («Нимфеи») (1920), развешанным по стенам зала. Это создает эффект полного погружения для любого зрителя, но только не для неискушенного мальчика, который попросту захлебывается в этих всплесках розового, пурпурного, фиолетового и зеленого. В чем и состоит сила поздних пейзажей Моне (на самом деле это и не пейзажи, лишь их отражения в воде, так что паренек наверняка пожалел, что не захватил с собой трубку для подводного плавания).
Уже на закате жизни Клод Моне (1840–1926) написал этот триптих общей шириной около 13 метров, в течение долгих дней, месяцев и лет созерцая любимый парковый пруд у себя дома в Живерни. Именно эта изменчивая игра света на водной поверхности так поразила воображение пожилого художника. Пусть зрение его и ухудшалось, но ясный ум и умение обращаться с красками по-прежнему оставались при нем. Так же как и склонность к новаторству. Традиционный пейзаж помещает зрителя в некую идеальную точку обзора, задавая четкие визуальные ориентиры, чего не скажешь о «величественных декорациях» позднего Моне, когда мы оказываемся посреди пруда, не имеющего ни границ, ни углов, среди зарослей ирисов и кувшинок, так что ничего не остается, кроме как целиком отдаться гипнотической власти цвета.
Скорее всего подобную странную идею мамаше навеяли книжки с 3D-графикой, на которых одно время помешались все дети, хотя нормальные взрослые (вроде меня) их так и не осилили. Очевидно, они и навели ее на мысль (мстительную?) неожиданно закрыть сыну глаза руками и подвести к холсту настолько близко, насколько возможно, а потом заставить медленно отступать назад. Мать, вероятно, надеялась, что именно так кипящая цветом палитра Моне явится перед сыном во всем своем очевидном великолепии и запомнится на всю жизнь.
Тем временем дама продолжала вести – на мой взгляд, с излишней откровенностью – то, что со стороны выглядело агрессивной психологической обработкой собеседника. Мне она зачем-то рассказала, что познакомилась с отцом мальчика в Нью-Йорке и что вскоре после посещения Музея современного искусства выяснилось, что их живописные вкусы не совсем совпадают. Оказывается, ее будущий супруг восхищался «капельной техникой» Джексона Поллока и восторгался «живописью действия» американского экспрессиониста, в то время как сама она считала эти работы незрелыми и технически, и интеллектуально, признавая, правда, что в их с мужем пристрастиях есть немало общего. А теперь сыну предстояло усвоить, что руководствоваться следует именно ее вкусом. И когда мальчик повернулся к ней и она услышала его слова, то поняла: план удался.
Но кто посмеет обвинить их в слабости к Моне и его собратьям-импрессионистам? Просто на этот раз привычное вызвало не пренебрежение, а удовольствие. Всем нам известно, как выглядят эти картины: вблизи они кажутся беспорядочными мазками краски, а с каждым шагом назад на них все четче проявляется изображение. Мы видели их множество раз и на жестяных банках с печеньем, и на кухонных полотенцах, и на потертых коробочках с пазлами – танцовщиц Эдгара Дега, лилии Клода Моне, живописные пригороды Камиля Писсарро и ренуаровских элегантных парижан, фланирующих на солнышке. Ассортимент любого магазина эконом-класса не может считаться полноценным без хотя бы нескольких из этих классических работ, воспроизведенных на дешевых предметах домашнего обихода. Импрессионисты по сей день остаются неотъемлемой частью нашего художественного языка. Чуть ли не каждый месяц газетные заголовки возвещают, что вчера очередной шедевр побил ценовой рекорд на аукционе или был украден хитроумным профессиональным грабителем.
Импрессионизм – один из тех «измов» современного искусства, с которым большинство из нас чувствует себя уверенно и спокойно. Мы признаем, что по сравнению с более авангардными произведениями эти картины кажутся слегка устаревшими, немного осторожными и, возможно, подозрительно легкими для восприятия, – ну и пусть, что тут плохого? Это же чудесные работы, представляющие узнаваемые сюжеты в доступной, фигуративной манере. Они безоглядно романтичны – туманные, атмосферные и такие «французские»: с их элегантными пикниками в парках, любительницами абсента и окутанными паром поездами, спешащими в солнечное будущее. В контексте современного искусства люди более традиционных вкусов считают импрессионистов последними «настоящими художниками», которые не занимались «концептуальной ерундой» и «абстрактными каракулями», в отличие от нынешних, а писали внятно, красиво и до приятного неагрессивно.
Хотя на самом деле это не совсем верно. По крайней мере современники этих художников думали иначе. Импрессионисты были самыми радикальными, самыми мятежными художниками за всю историю искусства, они крушили все преграды на своем пути навстречу новой эре. За отчаянную верность собственному художественному видению они терпели лишения и насмешки со стороны профессионального сообщества. Импрессионисты в клочья разорвали догмы и, фигурально выражаясь, стянули с себя штаны и показали зад изумленному истеблишменту, прежде чем приступить к подготовке той мировой революции, которую мы сегодня называем современным искусством. Представители многих художественных направлений XX века, например «молодые британские художники» середины 1990-х годов, называли себя ниспровергателями и анархистами, но в действительности им было до этого далеко. А подлинные изгои – это с виду респектабельные импрессионисты XIX века, истинные ниспровергатели и анархисты.
Они не выбирали себе такую судьбу. Перед нами – сообщество живописцев 1860-1870-х годов, которое выработало оригинальную и притягательную манеру писать Париж и окрестности, но путь к успеху оказался перекрыт тогдашним жестким художественным истеблишментом. Что тут оставалось? Сдаться? Может, художники так бы и сделали, будь это все в другом месте и в другое время – но дело было в послереволюционном Париже, где все еще витал бунтарский дух, воспламеняя сердца.
Проблемы у импрессионистов начались, когда они перестали изображать традиционные сюжеты, утвержденные всемогущей косной и бюрократической парижской Академией изящных искусств. Академия требовала, чтобы художники писали картины на мифологические, религиозные или античные темы, с непременной идеализацией изображаемого. Эта фальшь совершенно не привлекала молодых амбициозных художников. Им хотелось выйти из своих мастерских и с документальной точностью фиксировать современный мир. Это был смелый ход. Художникам того времени не было дозволено опускаться до изображения «низких сюжетов» вроде обычных людей, которые развлекаются на пикнике, выпивают или просто мирно прогуливаются. Все равно как если бы Стивен Спилберг подрядился снимать свадебные торжества на видео. Художникам надлежало сидеть у себя в мастерской и писать красивые пейзажи или героические сцены времен древних греков. Именно они нужны были для украшения стен особняков и городских музеев, именно они регулярно и производились. Пока не пришли импрессионисты.
Они изменили правила игры, разрушив стены между мастерской и реальной жизнью. Многие художники и до этого выходили за эти стены, чтобы делать зарисовки, но потом возвращались в мастерскую и использовали результаты своих наблюдений как фон для надуманных сюжетов. А импрессионисты писали свои сцены современной городской жизни прямо на улице, причем от начала и до конца. Новые сюжеты потребовали и новой техники. В те времена общепринятым и общепризнанным считался ренессансный «большой стиль» в духе Леонардо, Микеланджело и Рафаэля, представленный во Франции, в частности, картинами Никола Пуссена (1594–1665). Прорисовка – это было все. Искусство состояло в точности и детальности. Краски природных тонов надлежало смешивать и наносить на холст тщательными мазками, которые после долгой, многодневной лессировки становились почти неразличимыми. А с помощью едва заметных переходов между светом и тенью создавалась иллюзия трехмерности.
Это неплохо, когда неделями сидишь в тепле и тщательно выписываешь патетическую сцену. Но импрессионисты писали на пленэре, при непрерывно меняющемся освещении, а не в искусственно созданных условиях мастерской. Поэтому требовался новый подход. Чтобы поймать и правдиво передать мимолетное ощущение, требовалась прежде всего быстрота. Возиться с трудоемкой светотенью было некогда – ведь когда художник снова поднимет глаза, свет уже изменится. На смену «большому стилю» с его тщательной, изощренной растушевкой пришел стремительный, резкий, «этюдный» мазок, который импрессионисты даже не пытались скрыть, а наоборот, акцентировали – широкие, короткие и яркие запятые наполняли картину энергией молодости в соответствии с духом времени. Впервые краска становится самостоятельным изобразительным средством, ее фактурой любуются, вместо того чтобы маскировать, искусно выстраивая что-то вроде оптического обмана.
Импрессионисты, взявшись работать непосредственно с натуры, были буквально одержимы точной передачей наблюдаемой ими игры света. Что только кажется легко, но на самом деле крайне трудно. Художнику нужно выбросить из головы все предвзятые представления об объекте и цвете – например, что спелая клубника всегда красная, – и вместо этого передавать оттенки, видимые им в данный момент времени при естественном освещении, даже если ради этого придется изобразить клубнику синей.
Они упрямо следовали этому правилу, создавая полотна невиданного прежде цветового диапазона. В сегодняшнем мире технологий высокой четкости, телевидения и кинематографа эти краски кажутся обыкновенными, даже приглушенными, но тогда, в XIX веке, они поражали не меньше, чем жаркое лето в Англии. Реакции угрюмых академиков долго ждать не пришлось – картины заклеймили как инфантильные и непродуманные.
Едва импрессионисты приступили к демонстрации своего новаторского подхода, отказавшись от занудных подробностей во имя создания целостной атмосферы, как угодили в немилость к могущественному парижскому художественному истеблишменту. Их высмеивали, обзывали выскочками, пишущими пошлые карикатуры, вместо того чтобы создавать «настоящую живопись». Импрессионистов такая реакция расстроила, но не сломила. Ребята вообще были не робкого десятка – умные, боевитые, уверенные в себе, они просто пожимали плечами и продолжали делать свое дело.
Момент они выбрали самый подходящий. Все предпосылки для ломки традиций в послереволюционном Париже уже имелись: и бурные политические перемены, и быстрый технологический прогресс, и изобретение фотографии, и новые будоражащие философские идеи. Болтая в кафе, талантливая молодежь наблюдала, как Париж меняется буквально на глазах. Из средневековых трущоб он превращался в современную столицу.
В прошлое уходили темные, сырые, грязные и убогие улицы, их сменяли широкие, светлые и красивые бульвары. Город фантастически преображался под руководством энергичного чиновника, барона Османа, получившего соответствующие полномочия от Наполеона III.
«Император французов», как он сам себя именовал, отчасти унаследовал стратегический склад ума своего знаменитого дяди и мог предвидеть, что новый облик Парижа – не только достойный ответ блистательному Лондону эпохи Регентства, но и реальный шанс подольше удержаться у власти. Обновление города означало, в частности, появление великолепных широких, прямых, далеко просматривающихся улиц, и давало хитрому узурпатору чисто тактические преимущества на случай, если недовольных парижан опять потянет к гражданскому неповиновению, а то и к революции.
Перемены затронули не только город, но и саму технологию живописи. До 1840-х годов художникам, пишущим маслом, приходилось работать в студии еще и потому, что краски невозможно было таскать с собой. С появлением маленьких тюбиков с краской, помеченных разноцветными этикетками, наиболее отважные живописцы смогли работать непосредственно на натуре. К этому же подтолкнуло изобретение фотографии – новое изобразительное средство сразу же заинтересовало молодых и перспективных художников. В каком-то смысле новомодный, недорогой и доступный генератор изображений представлял, разумеется, угрозу для живописцев в смысле их монополии на изготовление картин для богатых и сильных мира сего. Но для импрессионистов куда важнее стали новые возможности, открываемые фотографией. И не в последнюю очередь благодаря разгоревшемуся спросу публики на изображения повседневной парижской жизни.
Путь в будущее был ясен, но заблокирован непримиримостью Академии. Этот финансируемый французским государством оплот обучения изящным искусствам, взявший на себя роль защитника национального художественного духа, своими тяжеловесными приемами невольно производил те песчинки, без которых не появилось бы жемчужин нового, современного искусства. Академия превосходно выполняла свой долг по сохранению богатого эстетического наследия Франции, но взгляды на ее художественное будущее имела безнадежно отсталые.
Для молодых экспериментаторов, стремившихся создавать полотна и скульптуры, отражающие дух времени, это было главной проблемой, которая к тому же усугублялась полным господством Академии не только в академических делах, но и в финансовых. Проводимая ею ежегодная выставка, известная как Парижский салон, была самой престижной витриной для нового искусства, и отборочный комитет имел полномочия делателя королей и разрушителя карьер. Его решение показать на салоне работу нового художника могло обеспечить счастливчика на всю жизнь, и наоборот, отказ – лишить его всех шансов на успех в будущем. Туда толпами приходили коллекционеры и посредники с цепкими глазами и толстыми кошельками, стремясь побыстрее ухватить картину какого-нибудь нового модного художника, одобренного Академией, или последний шедевр уже известного живописца. На Салоне приобреталась основная часть новых произведений французского изобразительного искусства.
Уже в первой четверти XIX века стали слышны сетования на удушающий консерватизм Академии, и тогда же были посеяны первые семена современного искусства. Здравомыслящий молодой художник Теодор Жерико (1791–1824) отмечал, что «Академия, увы, делает слишком много лишнего: она гасит искры священного огня [то есть одаренных художников]; она задувает его, не давая ему разгореться. Огонь нужно раздувать постепенно, Академия же сразу швыряет в него слишком много дров».
Жерико умер очень молодым, в тридцать три года, но успел написать одну из самых знаменитых картин своего времени.
«Плот “Медузы”» (1818–1819) изображает реальное событие – роковое последствие безграмотного решения французского капитана подойти слишком близко к береговой линии Сенегала. Жерико в безжалостных подробностях передает весь ужас кораблекрушения. Для усиления драматизма он прибегает к так называемому къяроскуро, столь любимому Караваджо (1551–1610), – то есть акцентуации контраста света и тени. В центре композиции – мускулистый мужчина, лежащий лицом вниз. Он мертв. Но человек, с которого Жерико писал этого персонажа, был более чем жив и к тому же являлся художником – молодым человеком из высших слоев парижского общества по имени Эжен Делакруа (1798–1863).
Новаторские идеи Делакруа оказали огромное влияние на творчество импрессионистов, которые разделяли стремление своего старшего товарища запечатлеть кипучую жизнь современной Франции. Импрессионистов еще на свете не было, когда Делакруа понял: быстрые, энергичные мазки в какой-то мере могут передать на холсте буйную энергию революционной Франции – надо только точно поймать момент и настроение. Или, как он сам выразился, «если вы не способны набросать прыгающего из окна человека за тот промежуток времени, пока он летит с четвертого этажа на землю, значит, вы никогда не сможете писать великие картины».
Делакруа восхищался экспрессивным мазком испанца Диего Веласкеса (1599–1660), и, как многим художникам-романтикам, ему не было чуждо творчество Шекспира и Байрона. Но его творческую кровь заставил кипеть другой англичанин. Большое полотно «Воз сена» (1821) Джона Констебла (1776–1837), показанное на парижском Салоне 1824 года, произвело на Делакруа огромное впечатление.
Французскому королю Карлу X так приглянулась эта картина, что он присудил ей золотую медаль, а прочим оставалось лишь восхищаться тем ощущением повседневности, которое Констебл привнес в живопись. Среди этих восхищенных был и Делакруа. То, как Констебл работает со светом, его смелые мазки и непосредственность стали откровением для молодого француза, по достоинству оценившего кажущуюся небрежность, с которой Констебл накладывал краски на холст.
Делакруа тоже хотел писать в подобной экспрессивной манере – абсолютно противоположной тому, что делал его антипод и соотечественник Жан Огюст Доминик Энгр (1780–1867), художник, который раболепно следовал неоклассической линии Академии, разделяя ее привязанность к прошлому и, по мнению Делакруа, постыдно предпочитая живописи ремесло рисовальщика. Свою позицию Делакруа сформулировал так: «Холодная точность не есть искусство… и так называемое самосознание большинства художников является лишь доведенным до совершенства искусством нагонять скуку. Такие люди, если бы могли, с тем же усердием продолжали бы писать и на задней стороне холста».
Чтобы придать своим картинам дополнительную энергию и яркость, Делакруа начал использовать чистые, несмешанные краски. Он наносил их с бесшабашной, д’артаньяновской стремительностью, избегая столь ценимой Академией четкости линий и уделяя больше внимания эффекту мерцания от контраста цветов. На Салоне 1831 года он представил работу, которая могла бы произвести сенсацию: мало того, что картина являлась инновационной с технической точки зрения; сюжет ее был до такой степени взрывным, что ее скрыли от людских взоров на тридцать лет.
«Свобода, ведущая народ» (1830) теперь признана шедевром эпохи романтизма и по праву находится в парижском Лувре (репр. 1). Но в 1830 году ее республиканский пафос воздействовал столь мощно, что, казалось, подрывал самые основы французской монархии. Центральный персонаж картины – энергичная женщина, олицетворяющая Свободу, поднимает восставших и ведет их вперед через тела павших. В одной руке у нее развевающийся триколор – флаг Французской революции, другой она сжимает мушкет со штыком. Картина отсылает к событиям июля 1830 года, когда был свергнут Карл X, последний король из династии Бурбонов (кстати, страстный собиратель работ Делакруа). В те дни сам художник, наделенный политическим чутьем, сразу определился, на чьей он стороне, и сообщил в письме к брату: «Я взялся за современный сюжет – баррикаду, – и пусть я сам и не сражался за свою страну, но по крайней мере напишу для нее картину. Это вернуло мне душевное спокойствие».
Сюжет был взят современный (некоторые считают, что человек в цилиндре справа от Свободы – сам Делакруа, поддержавший восставших), но изображение сильно романтизировано: пирамидальная композиция (прием, прежде использованный Жерико в «Плоте “Медузы”») придает фигуре Свободы дополнительное героическое величие (именно образ, созданный Делакруа, впоследствии стал прототипом знаменитой статуи Свободы, подаренной Францией американцам). На полотне присутствует и элемент классицизма: взвихренное по спирали одеяние Свободы – это явная отсылка к древнегреческой Нике Самофракийской, что усиливает политический подтекст картины (Делакруа, конечно, прекрасно знал, что идея демократии родом из Древней Греции). Статус Делакруа, как и присутствие на картине столь любимых Академией символических элементов позволяли надеяться, что чванливые академики работу не отвергнут. И все-таки мастер не удержался и подколол Академию. Весь пафосный классицизм его Свободы уничтожают густые лохмы у нее под мышками, – эта реалистическая деталь, которую не найдешь в искусстве древних, наверняка заставит академиков сморщить носы.
«Свобода, ведущая народ» демонстрирует виртуозное владение современной техникой письма, с ее живым цветом, игрой света и энергичным мазком – всем тем, что станет ключевыми элементами импрессионизма лет через сорок. Но работа Делакруа представляет вымышленную сцену, тогда как импрессионисты стремились только к правде и ни к чему, кроме правды. В этом они следовали примеру другого мастера, куда менее изощренного, – блистательного художника, ставшего одним из родоначальников современного искусства.
Если Делакруа был величайшим романтическим художником Франции, то Гюстав Курбе (1819–1877) являлся наиболее законченным реалистом. Ранний Курбе восхищался Делакруа (и наоборот), но у него не было времени на все те причудливые фантазии и намеки на классицизм, присущие картинам периода романтизма. Он хотел спуститься на землю и писать обыденные вещи, которые Академия и так называемая приличная публика считали низкими и простонародными.
Но вообразите только: если эти господа называли вульгарным натурализмом изображение крестьянина на тропинке, то они наверняка поперхнулись бы своим изысканным вином при виде другого объекта, написанного Курбе, – хорошо всем известного, но мало кем изображенного. Его картина «Происхождение мира» (1866) стала одной из самых провокационных работ в истории искусства, знаменитая своим, мягко говоря, откровенным и бесстыдным изображением голого женского тела от груди до бедер, с широко раздвинутыми ногами, которое, для пущего порнографического эффекта Курбе еще и обрезал по бокам. Эта сексуально откровенная картина сегодня уже никого не шокирует, но в те годы она предназначалась исключительно для частного просмотра. И так было более ста лет, до тех пор пока в 1988 году картина не была выставлена на всеобщее обозрение.
Говорят, что моделью для «Происхождения мира» Гюстава Курбе послужила Джоанна Хиффернан, ирландская подружка многообещающего американского художника Джеймса Макнила Уистлера (1834–1903). Уистлер приехал изучать искусство в Париж, где посещал студию, возглавляемую швейцарским художником Шарлем Глейром, у которого в 1860-е годы некоторое время обучались также Моне, Сислей и Ренуар. В Париже Уистлер был представлен Курбе и впоследствии стал его учеником.
Ил. 2. Джеймс Макнил Уистлер. «Симфония в белом № 1: Девушка в белом»
За это время он написал «Симфонию в белом № 1: Девушка в белом» (1862) (ил. 2), где его натурщицей была все та же Джоанна Хиффернан. На полотне Уистлера изящная ирландка изображена с распущенными волосами в девственно-белом платье.
Эта композиция диаметрально противоположна тому что изобразил Курбе. Поговаривали, будто Уистлер, обнаружив, что его подружка ради Курбе сняла с себя все, впал в такую дикую ревность, что покинул Францию.
Курбе это мало волновало. Ему нравилась репутация грубоватого, неотесанного художника пьяницы, забияки и скандалиста. Предшественник нынешних отвязных радиодиджеев, он был человеком из народа, которому популярность у соотечественников дала в руки увесистую палку, чтобы лупить художественное начальство. Когда академики обвиняли его в самодовольстве, Курбе лишь пожимал плечами. Когда его критиковали за явные нарушения пропорций и за изображение забитой и простонародной современной Франции, он преспокойно продолжал работать в том же духе. А в 1855 году предложил ряд своих работ для Всемирной выставки, организованной при содействии Салона, и, когда их отвергли, попросту устроил собственную экспозицию в здании напротив и назвал ее «Павильоном реализма». В числе других здесь были показаны и два огромных полотна, считающиеся с тех пор классическими: «Похороны в Орнане» (1850), которые ранее уже демонстрировались на Салоне, и «Мастерская художника» (1855).
На обеих картинах запечатлены сцены повседневной жизни с участием узнаваемых людей из круга Курбе, что нарушало установки Академии – на крупных полотнах следовало писать исключительно исторические или аллегорические сюжеты. Об этом условии Курбе был хорошо осведомлен и поэтому в пояснении к «Мастерской художника» указывал, что это «действительно аллегория, подводящая итог моей семилетней творческой и духовной жизни». Он поместил самого себя в центр картины, по одну сторону изобразив своих друзей (в том числе поэта Шарля Бодлера), по другую – самую разнообразную публику, от попрошаек до банкиров. По его словам, аллегория означала «весь мир, устремившийся ко мне, чтобы быть запечатленным». Многие подвергли картину осмеянию, но в ее поддержку прозвучал один весьма примечательный голос: «Салон отверг одну из самых замечательных работ нашего времени». Голос принадлежал Эжену Делакруа.
Романтизм Делакруа обогатил живопись цветом и стилем, в то время как реалист Курбе привнес в нее раскрепощенную, неприкрашенную правду обычной жизни (художник сам хвастался, что никогда не лгал в своих картинах). Оба живописца отвергали косность Академии с ее ренессансным неоклассицизмом. Но условия для появления импрессионистов еще не сложились. Чтобы открыть новую эру в изобразительном искусстве, нужен был художник, способный соединить виртуозную кисть Делакруа с реализмом Курбе.
Эта роль выпала Эдуарду Мане (1832–1883), не самому ярому бунтарю среди художников. Его отец, судья, воспитал в сыне привычку не переступать рамки закона. Но артистическая душа Мане победила его конформистский ум, правда, не без содействия чудаковатого дядюшки. Тот водил племянника по художественным галереям и потворствовал желанию благоразумного юноши стать художником. Так и случилось после двух неудачных попыток поступить на военно-морскую службу. Странно, что художник, который так жаждал признания Академии и однажды назвал Салон «настоящим полем битвы», выбрал путь конфронтации.
Если составить перечень требований, которые академики предъявляли к живописи, в него непременно вошли бы: приглушенные, тщательно смешанные краски, аллюзии на классические сюжеты, изысканная прорисовка линии, идеализированное изображение людей и возвышенное содержание. Уже первая попытка Мане заслужить одобрение Академии не отвечала ни единому из них.
Его «Любитель абсента» (1858–1859) – это портрет представителя парижских низов – опустившегося пьяницы, жертвы тогдашней модернизации Парижа. Подобную тему Академия считала неподобающей. Имея это в виду, Мане к тому же изобразил бродягу в полный рост, как подобало писать лишь достойных господ, и для вящей иронии облачил своего героя в респектабельный черный цилиндр и вполне приличную накидку. Любитель абсента примостился на приступке, рядом справа – бокал крепкого напитка. Осоловелый взгляд мужчины устремлен куда-то вдаль, поверх левого плеча зрителя, а очевидным свидетельством его опьянения служит валяющаяся у ног пустая бутылка. Мрачный, угрожающий образ – вам вряд ли захочется отправиться в места, где можно повстречать такого персонажа.
То, что Мане выбрал не тот объект, уже настроило академиков против него, и к негативным оценкам добавился еще один «неуд» – за художественную технику. Вместо того чтобы выполнить портрет по канонам «большого стиля» Рафаэля, Пуссена и Энгра, художник написал какое-то плоское, почти двухмерное изображение, где краски нанесены крупными пятнами с едва различимыми переходами цвета. Мане был излишне самонадеян, предложив «Любителя абсента» комитету Салона для оценки. Возможно, рассуждал он, академики втайне симпатизируют той новаторской манере, в которой он накладывал краску, не смешивая и тем самым усиливая контраст между светом и тенью? А может, восхитятся тем, как он бестрепетно убрал все мелкие подробности ради атмосферы и целостности композиции? И уж, конечно, по достоинству оценят далекий от сентиментальности сюжет и небрежную и раскованную манеру письма! Может, думал Мане, им попросту понравится его новаторское полотно?
Но оно не понравилось. Картину с презрением отвергли.
Реакция Академии очень расстроила Мане, однако он не собирался плясать под ее дудку. Он продолжал идти своим путем, отправляя в комитет Салона все новые работы. В 1863 году он представил картину «Завтрак на траве (в то время имевшую название «Купание») (ил. З), до краев наполненную историко-художественными аллюзиями, которую Академия просто обязана была одобрить. Сюжет и композиция были заимствованы с гравюры Маркантонио Раймонди (ок. 1480–1534), за основу которой, в свою очередь, был взят рисунок Рафаэля (1483–1520) «Суд Париса» (этот сюжет вдохновил и фламандца Питера Пауля Рубенса). Просматривается также сходство с «Сельским концертом» (ок. 1510) и «Бурей» (1508), полотнами, которые приписывают сразу двум живописцам – Джорджоне (1476–1510) и Тициану (1487–1576). На этих картинах имеются обнаженные женщины (одна или две), сидящие на траве рядом с хорошо одетыми молодыми людьми (одним или двумя), и над всем этим витает дух невинности и целомудрия. Эти старые полотна отсылают нас к библейским и мифологическим сюжетам, и явных намеков на сексуальную подоплеку там нет.
Ил. 3. Эдуард Мане. «Завтрак на траве» (1863)
Замысел Мане заключался в том, чтобы взять за основу классические аллегории и композиции и «освежить», придав им современное звучание. Исходя из этого, в картину он поместил трех персонажей – двоих приятных на вид молодых людей современного облика и хорошенькую юную женщину, – и взял сюжетом пикник горожан в парке. Оба натурщика одеты с иголочки – красивые сюртуки и галстуки выгодно оттенены элегантными брюками и темными ботинками. На даме же одежды нет. Никакой. Совсем.
Мане мог выкрутиться, если бы герои пикантного сюжета – прилично одетые господа и голая дама были классическими персонажами, окутанными мифологической аурой, как на картинах раннего Возрождения. Но вместо этого Мане изобразил своих друзей – плохо замаскированных парижских хипстеров того времени. Пуританская Академия с отвращением отвергла картину, в особенности осудив то, как один из мужчин разглядывает обнаженную даму, которая, в свою очередь, нимало не смущаясь, смотрит прямо на зрителя. Ну вот. А дальше о технике исполнения. Академики и ее сочли неподобающей. И снова Мане даже не попытался сделать хоть какой-то постепенный переход между своими смелыми цветами и поэтому абсолютно провалил задачу по созданию иллюзии объемности. Академики усомнились и в том, что Мане потратил достаточно времени на работу над картиной, которая больше походила на фривольную карикатуру, чем на доведенное до совершенства произведение изящного искусства.
Картину категорически забраковали.
Единственное, чем мог утешаться разочарованный художник, так это то, что он оказался не одинок среди отверженных новичков. Комитет Салона 1863 года являл собой сборище закоренелых скептиков. Все усилия Мане успехом не увенчались, но такая же участь постигла и еще три с лишним тысячи работ, в том числе картины таких будущих звезд, как Поль Сезанн, Джеймс Уистлер и Камиль Писсарро. Накал противоречий между художниками-новаторами и Академией все усиливался, так что даже Наполеону III стало жарко. К тому же его собственное узурпаторское правление бешеной популярностью не пользовалось, поэтому, пытаясь подавить назревающий бунт, он решил показать себя либералом. Он настоял на организации другой выставки в противовес Салону академиков, чтобы общество могло само решить, чей подход к живописи правильнее. Выставка, бросившая вызов Салону 1863 года, получила название «Салон отверженных».
Наполеон III невольно выпустил из бутылки джинна современного искусства – дав молодым художникам государственную санкцию, а вместе с ней – установку, что у Академии есть альтернатива. И хотя публика особого энтузиазма по поводу «Салона отверженных» не испытала, зато художественное сообщество восприняло его с восторгом. И, в частности, одну из представленных там картин – она сразу привлекла внимание молодых перспективных живописцев, ищущих новый источник вдохновения. Этой картиной стал «Завтрак на траве» Эдуарда Мане.
В числе этих художников был Клод Моне, разглядевший в живописи Мане новый способ изображения. Чуть позднее он начал работу над собственным вариантом «Завтрака на траве» (правда, вскоре ее забросил, возможно, из-за неодобрительных комментариев Курбе, который частенько захаживал в мастерскую Моне в период работы над картиной), где решил одеть всех персонажей и убрать все античные аллюзии, – с одной стороны, дань уважения творчеству Мане, а с другой – вызов ему же. Тем временем Мане готовился представить на Салоне 1865 года свою новую картину. Несмотря на античное название, «Олимпия» (1863) (репр. 2) показала: «обнаженка» в «Завтраке на траве» была еще вершиной рафинированной пристойности.
Изображая свою ню, Мане снова окутал ее историко-художественными аллюзиями. Вообще-то картина должна была понравиться академикам, считавшим изображение идеальной наготы подтверждением величайшего мастерства художника. Но Мане свою обнаженную не идеализировал. На самом деле он взял тициановскую «Венеру Урбинскую» (1538) и превратил ее в проститутку.
Но всем на удивление картину приняли к показу на Салоне, хотя она сразу же стала предметом споров и спровоцировала жаркую полемику. Большинство из видевших картину были шокированы, поскольку на ней была изображена вполне современная проститутка, написанная в стиле беззастенчивого реализма Курбе. Темный фон картины вкупе с мелкими, не более чем декоративными украшениями вроде бархотки и браслета лишь подчеркивают наготу Олимпии. Помимо соблазнительно-призывного взгляда картина изобиловала и другими намеками сексуального свойства. Черный кот, снятая туфелька (потерянная невинность), букет цветов и небрежно вплетенная в волосы орхидея – все это навевало мысль о недавнем грехе. Для Мане картина обернулась очередным провалом, хотя совсем уж без сторонников он не остался.
Для современного искусства 1863 год стал прорывным «Салон отверженных», «Олимпия» Мане, первые яркие проблески контркультуры помогли созданию атмосферы, в которой амбициозные молодые художники Парижа и его предместий могли свободно дышать. В том же году произошло еще одно событие, оказавшее сильное влияние на импрессионистов. Французский поэт, писатель и художественный критик Шарль Бодлер опубликовал эссе «Поэт современной жизни».
В бурные времена нередко появляется человек или, если угодно, живой талисман, который, наблюдая за развитием событий, превращает их суть в некий текст, тем самым создавая что-то вроде инструкции для угнетенных. Для разочарованных парижских художников, сражавшихся с Академией во второй половине XIX века, таким человеком стал Бодлер, а таким текстом – его «Поэт современной жизни». К моменту опубликования эссе Бодлер уже много лет подряд, пользуясь своим статусом уважаемого поэта и писателя, поддерживал художников, отвергнутых и осмеянных большинством.
Именно он встал на сторону Делакруа и назвал его живопись поэзией, когда другие поносили романтического художника как отступника. Именно Бодлер поддерживал Курбе в трудные минуты, настаивая, что искусству сегодняшнего дня следует рассказывать не о прошлом, а о современности. Многими своими размышлениями он поделился в «Поэте современной жизни», и впоследствии они нашли свое воплощение в основополагающих принципах импрессионизма. Бодлер утверждал, что «… в житейских буднях, в бесконечной изменчивости вещей внешнего мира есть стремительность, требующая от художника соответствующей быстроты исполнения»[4]. Ничего не напоминает? Далее в очерке несколько раз упоминается слово «фланёр», то есть праздношатающийся горожанин из высшего общества. Именно Бодлер обратил внимание публики на этого персонажа, о котором он пишет так: «Толпа – его стихия, так же как воздух – стихия птиц, а вода – стихия рыб. Его страсть и призвание в том, чтобы слиться с толпой. Бескорыстно любознательный человек, ненасытный наблюдатель испытывает огромное наслаждение, смешиваясь и сживаясь с людской массой, с ее суетой, движением, летучей изменчивостью и бесконечностью. Жить вне дома и при этом чувствовать себя дома повсюду, видеть мир, быть в самой его гуще и остаться от него скрытым – вот некоторые из радостей этих независимых, страстных и самобытных натур, которые наш язык бессилен исчерпывающе описать».
Иными словами, он буквально подталкивает импрессионистов выйти из мастерской на пленэр. Страстно веря, что долг художника – запечатлеть свое время, Бодлер так говорит об уникальности творческого дара: «Мало кому дан талант видеть, и еще меньше таких, у кого есть талант выразить увиденное… куда удобнее заявить, что в одежде данной эпохи абсолютно все уродливо, чем попытаться извлечь таящуюся в ней скрытую красоту, какой бы неприметной и легковесной она ни была». Он призывает художника находить вечное в преходящем. Смыслом искусства Бодлер полагал умение уловить универсальные сущности в случайной, меняющейся повседневности.
А значит, нужно ежедневно окунаться в городскую жизнь и наблюдать, размышлять, ощущать и, наконец, отображать. Именно этот подход придал Мане мужества, когда он бросил вызов Академии. То же стремление красной нитью проходит через всю историю современного искусства. Дюшан был подлинным фланёром, фланёром был и Уорхол, и многие нынешние художники, такие как Франсис Алис или Трейси Эмин. Но первым и, наверное, величайшим фланёром стал Мане, видевший себя тем самым поэтом современной жизни.
Две главные картины, написанные Мане в 1860-е годы, – «Олимпия» и «Завтрак на траве» – сегодня признаны шедеврами, которые выдерживают сравнение с величайшими произведениями изобразительного искусства. Однако в свое время негативная реакция Академии разочаровала и расстроила Мане, а вдобавок посетители Салона хвалили его симпатичные морские пейзажи (перепутав Мане с Моне, к радости последнего – начинающий художник представил на Салоне две из своих марин).
Мане вовсе не претендовал на роль ниспровергателя основ; он видел себя скорее прозорливым интеллектуалом – соперником великих испанцев – Диего Веласкеса (1599–1660), главного живописца двора короля Филиппа IV, и Франсиско Гойи (1746–1828), романтика, автора эстампов и гравюр, – считающимся последним из плеяды старых мастеров. Но история распорядилась так, что Мане досталась роль мятежника и невольного лидера группы инакомыслящих художников, таких как Клод Моне, Камиль Писсарро, Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Эдгар Дега. Эта группа станет ядром того направления, которое сегодня признано первым в современном искусстве: импрессионизма.
Глава 3
Импрессионизм: поэты современной жизни, 1870-1890
Клод Моне, чуть наклонившись, размешивал кусочек сахара в кофе. Он не торопился. Мерное позвякивание ложечки о чашку было как стук метронома, задающего такт его мыслям. А их у него хватало. Так же как и у собравшихся вокруг. Даже Эдуард Мане, который сам не участвовал в предстоящем рискованном мероприятии, был напряжен.
У всех, кто пришел этим утром в кафе «Гербуа» на неугомонном Монмартре, было много причин для беспокойства и раздумий. На следующий день, 15 апреля 1874 года, открывалась выставка, от которой зависело, расцветет ли их художественная карьера, как летний сад, или растворится, как утренний туман. Огюст Ренуар, Камиль Писсарро, Альфред Сислей, Берта Моризо, Поль Сезанн, Эдгар Дега и сам Моне поставили на кон свое будущее и, бросив вызов Академии, организовали собственную выставку.
Уже не первый год эти художники, в основном тридцати с чем-то лет, встречались в своем любимом кафе по адресу Гранд рю де Батиньоль, дом 11 (сейчас Авеню де Клиши, дом 9), чтобы поговорить о жизни и об искусстве (в ту пору их так и называли – «Батиньольская группа»). Мане, чья мастерская располагалась неподалеку, иногда заходил к ним, чтобы поддержать новичков: надо, говорил он, выполнять свою профессиональную задачу и, игнорируя не признавшую их Академию, просто верить в то, что делаешь. Это было нелегко. Неприятие со стороны истеблишмента существенно било по карману, и для тех, кто в отличие от Мане не имел постоянного дохода, означало разорение.
– Почему вы не выставляетесь вместе с нами? – спросил Моне.
– Я сражаюсь с Академией, мое поле битвы – это Салон, – ответил Мане. Осторожно, как всегда, чтобы друзья не подумали, будто он преуменьшает их усилия, и не усомнились в его поддержке.
– Это весьма постыдно, мой друг. Ведь вы же с нами.
Мане улыбнулся и примирительно кивнул.
– Все у нас получится, – напористо заявил Огюст Ренуар. – Мы хорошие художники, и мы это знаем. Вспомните, что перед смертью говорил Бодлер: «Ничего не делается иначе, чем мало-помалу». Как раз про нас – то, что мы делаем, это не так много, но зато хоть что-то!
– Может, все окажется напрасно, – сказал Поль Сезанн.
Моне рассмеялся. Сезанн (1839–1906), молодой уроженец Экса, говорил мало, а если высказывался, то, как правило, пессимистически. Он относился к выставке с большим сомнением с того момента, как художники коллективно учредили «Анонимное товарищество артистов, живописцев, художников, скульпторов, графиков и проч.» – независимое сообщество, намеревавшееся проводить альтернативную ежегодную выставку в противовес академическому Салону. Месяцем проведения они выбрали апрель, чтобы успеть до ежегодного Салона и чтобы выставку не путали с «Салоном отверженных» и не искали аналогий.
Вместе согласовали правила: никакого отборочного жюри, к участию приглашаются все желающие, заплатившие вступительный взнос, и отношение ко всем одинаково непредвзятое (очень напоминает принцип, принятый Дюшаном в Нью-Йорке полвека спустя). Выставка называлась так же, как и само товарищество; название не очень-то броское, зато место проведения было удачное – бульвар Капуцинок, дом 35, рядом с Парижской оперой в самом центре города, в просторной студии, которой недавно пользовался знаменитый Надар, светский фотограф и отважный воздухоплаватель.