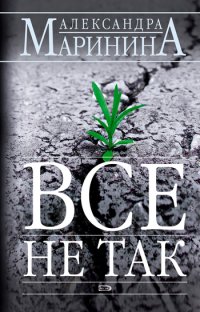Читать онлайн Чувство льда бесплатно
- Все книги автора: Александра Маринина
Часть 1
Москва, февраль 2006 года
Она уже много лет назад научилась просыпаться ровно за пять минут до звонка будильника, в 5:25. Еще семилетней девочкой Нана вставала в половине шестого, а в семь утра начиналась тренировка. Она не катается больше десяти лет, а привычка осталась, тем более Никита тоже, как и она, занимается фигурным катанием и у него тоже утренние тренировки.
Открыв глаза, Нана, опять же по давно сложившейся привычке, перебрала мысленно предстоящие сегодня дела. Поднять сына, проследить, чтобы сделал зарядку, накормить завтраком его и себя, отвезти на каток. Да, не забыть бы, сегодня двадцатое число – день «обязательного замера». Может, пропустить? Ничего страшного, если она проведет «замер» завтра, очень уж погода неподходящая, в такие дни у нее совсем нет ни сил, ни малейшего желания делать лишние телодвижения. Как говорят спортсмены, она сегодня явно «не в ногах». Нет, ерунда все это, раз установила себе двадцатое число каждого месяца, значит, так и будет. Нечего дурака валять. А то один день пропустишь, второй, третий… А потом спохватишься – и спина уже не гнется. Позвоночник – это здоровье, долголетие, это жизнь. Нельзя запускать.
С семи до девяти у нее свободное время, если поехать от Дворца спорта в сторону работы в семь, то дороги будут еще пустыми и она доберется минут за двадцать. До начала рабочего дня останется полтора часа. Что она собиралась сделать, когда вчера запирала кабинет? Оставила какие-то бумаги на утро? Кажется, нет. Ничего срочного. Совещание, как обычно, начнется в десять. Значит, можно заняться чем-нибудь приятным, например, составить график контрольных проверок на ближайшие три месяца. Составлять графики Нана любила и неукоснительно их соблюдала, это помогало ей поддерживать ощущение стабильности. Пока она каталась, у нее в комнате всегда на самом видном месте висел годовой план тренировочной подготовки, и каждый раз, глядя на него, она думала о том, что как бы ни складывалась жизнь, но за год она должна отдать тренировкам 960 часов, и в июне этих часов будет 43, а в сентябре уже 100, пик нагрузок придется на октябрь, потом наступит соревновательный период, и объем тренировок станет поменьше – нужно беречь силы для выступлений. Потом период соревнований закончится, и в апреле – мае наступит период восстановительный, и будет мало льда, больше отдыха, спортивных игр и общефизической подготовки. И так из года в год. Это вселяло уверенность: не может случиться ничего плохого, она не заболеет и не умрет, потому что есть же план, вот он, составлен тренером и повешен на стенку, и его обязательно надо выполнить. Страх внезапной смерти преследовал Нану Ким с раннего детства, с того самого дня, как умер от бурно развившегося отека легких ее маленький братик, и избавиться от этого страха она так и не смогла по сей день, зато научилась справляться с ним при помощи планов и графиков. Выполнять запланированное означало для нее контролировать свою жизнь, управлять ею, а ведь это так важно. Отец много лет назад говорил ей: «Ты катаешься не для того, чтобы стать чемпионкой, а для того, чтобы научиться управлять своим телом, каждой своей мышцей, каждым самым маленьким сосудиком. Управляя телом, ты учишься управлять собой, а управляя собой, ты будешь управлять всей своей жизнью. Если твоей жизнью не будешь управлять ты сама, это обязательно будет делать кто-нибудь другой».
Значит, составить график проверок по всем объектам и подразделениям, провести совещание… Ой, господи, пора подниматься, уже будильник верещит.
– Никитос! – крикнула она, натягивая трико. – Подъем! На зарядку становись!
Нана с удовольствием взглянула на радостную и совсем почти незаспанную мордашку двенадцатилетнего сына. Ему ранний подъем не в тягость, он так любит кататься, что готов вставать и раньше. Предложи ему тренироваться по ночам – вообще спать не будет, только пусти на лед.
– Тащи сантиметр, – скомандовала она, слегка размявшись и вставая на невысокую скамеечку.
Никита с готовностью принес сантиметр и привычно опустился на колени. Нана наклонилась, плотно сдвинув ступни и выпрямив ноги, стала тянуться вниз. Пальцы рук ушли за край скамейки. Сын замерил расстояние между краем скамейки и кончиками пальцев.
– Шесть сантиметров, – торжественно объявил он.
Хорошо. Значит, позвоночный столб пока еще сохраняет гибкость. Для тридцатипятилетней женщины, давно оставившей спорт, вполне приличный показатель. В период активных тренировок этих самых сантиметров было семь. Но ведь тринадцать лет прошло.
– Точно? – на всякий случай переспросила она.
– Ну… пять и восемь. Я округлил.
– Никитос, – строго произнесла Нана, – спорт не терпит приблизительности. Уж тебе ли не знать.
Никита уныло вздохнул. И без лишних слов было ясно, что она имеет в виду: у мальчика постоянно возникали проблемы с обязательными фигурами, где необходима просто-таки геометрическая точность и выверенность каждого движения до миллиметра. Просто удивительно, как ему удалось выполнить нормативы кандидата в мастера спорта. Конечно, он мальчик гибкий и прыгучий, скольжение у него хорошее, но вот со «школой» беда.
Завтракали молча, как всегда бывало в день утренней тренировки. Никита, унаследовавший от матери стремление ко всему готовиться заранее, еще дома, сидя за столом, мысленно рисовал фигуры, которые ему спустя час придется рисовать лезвием конька по льду. Впрочем, это ему только казалось, что он рисует мысленно. На самом деле, сам того не замечая, он рисовал чайной ложечкой на поверхности стола. Нана ему не мешала, но внимательно вглядывалась в невидимый рисунок. Вот Никита рисует петлю «вперед-наружу», и Нана явственно «видит», что стартовые дуги пересекают поперечную ось. Неужели у него так плохо с глазомером?
– Ты собираешься так выполнять фигуру? – осторожно спросила она.
– Нет, это я так сделал на прошлой тренировке. Светлана Арнольдовна сказала, чтобы я подумал, в чем ошибка.
– А она сама не сказала тебе?
– Нет, она велела самому подумать. Обещала сегодня сказать, если я сам не додумаюсь.
– Ну и как, додумался?
– Пока нет, – очень серьезно ответил Никита. – Вот думаю.
– Ладно, думай, – вздохнула Нана.
Другие времена, другие нравы, другие тренеры. Когда ей было столько, сколько сейчас Никите, ее тренер исправлял ошибки сразу же и таких домашних заданий не давал. В те времена боялись, что закрепится неправильный стереотип движения. А сейчас что, не боятся? Или появились новые школы тренерской работы? За тринадцать лет много воды утекло… Нана до сих пор общается со своим тренером, но та учит спортсменов по-старому, а Светлана Арнольдовна совсем молодая. Может, и вправду теперь работают по-другому. Светлана Арнольдовна! Смешно. Когда Светочка Лазарева в семь лет начинала заниматься в учебно-тренировочной группе, Нана Ким уже была в составе юниорской сборной страны.
Она быстро убрала со стола, вымыла посуду, оделась, накрасилась. Внимательно и придирчиво, как и каждый день, оглядела свое отражение в зеркале. Ну и дал же бог ей внешность! Нарочно не придумаешь. Отец, кореец из Казахстана, наградил дочь раскосыми темно-карими глазами, широкими скулами, жесткими прямыми волосами цвета воронова крыла и сухощавым компактным телом с сильными мышцами. Мать, наполовину грузинка – наполовину молдаванка, подарила крупный нос с горбинкой, который Нана ненавидела, красиво изогнутую верхнюю губу и потрясающую кожу, которую Нана считала своим единственным достоинством. Сколько же времени ей приходится каждый день проводить за макияжем, чтобы лицо не казалось таким широким, а нос – таким большим! Хорошо хоть с фигурой пока еще все в порядке. Просто удивительно, почему мужчинам так нравится ее внешность, которая ей самой кажется далеко не самой удачной.
К Дворцу спорта они подъехали без десяти семь.
– Ну что, Никитос, решил задачку?
– Нет. Может, подскажешь?
– Ладно, – засмеялась Нана, – подскажу. Когда ты заканчиваешь круг, в момент переходного толчка, ты вместе с опорной ногой поворачиваешь бедро свободной ноги. Это ошибка. Свободную ногу надо оставлять строго над следом. Понял? Помнишь, у тебя в простых кругах при старте назад-наружу перекрещивались стартовые дуги? Это была та же самая ошибка. Следи за свободным бедром.
– Точно?
– Точно, – уверенно ответила Нана.
Уж у нее-то со «школой» всегда был полный порядок. Кроме характерной внешности, она унаследовала от отца, чемпиона Европы по спортивной гимнастике, отличную координацию, умение чувствовать каждую мышцу и владеть ею, полностью контролировать свое тело.
Она развернулась на сиденье, подала сыну лежащую сзади сумку с формой, коньками и учебниками: после тренировки Никита побежит в школу.
– Пока, сынок, до вечера.
Он уже почти вылез из машины, но вдруг остановился и повернулся к ней:
– Мам, если ты так хорошо все знаешь, почему же ты не стала чемпионкой?
– Чемпион, сынок, это не только отличная подготовка. Чемпион – это особенный характер. У меня такого не было.
– А у меня есть?
– У тебя есть, – засмеялась она. – Пока, чемпион.
Нана вела машину по темной зимней Москве и улыбалась. У нее действительно было почти все для того, чтобы стать чемпионкой. Именно почти, потому что не было самого главного: честолюбия и склонности к борьбе. Целеустремленность, собранность, трудолюбие, умение мобилизоваться и контролировать себя – эти необходимые для фигуриста качества у нее были даже в избытке, а вот честолюбия и желания бороться за первенство не было совсем. Она просто любила кататься, наслаждалась каждой минутой пребывания на льду, радовалась, когда ее хвалили, но никогда не стремилась побеждать в соревнованиях и быть первой. Может быть, именно поэтому в ней всегда ценили то, что называется соревновательной надежностью: у Наны Ким никогда не сдавали нервы, она была на удивление стабильной спортсменкой, но при этом даже при лучших своих прокатах оставалась второй или третьей. Первой – никогда, даже если находилась на пике формы. В ней не было азарта и склонности к риску, ей было все равно, какое место занять, и в соревнованиях она участвовала только потому, что «так надо», так принято, иначе вообще кататься не дадут, отлучат от льда и возьмут в группу более перспективного спортсмена. Нана хорошо помнила, как много лет назад к ним на тренировку пришел знаменитый в те годы тренер, подготовивший нескольких олимпийских чемпионов. Все в группе знали, что он пришел высматривать талантливых ребят, и всем ужасно хотелось ему понравиться. Во время разминки в зале их тренер Вера Борисовна всех предупредила о том, что придет «сам», а потом отозвала Нану в сторонку.
– Скажи, ты хочешь быть чемпионкой? – заговорщическим шепотом спросила она.
– Нет, – честно ответила девочка, – не хочу.
– Почему?
– Не знаю, – пожала плечами одиннадцатилетняя Нана. – Не хочу, и все. А зачем?
– А чего же ты хочешь? Зачем занимаешься?
– Хочу просто кататься. Мне нравится.
Вера Борисовна мягко улыбнулась:
– Ты просто еще маленькая. Я хочу тебя предупредить: если сегодня ты понравишься «самому» и он возьмет тебя к себе, никогда и никому не говори, что не хочешь быть чемпионкой. Иначе тебя не будут тренировать, и ты не сможешь кататься. Поняла?
Нана сосредоточенно кивнула. Ладно, она никому не скажет. Нельзя так нельзя. Слово тренера – закон.
«Сам» простоял у бортика два часа и ушел. А через месяц в их группе осталось вместо пяти человек только четыре: великий тренер отобрал для своей группы очень талантливого мальчика. Мальчик этот стал впоследствии олимпийским чемпионом в танцах на льду. Тогда Нана еще мало что понимала в жизни, она просто тихонько порадовалась, что не нужно лгать, что-то скрывать, а главное – не нужно менять тренера и привыкать к новым порядкам и новым людям. Теперь же она точно знала, что, даже если бы «сам» ее тогда забрал к себе, она все равно не стала бы чемпионкой, несмотря ни на его бесспорный тренерский талант, ни на свои способности. Чемпион – это характер.
– Просто поразительно, – тихонько вздыхала тренер Вера Борисовна. – При таких родителях у девочки нет ни капли честолюбия и стремления быть первой. Ну как такое может быть?
Под «такими родителями» подразумевались папа и мама – чемпионы по спортивной гимнастике. Нана тогда сделала вывод, что не иметь честолюбия – плохо, стало быть, это стыдно, это недостаток, который надобно тщательно скрывать, чтобы ее не сочли неполноценной. Она не хотела огорчать Веру Борисовну, к которой была привязана всей душой, и честно, в полную силу каталась на соревнованиях, но все равно оставалась второй или третьей, потому что для победы нужно еще и желание победить, которого у Наны никак не обнаруживалось. Но главную свою задачу она выполняла: входила в десятку, потом в пятерку, потом в тройку сильнейших, скрывая от всех, кроме тренера, свой главный дефект – отсутствие стремления побеждать. Все, что она делала, она старалась делать на «пять с плюсом», но ей никогда не хотелось, чтобы ее пятерка с плюсом оказалась весомее, «круче», чем у других.
Зато Никита, слава богу, пошел не в нее. Он в свои двенадцать лет достаточно стабильно выполняет пять тройных прыжков и изо всех своих мальчишеских сил борется с тройным акселем – единственным прыжком, который пока еще получается плохо. У него есть кумир, он хочет быть «как Плющенко», который в таком же возрасте безошибочно исполнял все шесть прыжков. Да, здесь ее сынишка пошел в отца, у того честолюбия – хоть лопатой выгребай…
* * *
К концу совещания Нана почувствовала, что утреннее ощущение «не в ногах» было не случайным. В горле першило, разболелась голова, начали слезиться глаза. Черт, неужели грипп? Надо бы уйти домой и срочно приняться за лечение, но она столько всего напланировала на сегодня… Она перелистала ежедневник, отметила крестиками дела, которые можно перенести на три-четыре дня, а галочками – те мероприятия, которые перенести никак нельзя. Таких оказалось всего два, одно намечено на 13:30, второе – на 17:00. Сейчас без четверти двенадцать. Нана быстро прикинула расклад и попросила секретаря созвониться с человеком, встреча с которым назначена на 17:00, и попробовать договориться с ним на более раннее время. Отстреляться – и домой, нечего по всему издательству бациллы разносить.
– Нана Константиновна, вас хочет видеть Любовь Григорьевна, – сообщила секретарь Влада.
– Какая Любовь Григорьевна? – недоуменно нахмурилась Нана.
– Ну Любовь Григорьевна, – повторила Влада специальным голосом, который прорезался у нее всегда, когда речь заходила о владельце издательства Александре Филановском и членах его семьи. В данном случае речь шла о тетке шефа.
– Ах да. А что случилось?
– Не знаю. Она позвонила из машины, сказала, что уже подъезжает и хотела бы с вами переговорить.
– Конечно, Влада. Я буду у себя. Как появится – проводи сразу же. И сделай мне чаю погорячее, с лимоном.
Положив трубку, Нана достала из ящика стола зеркало. Боже мой, ну и видок у нее! Глаза красные, лицо отечное, нос, и без того немаленький, стал, кажется, еще больше. Ну точно, у нее либо грипп, либо сильная простуда. И как быстро эта хворь на нее налетела! Ведь еще два часа назад, перед началом совещания, она смотрелась в зеркало и ничего необычного не увидела, более того, даже осталась довольна своим внешним видом.
Влада принесла чай, который Нана выпила медленно, маленькими глоточками. Глаза заслезились еще сильнее, но горло, кажется, поутихло. Может, послать Владу в аптеку, пусть купит что-нибудь подходящее, болезнь лучше всего задавливать в самом начале, тогда с ней легче справиться. Она снова потянулась к телефонной трубке.
– Влада, раздобудь мне какое-нибудь лекарство от простуды и гриппа.
– Это для вас?
Вопрос был не случайным, девушка хотела выяснить, нужно ли бежать в аптеку срочно, прямо сейчас, или лекарство требуется начальнице в принципе, к моменту ее ухода с работы.
– Да, я что-то расклеиваюсь прямо на глазах. Тебе удалось договориться о переносе встречи?
– Да, Нана Константиновна, они приедут к трем.
– Спасибо.
Ну вот, уже легче. В четыре она, бог даст, освободится и поедет домой. Нана открыла ежедневник и просмотрела записи до конца недели. Надо все разметить и оставить Владе, она знает, что нужно делать в таких случаях. Она уже занесла над страницей карандаш, когда поняла, что ничего не понимает. Видит каждую букву в отдельности, но как-то не очень отчетливо, и в осмысленные слова эти буквы ну никак почему-то не складываются. Температура поднялась, что ли?
В приемной послышались тяжелые уверенные шаги, распахнулась дверь, и на пороге кабинета возникла тетка шефа, Любовь Григорьевна. Высокая, худая, дорого и модно одетая, она все равно казалась суровой и бескомпромиссной «училкой», которую дети боятся и ненавидят. Стильно подстриженные седые волосы, холодные глаза за стеклами очков в оправе от Шанель, жесткие сухие губы, и вся она – олицетворенная требовательность и строгость.
– Добрый день, Нана. У вас найдется для меня четверть часа?
– Проходите, Любовь Григорьевна, – Нана жестом указала на мягкое кресло. – Я вас слушаю. Что-то случилось? У вас претензии к охране или к водителю?
Это было единственное, что пришло ей в голову, когда Влада сказала, что Любовь Григорьевна хочет зайти. Ну а зачем еще ей заходить к руководителю службы безопасности крупного издательства? Вряд ли доктора педагогических наук могут заинтересовать чисто коммерческие нюансы приобретения ее племянником типографии в Подмосковье или далекоидущие планы по переманиванию перспективных авторов. Наверняка все дело в охране или водителях, которые находятся в ведении Наны Константиновны Ким.
Филановская тяжело опустилась в кресло, но тут же выпрямила спину, сдвинула колени и посмотрела на Нану взглядом одновременно отрешенным и надменным.
– Нет, у меня дело конфиденциального свойства. Но прежде чем я его изложу, вы должны дать мне слово, что мои племянники ничего не узнают.
– Если это касается работы издательства, то я такого слова дать не могу.
– Работы издательства это никоим образом не касается. Это внутрисемейное дело.
– Тогда почему вы пришли ко мне, Любовь Григорьевна? Я – начальник службы безопасности издательства, а не семейный адвокат и не нотариус.
Больше всего в этот момент Нане хотелось отделаться от посетительницы. Головная боль быстро нарастала и стала уже почти непереносимой, кроме того, заложило нос и начался озноб. Если у внезапно заболевшего организма еще остался какой-то ресурс прочности, то его нужно поберечь для двух деловых встреч, которые никак невозможно отменить, и было смертельно жалко тратить этот драгоценный ресурс на какое-то внутрисемейное дело. Как на соревнованиях, мелькнуло в голове у Наны, когда неудачно упадешь и чувствуешь острую боль в колене или бедре при каждом движении, и понимаешь, что осталось откатать еще половину программы, и в этой второй половине, помимо всего прочего, два сложных прыжка и одно вращение, и ты просто не вытерпишь такую боль, если постараешься выполнить все запланированное, и нужно быстро, на ходу, перестраиваться и решать, какие элементы попытаться все-таки выполнить, а какие упростить, чтобы сохранить силы для сложных, за которые судьи дадут побольше баллов. Например, вместо каскада из двух тройных прыжков прыгнуть «три – два», тогда хватит сил сделать во вращении больше оборотов.
– Вы – начальник службы безопасности, – ровным голосом повторила за ней Филановская, – и это позволяет мне надеяться, что в вашем распоряжении есть сотрудники, умеющие выполнять деликатные поручения. Ведь есть?
– Есть, – кивнула Нана. – О каком поручении идет речь?
– Нужно найти одного человека.
– Зачем?
– Он… – Филановская на мгновение задумалась, словно подыскивая приемлемую формулировку, – он, скажем так, обладает сведениями, разглашение которых может нарушить мир и спокойствие в нашей семье. Это не имеет отношения ни к деньгам, ни к бизнесу, это абсолютно внутрисемейное дело, из-за которого мы все при неблагоприятном исходе можем перессориться.
– И все-таки, Любовь Григорьевна, кто этот человек? – настойчиво спросила Нана.
– Речь идет об отце моих племянников.
Фу ты, господи, ерунда какая, а она уже испугалась. Значит, об отце. Ладно, с этим она как-нибудь справится.
– Вот, – Любовь Григорьевна протянула Нане заклеенный конверт, – там все сведения, которыми я располагаю. Больше мне ничего не известно. Разумеется, работа будет должным образом оплачена. И еще раз позволю себе напомнить, что мои племянники не должны об этом знать.
Нана молча взяла конверт. В голове мутилось от боли, глаза почти ничего не видели. Пусть Любовь Григорьевна уже скорее уходит.
– Вы нездоровы? – В голосе Филановской прозвучало неподдельное сочувствие. – У вас совершенно больной вид.
– И самочувствие такое же, – Нана попыталась улыбнуться. – Как вы собираетесь скрыть от Александра Владимировича свой визит ко мне? Вас же куча народу видела в издательстве, и водитель, который вас привез, знает, что вы здесь были, и моя Влада знает, что вы приходили ко мне.
– Об этом не беспокойтесь, я сейчас зайду к Саше, у меня к нему дело. Вы же знаете, перед Восьмым марта он устраивает корпоративную вечеринку, и мне нужно обсудить с ним ряд вопросов. Я скажу, что заходила к вам.
– Зачем?
– Жаловалась на водителя. Мне не нравится, что он постоянно нарушает правила. Нас часто останавливают, и приходится терять кучу времени на объяснения с сотрудниками ГАИ. Или как оно теперь называется?
– Он действительно ездит с нарушениями? – обеспокоенно спросила Нана.
– Разумеется. Но теперь все так ездят. И разумеется, мне это не нравится. Я не хочу попасть в аварию.
– Вы хотите, чтобы вам заменили водителя?
– Я думаю, для первого раза будет достаточно, если вы сделаете ему внушение. Благодарю вас. Всего доброго.
Филановская поднялась и вышла из кабинета, громко стуча каблуками. Нана озадаченно посмотрела ей вслед и даже нашла в себе силы усмехнуться сквозь боль и озноб. Да уж, доктор педагогических наук.
Через несколько минут вернулась из аптеки Влада, высыпала на стол перед начальницей горку каких-то таблеток, порошков и микстур.
– Влада, детка, давай-ка сама, – слабым голосом попросила Нана. – Я уже ничего не соображаю, даже надписи прочитать не могу.
Секретарь взялась за дело, наливала воду, что-то растворяла, что-то капала. Нана покорно пила и глотала все, что ей давали, и ни во что не вникала. Вся ее спортивная жизнь приучила терпеть боль, и она умела терпеть боль в спине, в суставах, в ушибленных при падениях местах, терпеть и продолжать кататься, и прыгать, и вращаться, хотя от вращений немыслимо, просто запредельно болели руки: от высокой скорости вращения лопались сосуды. Головная боль была единственной болью, с которой Нана справлялась плохо и совершенно переставала соображать.
Половина первого. У нее есть еще час, чтобы прийти в себя.
– Никого ко мне не пускай и ни с кем не соединяй, – велела она Владе.
Секретарь вышла, Нана заперла за ней дверь и прилегла на неудобный кожаный диван. Сидеть на нем, конечно, хорошо, а вот лежать… Даже при ее не самом высоком росте ноги помещаются с трудом. И холодно как! А накрыться нечем. Если только шубой, но для этого нужно встать, а сил нет. Легла, не снимая пиджак, хорошо еще, что костюм трикотажный, не мнется. У уважающих себя руководителей имеется комната отдыха, и даже с собственным санузлом, и всегда есть возможность отдохнуть, полежать, накрывшись теплым пледом, прийти в себя, принять душ. И почему она такая упрямая дура? Ведь Филановский, когда они переезжали в это огромное новое здание, предлагал ей устроить при кабинете такую комнату, а она засопротивлялась, мол, ни к чему ей эти барские роскошества, она сюда работать приходит, а не отдыхать. Теперь вот жалеет…
Через пятнадцать минут озноб стал уходить, еще через пять головная боль ослабела, а через полчаса Нана почувствовала, что, пожалуй, переговоры она провести сумеет. Хорошо, что нет ничего сложного и скандального, обычная рутинная встреча, которую неудобно было отменять просто потому, что люди приехали из другого города и сегодня вечером собирались уезжать назад.
Она открыла глаза, повернулась, и взгляд ее упал на кресло, в котором еще недавно сидела Филановская. Надо что-то делать с ее поручением. Или потом? Ведь ничего срочного.
И все-таки она встала с дивана, отперла дверь и выглянула в приемную.
– Влада, найди мне Тодорова, если он в издательстве.
– Я его видела сегодня, – кивнула девушка, быстро нажимая кнопки на телефонном аппарате.
Конечно, ничего не случилось бы, если бы Нана позвонила Антону сама и попросила зайти. Но лучше действовать через секретаря. Почему-то Нана была в этом уверена.
Антон Тодоров был как раз тем человеком, которому можно и нужно поручать такие задания, с каким приходила тетка шефа. Помимо личной охраны руководства, охраны зданий, сооружений и материальных ценностей, проверки персонала издательства на благонадежность, коммерческой разведки и контрразведки, то и дело возникали ситуации, требующие деликатного и конфиденциального разрешения. Ситуации эти возникали не только с сотрудниками издательства, но и с авторами, причем с авторами даже чаще, а Александр Владимирович Филановский давно уже понял простую истину: чтобы автор с тобой работал, ему должно быть комфортно во всем, а не только в денежном отношении. Автора могут переманить в другое издательство, посулив ему более высокие продажи и, соответственно, гонорары, но в этот момент он вспомнит о том, как ловко, аккуратно и незаметно для постороннего глаза разрешались некоторые его личные вопросы, например, с сыном, попавшим в милицию, или с женой, оказавшейся на крючке у какой-нибудь мошенницы-ясновидящей, или с возникшим из ниоткуда бывшим одноклассником, прослышавшим о доходах автора и теперь осаждающим его просьбами дать денег, которые он наверняка никогда не вернет. Вспомнит автор об этом и еще десять раз подумает, прежде чем принимать выгодное предложение конкурентов, а подумавши, скорее всего, откажется. Вот на такие поручения и бросали Антона Тодорова. И справлялся он с ними, надо признать, вполне успешно. В службу безопасности издательства «Новое знание» он пришел из уголовного розыска и обладал не только необходимыми знаниями и навыками, но и нужными знакомствами.
– Нана Константиновна, пришел Тодоров, – прозвучал из интеркома голос Влады.
– Да, пусть заходит, – ответила Нана и быстро провела расческой по растрепавшимся волосам.
Антон плотно притворил за собой дверь и ласково улыбнулся:
– Привет.
– Здравствуй.
Нана с удовольствием позволила ему обнять себя и быстро поцеловать в губы. Рука Антона уже начала было привычное движение от ее обтянутого колготками колена вдоль бедра под юбку, но внезапно остановилась.
– Какая ты горячая! У тебя температура?
Он отстранился и внимательно оглядел ее лицо. Нана молчала.
– Господи, да ты совсем больная! Тебе домой надо, срочно.
– Сама знаю, – вполголоса пробормотала Нана. Говорить громко она не могла, каждый звук ударами кувалды отдавался в висках и затылке. – У меня две встречи, их нельзя отменить. Сейчас проведу обе и поеду.
– Да как же ты поедешь в таком состоянии? Тебе за руль садиться нельзя. Я тебя отвезу сам.
– На глазах у всего издательства? – усмехнулась Нана. – Не смеши меня. Кстати, открой дверь в приемную.
Их роман длился уже два года, и оба они делали все возможное, чтобы об этом не узнали на работе. Собственно, ничего крамольного в их отношениях не было: Нана давно в разводе, Тодоров вообще никогда не был женат, но романтические отношения между начальницей и подчиненным казались ей чем-то совершенно недопустимым, примерно столь же неприличным, как отсутствие честолюбия. И не только недопустимым, но и пошлым. Антон этого мнения не разделял, но ссориться из-за таких пустяков считал бессмысленным и старался, чтобы Нана была довольна и не нервничала.
Он послушно открыл дверь в приемную и, чтобы как-то оправдать свои действия, попросил Владу принести чай. Пусть девушка знает, что в их отношениях нет ничего личного, такого, что нужно обсуждать при закрытых дверях. Разговаривать можно тихо, она ничего не услышит, зато в любой момент сможет видеть, что в кабинете Наны Константиновны ничего непристойного не происходит.
– Для тебя есть работа, – проговорила Нана, протягивая ему оставленный Любовью Григорьевной конверт. – Приходила наша тетушка, ей нужно разыскать одного человека, все данные в конверте.
– Что за человек? – вздернул густые брови Тодоров.
– Понятия не имею. Там все написано.
– И зачем он ей?
– Антон, я понятия не имею, что ей надо. Ты же видишь, в каком я состоянии. Сейчас уже лучше, меня Влада какими-то снадобьями напичкала, а когда тетка заявилась, я вообще была в грязь, даже плохо понимала, что она говорит. Мне хотелось, чтобы она скорее ушла, и я не задала ей ни одного вопроса. Знаю только, что речь идет об отце шефа. Ну, и его брата, соответственно. Зачем-то этот тип ей понадобился.
На пороге появилась Влада с подносом в руках, и Тодоров тут же вскочил, взял поднос и поставил на стол перед Наной. Сделал он это не очень ловко, и чай из чашек выплеснулся на блюдечки. Влада тут же схватила салфетки и принялась устранять последствия тодоровской услужливости.
– Черт, до чего ж я неловкий, – смущенно пробормотал он.
– Да ладно, – Нана вяло махнула рукой.
Дождавшись, когда Влада выйдет в приемную, она продолжила, понизив голос:
– Короче, займись этим. Только имей в виду, у нашей тетушки жесткое условие: шеф и Андрей не должны об этом знать.
– Ну ясное дело, – хмыкнул Антон, отпивая горячий чай с лимоном. – Иначе она к тебе не пришла бы, а обратилась прямо к своему племяннику, чтобы он сам распорядился. Когда закончатся твои переговоры?
– Надеюсь, что к четырем.
– Хорошо, я как раз успею.
– Что ты успеешь?
– Доехать до твоего дома, оставить там свою машину и вернуться сюда на метро. Буду ждать тебя у выхода из метро, возле газетного киоска. Надеюсь, что пятьсот метров ты сумеешь проехать сама, а дальше я тебя повезу.
– Антон! – она умоляюще посмотрела на Тодорова.
– Ну что?
– А если кто-нибудь увидит?
– Да и черт с ним. А если ты в аварию попадешь? На тебя же смотреть страшно. Могу себе представить, как тебе плохо.
– Плохо, – удрученно согласилась Нана. – Ладно, давай тогда встретимся не у метро, а метров на двести подальше, в переулке, у следующего светофора. Туда никто из наших не забредает. Возле метро нас обязательно кто-нибудь увидит, все наши, у кого нет машины, пользуются этой станцией.
– Договорились. Что-нибудь купить? У тебя дома еда есть?
– Полно. Я вчера весь день у плиты простояла. Да, Антон, если Никита дома, проследи, чтобы он пообедал, ладно? И еще одно: зайди в аптеку, пожалуйста, купи марлевые маски. Не хватало мне только ребенка заразить, у него меньше чем через месяц юниорский чемпионат.
Она протянула Тодорову ключи от своей квартиры, и он спрятал их во внутренний карман пиджака вместе с конвертом, оставленным Любовью Григорьевной Филановской.
* * *
Любовь Григорьевна вошла в квартиру и тут же окунулась в давно надоевшие ей, вызывающие раздражение и тупую усталость звуки: из комнаты матери доносилась музыка Вагнера, от которой сводило скулы, и громкая декламация. Мать читала роль леди Макбет, сиделка подавала реплики за всех остальных персонажей. Ну почему это обязательно нужно делать под Вагнера, музыку которого Любовь Григорьевна не выносила?
У себя в комнате она переоделась в красивый домашний костюм – трикотажные брюки и кашемировый джемпер – и прошла в кухню, где домработница Валя исступленно надраивала керамическое покрытие плиты.
– Обед готов? – строго спросила Филановская.
– Да, Любовь Григорьевна, все готово. Тамара Леонидовна уже покушала. Вам подавать?
Филановская милостиво кивнула, присела за стол, потянулась к широкой стеклянной вазе с ржаными сухариками, взяла один, принялась грызть. Здесь, в кухне, музыка слышалась не так громко. Мать не слышит, что Любовь Григорьевна вернулась, и можно еще какое-то время провести в молчании. Валя – прислуга дисциплинированная, вышколенная, никогда не заговорит первой, пока ее не спросят.
Она уже пила кофе, когда музыка смолкла, и Любовь Григорьевна услышала, как распахнулась дверь и зашаркали неуверенные шаги, перемежающиеся стуком палки. Ну вот, счастье длилось недолго.
Тамара Леонидовна появилась на кухне в сопровождении сиделки.
– Валя! – с пафосом воскликнула она. – Кто эта женщина? Почему в доме посторонние? Ты совсем распустилась! Вот Любочка вернется, она тебе выволочку устроит.
Любовь Григорьевна молча продолжала пить кофе. Иначе как выжившей из ума старухой она свою мать давно уже не называла. Правда, только в мыслях. При посторонних она проявляла полное дочернее уважение. Валю мать, стало быть, узнает и даже имя ее помнит, а вот родную дочь идентифицировать отказывается. Что это, проявление болезни или привычка к лицедейству? Мать была когда-то великой актрисой, знаменитой не только в СССР, но и за границей, до семидесяти пяти лет она выходила на сцену, но теперь ей уже восемьдесят семь, осенью исполнится восемьдесят восемь, у нее множество болезней, она с трудом ходит, нуждается в постоянном присмотре, ничего не помнит и мало что соображает. Однако это не мешает ей продолжать оставаться великой актрисой.
– Тамара Леонидовна, это ваша дочка Люба, – терпеливо принялась объяснять сиделка.
– Ну какая же это Люба! – возмутилась та. – Что я, Любочку не знаю? Любочка совсем другая. А это какая-то чужая женщина. Убирайся из моего дома немедленно!
– Хорошо, – спокойно ответила Любовь Григорьевна, – вот сейчас кофе допью и уберусь.
Филановская-старшая попыталась изобразить рукой царственный жест «подите прочь», но пошатнулась, и сиделке еле-еле удалось ее подхватить.
– Пойдемте, Тамара Леонидовна, – ласково произнесла она, – пойдемте. Мы же с вами вышли походить, размяться, вот и пойдемте дальше.
– Я не хочу ходить, – капризно заявила бывшая примадонна, – мне тяжело, я устаю. И голова у меня кружится. Валя, я хочу обедать. Подавай.
– Вы уже обедали полчаса назад, – терпению сиделки поистине не было предела.
– Ты все врешь! Ты врешь! Тебе куска хлеба жалко для меня! Ты сама все съела, в доме еды нет, а на меня сваливаешь! Вот придет Любочка и тебя уволит. Дай мне немедленно телефон, я ей позвоню и скажу, чтобы возвращалась поскорее домой и разобралась тут с вами!
Ее оплывшее морщинистое лицо тряслось от негодования, глаза налились кровью, одной рукой она крепко держалась за сиделку, а другой пыталась поднять палку и замахнуться на домработницу. Терпение Любови Григорьевны лопнуло.
– Мама, прекрати этот цирк! Ты только что пообедала. Если ты голодна, Валя принесет тебе чаю и что-нибудь легкое.
Лицо старухи неожиданно прояснилось.
– Ой, Любочка! Так это ты? А я тебя не узнала, деточка. Ну что ты стоишь? – обратилась Тамара Леонидовна к сиделке. – Веди меня, мы же должны ходить.
Имени сиделки Любовь Григорьевна не помнила. Надзор за матерью требовался круглосуточный, сиделок было несколько, они работали то сутками, то менялись в течение дня, и что толку запоминать их? Это обязанность Саши – нанимать персонал, договариваться, решать организационные вопросы и оплачивать их работу, и Любови Григорьевне было, в сущности, абсолютно все равно, кто именно сидит с ее сумасшедшей матерью, лишь бы кто-то сидел и следил, чтобы она не упала, не вылила на себя кипяток, чтобы вовремя приняла лекарство и поела, чтобы без приключений сходила в туалет, чтобы была чистой и ухоженной и чтобы в комнате ее был порядок. И самое главное: сиделки должны были удовлетворять потребность старой актрисы в общении. Сама Любовь Григорьевна не испытывала ни малейшего желания разговаривать с матерью, выслушивать ее воспоминания и рассуждения о тяготах ее нынешнего состояния и уж тем более не собиралась подыгрывать ей в ее сумасшедших спектаклях. Тамара Леонидовна ежедневно играла какую-нибудь пьесу, то из своего прежнего репертуара, а то и что-нибудь новенькое, ею не сыгранное, вот как сегодня шекспировского «Макбета» например, и сиделки добросовестно помогали ей в этом.
Шаркающие шаги и стук палки то удалялись, то приближались. Квартира большая, просторная, есть где размять старческие ноги, чтобы мышцы окончательно не ослабели. Когда-то в этой огромной квартире их было четверо, потом пятеро, а теперь Любовь Григорьевна осталась вдвоем с выжившей из ума матерью.
Она попросила еще одну чашку кофе, выпила ее не торопясь. Пусть сиделка после обязательного променада уведет мать в ее комнату, тогда и Любовь Григорьевна уйдет к себе.
Наконец шаги стихли, вновь послышалась музыка. Любовь Григорьевна вернулась в свой кабинет, собрала бумаги, аккуратно сложила их в стопку, навела на столе порядок и только после этого села, достала из сумочки конверт и вытащила листок бумаги. За последние три дня она проделывала эту процедуру раз двадцать, каждый раз испытывая глупую, бессмысленную надежду на то, что на листке написано совсем не то, что ей помнится. Ей это просто приснилось, и не было никакой записки, не было этих страшных слов. Она открывала конверт, разворачивала листок и каждый раз убеждалась, что нет, не приснилось, не примерещилось. Все это было. Слова оставались теми же самыми, такими простыми и такими пугающими:
«Как ты думаешь, что будет, если они узнают?»
Москва, осень 1968 года
– Так, хорошо. Теперь посмотрела в окно и вспомнила что-нибудь интимно-романтическое, – деловито скомандовал фотограф по имени Женя.
Надя не удержалась, фыркнула и звонко расхохоталась. Какой же он забавный, этот Женя! Когда Сережа вел ее сюда, он говорил, что они идут в гости к самому великому фотографу-портретисту всех времен и народов, и Надя готовилась увидеть солидного дядечку в усах, бороде и свободном свитере толстой вязки, точь-в-точь как у Хемингуэя на самой знаменитой фотографии, висевшей в те годы почти в каждом доме. Дядечка-фотограф, если он самый великий, должен был, по ее представлениям, иметь густой бас и изысканно балагурить, используя в речи старомодные обороты, вроде «голуба моя», «барышня» или «не извольте беспокоиться». Именно такими рисовали представителей богемы (а кто же фотограф, если не богема?) в современном театре и кино, и зачастую они именно такими и оказывались, уж Наденьке ли не знать, ведь она выросла в семье, где папа – главный режиссер театра, а мама – знаменитая актриса. Поэтому она сначала удивилась, а потом развеселилась, увидев вместо солидного бородатого дядечки в толстом свитере невысокого субтильного плешивого Женю в клетчатой ковбойке с короткими рукавами и в вытянутых на коленках старых брюках. Она ни на минуту не поверила, что этот смешной сморчок сможет сделать по-настоящему хороший портрет, но позировала со всей серьезностью и добросовестно выполняла все указания фотографа, потому что не хотела обижать Сережу. Боже мой, она так сильно его любит, что готова ради него на все, что угодно! А уж такая-то малость…
– А интимно-романтическое – это как? – спросила она, бросив лукавый взгляд на сидящего в углу Сергея.
Сергей поймал ее взгляд и весело подмигнул в ответ.
– Ну, например, вспомни, как он объяснялся тебе в любви или как вы в первый раз поцеловались, – объяснил Женя.
– Он не объяснялся. Это сейчас не модно.
– А целоваться тоже не модно?
– Поцелуи – это буржуазный пережиток. Если люди любят друг друга, они составляют единое целое, а если не любят, то им незачем быть вместе. Что еще вы мне посоветуете вспомнить?
Надя откровенно веселилась, а присутствие Сергея придавало ей храбрости и желания казаться взрослой женщиной. Фотограф Женя, судя по всему, принимал ее слова за чистую монету, потому что ответил:
– Тогда думай о том, как вы сливаетесь в единое целое. Голову чуть влево, смотрим в окно и вспоминаем.
Надя послушно повернулась к окну, за которым не было ничего, кроме тяжелого, набухшего сердитым дождем осеннего неба. Квартира Жени находилась на девятом этаже, кроны деревьев сюда не доставали. Позировала она с удовольствием и вообще любила, когда ее фотографируют: Надежда Филановская была красивой девушкой, очень красивой, и знала об этом, как и о том, что наряду с красотой наделена и фотогеничностью. На снимках она всегда замечательно получалась.
– Очень хорошо! Еще чуть-чуть вспомнила… не думай о нас с Серегой, думай только о своем, про остальное забудь… И не моргаем!
На несколько секунд повисла пауза, которую разорвала вспышка фотоаппарата.
– Отлично! Остались в той же позе, продолжаем думать…
– Может быть, достаточно, Женя? – спросила Надя. – Вы уже почти два часа меня фотографируете.
– Наденька, чтобы получить три по-настоящему хороших снимка, нужно сделать не меньше ста кадров.
– Да ладно, Жень, – вмешался Сергей, – она права, хватит уже. Это ж не на выставку портрет, а для нас.
– Как скажешь, – фотограф явно был разочарован, ему хотелось еще поработать. – Тогда будем чай пить. Только последний снимок сделаю, ладно? Девушка так хорошо сидит, свет очень удачно падает.
Надя снова замерла, стараясь не моргать и придать лицу требуемое «интимно-романтическое» выражение, но у нее ничего не получалось, потому что в голову лезли всякие приземленные, вовсе не возвышенные мысли о том, как познакомить Сережу с родителями и что они скажут, когда узнают, что он женат, более того, через три месяца у него родится ребенок. Конечно, он разведется сразу же после рождения ребенка, ну, может, не совсем сразу, а где-то через месяц, но обязательно разведется, и тогда они поженятся. Надя Филановская была очень молоденькой, всего двадцать лет, но даже ее совсем небольшого жизненного опыта хватало для того, чтобы предвидеть реакцию родителей. Хотя, возможно, она зря паникует, папа и мама у нее люди современные, не косные, и когда они познакомятся с Сережей и поймут, какой он необыкновенный, какой замечательный, какой умный и тонкий, они, конечно же, одобрят ее выбор. Ну и что, что он женат! Кругом полно людей, которые разводятся и снова женятся, ничего в этом нет особенного. Ну и что, что он старше ее на четырнадцать лет, это даже лучше, чем выскакивать замуж за зеленых сопляков. Зелеными сопляками ее сестра Любочка называла всех, кто моложе ее самой, а ей уже двадцать шесть. И между прочим, отец Нади и Любы тоже старше мамы, на целых двенадцать лет старше, и они прекрасно живут вместе вот уже без малого тридцать лет и любят друг друга. А где двенадцать, там и четырнадцать, разница невелика.
Чай пили здесь же, в комнате, потому что кухню Женя превратил в фотолабораторию, где проявлял пленки, обрабатывал пластины, печатал и сушил снимки. Там, правда, осталась плита, на которой грелся чайник, но все остальное, включая холодильник и кухонную утварь, находилось в комнате. Сергей и хозяин квартиры горячо обсуждали августовские события в Чехословакии и на Красной площади, а Надя маялась от скуки, потому что политикой не интересовалась и ничего в ней не понимала, однако делала заинтересованное лицо и кивала, не сводя глаз с Сережи и продолжая думать о своем. Главным образом о том, как она его любит, и о том, какая она счастливая, потому что он любит ее.
– Они допустили одну ошибку, только одну, но так дорого за нее заплатили! – сокрушался Сергей.
– Какую?
– Они отменили цензуру. Если бы они этого не сделали, все бы у них получилось. Начали бы строить свой социализм с человеческим лицом, развивать рыночное хозяйство, реабилитировали всех, кто пострадал от репрессий, боролись бы с тоталитаризмом, номенклатурой и бюрократами, и никто бы им не помешал. Думаешь, Кремль рыночного хозяйства испугался? Да ему без разницы, пусть бы у чехов был частный сектор, как в Венгрии или в Югославии. Наши цековские заправилы именно отмены цензуры испугались, потому и ввели войска. Пока есть цензура, все можно делать и перестраивать потихоньку, не будоража умы, просто народ будет чувствовать, что постепенно жить становится легче и свободнее, и думать, что это и есть торжество идей социализма. И все довольны. А как только отменяешь цензуру, на людей начинает изливаться такой поток новых мыслей, что сознание не справляется, начинается разброд в мышлении, а это – прямая дорога к бунту.
– Думаешь, все так просто? – Женя с сомнением покачал головой. – Думаешь, тут, в Москве, все умные, а в Чехословакии одни дураки сидят и никто до этого не додумался? Так не бывает, Серега. И потом, что значит – делать потихоньку? Потихоньку, тайком делают что-то, когда знают, что это плохо, неправильно, а они знали, что правы. И между прочим, они действительно правы.
– Да правы, правы, конечно, кто же спорит, но надо же с умом действовать, а не вот так, в открытую! Они что, не понимали, с кем связались? Не понимали, что наше руководство этого не потерпит?
Надя не очень отчетливо представляла себе, о чем они спорят. О Пражской весне она вообще, кажется, ничего не слышала, потому что сама газет не читала, а на обязательной политинформации в Консерватории, где она училась, об этом как-то не говорили, вернее, говорили, но только уже в сентябре, когда закончились летние каникулы, и не особенно подробно. Так, между делом, упомянули, что в августе руководство ЧССР обратилось к СССР с просьбой ввести войска для укрепления обороноспособности Варшавского блока против НАТО. Ну ввели войска – и ввели. Митингов под лозунгом «Руки прочь от Вьетнама» было куда больше, звучали они куда громче, и название деревушки Сонгми, сожженной дотла американским лейтенантом Келли, известно каждому. А Наде Филановской было не до этого, она вся ушла в свою любовь и в нетерпеливое ожидание зимы: Сережина жена наконец родит ребенка, и он с ней разведется. Надя и Сергей тогда поженятся, и у нее начнется совсем другая жизнь, совсем новая, совсем взрослая, такая тревожно-манящая своей неизведанностью, но обязательно полная любви и нежности.
Около десяти вечера она заторопилась домой. Пока родители не знают о Сереже, нельзя приходить слишком поздно. Ну сколько же можно тянуть с официальным знакомством? Она учится, Сережа работает, встречаться они могут не каждый день, да и то только по вечерам, и эти три-четыре часа пролетают всегда так быстро! Конечно, они и в выходные встречаются, но все равно ей очень хочется, чтобы часов, проведенных вместе, было намного больше. А еще лучше, чтобы можно было не ночевать дома. Но это совершенно невозможно, пока мама с папой не одобрят ее будущего мужа.
– Сережа, когда ты к нам придешь? – спросила Надя, когда они шли от метро «Площадь Революции» по улице Горького в сторону ее дома. – Ну сколько можно тянуть?
– Я пока не готов, – скупо проронил он.
– А когда же? Сереженька, я не могу так больше, ты просишь, чтобы я не говорила родителям о тебе, и мне все время приходится что-то придумывать, врать, чтобы объяснять, куда я ухожу и откуда так поздно возвращаюсь. У меня уже фантазии не хватает. И вообще, я плохо умею врать и скоро попадусь. Давай я им скажу, а?
– Надюша, я прошу тебя… Я не могу знакомиться с твоими родителями, пока не разведусь, ну неужели тебе так трудно это понять? Как я буду смотреть им в глаза, если они будут знать, что у меня беременная жена? Да они меня на порог не пустят, более того, они запретят тебе со мной встречаться, будут контролировать каждый твой шаг, не будут подзывать тебя к телефону, и мы тогда вообще не сможем видеться. Ты этого хочешь?
Этого Надя, само собой, не хотела, однако ни на одну секунду не допускала мысли о том, что Сергей прав. Ну как такое может быть, чтобы родители ее не поняли и не одобрили? У нее такие замечательные мама и папа, такие умные, добрые, веселые, талантливые! Они просто не имеют права ее не понять. Наденька Филановская искренне и радостно любила и жизнь, и всех людей и потому пребывала в счастливом убеждении, что такая огромная любовь не может оказаться безответной. Конечно же, и жизнь будет к ней благосклонна, и люди ее тоже любят, а уж о родителях и старшей сестре Любе вообще речи нет. А коль любят, то ни за что не станут препятствовать тому, чтобы она была счастлива. Сережа упирается, потому что не знает, какая у нее замечательная семья. Ну и пусть. Главное – она знает и поэтому верит, что все будет хорошо.
Решение пришло неожиданно, и Надя сперва даже удивилась, что это ведь так просто, почему же она раньше не сообразила? И совсем не обязательно говорить об этом Сереже, она и сама прекрасно может все устроить. Вот только момент надо выбрать удачно.
Дома она еще не успела снять пальто, как в прихожую фурией вылетела старшая сестра Люба.
– Где ты шлялась? – зловещим шепотом начала она. – Сейчас тебе будет.
– У нас было комсомольское собрание, а потом митинг в защиту Вьетнама, – Наденька округлила глаза, всеми силами стараясь продемонстрировать недоумение. – А в чем дело? Я же предупреждала, что задержусь.
– Не было у вас никакого собрания, тебе какая-то твоя подружка звонила, с мамой разговаривала, вот и выяснилось.
– А почему мама дома? – удивилась Надя. – У нее же сегодня спектакль.
– Спектакль! – фыркнула Люба. – У Громова инсульт, спектакль отменили, заменили на «Бесприданницу», а мама в ней не играет. Она уже с семи часов дома.
Надо же, а Надя даже не заметила мамину машину возле подъезда. Впрочем, когда рядом Сережа, она вообще ничего не замечает, смотрит только на него и думает только о нем. Вот невезенье! Надя была вполне разумной девушкой и приходить домой так поздно, как сегодня, позволяла себе только в те дни, когда у мамы был спектакль, стараясь при этом вернуться раньше ее. Отец, главный режиссер этого же театра, в расчет как-то не принимался, потому что он, как правило, оставался до конца спектакля, а если бы ему позволили, вообще жил бы в театре. Если же он по каким-то причинам проводил вечер дома, то уж точно ни в какие телефонные разговоры с подружками дочерей вступать не стал бы и никаких вопросов им не задавал бы. Ничто в этой жизни не интересовало его больше, чем театр, и за возможность служить ему он отдал бы все, не считаясь ни с чем.
– Папа тоже дома? – дрогнувшим голосом спросила Надя.
– Нет, папа поехал в больницу, куда Громова увезли. Все-таки ведущий актер, занят во всех гастрольных спектаклях, и надо понимать, какие перспективы, оправится ли он к гастрольному сезону или надо вводить другого актера. В Москве можно репертуар скорректировать, а на гастроли-то надо везти самое лучшее. Папа, конечно, в ужасе, так что тебе, считай, пока повезло, ему не до тебя. Но мама!..
Люба вскинула руки, пытаясь жестом передать всю степень негодования, в которое впала Тамара Леонидовна.
Ну и ладно. Раз так – значит, так тому и быть. Все равно придется признаваться, так уж лучше сейчас.
Надя переобулась в домашние тапочки и решительно двинулась к себе в комнату. Однако не успела она пройти и двух шагов, как из гостиной донесся хорошо поставленный голос матери:
– Надежда, это ты пришла?
– Я, мам, – откликнулась девушка.
– Иди сюда.
Надя вошла в комнату, пытаясь выглядеть спокойной и одновременно стараясь побыстрее определить настроение матери. Настроение, похоже, было – хуже некуда, не зря же мама назвала ее Надеждой, а не Наденькой, как обычно. Тамара Леонидовна, в свои пятьдесят выглядящая лет на тридцать пять, без единого седого волоса в длинных густых темно-русых кудрях, сидела в кресле, облаченная в лиловый атласный пеньюар с рюшами. Спина прямая, голова гордо поднята, в изящной руке – дымящаяся сигарета, вставленная в тонкий мундштук. Воплощенная неприступность и бескомпромиссность. В общем, поняла Надя, ничего хорошего ее не ждет.
– Где ты была? Только не ври, что на комсомольском собрании. Так где же? Откуда ты явилась в одиннадцать часов?
– Я была… с мальчиком… ну, то есть с молодым человеком.
– Неужели? И давно ты с ним знакома?
Правду Надя говорить и не собиралась, иначе сразу выяснится, что она соврала не только сегодня, но делала это систематически на протяжении нескольких месяцев.
– Со вчерашнего дня. Знаешь, мама, он такой славный. Хочешь, я приглашу его к нам? Ты с ним познакомишься и сама увидишь, какой он чудесный.
Лицо Тамары Леонидовны заметно смягчилось, теперь оно выражало живейший интерес. Уже не так важно, почему дочь солгала, гораздо важнее, что за мальчик у нее появился.
– Ну, насчет приглашения к нам – я бы спешить не стала, – в голосе матери появились царственные интонации, – может быть, он тебе скоро разонравится, так что и огород городить ни к чему. А кто он? Ваш, консерваторский?
– Нет, он художник.
– Как интересно! – Тамара Леонидовна похлопала ладонью по стоящему рядом дивану. – Иди-ка сюда, сядь, расскажи мне о нем подробнее. Как его зовут?
– Сережа. Сергей Юрцевич.
– И сколько ему лет?
– Ну… он старше меня.
– Намного?
– На четырнадцать лет.
– На четырнадцать лет? То есть ему тридцать четыре года? Господи, Надюшечка, да он для тебя старик!
Надюшечка. Значит, мама уже не сердится, наоборот, она готова к доверительному разговору. Вот и отлично.
– Ой, мама, – Надя сморщила носик, потянулась к матери, прижалась щекой к ее обтянутому прохладным атласом плечу, – ну а вы с папой? Он тебя на двенадцать лет старше, и ничего.
– Сравнила! Впрочем, ладно… – Тамара Леонидовна загасила сигарету и повернулась в кресле так, чтобы видеть дочь. – И что, чем он занимается, этот твой Сережа?
– Я же сказала, он художник. Пишет картины.
– Он член Союза художников? У него своя мастерская?
– Нет… Он просто художник, учился в Мухинском училище в Ленинграде.
– Интересно. Чем же он на жизнь зарабатывает? Если бы его картины продавались, я бы слышала его имя. Как ты сказала? Юрцевич? Нет, не слыхала. На что же он живет?
– Мам, я только вчера с ним познакомилась, откуда же мне знать? Неудобно у человека с первой же встречи спрашивать про деньги, правда? Кажется, он преподает в какой-то художественной школе.
Надя отлично знала, что это только часть правды, но в ее ситуации правду и надо выдавать частями, маленькими такими порциями, иначе можно на корню все дело загубить.
– Это неплохо, – задумчиво протянула Филановская-старшая. – А что же он не женился так долго? Тридцать четыре – это уже солидный возраст, в тридцать четыре года у меня, например, было уже двое детей, Любочке было десять, а тебе – четыре годика.
Но Надя и к этому была готова. Только осторожно, частями…
– Во-первых, когда папа на тебе женился, ему тоже было тридцать четыре, ты не забыла? И до тебя он ни на ком не был женат.
– Ты не сравнивай, – строго ответила мать, – ты вспомни, какое тогда было время! Тридцатые годы – это не то, что сейчас, в то время и до сорока лет не жениться считалось нормальным. Люди не о семьях и любви думали, а поднимали социалистическое хозяйство, преодолевали разруху, электростанции и дороги строили. А что во-вторых?
Ну вот, теперь самое главное. Только бы не ошибиться, ничего не испортить.
– А во-вторых, Сережа был женат.
– Был? То есть он в разводе?
– Да.
Ну какая разница, в конце концов? Он разведется через три-четыре месяца, и то, что Надя сейчас сказала матери, станет чистой правдой. Совсем необязательно признаваться во всем сегодня. А когда Сережа оформит развод и пройдет еще какое-то время, никому уже не будет дела до того, когда именно это произошло, осенью шестьдесят восьмого года или весной шестьдесят девятого.
– И дети у него есть?
– Д-да… кажется…
Не говорить же маме, что Сережина жена беременна и скоро родит. Получится, что он не просто развелся, а бросил беременную женщину одну в такой трудный период. Это уж совсем некрасиво, Надя это понимала, поэтому должным образом относилась к тому, что Сергей собирается разводиться только после того, как родится ребенок.
– Мальчик, девочка? – продолжала допрос Тамара Леонидовна.
– Не знаю, мам, мы же только вчера познакомились.
Да, этот момент Надя не продумала. Действительно, кто может знать, мальчик родится у Сережи или девочка? А отвечать надо уже сейчас. Ладно, пусть она пока якобы этого не знает, но ведь, если познакомить Сережу с родителями, они спросят у него, и что ему отвечать? Он-то не знать не может. Хорошо, если угадает, а если нет?
– Значит, алименты, – задумчиво протянула Филановская. – Ну и зачем тебе такое сокровище? Нищий живописец, разведенный, с алиментами. Нет, и думать забудь о нем, и не надо его сюда приводить, очень надеюсь, что в самое ближайшее время ты сама поймешь: он тебе совершенно не подходит и не надо с ним встречаться.
– Ну почему, мам?
Тамара Леонидовна взяла дочь за руки, притянула к себе, обняла.
– Надюша, ласточка моя, поверь мне, со стороны всегда виднее. Ты такая красивая, такая талантливая, тебя ждет блестящее будущее. У тебя дивный голос, тебя хвалят педагоги, главреж Театра оперетты дождаться не может, когда ты выпустишься, он даст тебе все главные роли. Как раз на днях я с ним говорила, он спрашивал о тебе. Захочешь – поедешь в Ленинград, в Театр музыкальной комедии, да тебя с руками оторвут! Вот о чем ты должна думать, а не встречаться с каким-то разведенным оборванцем. Не трать свое время на него, лучше занимайся побольше.
– Так мне что же, и замуж выходить нельзя? – попыталась пошутить Надя.
– Замуж можно, но только так, чтобы это не мешало твоей артистической карьере, а еще лучше – чтобы способствовало ей. Ну чем твой маляр может тебе помочь?
– Он не маляр, – Надя резко вырвалась из материнских объятий, – не говори так. Он очень талантливый художник. Как ты можешь судить, если не видела его картин? Ты же ничего о нем не знаешь! Он такой образованный, так много читал, так много знает! Он честный и порядочный, и очень добрый. Если уж выходить замуж, так только за такого, как он.
Филановская встала и молча прошлась по комнате, до двери и обратно, остановилась прямо перед диваном, на котором сидела девушка.
– А ты, я так понимаю, его картины видела. Да?
Надя молча кивнула, понимая, что наделала кучу ошибок и вывернуться теперь вряд ли удастся.
– И когда же, позволь спросить?
– Сегодня.
– Где?
– Ну как где… Мам, ну какая разница, где висят его полотна?
– Разница есть. Так где они висят, эти так называемые полотна? У него дома, в пустой холостяцкой дыре? Или дома у его близких друзей? Таких близких, что они проявили чудеса деликатности, и когда вы заявились к ним в гости якобы посмотреть картинки, вдруг оказалось, что им срочно нужно уйти, и вы остались в пустой квартире наедине? Или это была комната в коммуналке? Так было? Признавайся! И не смей мне врать!
Наденька растерялась окончательно. Она боялась родителей, боялась их гнева и даже простого недовольства, и в такие минуты, как эта, от страха переставала соображать. Ее любовь к миру была огромной, и этот великий и такой редкий дар оборачивался оружием против нее же самой: она не умела противостоять тем, кого любила, не умела сохранять хладнокровие, если те, кого она любит, были ею недовольны. Нужно было срочно придумать очередную ложь о том, где и при каких обстоятельствах она видела картины художника, с которым только вчера познакомилась, но в голову ничего не приходило.
– Что ты молчишь? Где ты видела его картины?
– У него дома. Мы зашли буквально на пять минут, я только посмотрела – и мы сразу ушли.
– Не смей мне врать!
– Я не вру. Так и было, правда, – пробормотала Надя дрожащим голосом.
Мать молча уселась в кресло, вставила в мундштук новую сигарету, закурила.
– Ладно. Дай мне слово, что не наделаешь глупостей. Я очень надеюсь на твое благоразумие. И подумай над моими словами: он тебе не пара. Лучше прекрати с ним встречаться сейчас, пока у вас не сложились отношения, толку от этого все равно не будет. Так и быть, можешь сходить с ним в кино или на концерт какой-нибудь, не очень часто, раз в две недели, но не более того. И никаких походов в гости к нему или к его друзьям, ты меня поняла?
– Почему? Ну в гости-то почему нельзя?
– Потому что ему тридцать четыре года и он уже был женат. Ты что, не понимаешь? Он искалечит тебе всю жизнь, потом отряхнется и пойдет дальше и даже не вспомнит о тебе. Это твои ровесники подолгу ухаживают и к первому поцелую подбираются по несколько месяцев. А он, этот твой Сережа, – взрослый мужчина, для него постель – дело обычное, повседневное, ты и сама не заметишь, как в ней окажешься. И что ты потом будешь делать? На аборт пойдешь? Будешь терпеть адскую боль без наркоза? А если неудачно сделают? Рискнешь остаться бездетной на всю оставшуюся жизнь? Или запишешься в матери-одиночки? И думать забудь.
– Ничего он не искалечит! Он чудесный, необыкновенный, он потрясающий! Как ты можешь такие гадости говорить о человеке, которого ни разу в жизни не видела?
– Ну, ты, положим, тоже не очень-то много его видела, – холодно заметила Тамара Леонидовна, – если ты не врешь. Или ты не вчера с ним познакомилась, а?
Она сделала паузу, и Надя вздрогнула, когда голос матери неожиданно загремел:
– Сколько времени вы уже встречаетесь?! Месяц? Два? Полгода?!
Девушка сидела молча, втянув голову в плечи. Все пропало. Она сама все испортила. Что же теперь делать? Мама обо всем догадалась, и отныне Наде придется отчитываться о каждой минуте, проведенной вне дома, и о каждом телефонном звонке. Одна надежда на сестру Любу: все-таки театральные спектакли никто не отменит, и мама как минимум два, а то и три раза в неделю будет выходить на сцену и не узнает, что младшей дочери нет дома. Конечно, она будет звонить из театра и проверять, но, может быть, можно как-то договориться с Любой, она ведь старше, она обязательно что-нибудь придумает.
– Что ты молчишь? Я задала вопрос: как давно ты с ним встречаешься? И жду ответ.
– Две недели.
У Нади достало самообладания, чтобы сообразить, какой срок назвать. Две недели свиданий, прикрытых «комсомольскими собраниями», «походами в филармонию», «репетициями» и «днями рождения подружек», – это не так много, чтобы завоевать репутацию отъявленной лгуньи, и в то же время достаточно, чтобы иметь право называть человека добрым, умным, тонким и образованным.
– Ты влюблена? Или он просто кажется тебе интересным человеком?
Мать снова заговорила спокойно, и Наде послышалась в ее голосе даже доброжелательная заинтересованность. Может быть, еще не все потеряно? Может быть, удастся убедить маму?
– Он не просто кажется, мама, он действительно интересный человек, он необыкновенный, – горячо заговорила девушка, но Тамара Леонидовна неожиданно прервала ее:
– Ты меня в гроб сведешь! – Она приложила ладонь ко лбу. – У меня страшно разболелась голова. Закончим это. Я все сказала. Актриса, хотя бы и будущая, обязательно должна иметь поклонников, поэтому пусть он будет, этот твой Сережа, но только в качестве поклонника. Пусть дарит цветы, караулит тебя у подъезда или встречает у Консерватории, пусть приглашает на концерты. Но этим твое общение с ним должно быть и ограничено. Никаких свиданий наедине. И уж тем более никаких визитов к нам домой, не вздумай приближать его к семье. Я прекрасно знаю эту породу нищих живописцев, его пригласишь на чашку чаю, а он через пять минут начнет приставать к папе, чтобы тот устроил его к себе в театр художником-декоратором.
Филановская устало махнула рукой и удалилась в спальню. Надя еще какое-то время сидела на диване, у нее не было даже сил встать. В гостиную заглянула Люба, посмотрела на сестренку насмешливо и с жалостью.
– Ну что, получила?
Надя удрученно кивнула.
– И правильно. Я всегда тебе говорила, что ты врать не умеешь, так что лучше не берись. Почему сразу-то правду не сказала?
– Вот сказала сегодня, только еще хуже получилось. Вообще теперь не знаю, что делать.
– А в чем проблема-то? Что, кавалер неподходящий?
– Мама так считает.
– И правильно считает. Тебе учиться надо, образование получать, а не по свиданиям бегать. Надька, тебе двадцать лет всего, рано еще про мальчиков думать. На меня посмотри, мне двадцать шесть уже, я институт закончила, работаю – и то ни с кем не встречаюсь, а уж ты-то! Сопля ты зеленая, а туда же. Ты сначала профессию получи, потом будешь о любви думать.
Никто ее не понимает, никто не хочет ей помочь, даже сестра, а Надя так на нее надеялась! Ну почему все так глупо, неправильно, почему? Как ей теперь встречаться с Сережей? Если только разрешить ему приходить сюда, когда родителей нет дома, но нужно, чтобы Люба согласилась ее не выдавать. А на Любу, похоже, надежды нет никакой, она окончила педагогический институт и работает в школе учителем младших классов, строгая, требовательная. Надя точно знала, что ее старшая сестра выбрала себе профессию по призванию, она действительно прирожденный педагог, умеет объяснять и учить, да так, что все с первого раза раскладывается в голове по полочкам и уже никогда не забывается. Это Надюша неоднократно испытывала на себе, когда, еще будучи школьницей, не понимала какой-то материал или пропускала занятия по болезни и Люба помогала ей. И не имело никакого значения, к какому предмету относился непонятый материал: к физике, математике, биологии или истории. Люба брала учебник, пробегала нужные страницы глазами и объясняла так, что Надя потом долго удивлялась, почему сама не смогла разобраться, ведь это же так просто!
Да, Люба хороший учитель во всех смыслах этого слова, и ничего непедагогического ни за что не совершит. Как можно было надеяться, что она согласится лгать родителям и покрывать сестру! Глупо. И насчет личной жизни у нее установки строгие: нечего вертеть хвостом и встречаться со всеми подряд, нужно спокойно жить, работать и ждать своего единственного, который непременно когда-нибудь появится, надо только набраться терпения и не делать глупостей. Люба их и не делала никогда. Она была очень уравновешенной и очень правильной, за всю жизнь Надя ни разу не слышала, чтобы родители кричали на нее, ругались или даже просто сделали ей замечание. Нет, Любаша со своей правильностью и принципиальностью ей не помощник.
Что же делать? Как устроить так, чтобы продолжать видеться с Сережей? Как сделать так, чтобы он понравился маме с папой? Разрешенные мамой «раз в две недели» Наденьку ну никак не устраивали.
* * *
Театр, в котором служили Григорий Васильевич и его супруга Тамара Леонидовна Филановские, был известным, любимым зрителями и обласканным властями, благодаря чему каждый год отправлялся на зарубежные гастроли, пропагандируя по всему миру передовое советское искусство. Более того, Тамара Леонидовна давно, много и чрезвычайно успешно снималась в кино и дважды получала на зарубежных кинофестивалях призы за лучшую женскую роль. Помимо дивной красоты и бесспорного драматического дарования, она хорошо танцевала, обладала небольшим, но чудесного тембра контральто, и все это в полной мере использовалось режиссерами как в театре, так и в кинематографе. Особенно хорошо, по понятным причинам, ей удавались роли в экранизациях оперетт, в которых и вокальные, и хореографические номера она исполняла сама. Тамару Филановскую называли второй Любовью Орловой, а некоторые знатоки считали возможным утверждать, что Филановская, пожалуй, даже и получше.
В партию Тамара вступила во время войны, когда была вместе с театром в эвакуации, за два месяца до рождения первой дочери, Любочки. В партийной жизни молодая актриса Филановская всегда была деятельной и ответственной, активно участвовала в общественной работе, выступала на партсобраниях и в результате оказалась одной из немногих представителей мира искусства, чьи кандидатуры при решении вопросов о зарубежных поездках даже не обсуждались. Кого другого и могли обсудить, но только не ее: разумеется, Филановская поедет, товарищ проверенный, в партии с 1942 года, идеологически подкованный, с прекрасной репутацией, любимица всего коллектива, красавица, талантливая, обаятельная, кто же еще, как не она, может за границей являть собой олицетворение духовных побед на пути строительства коммунизма! Тамара Леонидовна была очень умна, и если во время зарубежных гастролей или иных каких творческих командировок с ней беседовали журналисты, то каждое слово в ее интервью было настолько выверено, а все сказанное ею настолько пронизано «линией партии и правительства», что власти советской страны ее просто обожали. Один руководитель, большой поклонник актрисы Филановской, как-то даже сказал, что можно упразднить весь пропагандистский аппарат, работающий на зарубежные страны, вполне достаточно раз в три месяца выпускать Тамару за границу и публиковать ее интервью, чтобы никто в мире не усомнился в безусловном превосходстве коммунистической идеологии.
И все равно, при всей своей благонадежности и блестящей репутации Тамара Леонидовна и ее муж не могли избежать контактов с приснопамятным управлением КГБ, бдительно следящим за настроениями в среде творческой интеллигенции, особенно выезжающей за пределы страны. Мало ли, вдруг кому-то взбредет в голову вывезти или ввезти в СССР валютные ценности или антиквариат, а то и, не приведи господь, остаться за рубежом. Ее никогда не вербовали, не пытались склонить к доносительству о настроениях в труппе, всем известно, что примадонны для этого не подходят, вербуют обиженных, неудачливых, завистливых, а Тамара Филановская к этим категориям никак не относилась. Однако порядок есть порядок, и без дружеской беседы, называемой инструктажем, все равно не обойтись, хоть ты и примадонна, и муж у тебя – главный режиссер и художественный руководитель театра. Однако же для примадонны и главрежа все-таки некоторые исключения делались, и состояли они в том, что инструктаж с ними проводили не рядовые сотрудники, как с другими артистами, а начальство, и с начальством этим со временем у четы Филановских сложились очень теплые и почти дружеские отношения.
Полковник госбезопасности Круглов Иван Анатольевич был джентльменом во всех отношениях приятным, с мужчинами – остроумным, с женщинами – галантным, и перед Новым годом, примерно за неделю, он специально приехал в театр поздравить супругов Филановских с наступающим праздником и вручить соответствующий случаю презент. Круглов сперва зашел в кабинет к Григорию Васильевичу, не без удовольствия выпил с ним по рюмочке коньячку, а затем проследовал в гримуборную к Тамаре Леонидовне, которая отдыхала между дневной репетицией и вечерним спектаклем. Тамара Леонидовна гостю обрадовалась, протянула руку, которую Круглов благоговейно облобызал, с восторгом приняла и рассмотрела подарок – изящную хрустальную вазу.
– Вы меня балуете, Ванечка, – кокетливо сказала она. – К чему такие дорогие подарки?
– Повод увидеть такую женщину, как вы, не может оказаться дешевым, а без повода я не смею к вам являться, – рассмеялся Круглов. – Ну, рассказывайте, как живете, как работа, как девочки. Здоровы? Как у Наденьки учеба?
С того дня, когда Надя поведала матери о своем знакомстве с неким художником, прошло почти два месяца. Больше они к этой теме не возвращались, Надя только трижды за истекшее время говорила матери, что Сергей Юрцевич пригласил ее в театр, и Тамара Леонидовна эти походы санкционировала. Она была уверена, что никаких тайных встреч у ее дочери с Юрцевичем не происходит, Надежда не посмеет ее ослушаться. Впрочем, жизнь актрисы, плотно занятой в театре и на съемках, отнюдь не способствует осуществлению контроля за детьми, это общеизвестно. Филановская понимала, что жизнь дочерей проходит мимо нее, но полагалась на их сознательность и рассудительность. Вон Любочка какая выросла, ни одного неверного или даже просто сомнительного шага, одна радость матери. И Надюша должна быть такой же.
Червь сомнения, однако же, подтачивал потихоньку доверие Филановской к младшей дочери, и она сочла, что сейчас и представился вполне благоприятный случай получить квалифицированный совет.
– Знаете, Ванечка, меня Надюша немного беспокоит, – призналась она.
– А что случилось? – тут же взволновался Круглов.
– Влюбилась, дурочка, в какого-то разведенного нищего художника, да еще с ребенком от первого брака. Прямо не знаю, что и делать. Он ей совсем не пара, а она и слышать ничего не хочет.
– Понимаю, понимаю, – покивал головой Круглов. – Вы сами-то его видели? Как он вам показался?
– Да не видела я его! Еще чего не хватало! Надя, правда, хотела привести его к нам в дом, но я категорически запретила. Зачем мне в моем доме всякие оборванцы?
– Ну, Тамарочка, дорогая моя, от вас ли я это слышу! Почему непременно оборванец? Почему вы решили, что он нищий? Это вам Надя так сказала?
– Да нет, Надюшка-то как раз считает, что он необыкновенный, умный, тонкий и все такое. Но что с нее взять, она восторженная маленькая девочка, ей всего двадцать лет, что она в жизни понимает? Но если живописец не выставляется, не продается, а работает в художественной школе, то кем, по-вашему, он должен быть, этот Юрцевич? Миллионером? Рокфеллером? Конечно, он нищий, вопросов нет.
Круглов нахмурился, и лицо его моментально стало деловым, а голос – сухим и жестким.
– Как вы сказали, Тамарочка? Как его фамилия?
– Юрцевич. А что? Вы его знаете?
– А имя? – продолжал допытываться Круглов.
– Сергей.
– И сколько ему лет?
– Надюша говорит, тридцать четыре.
– Значит, Юрцевич Сергей Дмитриевич, тридцать четвертого года рождения, художник… Когда же он успел развестись?
– Боже мой, – Филановская вскочила с диванчика, на котором до того полулежала, откинувшись на подушки, – вы действительно его знаете? Ваня, не пугайте меня.
Круглов подошел к ней, отечески обнял за плечи и усадил на диван.
– Погодите, Тамарочка, не волнуйтесь. Хотя дело, конечно, сложное. Сергей Юрцевич действительно профессиональный художник, но… как бы это вам сказать… он уже не работает в художественной школе.
– А где же он работает? – испуганно спросила Тамара Леонидовна.
– В ЖЭКе, истопником. Но это информация за прошлый месяц, новую я пока не получал.
– Господи! – Филановская в ужасе всплеснула руками. – Какой ужас! Как истопником? Почему?
– Год назад его уволили из художественной школы и исключили из партии. Он на занятиях в старших классах рисовал шаржи на членов ЦК и побуждал к этому своих учеников. Знаете, в классе, где он должен был вести урок, затеяли ремонт, и занятия перенесли в актовый зал, а там на стенах, ну, как и везде, висят портреты членов Центрального Комитета партии. Вот он и предложил ученикам… Безобразие форменное! Разумеется, это не осталось незамеченным. Его теперь близко не подпускают к педагогической деятельности и вообще ни на одну приличную работу не возьмут. Вот разве что истопником. Вы сказали, он разведен?
– Да.
– Значит, совсем недавно развелся, в прошлом месяце он еще был женат, если мои сотрудники ничего не напутали. А что насчет ребенка?
– Ну, есть ребенок. Я даже не знаю, мальчик или девочка и сколько ему лет.
– А вот это уже странно. Месяц назад никакого ребенка у него не было… Или я запамятовал? Вы уж простите, Тамарочка, но я мог забыть или просмотреть что-то. Вы же понимаете, что человек, представитель творческой интеллигенции, позволяющий себе насмехаться над руководством нашей страны, не может пройти мимо нашего внимания. Разумеется, мы за ним присматриваем, чтобы он снова не начал распространять свои вредные воззрения в среде нашей советской молодежи. Таких, как он, на самом деле в Москве немного, и раз в месяц я получаю общую справку обо всех, так что я мог на что-то не обратить внимания или упустить… Дайте мне пару дней, я все проверю.
– Боже мой, боже мой, – Филановская раскачивалась, обхватив голову руками. – Что же это происходит? Как же Надя могла?
– Погодите, Тамарочка, не расстраивайтесь прежде времени, – мягко успокаивал ее Круглов. – Ничего еще не известно точно. Может быть, это однофамилец. Я все проверю, все узнаю и вам сообщу. А вы дайте мне обещание.
– Какое? – почти простонала она.
– Никому ничего не говорить, ни Григорию Васильевичу, ни девочкам, ни друзьям. И не показывайте виду, что вы чем-то расстроены. Я сперва все узнаю достоверно, а потом мы с вами сядем, подумаем, все обсудим и решим, как действовать дальше. Если ничего страшного – то и слава богу. А если дело плохо, то нужно постараться избежать огласки. Вам ведь осенью снова на гастроли ехать. Вы меня понимаете?
Уж конечно, она понимала. И еще как понимала!
* * *
Круглов вновь объявился за два дня до Нового года. На этот раз он не пришел в театр, а позвонил Тамаре Леонидовне и договорился с ней о встрече.
– Разговор у нас серьезный, если мы появимся где-то в людном месте, нам поговорить не дадут, вас ведь от мала до велика вся страна в лицо знает, – сказал Иван Анатольевич.
Филановская с этим согласилась и без возражений приехала по тому адресу, который назвал ей полковник госбезопасности. Она здесь ни разу не бывала, но догадалась, что это место, вероятно, и называется конспиративной квартирой, где всякие засекреченные сотрудники встречаются с разными нужными им людьми вдали от посторонних глаз. Квартира небольшая, чистая, ухоженная, но все равно видно, что нежилая. Впрочем, Тамаре Леонидовне было не до того, чтобы разглядывать обстановку и оценивать детали. Несколько дней она провела в сильнейшем напряжении, стараясь выполнить слово, данное Круглову, и ничем не выдать своей обеспокоенности, да что там – паники. Она улыбалась, разговаривала с мужем и дочерьми, репетировала, играла, звонила подругам, ездила к портнихе, в то время как внутри у нее все, как ей казалось, зажмурилось и сцепило зубы в единственном усилии: не закричать, не сорваться, не потребовать у Надежды объяснений. Но она выдержала, все-таки Тамара Филановская была превосходной актрисой и умела «держать лицо» в любых обстоятельствах.
Круглов помог ей снять каракулевое манто, усадил в кресло, предложил чаю, от которого Тамара Леонидовна отказалась.
– Ну говорите же, Ванечка, – нетерпеливо произнесла она. – У меня уже никаких сил нет терпеть эту неопределенность.
Иван Анатольевич вздохнул и дружески погладил ее холеную, украшенную кольцами руку.
– Дела наши не очень хороши, – осторожно начал он.
– Говорите, Ваня, я ко всему готова.
– Ну, коль так… Сергей Юрцевич со своей женой не разводился. То есть он по-прежнему состоит в браке. Более того, его жена беременна. Роды предполагаются в конце января – начале февраля. Никаких других детей у Юрцевича пока нет.
– Значит, Надя меня обманула, – в ужасе произнесла Тамара. – Какой кошмар, Ванечка! Моя дочь встречается с женатым мужчиной, у которого беременная жена! Да как же она может! Господи, кого я вырастила!
– Погодите, Тамарочка, это все не так страшно. Гораздо хуже другое.
– Да что же может быть хуже! Ох, Надюшка, Надюшка…
– Тамара, этот Юрцевич – человек крайне неблагонадежный. Тот факт, что его исключили из партии и уволили из школы, не послужил ему уроком. Он в кругу друзей высказывает негативные оценки деятельности партии и правительства, он открыто критикует позицию руководства страны в разрешении кризиса в Чехословакии и поддерживает тех, кто в августе вышел на Красную площадь с плакатами, ну, вы помните эту историю, более того, он позволяет себе насмехаться над советской властью и нашими достижениями в деле строительства коммунизма. Нам стало известно, что он собирался написать и расклеить по всему городу листовки соответствующего содержания. До дела, правда, не дошло, намерение так и осталось на словах, но оно было, и это очень плохо. Одним словом, ваш Юрцевич – отъявленный антисоветчик.
– Так посадите его! И пусть сидит! И не смеет приближаться к моей дочери! – истерично выкрикнула Тамара Леонидовна.
– Тамарочка, дорогая моя, за что его сажать? На семидесятую статью он не тянет, в его действиях нет ничего, что позволяло бы доказать умысел на подрыв советской власти. Слава богу, два года назад ввели сто девяностую «прим» за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский общественный и государственный строй, но и там нужно доказывать это самое распространение, а Юрцевич высказывается в узком кругу, так что… Нет, натянуть можно, конечно, но нас за это не похвалят.
– Но на тех, кто вышел на Красную площадь, статья нашлась, – возразила она.
– К сожалению, не на всех. Правда, этих людей становится все больше, и пора принимать меры. Однако наше руководство делает основной упор не на наказание, а на профилактику. Мы активно выявляем таких, как ваш Юрцевич, и стараемся сделать так, чтобы им захотелось прекратить свою деятельность. Такие у нас установки сверху. – Иван Анатольевич выразительно закатил глаза к потолку. – Я хочу о другом сказать: отношения у вашей Наденьки с Юрцевичем самые серьезные, он собирается разводиться сразу после рождения ребенка и жениться на вашей дочери. Представьте себе, что это произойдет. А еще через год у нас появятся неоспоримые правовые основания его посадить. И его посадят. Представляете себе перспективу?
Филановская побледнела. В ее семью войдет антисоветчик, которого в конце концов отправят за решетку. И всё. Никаких зарубежных гастролей, никаких кинофестивалей, Григория снимут, отправят на пенсию, в крайнем случае зашлют в какой-нибудь провинциальный театр, и даже не главным режиссером, а очередным. Ее перестанут снимать ведущие кинорежиссеры, ее вообще не будут приглашать сниматься, а в театре не дадут ролей. И уж конечно, Наденьку, жену судимого антисоветчика, не возьмут ни в один театр, и ей, с ее талантом, придется довольствоваться скромной и скучной жизнью учительницы пения в школе… Впрочем, нет, в школу Надю не пустят, там же дети, а вдруг она набралась у мужа вредных идей и начнет плохо влиять на школьников. Значит, все, что ей останется, – быть аккомпаниатором в захолустном доме культуры или клубе. Это совершенно невозможно! Этого нельзя допустить! Она запретит дочери выходить замуж за этого негодяя, вот и все решение проблемы! Но Надежда-то какова! Серьезные отношения… Лгунья, маленькая лгунья. Убить ее мало за это. Нашла с кем связаться.
– Я не допущу, чтобы она вышла замуж за Юрцевича, – твердо произнесла Тамара Леонидовна. – Я этого просто не допущу.
Круглов снова сочувственно погладил ее по руке.
– А вот здесь, Тамарочка, мы с вами подходим к самому главному. Наберитесь мужества, дорогая моя. Вам будет очень трудно не допустить женитьбы Юрцевича на Наденьке. Она совершеннолетняя, она не обязана вас слушаться, они просто подадут заявление в ЗАГС и зарегистрируются. Вы и знать ничего не будете.
– Я ей запрещу! Она не может меня не послушаться!
– Может, Тамарочка, милая, может.
– Почему?
– По двум причинам. Во-первых, она уже попала под влияние Юрцевича, она смотрит ему в рот и слушается только его. Это длится уже полгода и зашло очень далеко.
– Как… далеко? – едва шевеля онемевшими губами, спросила Филановская.
– Очень далеко. При таких обстоятельствах люди обычно все-таки вступают в брак, не считаясь с мнением родных. Вы меня понимаете?
– Сколько уже?
Голос внезапно сел, и последние слова Тамара произнесла шепотом. Она не хотела верить в то, что правильно поняла Круглова.
– Больше четырех месяцев. Срок большой, за прерывание беременности не возьмется ни один врач. В такой ситуации вы просто не сможете воспрепятствовать браку Надюши и Юрцевича.
Боже мой, боже мой… Надюшечка, деточка, что же ты наделала… Надо срочно искать способы спасти ситуацию. Филановской хотелось разрыдаться, затопать ногами, бить кулаками в стену, но она понимала, что не имеет на это права. Пусть Ванечка, Иван Анатольевич Круглов и давний знакомый, и даже добрый друг, все равно он посторонний, тот, в чьих глазах она обязана оставаться великой Тамарой Филановской, а не истерично голосящей бабой. Надо взять себя в руки.
– А если не дать ему развестись? Ведь можно же как-то это устроить, а, Ванечка? Разве можно разводиться с женщиной, которая только-только родила?
– Закон не запрещает. Вот если бы Юрцевич работал в каком-нибудь приличном месте и оставался членом партии, на него, конечно, управа нашлась бы. А так… Ну что он, истопник в ЖЭКе, беспартийный. Что с ним можно сделать?
– А может быть… Ну, я хочу сказать, можно же сделать так, чтобы жена не давала ему развод. Тогда как?
– Тогда суд назначит еще одно слушание через два месяца, даст сторонам время на примирение. Потом еще раз. Потом в иске о расторжении брака откажет. Юрцевич обратится в городской суд, потом в областной. В областном суде разведут, это точно. Если человек на протяжении такого длительного времени хочет уйти от жены и терпит бесконечную судебную волокиту, значит, решение его твердо, и сохранять такой брак смысла нет. Все равно рано или поздно разведут. Но в это время ваша дочь уже родит и будет считаться матерью-одиночкой.
– Да бог с ним, пусть мать-одиночка, только бы не жена антисоветчика, – махнула рукой Филановская.
– Вот тут вы заблуждаетесь, дорогая, – покачал головой Круглов. – Что может помешать Юрцевичу официально признать отцовство? В метрике ребенка он будет записан как отец, и связь Надежды с антисоветчиком скрыть все равно не удастся. И ваш внук будет считаться ребенком антисоветчика.
– Думаете, он захочет признать отцовство? – с сомнением спросила Тамара.
– Уверен. Он любит Надюшу и очень хочет на ней жениться. И будет делать все, что этому поможет.
– Да не на Наде он хочет жениться, а на нашей семье! Любит он ее, можно подумать! Он наше положение любит, наши деньги, наш достаток, наши возможности, нашу известность! Вот что ему нужно! Зачем быть нищим истопником, когда можно в один момент стать членом семьи Филановских, которые ничего не пожалеют для любимой дочери, ее мужа и ребенка. Неужели не понятно?
– Тамара, милая, я не берусь судить, насколько вы правы, но какое это имеет значение? Важен сам факт того, что Юрцевич собирается стать вашим зятем, неважно, какие мотивы им движут, но у него для этого есть все возможности. И его ребенок в скором времени станет вашим внуком или внучкой, этому вы помешать уже никак не можете. Вот из этого и надо исходить.
– И что вы мне посоветуете, Ванечка? – жалобно простонала она. – Не может быть, чтобы не было никакого выхода. Ну скажите же мне. Он есть? – Тамара Леонидовна просительно заглянула в глаза полковнику Круглову. – Я на все готова, честное слово. Если вы мне скажете, что нужно убить этого Юрцевича, я его убью, сама убью, своими собственными руками, но не позволю исковеркать жизнь всей нашей семьи.
– Ну что вы, – рассмеялся Круглов, – зачем такие страсти? И потом, это не решит проблему: Надя все равно запишет его отцом ребенка.
– Ну и пусть! Пока что его еще не посадили за антисоветскую пропаганду, пока он просто художник, вот пусть им и останется навсегда.
Она слышала себя словно со стороны и удивлялась: неужели это она, добродетельная жена и мать, коммунист, член партии с четвертьвековым стажем, дочь убежденного революционера, рассуждает о том, что готова лишить человека жизни, пока он окончательно не испортил свою репутацию, чтобы спасти репутацию и карьеру членов своей семьи? Бред, галлюцинации! Не может она говорить об этом всерьез, на нее просто нашло какое-то помутнение, она в ужасе, в панике, вот и городит черт знает что.
– Простите, Ванечка, я несу какую-то чушь… Какое убийство, что это я… Но должен же быть какой-то выход.
– Да, Тамарочка, голубушка, это вас занесло, – с улыбкой заметил Круглов. – Хорошо еще, что ваш собеседник – я, а не кто-то другой, иначе вас могли бы неправильно понять. Но в том, что вы сказали, есть рациональное зерно.
– Да? – встрепенулась она. – Какое?
– Меры нужно принимать, пока Юрцевич не наделал глупостей. Как бы мы с вами ни старались, его имя уже связано с вашей семьей, Надюша носит его ребенка, и отменить это мы никакими усилиями не сможем. Однако мы можем попытаться спасти именно имя. Вы меня понимаете?
– Нет, – растерянно ответила Тамара. – Чье имя мы можем спасти? Наше? Каким образом?
– Да не ваше, Тамарочка, не ваше. Ваше-то имя что спасать? Оно у вас и так – ого-го! – Он рассмеялся и подмигнул ей. – Я имею в виду имя Юрцевича. Пока что он просто художник и отец Надиного ребенка. Наша с вами задача не допустить, чтобы он превратился в диссидента и Надюшиного мужа. Слышали такое новое слово – диссидент?
– Конечно, – кивнула Филановская.
– Так вот, зять-диссидент вам не нужен. Юрцевича можно посадить за что-нибудь другое.
– За что? – испугалась она.
– Да какая разница, было бы желание. Посадим. И будет сидеть. Тем самым мы одновременно решаем целый ряд тактических и стратегических задач. Во-первых, Юрцевич отправляется на зону и лишается, таким образом, возможности распространять свои антисоветские идеи, потому что уголовники – народ своеобразный и совсем не похожи на тех гнилых интеллигентов, с которыми он общается в Москве. То есть появляется гарантия, что в ближайшие несколько лет его за эти идеи не осудят. Если же он попытается вести свою пропаганду и агитацию среди других осужденных, то об этом очень быстро станет известно руководству колонии, и мало ему не покажется. На зоне всегда есть возможность сделать так, чтобы человек получил новый срок. Но это случится уже не здесь, не рядом с вами, и к вам отношения иметь не будет. Во-вторых, Юрцевич становится банальным уголовником, тупым и отвратительным в глазах вашей дочери, и это отбивает у нее всякую охоту выходить за него замуж и записывать его в метрике отцом ребенка. В-третьих, пока этот тупой и отвратительный уголовник отбывает срок, Надюша основательно остывает, чувства проходят, остается только неприязнь, и когда он появляется снова, ни о каком возобновлении отношений речь уже не идет. Если после отбытия наказания он не возьмется за ум и будет продолжать свою деятельность в антисоветском русле, его, конечно же, привлекут за это, но к вашей семье это уже не будет иметь никакого отношения. Самое оптимальное – за это время выдать Наденьку замуж, и пусть ее муж усыновит ребенка. Всё, история будет окончена. Как вам такой вариант?
– Ваня, неужели это возможно? Вот так, просто взять и посадить человека ни за что?
– Ну почему ни за что? Всегда есть за что. Вы же понимаете, что на зарплату низового работника ЖЭКа трудно содержать беременную жену, которой требуется особое питание, и одновременно ухаживать за молодой красавицей, дарить ей цветы и водить по театрам и концертам. У Юрцевича есть побочные доходы, он же художник, и, кстати сказать, очень неплохой художник, карандашом и кистью владеет. Вот и подхалтуривает, дает частные уроки, оформляет какие-то деревенские клубы в провинции. Деньги получает из рук в руки, никаких документов, никаких подоходных налогов. А это дело подсудное. Или, к примеру, идет себе человек поздно вечером по темной улице, к нему пьяный пристал, оскорбляет, слово за слово – начинается перепалка, а там и до драки недалеко, милиция – тут как тут: нарушение общественного порядка, хулиганство, статья, срок. Да это не ваши заботы, Тамарочка, дорогая моя, вы только решение примите, а уж все сделают, как надо. И имейте в виду: вы и ваш муж – народное достояние, гордость советского искусства, и власть всегда вас поддержит, если вы сами не совершите опрометчивых поступков.
Ну что ж, слово сказано. Дескать, если вы не хотите, чтобы антисоветски настроенные элементы вливались в вашу семью, мы на самом высоком уровне обеспечим вашу защиту, а уж если вы эти элементы к себе приблизите, то потом не жалуйтесь, никаких исключений для вас сделано не будет, потому как из доверия вы выйдете окончательно и бесповоротно. Вот так. И поедете вы с мужем и дочерьми на периферию, в какой-нибудь богом забытый театрик, и останетесь там до гробовой доски.
И еще одно понимала Тамара Леонидовна: Круглов пришел на эту встречу с готовым решением, которое уже проговорил и согласовал с руководством, но с профессиональной ловкостью подвел дело таким образом, что решение это вроде бы пришло к нему на ум спонтанно, только что, в ходе беседы, и более того, частично оно было подсказано самой Тамарой. Ну что ж, Иван Анатольевич не зря ест свой хлеб, можно ему поаплодировать.
– Знаете, Ванечка, я что-то так разволновалась, даже ноги не несут. Давайте, что ли, чайку выпьем, – попросила Тамара.
Ей нужно было собраться с мыслями и силами, чтобы принять решение. Конечно, семью надо спасать, но ведь какой ценой!
Круглов вышел из комнаты и через десять минут вернулся с двумя чашками чаю. Чай был невкусным и, на взгляд Тамары Леонидовны, слишком крепким, но она все равно его выпила, потому что от волнения пересохло во рту. Разговор шел о чем-то постороннем: о новом спектакле, который готовится в театре, о ведущем актере Громове, чья болезнь оказалась, к счастью, не настолько тяжелой, чтобы лишить его возможности выходить на сцену где-то через полгодика, о молодом композиторе Давиде Тухманове, чью модную песенку «Эти глаза напротив» распевали на каждом углу…
Примерно через полчаса Филановская решилась:
– Ванечка, я тут подумала… Вероятно, вы правы. То, что вы предложили, будет для всех наилучшим выходом.
– Значит, даете «добро»?
– Да, – твердо произнесла она.
– Тогда, если позволите, я дам вам несколько советов.
– Конечно, Ванечка, говорите. Я все сделаю, что нужно.
– Первое и главное: никому ни слова. Вы ничего не знаете и ни о чем не догадываетесь. Особенно это касается Надюши. Знаю я вас, женщин, – он снова негромко рассмеялся, – как только ее увидите, начнете смотреть на ее живот. Вы ведь ничего пока не замечали?
– Нет. Надюшка у нас пухленькая, пышечка такая, ничего пока не видно, я бы заметила, если что.
– Вот и не замечайте. И на живот не смотрите. Вы ничего не знаете. Запомнили?
– Да. Что еще?
– Второе: не позволяйте ей познакомить вас с Юрцевичем, не позволяйте приводить его в дом. Если, не дай бог, что-то случится… ну, вы понимаете, о чем я, то не надо, чтобы кто-то мог утверждать, что вы с ним общались, разговаривали и все такое. Потом вас же будут упрекать, что вы не разглядели антисоветчика, или, что гораздо хуже, заподозрят, что он поделился с вами своими воззрениями и вы с ними согласились. Это понятно?
– Да-да, конечно, – торопливо ответила Тамара.
– Теперь третье, тоже очень важное: не откладывая в долгий ящик начинайте готовить Надю к тому, что рождение ребенка – это прекрасно, это самое лучшее, что может быть в жизни женщины, что вы мечтаете о внуках…
Филановская вздрогнула, как от удара.
– Но я о них совершенно не мечтаю! Вы что, Ваня? Ну какая из меня бабушка? Я до самой смерти должна быть молодой красавицей, иначе я перестану быть актрисой. Я и так от всех скрываю, сколько мне лет.
– Вам двадцать семь и всегда будет двадцать семь, – улыбнулся Круглов. – Но поверьте мне, Тамарочка, выполнение моих рекомендаций обязательно, если мы с вами хотим добиться желаемого результата. Сейчас Надюша пребывает в убеждении, что мать-одиночка – это ужасно, это конец всему, в том числе и карьере, ибо так ее воспитывали. Поэтому она не отделяет перспективу материнства от перспективы замужества. Если она рожает, то она должна быть замужем за отцом своего ребенка. Эту связь в ее голове нужно разрушить. Материнство ценно само по себе, безотносительно к замужеству, и если она родит вне брака, вся семья будет только рада и всячески ее поддержит. Понимаете? Нужно заронить в Надюшину головку мысль о том, что наличие мужа не является обязательным.
– Но зачем? – недоумевала Филановская.
– Затем, чтобы Надежда не стремилась к браку с Юрцевичем любыми средствами, несмотря ни на что. Поверьте мне, огромное количество женщин выходит замуж за отцов своих детей без любви, просто потому, что безотцовщина считается неприличной. Сделала глупость, допустила неосторожность, вступила в близкие отношения, не проверив чувства как следует, забеременела, аборт не сделала – то ли не успела вовремя, то ли решила рожать, и выходит замуж за того, кто ей, как выяснилось спустя пару месяцев, совершенно не нужен. Не любит она его, как оказалось. А замуж выходит, потому что ребенок. Если Надюша пойдет по этому пути, можете себе представить, что получится. Юрцевич, находясь в зоне, подаст на развод, его жена с этим согласится, потому что муж-уголовник ей тоже не больно-то нужен, и Надя, не спросясь вас, поедет к нему туда, где он будет сидеть, и зарегистрирует брак. Такое развитие событий тоже нельзя сбрасывать со счетов. А если не поедет, то будет его упорно ждать и выйдет замуж, когда он вернется. И уж наверняка запишет его имя в метрику. Кроме того, Наденька у вас девушка эмоциональная, импульсивная, к тому же молоденькая, жизнью не умудренная и трудностями не закаленная. Сейчас она более или менее спокойна, у нее впереди четыре с лишним месяца, за это время Юрцевич разведется, они подают заявление в ЗАГС, приходят к вам домой, и она скажет: «Папа и мама, я выхожу замуж, у нас будет ребенок». И все будут счастливы и кинутся их поздравлять. Так ей это видится сегодня. А что будет, когда совершенно неожиданно в один прекрасный день ей скажут, что Юрцевич арестован, находится под следствием и его ждут суд и колония? Развестись-то он так и не успел. Как она отреагирует? Что будет делать? Я вас уверяю, Тамарочка, реакция ее будет тем ужасней, чем больше она будет бояться этой самой пресловутой безотцовщины. А когда реакция ужасна, то и поступки совершаются чудовищные. Нам с вами это надо?
До нее наконец стало доходить, о чем толкует Круглов. Ей-то все время казалось, что опасность исходит только от Юрцевича, будь он неладен, и если его убрать с глаз долой, подальше куда-нибудь запихнуть, то все проблемы решатся сами собой. Тамара Леонидовна как-то совершенно упустила из виду свою дочь Надежду, которая тоже способна совершать какие-то поступки, которые могут доставить семье кучу неприятностей. В общем, она совершила типичную ошибку красивой женщины, которая так долго цепляется за свою внешность и моложавость, что инстинктивно вытесняет из сознания неудобные мысли: дети выросли, они уже взрослые, а коль так – они способны и хотят действовать самостоятельно, не испрашивая у родителей разрешения по каждому поводу. Для женщин, которые пытаются продлить собственную молодость, дети никогда не вырастают и не взрослеют, потому что у молодой женщины не может быть взрослых детей, и впоследствии это оборачивается взаимным непониманием, конфликтами, драмами, а то и трагедиями.
– Вы правы, Ванечка, – кивнула она. – Я понимаю.
– Ну вот. Значит, психологическая сторона комбинации выглядит следующим образом: Юрцевич плохой, мать и дитя – это прекрасно. Вторая часть за вами. А уж сделать Юрцевича плохим – наша задача.
– Хорошо, а если Надя сама мне признается, что беременна? Что тогда делать?
– Да ничего! Признается – и замечательно. Обрадуйтесь, покажите, как вы счастливы.
– Но тогда мне придется согласиться на знакомство с Юрцевичем, и она приведет его к нам… Я же не смогу отказаться от знакомства с отцом ребенка, правда? Как это будет выглядеть?
– Тамарочка, голубушка, ну мне ли вас учить? Вы же такая умница! Если Надюша признается вам, что ждет ребенка, она обязательно признается и в том, что Юрцевич женат, у нее просто выбора не будет, иначе она не сможет объяснить, почему он на ней, несмотря на беременность, до сих пор не женился. И вы вполне можете сказать, что не считаете для себя возможным принимать у себя в доме женатого поклонника дочери, это противоречит вашей морали. Дайте ей слово, что, как только он станет свободным, вы с радостью с ним познакомитесь и примете самое деятельное участие в подготовке к свадьбе. Помечтайте вместе с ней о том, как будете нянчить и растить ребенка, и особенно настаивайте, чтобы она не волновалась ни по какому поводу, это вредно для малыша. Когда Юрцевича арестуют, она будет знать, что не одинока, что дома у нее есть сильная поддержка, которая поможет справиться с любой бедой. Если Надюша такую поддержку чувствовать не будет, то никто не знает, что она может натворить. Вы согласны?
Ей было трудно согласиться, но пришлось. Они поговорили еще немного, и Филановская ушла. Выйдя из подъезда, села в свой новенький «Москвич-412», купленный совсем недавно, завела двигатель, но с места не тронулась. Сидела и тупо глядела на противоположную сторону улицы, где на здании кинотеатра висела огромная афиша фильма «Фантомас» с изображением устрашающего сине-зеленого лица. Сеанс только что закончился, и на улицу вываливала толпа возбужденных зрителей, размахивающих руками и горячо обсуждающих только что увиденные приключения бесстрашного и находчивого журналиста Фандора. Какая глупость, какая бездарная тупость все эти дурацкие приключения! И ведь кому-то нравится. Наверное, тому, у кого нет таких проблем, как у нее, Тамары Филановской. Господи, Надюшечка, деточка, что же ты наделала? Влюбилась в первого попавшегося художника, позволила ему заморочить себе голову, а в результате поставила под удар обоих родителей и себя саму. Почему ничего не сказала, когда только познакомилась с ним? Уж Тамара бы сумела объяснить дочери, что встречаться с женатыми мужчинами не просто безнравственно, но и глупо, потому что бесперспективно, а уж тем паче с такими мужчинами, у которых беременные жены. Почему ничего не сказала, когда поняла, что беременна? Ну ладно, молодая, неопытная, не сразу заметила, не сразу догадалась, но все равно ведь наверняка догадалась, пока не истекли первые двенадцать недель, когда еще можно делать аборт. Почему не пришла к матери, не посоветовалась, не попросила помощи? Если бы не тот случай с комсомольским собранием, которого, как выяснилось, не было, Тамара бы так до сих пор ничего и не знала.
Теперь вот внук появится или внучка… Зачем? Кому он нужен, этот ребенок? Тамаре Леонидовне он совершенно точно не нужен. Григорию Васильевичу вообще не нужно ничего, кроме театра. Надюше? Смешно. Она не может осознанно хотеть ребенка, она сама еще совершенное дитя, ей нужно заканчивать Консерваторию и делать артистическую карьеру, перспективы у нее блестящие, и что теперь будет?
В голову пришла странная мысль: жизнь всегда наносит удар именно оттуда, откуда его совсем не ждешь. Разве могла она ожидать, что Надюшка выкинет такое? Даже Любочка, старшая дочь, и та ни разу не огорчила мать ложью или сомнительным знакомством, всегда была послушной и разумной, а уж Надюша-то – она же младшая, и если Люба до сих пор слушается родителей, то Наде сам бог велел. Как же получилось, что она вышла из-под контроля и попала под влияние какого-то антисоветчика? А вдруг он заразил ее своими идеями? А вдруг Надя уже высказывает их среди студентов Консерватории? И со дня на день им позвонит ректор и скажет, что Надежду Филановскую отчислили и исключили из комсомола. И никакой арест Юрцевича им уже не поможет… Боже мой, боже мой, столько лет каторжного труда, столько усилий по выстраиванию своей жизни, по укреплению репутации, и все получилось – и все может пойти прахом. В один день. В один момент.
Она все сидела, не отводя глаз от сине-зеленой физиономии на афише кинотеатра. Это какая-то другая жизнь, жизнь, в которой есть место легкомыслию, смеху и удовольствиям, жизнь, в которой можно ходить на «Фантомаса» и принимать эту бредятину всерьез, а потом выходить из кино и обсуждать ее, потому что нет в эту минуту ничего важнее и интереснее. А в ее жизни все черно, все сгнило и рушится, придавливая обломками ее многолетний труд и труд ее мужа, их талант, их высочайший профессионализм, который уже совсем скоро никому не будет нужен. С ними просто никто не захочет иметь дела. Где же грань между этими двумя жизнями? В каком месте, в какую неуловимую и необратимую секунду чья-то чужая рука провела ее?
Рука неудавшегося художника, истопника из ЖЭКа, ненавидящего советскую власть. Как говорится, было бы смешно, если бы не было так грустно.
А тут Фантомас какой-то…
* * *
Новый год в семье Филановских почти никогда не встречали дома. Григорий Васильевич и Тамара Леонидовна любили праздновать в кругу «театральной общественности», а девочки собирались с друзьями. Конечно, пока дочери были маленькими, их брали с собой, не оставлять же дома одних, потом подросшая Любочка, уходя в свою компанию, забирала с собой Надюшу, а теперь и у Нади есть свой круг однокурсников из Консерватории, с которыми она веселится в новогоднюю ночь.
После встречи с Кругловым Филановская вернулась в театр, в этот вечер у нее спектакль, завтра, тридцатого декабря, и послезавтра, тридцать первого, она играет два детских утренника – традиционную «Снежную королеву», а нужно еще столько успеть! Платье для новогоднего банкета не готово, надо обязательно съездить к портнихе, она обещала все сделать, но вдруг что-то не так, и ей придется переделывать, а это тоже требует времени. Тридцатого с трех часов дня она должна быть на «Мосфильме», на съемках картины, где играет главную роль. Если утром спектакль, то выучить текст роли для завтрашнего эпизода ей придется сегодня, другого времени не будет. И еще нужно непременно успеть сделать генеральную уборку в квартире, ликвидировать перед наступлением Нового года старую грязь, это многолетняя традиция, нарушать которую Тамара Леонидовна себе не позволяла. И еще нанести несколько визитов с поздравлениями и подарками, которые нельзя отменить. И где взять время на все это?
Жизнь Тамары Филановской была подчинена жесткому расписанию. Она – актриса, и это главное. Для того чтобы оставаться актрисой, нужно поддерживать форму и внешность, и это тоже становится главным. Нужно ВЫГЛЯДЕТЬ, это касается в равной степени лица, фигуры, прически и одежды, и на это уходит масса времени и усилий. Косметологи из Института красоты, парикмахеры, маникюрши, массажистки, портнихи – всех их нужно посещать регулярно и достаточно часто, дабы сохранить в неприкосновенности данную природой красоту, которой почти ежедневный плотный грим наносит непоправимый урон.
Она – актриса, и это означает, что жизнь ее протекает в театре и на съемочной площадке, где царят постоянные интриги, ложь и взаимная ненависть и зависть. И потому на первое место выходит репутация, на поддержание которой тоже требуются усилия и время. Тамара Леонидовна много лет назад выбрала для себя роль заботливой милосердной сестры, навещающей больных, утешающей страждущих, помогающей попавшим в беду. Ее должны не только уважать, но и любить, ибо это единственная более или менее действенная защита от разрушительной атмосферы зависти и интриг. Она ездила к коллегам-артистам, в том числе и бывшим, домой, в больницы и дома престарелых, привозила лекарства, фрукты и конфеты, часами выслушивала чужие истории, вытирала чужие слезы и сочувствовала чужому горю. К чести Тамары Леонидовны надо признать, что она в этих ситуациях почти всегда была искренней, она действительно любила людей, жалела их и охотно помогала, порой пользуясь своей известностью и решая чужие проблемы в кабинетах партийных и исполкомовских чиновников. Конечно, иногда случалось, что настроения ехать не было, и сил не было, и нездоровилось, и катастрофически не хватало времени на то, чтобы выучить роль или даже просто побыть дома с детьми, но Тамара все равно ехала, и делала по дороге покупки, и сидела, и выслушивала, и утешала, потому что так надо, потому что иначе даст трещину непробиваемая броня репутации, и зашевелятся злые языки, и пойдут разговоры…
Тамара родилась в 1918 году в далеком глухом сибирском селе, в семье учителя, сосланного за революционную деятельность еще в 1910 году. Она была младшей в многодетной семье и нищеты, голода, холода и неустроенности хлебнула сполна. Ссыльных в селе было много, все они тесно общались между собой, поддерживали друг друга, а после революции стали в той местности оплотом советской власти. Самым близким другом отца Тамары был Арсений Яковлевич Шубин, до ссылки игравший на сцене питерской Александринки и даже в Сибири не оставивший любимого занятия. До революции он дважды в год – к Рождеству и Пасхе – ставил с детьми и подростками сценки и маленькие спектакли на религиозные темы (глубоко верующие местные жители ни за что не позволили бы своим детям участвовать в богопротивных затеях), придумывал декорации, помогал шить костюмы. После революции идеологическая политика изменилась, и Арсений Яковлевич принялся создавать местный самодеятельный театр и даже вместе с отцом Тамары сочинял пьесы соответствующего содержания, например, о том, как плохо жилось батракам при царизме и как хорошо им стало при новой власти. Маленькая Тамара была «при театре» практически с самого рождения и заболела желанием стать артисткой даже раньше, чем первой в своей жизни ангиной.
Первые уроки актерского мастерства она получала все у того же Арсения Яковлевича, который постоянно подбадривал ее и говорил:
– Ты очень способная девочка, у тебя есть талант, но нужно очень много работать, чтобы его развить. Ни в коем случае нельзя лениться, тебе поможет только труд, труд и еще раз труд.
И она трудилась. Училась говорить правильно, чисто, четко артикулируя все звуки. Училась двигаться, танцевать, падать, прыгать. Изучала под руководством матери нотную грамоту, играла на привезенном Шубиным из города и установленном в избе-читальне стареньком разбитом пианино. И каждую свободную минуту проводила все в той же читальне, где, собственно, и обретался театр, пока не построили новый клуб: училась шить костюмы, помогала делать декорации, сидела в уголке во время репетиций, если сама не была занята в сцене.
Арсений Яковлевич часто ездил в столицу и, когда Тамара закончила школу, сказал:
– Тебе надо ехать в Москву, к одному хорошему человеку, я ему о тебе рассказывал. Он поможет.
– Я боюсь одна-то, – робко возразила Тамара, которой, конечно же, больше всего на свете хотелось именно в Москву. Москва – столица нашей Родины, там самые лучшие театры, самые знаменитые артисты, и там даже снимают кино… То самое, про путевку в жизнь и веселых ребят.
– Ну зачем же одна, – улыбнулся Шубин, – я с тобой поеду, отвезу тебя, познакомлю, представлю, так сказать. Ты должна быть на сцене, у тебя для этого есть все данные.
И они действительно поехали. Шубин привел ее в театральную мастерскую к своему давнему другу, который прослушал красивую девушку, посмотрел, как она танцует, смешно подергал длинным вислым носом и вынес свой вердикт:
– Очень сыро, но, бесспорно, с огромными задатками. И фактура хорошая. Будем работать.
Шел 1936 год. Тамара много и старательно занималась, играла в студенческих спектаклях, снялась в двух крошечных эпизодиках у известного кинорежиссера, а в 1939 году познакомилась с Григорием Филановским, который поспособствовал тому, чтобы ее приняли в труппу того театра, в котором работал он сам. В 1940 году они поженились. Тамаре было двадцать два года, ее мужу – тридцать четыре. Она еще не была звездой, она даже еще не играла главных ролей, но ей тогда казалось, что сбылись абсолютно все мечты, даже самые смелые. Надо только быть очень аккуратной, очень осторожной, очень осмотрительной, потому что приходят по ночам, громко стучат в дверь и уводят навсегда. Надо вести себя правильно, чтобы никому и в голову не пришло сказать о тебе худое слово или пожелать тебе зла. В свои двадцать два года Тамара понимала это очень хорошо.
Она всегда любила свою большую семью, в отпуск ездила не на курорт, хотя такая возможность была, а в Сибирь, домой, привозила подарки и гостинцы, с удовольствием возилась с племянниками и племянницами – детками старших братьев и сестер, проводила много времени с состарившимися родителями. Потом, уже после войны, когда пришла настоящая известность, а вместе с ней и достаток, и возможности, всегда помогала родным и деньгами, и делом. Роль заботливой помощницы и доброй покровительницы была для Тамары Леонидовны привычной, естественной, потому и сейчас, будучи примой одного из ведущих московских театров, она продолжала играть эту роль, частично в целях укрепления собственной репутации, но частично и для души.
Где же при такой жизни взять время для семьи и детей? Так счастливо сложилось, что время, отданное работе, оказалось и временем, посвященным мужу, так что супружескую жизнь четы Филановских можно было счесть вполне гармоничной, но вот с дочерьми ситуация сложилась совсем другая. Девочек Тамара Леонидовна видела мало и даже не каждый день. Они вставали утром и шли в школу, когда мать еще спала, они возвращались домой, обедали и делали уроки, когда мамы уже не было, а когда Тамара Леонидовна возвращалась, Люба и Надя крепко спали. Взбудораженная после спектакля или съемочного дня, Тамара поздно засыпала и поздно вставала. А экспедиции, когда приходилось уезжать из Москвы на съемки на два-три месяца! А гастроли! Тамара попросила старшую сестру, потерявшую на войне мужа и оставшуюся одинокой, приехать помочь с девочками. Сестра приехала, жила у Филановских, водила маленькую Надюшку в детский садик, готовила еду, следила, чтобы дети были сыты, тепло одеты, делали уроки и вовремя ложились спать. Когда Наденька пошла в восьмой класс, а Люба уже училась в институте, сестра Тамары вернулась в Сибирь: в присмотре, по общему мнению, девочки больше не нуждались, они стали вполне самостоятельными, да и жить в одной комнате им стало трудно, так что и места для тетушки больше нет.
Дочерей Тамара Леонидовна любила, но без самозабвения. Выражалось это в том, что она всегда хотела для них счастья, хотела, чтобы у них было все и притом самое лучшее, хотела, чтобы они учились на «отлично», были здоровенькими, умненькими, красиво одетыми и благополучными, и готова была делать для этого все, что нужно. Однако они были ей не интересны. Да, вот так странно вышло. Они не были ей по-человечески интересны, она никогда не знала, какие книги они читают в каждый данный момент, понравилось ли им и что они из этой книги вынесли, какие фильмы они смотрят и какое впечатление эти фильмы на них производят. Она не знала, с кем дружат ее девочки, из-за чего ссорятся с подружками и как выходят из конфликтных ситуаций; она не знала, что им снится и плачут ли они во сне. В общем, она их любила, но ничего о них не знала. Как знать, возможно, это было продолжением той самой позиции поддержания искусственной молодости: если ты молода, то дети у тебя маленькие, а коль они маленькие, то они еще не личности и интересного в них ничего нет.
А может быть, дело было в другом…
Рожать Любочку Тамара Леонидовна не хотела, но выбора не было. Аборты были запрещены до середины пятидесятых, а делать криминальный аборт Тамара не рискнула – боялась за свою жизнь, слишком уж много кругом было примеров неудачных подпольно сделанных операций и последовавших за ними смертей. Да еще если узнают – посадят, это тоже не лучше. Конечно, будь она в Москве – проблема бы как-нибудь решилась, она нашла бы потихоньку хорошего гинеколога, договорилась бы, заплатила деньги, но здесь, в Алма-Ате, это совершенно невозможно. Пришлось рожать, хотя к материнству она совсем не была готова. Она еще такая молоденькая, война, эвакуация, ну куда детей-то заводить? Однако выбора у нее не было. Григорий Васильевич к перспективе стать отцом отнесся спокойно, без видимого энтузиазма, ибо, помимо театра, его мало что интересовало, но и без ужаса. В конце концов, семья есть семья, и в ней должны быть дети. Конечно, не ко времени, и без того живут впроголодь, но ведь надо же когда-нибудь ребенка заводить.
С Любочкой, однако, забот оказалось немного. Спокойная и удивительно здоровенькая девочка не требовала к себе повышенного внимания, не капризничала и мало плакала, так что Тамара могла усиленно работать на съемочной площадке в снимавшихся в ту пору фильмах о войне. Приносила малышку в студию, укладывала на составленных в виде импровизированного манежика стульях, в перерывах кормила грудью и без малейшей ревности позволяла возиться с ребенком любому, кто оказывался рядом и был свободен. Вспоминая собственное детство, проведенное в избе-читальне рядом с Арсением Яковлевичем, Тамара была уверена, что Люба тоже заболеет профессией актрисы, однако девочка, которую усиленно опекала эвакуированная из Ленинграда переводчица с английского, взяв на себя фактически роль няньки-гувернантки, легко овладевала иностранным языком, а в пять лет, когда уже война закончилась и Филановские вернулись в Москву, твердо заявляла, что станет учительницей. К этому времени Люба свободно читала по-русски и бегло лопотала на английском.
Вторая беременность обрушилась на Тамару столь же неожиданно, как и первая, однако опыт Любочкиного младенчества подсказывал, что второй ребенок не станет такой уж серьезной помехой артистической карьере матери. Надюша родилась в 1948 году, когда Тамаре исполнилось тридцать. Младшая дочь оказалась полной противоположностью старшей как внешне, так и по характеру. Подвижная, активная, неусидчивая, жадная до впечатлений и невосприимчивая к любым попыткам раннего обучения, Наденька, в отличие от Любы, моментально приковывала к себе всеобщее внимание ангельским пухлощеким личиком и сияющими глазками и одной улыбкой в мгновение ока завоевывала любовь окружающих. Любочкой, аккуратной, дисциплинированной отличницей, восхищались, Наденьку – обожали.
Во внешности девочек причудливо и в то же время закономерно соединились родительские черты. Помимо присущей обоим родителям способности увлеченно заниматься любимым делом, старшая дочь унаследовала от матери изящную худощавую фигуру, а от отца – некрасивое лицо и небогатую шевелюру, а также заметную угрюмость и погруженность в себя. Младшая же девочка обладала красотой, музыкальностью и жизнерадостностью Тамары, но была – в папу – округлой пышечкой, сперва по-детски пухленькой, а в девичестве – крепко сбитой, широкобедрой и пышногрудой. Надежды Тамары на то, что и Надя окажется разумным самостоятельным ребенком, совершенно не оправдались, за ней требовался постоянный пригляд, но на помощь пришла рано повзрослевшая, ответственная Любаша, а потом и сестра Тамары Леонидовны приехала. Таким образом, рождение и воспитание двух дочерей не затормозило театральную и кинематографическую карьеру Тамары Филановской и даже, к счастью, не сказалось на ее фигуре.
Тамара так привыкла к тому, что дочерьми можно не заниматься, что с ними и без того все будет в порядке… Она почему-то не испытывала потребности побыть с ними, провести с девочками свободное время, поговорить, поиграть, ей никогда не было интересно, с кем они дружат в детском саду или в школе. Она искренне не понимала, что в этом может быть интересного. Другое дело – их способности: не по годам развитая Любочка и музыкально одаренная Надюша были постоянным предметом восхищения и зависти знакомых, и это не могло не тешить материнское тщеславие Тамары Леонидовны, поэтому она бдительно следила за тем, чтобы девочки «как следует занимались». Но общаться с ними – зачем? Что интересного может быть в детских головках и в незрелых душах?
И вот сегодня Тамара Филановская с горечью пожинала плоды. Люба доверие оправдала, а вот Надю упустили, упустили… Как, когда?
* * *
Она ни в едином пункте не изменила график намеченных дел, выучила текст роли для завтрашних съемок на «Мосфильме», отдохнула, чтобы в полную силу отыграть вечерний спектакль, и вернулась домой, когда в комнате Нади свет уже не горел. Еще несколько дней назад это показалось бы Тамаре Леонидовне совершенно нормальным: поздно, девочке пора спать. Однако сегодня она усилием воли остановила привычный ход мыслей. Всего-то одиннадцать вечера, разве это время, чтобы двадцатилетней девушке укладываться в постель? Надюшка с самого детства была «совой», терпеть не могла рано ложиться и любила поспать до полудня, и ведь еще полгода назад Тамара, возвращаясь домой около полуночи, а то и позже, заставала младшую дочь бодрой, веселой и отнюдь не сонной. С каких это пор она стала такой паинькой, соблюдающей режим?
Прячется, поняла Тамара Леонидовна. Делает все возможное, чтобы мать видела ее пореже. Боится, что живот уже заметен. Ох, как хочется взглянуть! Нет, не зря Ванечка Круглов предупреждал, чтобы не смотрела на дочь особо пристально, знал, что с этим соблазном справиться будет труднее всего. Можно прикусить язык и молчать, ни о чем не спрашивать, но вот не смотреть… А может, и не видно пока ничего, Надя – толстушка и ничего обтягивающего сроду не носила. Люба видит сестру каждый день и, если бы что-то заметила, непременно сказала бы. Хотя, с другой стороны, на Любочку надежды мало, что она в беременностях понимает, бедная некрасивая старая дева? Разве сможет разглядеть если не растущий живот, то хотя бы признаки токсикоза? Да и к людям она не особо внимательна, вся в себе, в своих мыслях, в своей работе.
Утром Тамара Леонидовна встала пораньше – дел намечено много, надо все успеть – и застала обеих дочерей завтракающими в гостиной перед включенным телевизором. Люба – в строгом костюме с белоснежной блузкой, уже полностью одетая и причесанная перед выходом из дома, и, как всегда, с книжкой, Надя – в просторной фланелевой пижаме, которую мать привезла ей в подарок из ГДР. Не смотреть, не смотреть! Хотя в этой пижаме и девятимесячную беременность не увидишь. Личико свежее, глазки ясные, все как обычно. Только, кажется, ест слишком много. Впрочем, у Нади аппетит всегда был отменным, и покушать она любила.
– Девочки, что у вас с Новым годом? – спросила Тамара, наливая себе кофе. – Где будете справлять?
– Я – дома, – коротко ответила Люба, не поднимая глаз от открытой книги.
– Одна? – удивилась мать.
– А что такого? Никакой интересной компании в этом году не образовалось. Почитаю, посмотрю «Огонек», прекрасно проведу время.
– А ты, Надюша?
– А мы всем классом собираемся у одной девочки, – радостно сообщила Надя, увлеченно намазывая масло на толстый кусок белого хлеба.
Если верить дочери, то класс профессора Московской консерватории Лидии Пожарской был самым дружным на свете. Особенно в последние полгода. Кто знает, так ли это? Раньше надо было выяснять. Ах ты господи…
– Девочки, надо к празднику сделать генеральную уборку в квартире. Люба, Надя, вы меня слышите?
Надя молчала, сосредоточенно жуя, а Люба так и не оторвалась от книги, но все-таки на слова матери отреагировала:
– Ну попроси кого-нибудь, у тебя же полно поклонниц, которые готовы бегать в магазин и стирать твое белье. Каждый день вижу, как они у подъезда дежурят. Не понимаю, почему у нас нет домработницы. Во всех приличных домах есть, а у нас нет.
Тамара Леонидовна задумчиво посмотрела на старшую дочь. Н-да, а казалось, что неглупая девица. Выдержала паузу, как и положено в спектакле.
– Любаша, какой у тебя чудный костюмчик, и сидит на тебе как влитой. Где ты его покупала?
Наконец Люба подняла удивленные глаза на мать.
– Ты что, мам? Это же ты мне из Англии привезла. Забыла?
– Ах вот как? Значит, мама из Англии привезла? – Тамара постепенно повышала голос, подводя сцену к кульминации. – То есть здесь, в Москве, ты ничего такого купить не можешь, да? Так вот, моя дорогая, запомни раз и навсегда: если ты хочешь носить костюмчики, которые твоя мама привозит тебе из-за границы, а также туфельки, юбочки и сумочки, то, будь любезна, не подвергай испытаниям мою репутацию. Меня уважают в театре ровно до тех пор, пока я не вызываю излишней зависти. Все наши актрисы сами ходят по магазинам, готовят, стирают и убирают, и я должна быть такой же, как они, иначе меня сожрут с потрохами. Ты что, не понимаешь, что такое театр? Ты не знаешь, какой это гадюшник? Стоит мне только дать повод – тут же нашепчут, настучат, напишут, и райком партии не утвердит мою кандидатуру на поездку.
– Да брось ты, мама, – лениво протянула Люба. – Ты же ведущая актриса, ты звезда, ну как они могут не взять тебя на гастроли?
– А вот так и могут. Ты думаешь, у нас есть незаменимые? Каждый спектакль имеет второй состав, между прочим. И никто не посмотрит на то, что я – жена главрежа, а я, в свою очередь, никогда не пойду на то, чтобы просить папу заступиться за меня. Он живет только своим театром, и он не должен портить отношения с управлением культуры и с райкомом, заступаясь за меня, иначе его лишат того, чем он дорожит больше всего на свете. Ты меня поняла, Любовь Григорьевна?
Зазвонил телефон, и Надя тут же вскочила и метнулась к аппарату. Тамара Леонидовна не удержалась, бросила цепкий взгляд на фигуру дочери. Нет, не видно, да еще пижама эта… Что это она так заторопилась ответить? Ждет чьего-то звонка с утра пораньше? Впрочем, понятно, чьего – Юрцевича.
– Мама, это тебя.
В голосе слышно разочарование. Деточка моя, глупенькая, что же ты творишь?
Тамара взяла трубку. Звонила портниха насчет платья. День, заполненный делами и хлопотами, начал затягивать Тамару в свой неумолимый круговорот, из которого надо непременно вынырнуть и найти время для еще одного дела, о котором Тамара Леонидовна думала всю ночь. Нужно обязательно встретиться с Ароном Моисеевичем. Он даст дельный совет и будет молчать. Если сроки для позднего аборта уже пропущены, то, может быть, можно как-то устроить ранние роды? И не будет у Нади никакого ребенка, и Юрцевич исчезнет из их жизни – об этом позаботится Ванечка Круглов, и никто ничего не узнает, и все войдет в обычную колею.
Когда девочки ушли – Люба на работу, в школу, а Надя в Консерваторию, Тамара Леонидовна набрала номер Арона Моисеевича, знакомого и доверенного гинеколога. Ей удалось застать его дома, но оказалось, что у него ни сегодня, ни завтра не найдется возможности встретиться: через двадцать минут он уходит на работу, а после рабочего дня в клинике он со всей семьей уезжает на дачу и вернется только 3 января.
– А у вас что-то срочное, Тамарочка? – озабоченно спросил он. – Какие-то проблемы?
– Не у меня. Мне нужна консультация, Арон Моисеевич.
– Давайте в двух словах по телефону.
– Вы думаете? – засомневалась Тамара Леонидовна.
– Ну вы хотя бы скажите, в чем дело, а там решим. Давайте, Тамарочка, давайте, время идет.
– Сейчас, одну минуточку.
Она положила трубку, вышла из гостиной, на цыпочках подошла к спальне и приоткрыла дверь. Григорий Васильевич громко храпел, раскинувшись на широкой супружеской кровати. Детские утренники интереса у него не вызывали, и, в отличие от жены, он не собирался так рано вставать и идти в театр. Надо надеяться, он не проснется и разговора с Ароном не услышит.
Плотно притворив обе двери – в спальню и в гостиную, Тамара Леонидовна вернулась к телефону.
– Арон Моисеевич, что можно сделать в двадцать недель? – начала она с места в карьер.
– Ничего, – моментально и решительно ответил врач. – Если, конечно, нет жизненных показаний. Есть?
– Нет, – честно призналась она. – Я имею в виду, их нет в плане здоровья.
– Значит, они есть в… так сказать, социальном плане?
– Вот именно. И очень серьезные.
– Это будет дорого стоить. Около полутора-двух тысяч. Если, конечно, кто-нибудь возьмется.
– Но вы можете порекомендовать того, кто возьмется?
– Поищем, – неопределенно пообещал Арон Моисеевич.
– А может, вы сами? – робко предложила Тамара.
– Ни в коем случае, – резко отозвался тот. – Я этим не занимаюсь. Но есть коллеги, которые могут сделать все в лучшем виде. Позвоните мне после третьего января.
– Спасибо, Арон Моисеевич. Еще два слова, пожалуйста. Это… ну, я хочу спросить, это очень опасно?
– Очень, дорогая моя. И очень опасно, и очень больно. Намного больнее, чем обычные роды. Но если дама так решила и если у нее действительно серьезные основания, то она, как правило, готова терпеть. Она же готова, я так понимаю?
– Не знаю… Я не уверена. Арон Моисеевич, я вам доверяю… Речь идет о моей Наде. Она попала в тяжелую ситуацию.
– О Наде?! Боже мой, боже мой… Да как же это, Тамарочка, голубушка?
– Да вот так. Сама не знаю как. Она со мной об этом не говорит, я вообще узнала из третьих рук. Теперь вот голову ломаю, что предпринять.
– А если замуж? – предположил гинеколог. – И пусть себе рожает на здоровье.
– Исключено. Это и есть социальный аспект нашей ситуации.
– Понимаю, понимаю, – задумчиво протянул он. – Скажите-ка мне, как у нее со здоровьем? Хронические заболевания и все такое.
– Она здорова. Никаких хронических заболеваний. Здоровая двадцатилетняя девица.
– А что с кровью? Вы, помнится, как-то говорили мне, что у нее низкая свертываемость. Я не ошибся?
– Не ошиблись. Это действительно так и есть. А что, это плохо?
– Очень плохо, Тамарочка. Во-первых, при плохой свертываемости ни один приличный врач не возьмется, а неприличного я вам и рекомендовать не стану, а во-вторых, это может быть очень опасным, и я вам просто не советую даже думать об искусственных родах. Начнется кровотечение, которое не сумеют остановить, и девочка может погибнуть. Всё, Тамарочка, выбросьте это из головы, даже обсуждать ничего не буду.
– Неужели ничего нельзя сделать? – в отчаянии проговорила Тамара Леонидовна. – Вы же врач, Арон Моисеевич, ну посоветуйте что-нибудь!
– Как врач я вам ответственно заявляю, что нет ничего здоровее для здоровой женщины, чем здоровые своевременные роды. Если вы печетесь о благе своего ребенка и не хотите навредить, то пусть девочка родит. Вот вам мой единственный совет. Приводите ее ко мне, я ее посмотрю и буду наблюдать до самых родов. Мне пора бежать, Тамарочка. С наступающим праздником вас, Григорию Васильевичу от меня поклон передавайте, а после третьего числа приводите Надю ко мне на прием. Договорились?
– Договорились, спасибо, – уныло пробормотала Тамара Леонидовна.
Слабая, едва затеплившаяся надежда рухнула. Разумеется, она не собирается подвергать свою девочку процедуре, которая не только страшно болезненна, но и опасна для жизни. Значит, придется готовиться к тому, чтобы стать бабушкой.
Москва, февраль 2006 года
Нана Ким болеть не любила в принципе, но особенно не любила она третий день болезни, когда температура уже сбита и на смену ей приходит тяжелая, свинцовая слабость. Если в момент начала заболевания Нана панически боялась, что болезнь окажется смертельной, то к третьему дню становилось понятно, что никакой угрозы жизни нет, но зато ее охватывал столь же иррациональный, идущий из детства страх, что такой слабой и беспомощной она останется на всю жизнь и уже никогда больше не сможет не то что на работу выйти – даже посуду за собой помыть. В этот пресловутый третий день в ней поднимались все обиды, даже самые дурацкие, глупые, как, например, обида на родителей, которых нет рядом. Когда маленькая Нана болела, папа и мама сидели с ней, держали за руку и ласковыми голосами терпеливо уговаривали не бояться, потому что болезнь обязательно пройдет, силы уже совсем скоро вернутся и она снова сможет выйти на лед и выполнить все элементы, даже самые сложные. Они поили ее теплым молоком, куриным бульоном и травяными отварами, давали таблетки, и мама всегда варила любимый компот из сухофруктов, в котором было много-много чернослива, который Нана очень любила, а папа садился на краешек постели, гасил яркую люстру, чтобы свет не резал девочке глаза, включал торшер и часами читал ей вслух самые интересные книжки. Родители знали о ее страхах, родившихся после смерти братика, и делали все, чтобы помочь их преодолеть. Они были самыми лучшими родителями на свете!
Но вот уже шесть лет они живут в Корее, тренируя спортсменов-гимнастов. Их там на руках носят, платят хорошие деньги, они занимаются любимым делом, и Нана искренне радовалась за них, однако стоило ей заболеть, как она превращалась в ребенка, которого бросили на произвол судьбы. Как было бы хорошо, если бы они сейчас были здесь, рядом, и мама варила бы бульон и компот, трогала сухой прохладной ладонью лоб дочери, проверяя температуру, и негромко приговаривала, что все, конечно же, будет хорошо, слабость скоро пройдет, а папа будет читать ей вслух книгу или подробно пересказывать какой-нибудь кинофильм. Он удивительно умел пересказывать фильмы, и, послушав отца, Нана, казалось, сама этот фильм посмотрела и даже отчетливо представляет себе внешность героев, выражение их лиц в те или иные моменты, одежду, интерьеры, пейзажи. Однажды, едва увидев по телевизору первые кадры рекламного ролика какого-то фильма, она безошибочно узнала его еще до того, как диктор произнес название, и только спустя несколько минут сообразила, что сама-то этого фильма не видела никогда, а «слышала» от папы. Во время болезни Нана не могла ни читать, ни смотреть телевизор – любое зрительное напряжение тут же вызывало головную боль, терпеть которую Нана не умела.
Однако же родителей нет, они далеко, и надо как-то справляться со слабостью самостоятельно. Никита на тренировке, некого даже попросить сделать чаю. Она медленно откинула плед, спустила ноги с дивана и поплелась на кухню. Переход – всего ничего, каких-то метров пять, не больше, а сил нет, пришлось сесть на стул и минут десять отдыхать, так и не включив чайник. Встала, дотянулась до чайника, нажала кнопку, достала чашку – и снова присела. Да что ж это такое-то!
Когда зазвонил телефон, Нана несколько секунд собиралась с силами, чтобы снова встать.
– Как ты? – прозвучал в трубке энергичный голос.
Шеф. Александр Филановский. Саша.
– Ничего.
– Одна?
– Одна. А что?
– Значит, так, слушай сюда, – скомандовал он. – Я отправил к тебе Владу, она уже выехала. Привезет все, что нужно, и все сделает.
– Да мне ничего не нужно, Саша, – запротестовала Нана. – У меня все есть. Что ты выдумал?
– Вот все, что не нужно, у тебя и есть, а нужного-то как раз и нет. – В его голосе, как обычно, не слышно было ни нотки сомнений. – Что я, не знаю тебя? Химией всякой травишься, нормально лечиться не умеешь. Я тебе отправил алтайский мед, настоящий английский чай, не тот, который у нас в магазинах продается, а действительно настоящий, потом еще фейхоа, пусть Влада перетрет плоды с сахаром, будешь есть три раза в день по столовой ложке. Ну и еще кое-что, разберетесь, я бумажку вложил, что и как употреблять.
– Саша, ну зачем все это? У меня полно хороших лекарств, и вообще я уже поправляюсь, в понедельник выйду на работу. И зачем ты отправил ко мне Владу? У нее много работы, я оставила ей кучу заданий, пусть бы сидела и делала, вместо того чтобы ездить через весь город.
– Ты не забыла на минуточку, что я – твой шеф? А ты, между прочим, мой наемный работник, и я плачу тебе зарплату, то есть оплачиваю твое рабочее время. Когда ты болеешь, я продолжаю платить тебе за то, что ты не работаешь, а это экономически невыгодно, поэтому я заинтересован в том, чтобы ты была здорова. Твое рабочее время принадлежит мне, соответственно, твое здоровье тоже принадлежит мне, и я имею полное право заботиться о нем так, как считаю нужным. Все поняла?
– Все, – Нана не смогла сдержать улыбку. – А рабочее время моего секретаря тоже принадлежит тебе?
– Ну само собой. В моем издательстве мне принадлежит все, можешь не сомневаться. Ладно, Нанусь, теперь серьезно: как ты? Сегодня же твой любимый третий день. Ты заболела в понедельник, а сегодня уже среда.
Надо же, помнит. И даже дни посчитал. Ох, Саша, Саша, что ты со мной делаешь?
– Если серьезно, то еле ноги таскаю, – ответила она.
– А мужик твой где? Почему с тобой не сидит?
Сердце ее замерло: неужели узнал про Тодорова? Как? Откуда?
– К-какой мужик? – выговорила она осторожно.
– Ну не знаю, есть же у тебя какой-нибудь мужик, правда? Никогда не поверю, что такая баба, как ты, и одна.
Нет, кажется, ничего не знает, просто так сказал. Слава богу. Надо ответить как-нибудь нейтрально, ни да – ни нет. Лучше всего отшутиться.
– Мужиков нельзя сочетать с болезнями, они этого не любят.
– Это верно, мы такие, нам бабы нужны здоровые и веселые, а не печальные и больные. Да, чуть не забыл: к тебе завтра утром приедет мой врач.
– Саша!
– Приедет-приедет, и посмотрит тебя, и скажет, правильно ли ты лечишься и от того ли, от чего нужно. Ты же небось врача не вызывала?
– Зачем его вызывать, что я, грипп от скарлатины не отличу? Я и так прекрасно знаю, что чем лечить.
– Знаешь ты, как же. Короче, Нануся, лечиться будешь так, как велит мой врач, и тем, что я тебе прислал. Если что-то еще будет нужно – он мне скажет, я тебе отправлю. Все, целую тебя. Завтра позвоню.
Вот так всегда. Он один знает, что правильно, а что плохо, и только он один, Александр Филановский, знает, как должны жить все, кто у него работает и кто его окружает. И даже как они должны болеть и чем лечиться. Саша, Саша, многолетнее наваждение…
До приезда Влады она успела выпить чай, потом вместе с девушкой раскладывала содержимое многочисленных пакетов и терпеливо слушала, пока Влада зачитывала записку-инструкцию Филановского и подробно объясняла, что и в каком виде употреблять. Попытку сделать целебное месиво из плодов фейхоа Нана решительно пресекла:
– Я все равно не буду это есть.
– Но почему, Нана Константиновна? – огорчилась Влада. – Александр Владимирович велел обязательно сделать, это очень полезно, там масса витаминов, необходимых организму, особенно зимой и особенно ослабленному. Давайте я все-таки сделаю.
– Не нужно, Влада, поезжай домой. Если мне захочется фейхоа, я и так съем. Иди-иди.
Влада пожала плечами, вроде бы обиженно, но – Нана понимала – с явным облегчением. Молодая девчонка, молодая бурная жизнь, а тут так удачно с работы пораньше вырвалась! Ну неужели у нее не найдется дел более интересных, нежели перетирание зеленых, пахнущих земляникой (землянику Нана ненавидела!) плодов для больной начальницы?
Закрыв за ней дверь, Нана вернулась в комнату, снова улеглась на диван, натянула плед, достала из стоящей рядом тумбочки маленький магнитофон и коробку с кассетами. Перебрала пластмассовые прямоугольнички, вчитываясь в сделанные бисерным почерком надписи, нашла то, что нужно. Лекции Андрея Филановского. Кассет было несколько, и Нана некоторое время размышляла, какую именно ей сейчас хочется послушать. Решила, что ту, на которой рядом с надписью стоит цифра 1. Вставила кассету, нажала кнопку воспроизведения, отрегулировала звук до комфортного уровня и закрыла глаза.
– Каждый раз, когда я начинаю семинар, я вижу перед собой новые лица людей, пришедших послушать мои лекции, и спрашиваю себя: кто они? Зачем они пришли? Что хотят получить от семинара? И могу ли я дать им то, за чем они пришли? Не останутся ли они разочарованными? И отвечаю сам себе: эти люди пришли потому, что их что-то беспокоит, у них что-то не получается, у них в душе разлад. Если бы у них все было в полном порядке, они не пришли бы сюда, потому что спокойные и всем довольные люди обычно не ищут способа сделать свою жизнь лучше. Вы можете мне возразить, что некоторые, а может быть, и все пришли сюда просто из любопытства, послушать, а что же нового может сказать им этот Филановский. У вас нет никаких проблем и никакого душевного разлада, вам просто интересно. На самом деле слова «просто интересно» означают, что есть что-то такое, чего вы не знаете, но хотите узнать, потому что это может оказаться важным или полезным и позволит сделать вашу жизнь в чем-то лучше, богаче, интереснее, пусть и в самой малой малости. Но если вы считаете, что вашу жизнь можно сделать лучше, богаче и интереснее, чем она есть сейчас, то это как раз и означает, что вы в чем-то ею недовольны. В чем-то, пусть даже в этой самой малой малости, она вас не удовлетворяет. А теперь ответ на второй вопрос: могу ли я дать вам то, за чем вы пришли?
Голос Андрея Филановского. Голос Саши. Точно такой же голос, их практически невозможно различить, они же близнецы. Но какие же они разные! Невозможно представить Сашу произносящим эти слова. Андрей сомневается, задает себе вопросы, ищет ответы, Александр не сомневается никогда и ни в чем, вопросы он задает кому угодно, только не себе, и ответов ждет от других, в основном от подчиненных. А иногда и не ждет никаких ответов, потому что знает их заранее или думает, что знает. Считается, что даже в парах близнецов, похожих как две капли воды, один все равно становится ведущим, лидером, а другой – ведомым. В том, кто из братьев Филановских лидер, можно не сомневаться.
– В детстве я занимался фигурным катанием, правда, не очень долго и не очень успешно, всего пять лет, но кое-что успел за это время узнать и понять. В том числе и такую вещь, как чувство льда. Знаете, что это такое? Когда новичок выходит на лед, ему кажется что лед – это страшный противник, подлавливающий малейшее неверное движение и мгновенно мстящий падением, ушибами, травмами. Я боялся льда, мне казалось, что он – постоянный источник опасности, холодный, твердый и враждебный, и я думал, что моя задача – укротить его, как необъезженную лошадь, заставить покориться мне, уступить, сдаться. У меня ничего не получалось, потому что лед противостоял моим попыткам выполнить тот или иной элемент, он становился каким-то особенно скользким, когда я двигался по нему, и особенно твердым, когда я падал. Он словно нарочно уходил из-под конька, когда я приземлялся после прыжка, или превращался в густую тягучую тормозящую массу, когда я вращался. В общем, мое пребывание на льду было сплошной борьбой за выживание. Тренер говорил мне: попробуй сделать вот так. Не получается? Тогда попробуй вот эдак. Снова не получается? Тогда сделай вот это… И однажды наступил момент, когда я оттолкнулся, чтобы выполнить прыжок, и лед, словно батут, спружинил вместе со мной и подбросил меня в воздух, а когда я приземлялся, мягко принял меня и как будто обнял лезвие конька, чтобы оно не покачнулось и чтобы выезд был уверенным. И я вдруг понял, что стою на льду твердо, как в тапочках дома на полу, и лед – вовсе не враг, не противник. Он – лед. Он такой, как он есть. Просто благодаря помощи тренера мне удалось найти те движения, ту работу мышц, то положение тела, при которых мне на этом льду стало удобно и комфортно, а льду – удобно и комфортно со мной. Я обрел чувство льда. Понимаете, о чем я говорю? Тренер не может выполнить за меня элементы и откатать программу, но он может предложить мне разные способы, перепробовав которые я найду вариант, позволяющий мне самому хорошо откататься. Точно так же все будет происходить у нас с вами. Я не смогу решить за вас ваши проблемы, это можете сделать только вы сами. Но я могу предложить вам разные варианты, разные подходы, которые вы попробуете применить, и, возможно, какой-то из них вам поможет, а возможно, вы и сами придумаете что-то такое, о чем я вам не говорил, но что окажется действенным именно в вашей ситуации. Вы обратили внимание, что в фигурном катании некоторые элементы носят имена тех спортсменов, которые их придумали и впервые выполнили? Например, пируэт Бильман, прыжок Сальхова. Тренер учил фигуриста основам, а вариант исполнения элемента спортсмен придумал сам. И у нас с вами будет происходить то же самое. Фигурное катание – это модель жизни, подумайте об этом. Вам может показаться, что жизнь враждебна к вам, недоброжелательна, сурова, и у вас поэтому ничего не получается или получается не так, как вам хочется. И прыжок не прыгается, и падать больно. Верно? На самом деле у вас просто нет того, что называется чувством льда. Вот это чувство вы и сможете обрести, если наш с вами семинар пройдет успешно.
Нана слушала и вспоминала, как впервые встретилась на катке детско-юношеской спортивной школы с Сашей и Андрюшей Филановскими. Ей было семь лет, мальчикам – по восемь. Уже тогда они были совсем разными, их никто никогда не путал. Они были по-разному одеты, по-разному причесаны, даже совершенно одинаковые лица казались непохожими. Одинаковыми были только голоса. Но слова, которые мальчики произносили этими одинаковыми голосами, тоже были совсем-совсем разными.
– …И последнее, что я хотел бы сказать вам на нашей первой встрече. Однажды после окончания одного из семинаров ко мне подошел мужчина и спросил: «А вы сами-то во все это верите?» Я ответил ему, что это не вопрос веры, а вопрос ментальной тактики. Я не проповедник, несущий людям новую веру, я не мессия и не священник. Я обыкновенный человек, который приглашает людей на семинары, чтобы поделиться своим опытом. И я не собираюсь на наших с вами занятиях давать вам готовые рецепты, дескать, сделайте так-то и так-то – и у вас все получится, ваша проблема разрешится, любимый вернется, появятся деньги, а ваш ребенок перестанет вам грубить и водиться с нехорошей компанией. Ничего этого не будет. Поэтому те, кто пришел сюда за готовыми рецептами, не получат того, чего ждут. Я предлагаю вам всем как следует подумать, приходить ли на следующую встречу. Именно поэтому первое занятие у нас всегда ознакомительное и бесплатное. То, что я вам предложу, – это способы, при помощи которых можно подняться над ситуацией и посмотреть на нее другими глазами. Ситуация останется вашей, и проблема останется вашей, она не разрешится сама собой только оттого, что вы прослушали мой семинар. Но в результате нашего общения у вас может измениться взгляд, то есть изменятся глаза, которыми вы смотрите на проблему, и, посмотрев на нее другим взглядом, вы, вполне возможно, обнаружите, что проблема-то совсем в другом или что ее вовсе нет. Вот такой результат я вам гарантирую, и если вы готовы его получить – милости прошу на второе занятие, завтра, в это же время. Оплата всего семинара тоже завтра, так что у вас есть сутки на размышление и на принятие решения: нужны вам наши встречи или нет…
Нана нажала кнопку «стоп». Ей казалось, что этот голос она может слушать с утра до ночи. Голос Андрея Филановского. Голос Саши. Наваждение какое-то! Столько лет прошло, а она все не может от него избавиться. Нет, одной лекции вполне достаточно, скоро придет с тренировки Никита, а когда он ляжет спать, можно будет еще послушать. Никита, тренировка… Какая-то мысль то и дело начинала шевелиться в ослабленной болезнью голове, но Нана никак не успевала ее поймать. Вот, наконец-то! Завтра на Олимпиаде в Турине девочки катают произвольную программу, и по сложившейся традиции телевизионную трансляцию они будут смотреть вместе с Верой Борисовной, тренером, у которого занималась Нана Ким. Надо срочно позвонить.
Нана потянулась к телефонной трубке.
– Верочка Борисовна, я заболела, – уныло сообщила она. – Завтра я буду еще нетранспортабельна.
– Бедная ты моя! – прогудела низким басом тренер. – Значит, я к тебе приеду. У тебя спутниковое телевидение есть? «Евроспорт» ловится?
– Конечно. Мы же с вами одновременно антенны ставили.
– А я и забыла… Что тебе привезти?
– У меня все есть, Верочка Борисовна, вы себя привезите, больше мне ничего не нужно.
Наутро Нана чувствовала себя значительно лучше, кошмарный третий день закончился, унеся с собой слабость и раздавленность, и уже можно было смотреть телевизор, читать и даже более или менее споро передвигаться по квартире. В десять утра явился присланный Александром Филановским доктор, тщательно осмотрел Нану, послушал сердце, измерил давление, прощупал живот, задал ей множество вопросов, потом попросил показать лекарства, которые она принимает. Ничего неожиданного не выявилось, это действительно была вирусная инфекция, однако она, похоже, дала непомерную нагрузку на сердце, так что к имеющимся препаратам доктор добавил еще несколько – для поддержания работы сердечной мышцы.
– Будьте очень внимательны, – посоветовал он, уходя. – Судя по тому, что вы мне рассказали про вашу постоянную проблему «третьего дня», на любое заболевание в вашем организме первым откликается именно сердце, отсюда и такая слабость. У одних людей реагирует бронхо-легочная система, у других – почки, у третьих – сердце, как у вас. Так что вы за ним следите и проявляйте разумную осторожность.
Вера Борисовна, жизнерадостная, энергичная, рано располневшая, примчалась в середине дня, задолго до начала прямой трансляции из Турина, с множеством пакетов и сумок, которые тут же потащила на кухню.
– Ну зачем это, Вера Борисовна! – взмолилась Нана. – У меня же все есть.
– У тебя никогда нет того, что нужно, – безапелляционно заявила тренер. – Вот, например, что у тебя к чаю?
– Ну… – Нана растерялась. – Печенье есть. Джем.
– Вот именно. Годичной давности небось. Никитке ничего этого нельзя, у него питание строго по норме, он вес держит, вот ты и не покупаешь, чтобы ребенка не соблазнять. И сама фигуру бережешь. А я, прости меня, деточка, не могу есть то, что ты готовишь.
– Невкусно, да? – расстроилась Нана.
– Да вкусно, вкусно, но радости нет, понимаешь? Нет радости в твоей стряпне, нет восторга и упоения. А радость – это калории, это сладкое, это все то, что вам, Кимам, нельзя. Так что будем пить чай с пирожными и конфетами, заедать виноградом без косточек, а сейчас я еще быстренько блинов наверетеню. Блины будешь?
Нана горестно вздохнула и честно ответила:
– Буду. Пирожные не буду, а блины – буду. Лучше я потом поголодаю.
Отказаться от блинов Веры Борисовны мог только человек, либо обладающий невероятной силой воли, либо напрочь лишенный вкусовых ощущений и не знающий, что это такое.
– Чем лечишься? – строго спросила тренер. – Показывай.
– Да вы что, сговорились все, что ли? Вчера Саша меня по телефону истязал, потом прислал целую кучу всяких снадобий, сегодня утром врач требовал показать, что я принимаю, теперь вот вы. Ну я же не маленькая, ей-богу. Вот, пожалуйста, смотрите, – она сердито ткнула рукой в стоящий на кухонном столе пакет, – таблетки, порошки, травки какие-то, которые надо заваривать. Все честно пью.
Вера Борисовна внимательно изучила содержимое пакета, вытащила маленькую коробочку, поднесла к носу, понюхала.
– Это у тебя откуда?
– Да Саша прислал. А что?
– Это очень редкая и дорогая штука, травка специальная, ее где-то в Тибете монахи собирают. Достать невозможно. И стоит кучу денег. Слушай, может, он все-таки к тебе неровно дышит?
– Да ну вас, Вера Борисовна, Филановский ко всем дышит одинаково. Ей-богу, я была бы счастлива, если бы он так вел себя только по отношению ко мне, но увы.
– Точно?
– Точно.
– Ну ладно. А твой, как его, Антон, кажется… Как у тебя с ним?
– Все нормально.
– Не догадывается он?
– Вроде нет. Да и с чего ему догадываться?
– Ну а Саша? Он что, тоже про Антона не знает?
– Вера Борисовна, про Антона вообще не знает никто у меня на работе. Так откуда Саше узнать?
– Ох, Нана, Нана, что ж у тебя личная жизнь такая нескладная, а? Ты же умница, красавица, ну почему ты не можешь любить мужика, с которым спишь? Неужели это так трудно?
– Наверное, потому, что не удается спать с тем, кого люблю, – с улыбкой ответила Нана, пожав плечами. – Не совпадает у меня. Бывает.
О том, что она спит со своим подчиненным Антоном Тодоровым, за пределами издательства знало довольно много людей: Вера Борисовна, подруги Наны и даже ее родители, с которыми она познакомила Антона в их последний приезд в Москву, почти год назад. О том же, что она уже много лет влюблена в своего шефа Филановского, знала только одна Вера Борисовна, которая еще с тех давних детских лет стала для Наны единственным человеком, которому дозволялось знать то, о чем рассказывать другим было стыдно. Только Вера Борисовна знала, что у Наны Ким нет ни честолюбия, ни самолюбия (так считала сама Нана), только тренер заметила, какими глазами девочка почти тридцать лет назад смотрела на катающегося рядом Сашу и как волновалась, когда он заговаривал с ней, и только от нее Нана не скрывала, что и сейчас безрассудно и безнадежно любит его. Об этом не знали ни родители, ни подруги: свои чувства к Филановскому Нана считала постыдным признаком слабости, в которой не признавалась никому. Кроме Веры Борисовны.
Она много лет не видела Сашу и почти не вспоминала о нем, с тех самых пор, когда он еще в 1979 году бросил фигурное катание и перестал приходить на каток, но, когда они случайно встретились десять лет назад, все вернулось. Бороться с собой Нана не пыталась, ибо от природы не была борцом, она просто приняла ситуацию такой, какая она есть. Саша не выделяет ее из толпы своих друзей и сотрудников, он ко всем относится одинаково: с любовью, вниманием и заботой, и Нана Ким для него не особенная, не единственная, а «одна из». Он любит совсем других женщин, у него есть жена и постоянно меняющиеся любовницы, уж это-то начальник службы безопасности издательства знает совершенно точно, потому что всех своих подружек Филановский пристраивает работать к себе под крыло, на большую зарплату, а Нане и ее сотрудникам приходится проверять их биографии и «послужные списки». И нет никакой надежды на то, что Александр хоть когда-нибудь ответит на ее чувство.
– Интересно, а Андрюша тебе никогда не нравился? – спросила Вера Борисовна, раскладывая принесенные пирожные на большом блюде.
– Нет. То есть я имею в виду, что он, конечно, чудесный, и он мне очень нравится, но не так, как Саша. Они же разные совсем. Сашка просто-таки излучает любовь к людям и ко всей жизни в целом, он бурлит этой любовью, кипит и изливает на всех, кто его окружает, он хочет, чтобы всем было хорошо, чтобы все были устроены, здоровы, благополучны, он неравнодушный к людям, понимаете? И взгляд у него такой теплый, полный любви. Наверное, это меня и завораживает в нем. А Андрюша – он как вещь в себе. Спокойный, невозмутимый, даже какой-то холодный.
– Они по-прежнему не похожи друг на друга? Я тут как-то Сашу видела по телевизору, какая-то была передача про издательский бизнес, и он давал интервью. Я тогда и подумала: интересно, а Андрюшка сейчас какой? Такой же?
– Да нет, что вы, сейчас они еще больше не похожи друг на друга, чем в детстве. Знаете, словно актер в гриме и без грима. Черты одни и те же, а облик совершенно другой. Сашка выглядит как настоящий бизнесмен, коротко стрижется, носит дорогие костюмы, а Андрюша отпустил волосы, завязывает их в хвост и одевается как бог на душу положит. В основном носит джинсы и джемпера. Эдакий богемный философ-бессребреник. Кстати, хотите посмотреть? У меня есть фотографии с новогодней вечеринки.
– Давай, – охотно согласилась Вера Борисовна, – страсть как люблю смотреть фотографии из чужой жизни. Сейчас попьем чайку, посмотрим фотографии, и я возьмусь за блины. Как раз к Никиткиному возвращению будут готовы. И не смей мне говорить, что ему нельзя мучное. От парочки блинов его аксель не пострадает. Между прочим, что у него с тройным акселем? Прыгает?
– Пока очень нестабильно. Четыре из десяти, больше не получается.
– Ничего, какие его годы, успеет еще. Ты в его возрасте тоже с акселем еле-еле управлялась.
Вера Борисовна подхватила поднос с чашками, чайником и блюдом с пирожными и отправилась в комнату, где устроилась на своем любимом месте – в глубоком мягком кресле поближе к телевизору. Нана принесла пачки фотографий, которые так и не удосужилась разложить в альбомы.
– Вот хороший снимок, – она протянула Вере Борисовне глянцевый прямоугольник, – здесь Саша вместе с Андреем крупным планом, так что можете сравнить.
Тренер долго разглядывала лица на снимке, щурилась, отодвигала фотографию подальше от глаз, так как очки для чтения, по обыкновению, забыла дома.
– А это кто рядом с Сашей? – спросила она, ткнув ногтем в изображение красивой молодой женщины в блестящем платье с глубоким декольте.
– Андрюшина подружка, Катя.
– Андрюшина? А чего же она так к Сашке-то льнет? Прямо чуть не вдавилась в него.
– Да бросьте, Вера Борисовна. Новый год, все дурачатся, все веселые, все слегка нетрезвые. Вот смотрите, на этой фотографии Андрюша с Сашиной женой вообще целуются. Это же все в шутку, – рассеянно ответила Нана, не сводя задумчивых глаз с пирожных.
Очень хочется. Ну прямо сил никаких нет терпеть! Она три дня почти совсем ничего не ела, только пила чай и всякие Сашины снадобья, и сегодня опомнившийся организм требовал своего и хватал Нану за горло костлявой рукой того безрассудного и безразмерного голода, когда хочется всего подряд: жареной картошки с котлетами, пирожных, маринованных огурцов, бананов, причем в любой последовательности. Но приходится делать выбор: или пирожное, или блины. Одно из двух. Отказаться от блинов совершенно невозможно: во-первых, это невероятно вкусно, и если такие пирожные можно, в конце концов, пойти и купить, когда уж очень приспичит, то таких блинов, какие печет Верочка, нигде и никогда больше не съешь; а во-вторых, это традиция, нарушать которую совсем не хочется. Всегда, когда они вместе смотрят соревнования фигуристов по телевизору, они едят свежеиспеченные блины, и это уже превратилось в некий ритуал, который особенно страшно не соблюсти, если идет прямая трансляция, как сегодня: а вдруг нарушение ритуала может как-то повредить нашим спортсменам. Эффект бабочки. Брэдбери.
– И правда, совсем не похожи, – резюмировала Вера Борисовна, закончив рассматривать фотографии и выслушав все комментарии к ним, и отправилась печь блины.
Ровно за десять минут до начала трансляции стопка блинов возвышалась в центре стола, а сам стол подвинут поближе к висящему на стене плоскому экрану телевизора. Вера Борисовна принесла блокнот и ручку, чтобы делать пометки по ходу соревнований, а также чистую видеокассету – в ее домашнем телевизоре не было функции автоматического включения на запись.
Никита ворвался в квартиру, когда на лед вышла первая разминка.
– Началось? – проорал он из прихожей.
– Разминаются. Ты как раз успел, – громко ответила тренер.
– Баба Вера!
Мальчик влетел в комнату и повис на Вере Борисовне. Та крепко обняла его и расцеловала.
– Ты мое солнышко, – ласково приговаривала она, разглядывая Никиту, – ты мой чемпион, ты мое сокровище. Мой руки скорее и садись, пока блины не остыли.
Разминка окончилась, на лед вызвали первую спортсменку, и по установившейся традиции все дружно взяли в руки по первому блину.
– Баба Вера, а ты хотела бы сейчас быть там? – спросил Никита с набитым ртом.
– Конечно, хотела бы.
– Почему же ты не поехала? Тренеры же ездят.
– Ездят те тренеры, у которых воспитанники выступают. Можно поехать и за свой счет, но для меня это очень дорого.
– А твоих учеников там нет?
– К сожалению, нет, – усмехнулась Вера Борисовна. – Мои ребята пока до олимпийского уровня не дотягивают. По крайней мере, в этом году мне ехать не с кем.
– А ты возьми меня к себе тренироваться. Я стану чемпионом, и ты будешь ездишь со мной на все соревнования. Правда, здорово будет? Мы с тобой весь мир объездим.
– Экий ты резвый. А как же Светлана Арнольдовна? Ты собираешься от нее уйти?
– Она сама от нас скоро уйдет.
– Да ну?
– Точно, – подтвердила Нана. – Светка в декрет уходит, собирается рожать. Никита, не отвлекай бабу Веру, она же смотрит, как девочки катаются.
– Да ну, это разве катание? – Никита презрительно сморщил нос. – Сплошная грязь, все недокручено, недоделано, начинает выполнять элемент и бросает на полдороге. Тоже мне, еще олимпийцы называются.
– О! – Вера Борисовна назидательно подняла палец. – У нас тут, оказывается, сидит судья международной категории, а мы-то с ним запросто и на «ты». Но вообще-то он прав, у этой девочки действительно все вращения идут с недокрутом…
Нана облегченно перевела дыхание: из опасной темы они благополучно выплыли, хотя неизвестно, надолго ли. Ни один из учеников Веры Борисовны никогда не участвовал в Олимпийских играх. У нее не было своей школы, она не воспитала выдающихся спортсменов, и имя ее было неизвестно тем, кто наблюдает за ситуацией в фигурном катании, сидя перед экранами телевизоров. Она не была выдающимся тренером, обладающим уникальными собственными методиками подготовки фигуристов, она была просто очень хорошим педагогом и очень хорошим человеком, но все, кто стремился к вершинам спортивной славы, уходили от нее к именитым специалистам.
Никита Веру Борисовну обожал и называл бабой Верой, потому что с родными бабушками общаться оказалось как-то затруднительно. Родителей Наны вообще не было в стране, а мать ее бывшего мужа к встречам с внуком отчего-то не стремилась. Ее сын, отец Никиты, женился во второй раз сразу же после развода с Наной, у него родился ребенок, с которым бабушка и нянчилась. Никита мечтал о том, чтобы тренироваться у Веры Борисовны, потому что рядом с ней чувствовал себя спокойно и уютно, но и Нана, и сама Вера этот вопрос старались обходить стороной. У Светочки, Светланы Арнольдовны Лазаревой, были прочные связи с известными тренерами, и именно к ней они в первую очередь приходили «на смотрины», выбирать себе перспективных учеников, которых можно довести до олимпийского уровня. В общем, в тренерско-спортивном сообществе было много всяких тонкостей, которых Никита еще не понимал, зато и его мама, и Вера Борисовна понимали прекрасно: если мальчик хочет сделать карьеру в спорте, ему нужно оставаться у Светланы Арнольдовны или у того тренера, который придет ей на смену. Более того, именно в момент смены и явятся «охотники за ногами» с громкими именами.
– Ты смотри-ка, – с удивлением проговорила Вера Борисовна, когда закончили выступать первые двенадцать спортсменок, – на две разминки всего одно падение. И это ведь слабейшие группы откатались. Что же дальше-то будет?
– Наверное, лед сегодня добрый, – высказала предположение Нана.
Пока заливали лед и разминалась третья группа, она заварила свежий чай, сделала пару телефонных звонков и вернулась к телевизору. На экране готовилась к выступлению первая спортсменка из очередной разминки, она стояла у бортика, получая последние указания от своего тренера. Девушка взяла в руки бутылку воды, прополоскала рот и сплюнула воду на лед.
Нана помертвела.
– Господи, что она делает? – в ужасе прошептала она. – Она что, с ума сошла? Разве можно плевать на лед?
– А разве нельзя? – спросил Никита. – Что в этом такого?
– Никитос, я тебе тысячу раз объясняла, что лед – живой и с ним нужно уметь договариваться. Его нужно любить, уважать, пришел на каток – поздоровайся, скажи ему несколько добрых слов, уходишь – попрощайся и поблагодари. Ты же видишь, как твой любимый чемпион после выступлений целует лед в том месте, где удачно выполнил четверной прыжок. Вот так и надо со льдом обращаться. А она плюет! Идиотка.
Пророчество сбылось немедленно: все фигуристки в этой группе срывали элементы и падали.
– Ну точно, – пробормотала Вера Борисовна, делая в блокноте очередную запись, – как на чужих ногах катаются. Но интересные элементы есть, так что мне будет о чем подумать.
К концу соревнований все трое так испереживались, болея за российских фигуристок, что не заметили, как съели всю стопку блинов.
– Никитос, сколько блинов ты съел? – строго спросила Нана.
Мальчик задумался, загибая пальцы.
– Один на старт и еще три на наших девчонок, получается четыре, – отрапортовал он.
– Много. Да еще на ночь… Завтра тренировка есть?
– Нету.
– Значит, будешь разгружаться.
– Ну мам, – заныл Никита, – а пирожные?
– Еще чего. Даже не обсуждается. Ты же потом от льда не оторвешься, так и будешь прыгать «сидя». Тебе это надо? А еще чемпионом хочешь стать. Ведь хочешь?
– Хочу, – твердо произнес он. – И буду.
– Вот и ладно. Отправляйся спать, а завтра весь день будешь пить чай с сухарями.
Никита послушно отбыл в свою комнату, вскоре ушла и Вера Борисовна. Нана сильно устала, все-таки еще не выздоровела, и, оглядев сложенную в мойку грязную посуду, она решила оставить ее до завтра. Ноги совсем ватные, и голова покруживается.
Она улеглась в постель, закуталась в теплое одеяло, свернулась в клубочек, но сна не было. В голове снова и снова всплывали слова Веры Борисовны: почему Нана не может любить того мужчину, с которым спит? Да не в этом же дело, а в том, что она может поддерживать интимные отношения с тем мужчиной, которого не любит. Наверное, это очень плохо. Безнравственно. Во всяком случае, так принято считать. А что в этом безнравственного? Тысячи, миллионы женщин и мужчин, состоящие в браке, исправно и регулярно, и даже не без удовольствия, занимаются сексом, ведут общее хозяйство, растят детей, ходят вместе в гости, хотя никакой такой безумной романтической любви между ними давно нет. Может быть, их извиняет то обстоятельство, что раньше эта любовь у них все-таки была? А у нее с Антоном Тодоровым такой любви не было… Ну и что? Он – замечательный, умный, добрый, заботливый. Да, она не обмирает от его взгляда и не теряет рассудок от его прикосновений, она не изнывает от тоски, когда не видит его несколько дней, она не думает о нем каждую свободную минуту, но разве это так уж обязательно? Обмирание и потеря рассудка – это Саша Филановский, никакой другой мужчина за все без малого тридцать шесть прожитых лет не производил на Нану Ким такого впечатления. Но Саша недоступен, и, значит, нужно выстраивать свою личную жизнь с другими мужчинами. Нельзя же похоронить себя заживо, мечтая о прекрасном принце Филановском, надеть пояс целомудрия и превратиться в унылую монашку. И вообще, что такое любовь? Может быть, как раз то, что есть у них с Антоном? А то, что с Сашей, – просто безумие, наваждение, черт знает что…
* * *
Оконное стекло оставалось грязным, сколько его ни мой, и Ксения давно уже оставила попытки оттереть мутные пятна, появившиеся невесть когда и неизвестно отчего. Первые годы она изо всех сил старалась поддерживать это жилище в достойном виде, все время мыла, терла, чистила, подклеивала отрывающиеся обои, подмазывала белилами потолок, но постоянное отсутствие денег все равно сказывалось, квартира ветшала, мебель рассыхалась и трескалась, сантехника покрывалась желтоватыми разводами, и убожество и разруха наконец взяли верх над хозяйственностью и аккуратностью. У Ксении больше не было сил бороться, она устала и опустила руки. Ей было все равно. И даже ребенок, доченька любимая, Татка, малышенька единственная, – и та не пробуждала в женщине никакого интереса к жизни. Все предопределено, все распределено, каждый получил, что ему причитается, и на большее надеяться нечего.
Татка болеет с самого рождения, у нее диабет первого типа, ее нельзя отдавать ни в ясли, ни в детский сад – упустят, не справятся, и Ксения сидит дома, работу бросила и занимается только дочкой. Так и живут втроем на одну мужнину зарплату, а велика ли она у простого инженера, если завод, на котором он работает, по уши в долгах? Мало того, что невелика, так еще и не каждый месяц ее выдают.
Скорей бы зима кончилась, солнышко выглянуло, все-таки повеселее будет, а то уж совсем безрадостно…
Татка спит, и Ксения привычно сидит у окна и смотрит на улицу. Люди ходят. Разные. Хорошо одетые. Веселые. Машины проезжают дорогие. Какая-то другая жизнь, в которой откуда-то берутся и деньги, и радость, и надежды, и здоровье. Откуда? Знать бы – побежала бы хоть босиком, месяцами стояла бы в очереди, чтобы тоже получить хоть чуть-чуть. Глупые мысли, глупая Ксения.
Она отходит от окна, останавливается перед зеркалом, тоже мутным, как и оконное стекло, и покрытым пятнами, точечками и какими-то царапинами. Почему, ну почему все так сложилось? Ведь была умненькой симпатичной девчушкой, в школе хорошо училась, стала постарше – мальчишки начали заглядываться. В институт поступила, встречалась с парнем, долго встречалась, дело к свадьбе шло, потом встретила того, кто стал ее мужем, голову потеряла, влюбилась до смерти. Мама была против, отговаривала, мол, не пара он и вообще… Что «вообще», Ксения не понимала, она знала только одно: такая любовь случается раз в сто лет. Она любит, она любима, и при чем тут пара или не пара?
Была свадьба, скромная – по средствам, которых не было ни в семье невесты, ни у жениха, потом долгая изнурительная борьба за рождение ребенка, несколько выкидышей, томительные больничные месяцы «на сохранении», потом подарок судьбы – Таточка, Татуська. Ксения хотела назвать девочку как-нибудь посовременнее, например, Настей, Катей, или уж совсем авангардно – Варварой или Ульяной, но муж настоял на Тамаре. Чем-то это имя было ему дорого, но чем именно – он так и не рассказал, только смотрел как-то странно, не то задумчиво, не то загадочно, но без улыбки. Да ладно, Тамара так Тамара, лишь бы была здорова и счастлива. Однако здоровья маленькой Татуське Господь не дал.
Ксения смотрит на свое отражение и пытается вспомнить то время, когда она была частью той счастливой беззаботной жизни, текущей за окном, проплывающей мимо и даже самым тонким краешком не задевающей теперь ее. А что будет дальше? Уже шесть лет Ксения не работает по профессии, она вообще нигде не работает, сидит с ребенком, а вдруг что случится? Нет, не самое страшное, не с девочкой, а с мужем. Попадет под машину, например, или просто-напросто бросит ее. Зачем ему такая жена, неухоженная, с ранними морщинами, опустившаяся, в старых джинсах и безразмерном свитере. Волос давно уже не касались ножницы парикмахера – надо экономить каждую копейку. Любовь мужа поддерживала ее все эти годы, давала силу, стойкость, но ведь все когда-то кончается, и любовь тоже. И если он ее разлюбит и бросит, то что же с ней будет? С ней и с Таткой? Как жить? На что жить?
Она судорожно хватает трубку старенького, давно разбитого и склеенного скотчем телефона и набирает номер мужа. Только услышать его голос, всего несколько слов, чтобы быть уверенной, что сегодня после работы он вернется домой. Руки дрожат, в горле стоит ком, который никак не удается сглотнуть, и от этого голос Ксении звучит сдавленно и испуганно.
– Что? – тревожно спрашивает муж. – С Таткой плохо?
– Да нет, с ней все нормально, она спит.
– А что тогда?
Он никогда не понимал, зачем она звонит ему на работу без дела, просто так. Он не понимал ее страха, не видел оснований для беспокойства и сердился.
– Не знаю, – она уже почти плачет, с трудом сдерживается. – Мне как-то тревожно стало. С тобой все в порядке?
– Да что со мной случится, Ксюша, ну что ты, право слово, как маленькая.
Вот и сейчас сердится, она по голосу слышит. Муж недоволен ею, глупой, плохо выглядящей, которая даже здорового ребенка родить не смогла. Бросит он ее, точно бросит, если еще не сегодня, то через неделю или через месяц.
Она плачет в трубку, так горько, так отчаянно, всхлипывая и подвывая, она так устала от вечного безденежья и ежечасного беспокойства за девочку, от этих неотмывающихся окон, от просачивающегося во все щели холодного сырого воздуха, от пятен на потолке и от старой клеенки на столе в кухне, с которой от многолетнего мытья стерся рисунок…
– Ксюшенька, солнышко мое, – ласково говорит муж, – я все понимаю, я знаю, как тебе тяжело, но потерпи еще чуть-чуть. Еще совсем немножко, ладно? Скоро у нас будут деньги. Уже совсем скоро.
От этих слов, сказанных так тепло, так мягко, она немного успокаивается. Ей кажется, что она почти видит его, сидящего, нет, расхаживающего по служебному помещению взад и вперед – такая у него привычка, он совершенно не умеет разговаривать по телефону, сидя на одном месте, ему обязательно надо двигаться. Высокий, стройный, густые хорошо подстриженные черные с сильной проседью волосы, смуглая кожа, выразительные темные глаза, густые загнутые вверх ресницы, и весь он напоминает горький шоколад – темный, сладкий, но без приторности. Господи, какой же он красивый! Как милостива судьба была к ней, Ксении, когда подарила ей такого мужа! И если она будет действовать ему на нервы, он обязательно бросит ее, вечно плачущую, опустившуюся, да еще с больным ребенком на руках.
– Прости, – бормочет Ксения, – я больше не буду. Я уже не плачу.
Она понятия не имеет, откуда возьмутся деньги, о которых с недавнего времени начал говорить муж. Она даже отдаленно не представляет, откуда они могут появиться. Но так хочется ему верить! За все годы, прожитые вместе, он ни разу ее не обманул. Так, может быть, и в этот раз не обманет.
* * *
Звонок в дверь раздался в тот самый момент, когда Кате показалось, что уже ничто не может помешать им с Андреем лечь наконец в постель. День для нее оказался пустым и оттого длинным и скучным, и вечер не наступал мучительно долго. Сегодня с самого утра все не заладилось, и намеченные дела отменялись одно за другим. Сперва не состоялось назначенное еще неделю назад собеседование по поводу новой работы (с прежней Катя уволилась еще месяц назад), потом выяснилось, что подружка, с которой девушка собиралась встретиться и вместе где-нибудь пообедать, заболела, и в довершение всего в бассейне, куда Катя ходила два раза в неделю, прорвало какую-то трубу, и его закрыли на санитарный день. Она попыталась пройтись по магазинам, но никакого удовольствия от похода не получила, потому что таких денег у нее не было. Вернее, их не было у Андрея.
И вот наконец Андрей пришел домой, они вместе поужинали, потом Катя смотрела по телевизору сериал, а Андрей что-то писал, включив компьютер, и ей казалось, что еще минут двадцать – и спать.
Как раз в это время и позвонили в дверь. Она помчалась открывать и увидела на пороге одну из «подружек» Андрея. Как она ненавидела этих теток с озабоченными рожами, которые считали возможным являться в почти семейный дом в одиннадцать вечера, да еще без предварительного звонка! И почему Андрюша им это позволяет? Самое противное, что «подружек» было много, человек пять или даже шесть, и не все они были тетками «в возрасте», то есть около сорока. Среди них попадались и молодые девицы. Ну как, ну вот как она, Катя, должна к этому относиться?
Сегодняшняя гостья была из этих, молодых и красивых. Андрей, как обычно, провел ее на кухню, заварил чай и закрыл дверь, ведущую в коридор, предоставив Кате смотреть телевизор в одиночестве. Девушка даже не злилась – она давно привыкла. Конечно, в тот раз, самый первый, больше года назад, когда они с Андреем только-только начали жить вместе, и вдруг около полуночи явилась какая-то молодая женщина, и Андрей встал с постели, повел ее на кухню, закрыл дверь, и до рассвета они о чем-то разговаривали, – в тот раз Катя устроила форменную истерику. Она была, во-первых, влюблена, и во-вторых, уверена, что эта женщина – или бывшая любовница Филановского, с которой у него «еще не все порвано», или будущая претендентка, готовая в любую минуту сместить Катю и заменить ее собой рядом с ним. Понятно, что при таком подходе масштаб истерики был весьма крупным. Она рыдала и требовала объяснений, Андрей тихо улыбался и говорил:
– Зайка, я не могу, не имею права требовать от тебя, чтобы ты разделяла мои убеждения и жила моими интересами. Но и ты не можешь требовать от меня, чтобы я жил в вакууме, не имея возможности общаться с людьми, которым интересно то же, что и мне. Если я не могу говорить с тобой о том, что меня волнует, то я буду говорить об этом с другими. А если ты собираешься по этому поводу скандалить, то я ведь все равно не перестану общаться со своими друзьями, я просто буду делать это вне дома. Ты этого хочешь? Ты хочешь, чтобы я уходил поздно вечером неизвестно куда и возвращался под утро?
– Ты привел в дом бабу и заперся с ней на кухне у меня на глазах! – кричала Катерина, размазывая бурно текущие слезы по щекам и шее.
– А что, будет лучше, если я буду уходить с ней? – смеялся Андрей, которого ее слезы совершенно не трогали и, что удивительно, не раздражали. Он просто как будто не замечал их. – Ты же ходишь куда-то со своими подружками, о чем-то разговариваешь с ними, и я совсем не уверен, что мое присутствие рядом с тобой в такие моменты сделало бы эти встречи более приятными. У тебя с твоими приятельницами свои разговоры, у меня с моими – свои. Не понимаю, что тебя так бесит.
Но по его глазам она видела, что он отлично все понимает. Он понимает, что именно привело ее в бешенство, но ничего менять не собирается. Катю душила ревность, она пыталась вытянуть из Андрея какие-то слова, которые успокоили бы ее, дескать, у него с этой женщиной нет никаких интимных отношений, и не было никогда, и не предвидится, но он, как назло, об этом не говорил, а говорил совсем о другом: о том, что человеку необходимо общение, и никто не вправе его лишать возможности… В конце концов Катя рассвирепела и пустила в ход свой последний, как ей казалось, козырь:
– Если ты такой, то я вообще уйду от тебя. Ты, наверное, совсем меня не любишь, раз можешь оставить меня одну и ночь напролет просидеть с какой-то бабой и пить с ней чай. Она тебе дороже, чем я, да?
Ответ Филановского ее обескуражил:
– Зайка, каждый человек имеет право делать то, что дает ему возможность почувствовать себя счастливым. Я очень хорошо к тебе отношусь, и если ты будешь счастлива, уйдя от меня, то я за тебя от всей души порадуюсь.
Катя ушам своим не поверила.
– То есть ты будешь рад, если я уйду? – переспросила она.
– Я буду рад, если тебе будет хорошо.
– И что, даже страдать не будешь?
– Я же сказал: я буду радоваться за тебя. Ведь ты же будешь счастлива, почему я должен из-за этого страдать? Я искренне хочу, чтобы у тебя все было хорошо, и если у тебя все хорошо – я счастлив. Где здесь место для страданий? Я лично его не вижу.
Она не понимала и поэтому не верила и старалась заставить Андрея произнести какие-то другие слова, более привычные и более понятные.
– Ты не будешь по мне скучать? Тебе не будет плохо без меня? Тебе что, вообще все равно, есть я или нет?
Однако ей так и не удалось услышать в ответ то, что хотелось. Они с Андреем говорили словно бы на совершенно разных языках, и в конце этого длинного и такого странного разговора Кате стало понятно только одно: Андрей не такой, как все, и если она хочет быть рядом с ним, ей придется с этим смириться. Придется принять как данность его представление об отношениях мужчины и женщины, которое основано на том, что секс и душевная близость – суть вещи разные, и глупо страдать из-за того, что они не совпадают. Иногда они действительно совпадают, но чаще – нет, так устроен мир, и не нам его переделывать. Секс остается Кате, душевная близость и дружба – другим людям, большая часть которых почему-то является женщинами. И если Катя соберется бросить Андрея Филановского, то валяться в ногах и умолять вернуться он не станет, это было тем единственным, что она поняла точно.
Она честно пыталась встать в ряды его подруг, прослушала целиком его семинар, состоящий из пяти трехчасовых занятий, и хотя поняла все, что он говорил (Андрей умел удивительно понятно объяснять), душевного отклика его идеи в ней не нашли. Зачем все это? Глупость какая-то… Конечно, Катя ничего такого ему не сказала, напротив, заявила, что ей было страшно интересно, и даже попыталась обсудить его идеи дома, но разговор быстро увял, потому что настоящего интереса она не испытывала, и Андрей сразу это почувствовал. Он не рассердился, нет, не рассердился и не обиделся, просто сказал тогда, что у каждого человека свои эмоциональные и интеллектуальные потребности и не стоит истязать себя тем, что этим потребностям не соответствует. Если человек чего-то не понимает или ему что-то неинтересно, это не означает, что он тупой и ограниченный. Просто он – другой. Он не такой, как ты. А кто сказал, что все обязаны быть такими, как ты сам? Кто сказал, что всем должно быть интересно то, что интересно лично тебе? Кто сказал, что твои интересы – самые интересные, и твои вкусы – самые правильные, и твое мнение – самое безошибочное? Кто, в конце концов, сказал, что ты – эталон, а все, кто этому эталону не соответствует, – глупцы с неразвитым вкусом? Никто этого не говорил, это ты сам придумал, потому что слишком любишь себя и считаешь себя самым лучшим, самым умным и самым правильным, а это, между прочим, есть не что иное, как гордыня – один из смертных грехов, причем самый тяжкий.
– Никогда не притворяйся, – сказал тогда Андрей. – Если человек притворяется, он тем самым как бы заявляет, что не имеет права быть таким, какой он есть, потому что он недостаточно хорош и надо бы это скрыть под какой-нибудь личиной, чтобы понравиться другому человеку. Не делай вид, что тебе интересен мой семинар и вообще моя работа. Если ты открыто скажешь, что тебе это неинтересно, непонятно и вообще не нужно, я не стану хуже относиться к тебе, честное слово. Зато я буду знать, что ты не обманываешь меня и не притворяешься, что ты честна со мной, а это дорогого стоит. Я же люблю тебя не потому, что ты – ярая сторонница моих идей. Ты можешь быть сторонницей каких угодно идей, я все равно буду тебя любить.
– А почему? Почему ты меня любишь? – спросила тогда Катя.
– Потому что ты совершенно потрясающая, – с улыбкой ответил он, увлек девушку на постель и вполне доходчиво объяснил невербальным способом, что именно он имеет в виду.
С тех пор прошел год. Она смирилась и даже нашла в своем положении ряд позитивных моментов. Первый и главный – Андрей никогда не устраивал ей сцен ревности. Это стало весьма удобным с того момента, как Катя познакомилась с его братом Александром. Такое же тело, такие же глаза, такие же руки и губы, тот же голос, но при этом огромная, изливающаяся на всех и каждого любовь, забота, теплота, щедрость… И деньги. Много денег.
С того времени Катя стала особенно дорожить своими отношениями с Андреем Филановским, потому что, только находясь рядом с ним, она имела возможность приблизиться к Александру. Корпоративные вечеринки, частые семейные посиделки и все такое. Если порвать с Андреем, на ее месте окажется другая, и на все эти мероприятия Андрюша будет ездить с той, другой, а не с Катей. А в том, что другая появится, причем очень быстро, Катя ни минуты не сомневалась. Бабы Андрея обожают, а сам он любит красивых девушек, так что никаких проблем, выбор огромен, было бы желание.
Она давно поняла, что приходящие к Андрею «подружки» ее, Катиному, статусу не угрожают, и перестала нервничать и злиться. Пусть делает что хочет, только бы не порвал с ней, пока ей не удалось заполучить Александра Филановского. И пусть эта очередная красотуля в дурацких немодных очках сидит с Андрюшей на кухне хоть до завтра, хоть до послезавтра. Катя сейчас спокойно досмотрит свой сериал, примет душ и ляжет в постель. И даже крепко уснет.
Она смирилась. Она привыкла. И у нее появилась цель.
* * *
С приближением назначенного часа Любовь Григорьевна Филановская нервничала все сильнее. Поручение, которое она дала Нане Ким, передали для выполнения какому-то сотруднику по фамилии Тодоров, прошло уже пять дней, и вот Тодоров позвонил сегодня и попросил разрешения приехать. Поговорить. О чем тут говорить? Поручение дано – его надо выполнять, выполнил – доложи. Впрочем, похоже, поручение этот Тодоров выполнил, во всяком случае, голос у него по телефону был не смущенным и не виноватым.
Пять дней, целых пять дней… Так много. За эти пять дней Любовь Григорьевна получила еще одно послание. Такое же короткое, как первое. Даже еще короче.
«Вы подумали над моим вопросом?»
Конечно, она подумала. Все эти пять дней она только об этом и думала. Что будет, если они узнают? Саша так щедр, добр и заботлив к тетке и бабушке, Любовь Григорьевна живет, не зная никаких забот и проблем, как у Христа за пазухой, но если он узнает, при каких обстоятельствах и чьими усилиями мальчики были лишены отца, то как знать…
Что ему нужно, этому Юрцевичу? Почему он никак не оставит их семью в покое? Денег, наверное, хочет. Узнал, что Саша, его сын, – богатый человек, вот и решил поправить свое материальное положение. Подонок. И всегда был подонком. Правильно его тогда посадили, правильно не дали Наде выйти за него замуж.
Но это – тогда. А сейчас? Сейчас-то что делать?
Тодоров явился точно в назначенное время, в восемь вечера. Любовь Григорьевна окинула его оценивающим взглядом и осталась вполне довольна увиденным. Симпатичный, фигура спортивная, накачанная, хорошо вылепленное лицо, открытая улыбка. Славный, одним словом. Она вспомнила, что неоднократно видела его на мероприятиях, которые организовывало Сашино издательство, но никогда не разговаривала с ним. Гость еще не успел раздеться в прихожей, а она уже почувствовала, что стала успокаиваться. Не может такой славный человек принести ей плохие вести.
– Сюда, пожалуйста. – Любовь Григорьевна провела Тодорова в свой кабинет, усадила в кресло, сама устроилась за рабочим столом, будто собиралась принимать экзамен на дому.
– Как ваше имя? – спросила она.
– Антон.
– Антон, хотите чаю? Или кофе? Я велю принести.
Ей показалось, что в его глазах мелькнула усмешка. Или почудилось? Что она такого особенного сказала?
– Благодарю вас, нет. Если не возражаете, я бы перешел к делу.
– Да-да, Антон, я вас внимательно слушаю. Вы его нашли?
– И да, и нет.
– Это как же, позвольте узнать? – нахмурилась Любовь Григорьевна.
– Сергей Дмитриевич Юрцевич, 1934 года рождения, скончался в 2000 году. Похоронен в Подмосковье, довольно далеко, на границе со Смоленской областью, поскольку в последние годы там жил.
– Как умер?! – ахнула она.
– Очень просто. Как все умирают. Ему было шестьдесят шесть лет. Что вас так удивило, Любовь Григорьевна?
– Но…
Она запнулась и замолчала. Кто же тогда шлет ей эти записки? Она ведь была уверена, что это делает Юрцевич. А он, оказывается, уже пять лет как скончался. Кто же тогда? У него был ребенок, сын… Может, он?
Тодоров смотрел на нее спокойно и с каким-то доброжелательным любопытством.
– Любовь Григорьевна, Нана Константиновна сказала мне, что речь идет об отце ваших племянников. Это так?
– Да, так, – машинально кивнула она.
– Вас шокировала новость о смерти господина Юрцевича. Я могу узнать, почему? Вы почему-то были уверены, что он жив?
– У него, кажется, был ребенок, – ответила Филановская явно невпопад, но Тодорова это, похоже, не удивило. – Не знаю, сын или дочь…
– Да, у него был сын, – подтвердил он. – На кладбище, где похоронен Юрцевич, мне сказали, что за его могилой ухаживает именно сын.
– А где он теперь? Что с ним?
– Я не знаю, – пожал плечами Антон. – Мое задание касалось только Сергея Дмитриевича Юрцевича, искать его наследников мне не поручалось. Вы хотите, чтобы я его нашел?
– Да, – вырвалось у нее прежде, чем она успела осознать, что говорит. – Найдите его и узнайте все, что сможете. Я оплачу вашу работу.
– Любовь Григорьевна, – мягко произнес Тодоров, – я с глубоким уважением отношусь к вам и к вашей матушке, но я с не меньшим уважением отношусь и к своей работе, и к себе самому. Я никогда и ничего не делаю втемную, не понимая, что я делаю и зачем. Обещаю вам, я сделаю все, что в моих силах, чтобы разрешить вашу проблему, но для этого я как минимум должен понимать, в чем она состоит. Согласитесь, ваше желание найти отца своих племянников не может не вызывать вопросов. И тем более вызывает массу вопросов ваше стремление найти их единокровного брата. Если это вопросы наследования, то я буду действовать одним способом, если это какие-то другие вопросы – то и методы моей работы будут совершенно другими. И в конце концов, мне необходимо понимать, что делать, когда я найду сына господина Юрцевича.
Филановская долго молчала, глядя в сторону. Потом взглянула прямо в глаза Тодорову, взглянула пытливо, пристально, словно пытаясь понять, может ли доверять ему семейную историю, и наткнулась на ответный взгляд, серьезный и совершенно спокойный. Так, во всяком случае, ей показалось. Не говоря ни слова, она вытащила из ящика стола два конверта с записками и подала Антону:
– Прочтите.
– Что это?
– Это я нашла в почтовом ящике. Одно – неделю назад, второе – вчера. До сегодняшнего дня я была уверена, что это прислал Юрцевич. Теперь я думаю, что это писал его сын. Он пытается меня шантажировать. Наверняка он такой же никчемный неудачник, как его папаша, вот и решил поправить свое материальное положение за наш счет. Папаше в свое время это не удалось, он попытался втереться в нашу семью и получить все блага и удобства, но у него ничего не вышло, теперь сыночек предпринимает новую попытку.
Тодоров быстро пробежал глазами коротенькие записки.
– Но здесь не выдвинуто никаких требований, – заметил он, возвращая конверты Филановской. – Я не вижу ни слова о деньгах или о каких-то других условиях.
– Подождите, все еще впереди, – усмехнулась Любовь Григорьевна. – Будут и требования денег, и условия. Пока что он просто хочет меня запугать. Найдите его и сделайте так, чтобы он больше никогда не приближался к нашей семье.
– Я понял, – кивнул Антон. – И все равно ничего не понял. Ваши племянники носят отчество «Владимирович», а вовсе не «Сергеевич», а вы уверяете меня, что Сергей Дмитриевич Юрцевич является их отцом. Более того, вы настаиваете на том, чтобы мой шеф и его брат ничего не знали о ваших поисках. Складывается впечатление, что они вообще не в курсе, кто является их отцом. Так что же произошло? Как так получилось? Любовь Григорьевна, если вы хотите, чтобы я сделал свое дело, выполнил ваше поручение, и выполнил его хорошо, я должен понимать, что происходит. Повторяю, я не работаю втемную, я считаю это унизительным. Если вы по каким-то причинам не хотите мне ничего рассказывать, вам имеет смысл обратиться в частное детективное агентство и поискать кого-нибудь менее щепетильного.
В детективное агентство! Да он что, с ума сошел? Какое еще агентство, когда у Саши в подчинении целая служба безопасности и руководит этой службой Нана, которую Любовь Григорьевна знала, когда та была еще маленькой девочкой и занималась фигурным катанием в одной группе с мальчиками. Любовь Григорьевна Филановская, почти пятьдесят лет прожившая при советской власти, лицо которой определялось такими понятиями, как дефицит и блат, доверяла только тем услугам, которые оказывались ей по знакомству. Если по знакомству, если «только для своих», то, стало быть, это самое лучшее. А уж в последние годы, когда Саша возглавил собственное издательство и разбогател, Любовь Григорьевну в любых ситуациях окружали только «свои»: свои врачи, которых присылал Саша, свои водители, которых он нанимал, свои портные, которые приезжали на дом и работу которых он оплачивал, свои туроператоры, наилучшим образом устраивающие ее зарубежные поездки и получающие для нее визы, и многие другие, но обязательно свои. Она, если бы даже очень захотела, не смогла бы припомнить ни одной проблемы, кроме чисто профессиональных, которую за последние восемь-десять лет решала сама. Все проблемы решал племянник Саша при помощи своих денег и своих связей. Разве может идти речь о каком-то частном детективном агентстве, куда ей придется идти самой, что-то объяснять, где ее никто не знает и где к ней не будут относиться внимательно и уважительно? Просто смешно.
А этот Антон Тодоров… Такой славный, спокойный. Работает у Наны и, в конечном итоге, у Саши. Он – свой. И ему можно доверять, иначе Нана не поручила бы ему это задание.
– Хорошо, – со вздохом произнесла она, – я вам расскажу. Только будьте готовы к тому, что это длинная история.
Москва, 1969–1975 годы
– Надо мяса достать для кулебяки… В магазине одна курятина…
Тамара Леонидовна произнесла это, наверное, уже в сотый раз одним и тем же ровным голосом, в котором не осталось ничего, ни страдания, ни печали, ни ужаса. Знаменитая актриса сидела на диване, в черном платье, с черным платком на голове, раскачивалась из стороны в сторону и монотонно повторяла одни и те же слова про мясо, которое непременно нужно достать, чтобы испечь кулебяку к поминальному столу. И каждый раз, услышав страшный своей пустотой голос матери, Люба чувствовала, как внутри сжимается все туже и туже холодная пружина, готовая распрямиться и выстрелить жутким криком, не криком даже – воем, безумным и диким, отчаянным и безнадежным. Надя умерла.
И вместо нее остались два мальчика, которым еще даже не дали имен. У Надюши были низкие показатели уровня тромбоцитов, и при рождении близнецов, сопровождавшемся разрывом матки, она скончалась от обильного кровотечения. Похороны завтра, а сегодня впавшая в прострацию Тамара Леонидовна безуспешно пыталась как-то собрать себя, сосредоточить на насущных заботах: кладбище, могила, венки, поминки. Отец, Григорий Васильевич, слег с сердечным приступом, и Люба оказалась единственной, кто более или менее ориентировался в окружающей действительности. С утра она съездила в морг, отвезла одежду, в которой Надюшу положат в гроб, со всеми договорилась, рассовала мятые рубли санитарам, которые будут «готовить» тело, и – заранее – грузчикам, выносящим гроб и устанавливающим его в машину, чтобы завтра уже этим не заниматься и об этом не думать. Господи, ну почему, зачем мама затеяла всю эту возню с Юрцевичем, с тем чтобы его посадить, не дать ему жениться на Наде! Пусть бы женился, черт с ним, и сейчас в семье был бы мужчина, который занимался бы всем тем, чем вынуждена заниматься Люба. А может быть, и не пришлось бы ему этим заниматься, может быть, все сложилось бы иначе и Надя была бы сейчас жива.
Дом полон людей, пришли мамины и Надины подруги, все хотят помочь, поддержать, утешить, но отчего-то всем кажется, что в поддержке и утешении нуждаются только отец и мама, а на Любу внимания не обращают. К слову сказать, нет здесь ни одного человека, который пришел бы сюда ради нее, Любы, чтобы побыть в тяжелую минуту рядом с ней. Нет у нее близких подруг, так только, приятельницы и коллеги по работе в школе. Когда она пришла к директору написать заявление об отпуске по семейным обстоятельствам на три дня, пришлось, конечно, объяснить, что это за обстоятельства, а то подумают еще бог знает что… На три дня в отпуск просятся, когда аборты делают и не хотят светить больничными листами. Очень ей нужно, чтобы про нее подумали, будто она… Ну вот, сказала про Надю, ей, конечно, посочувствовали, даже материальную помощь предложили выписать – целых десять рублей, но от помощи Люба отказалась, семья состоятельная, не бедствуют. Информация разлетелась по школе со скоростью ветра, Люба от кабинета директора до выхода дойти не успела, а уже человек пять как минимум при встрече с ней горестно кивали головами и выражали соболезнование. Но домой к ней никто не пришел.
А может, оно и к лучшему. Никто не мешает, ни с кем разговаривать не надо, можно спокойно заняться своими делами. Проверить черный костюм отца, почистить, отгладить, приготовить темную сорочку и подходящий галстук. Подобрать черную одежду для себя, тоже отгладить. Найти черный платок или шарф, где-то был, кажется. Пойти на кухню, разобраться с посудой, посчитать количество тарелок, вилок, ножей, рюмок и прочих емкостей, приготовить скатерти. Вся семья завтра с утра поедет на похороны, дома останутся мамины подруги, будут готовить поминальный стол, и надо оставить им хозяйство в полном порядке, чтобы все было и всего хватило.
Из комнаты донеслись рыдания матери и голоса хлопочущих вокруг нее женщин, и Люба вдруг почувствовала себя страшно одинокой. Схватив легкий плащик и кошелек с деньгами, она сунула в карман сетку-авоську и выскочила из дома. Надо и вправду мяса поискать, раз мама так хочет. Наверное, так полагается, чтобы были кулебяки с мясом, она сама точно не знает.
В магазинах было пусто, только-только миновали праздники, сначала 1 Мая, через неделю – День Победы, и с прилавков смели все продукты, какие имелись. Залитые солнцем улицы были сладостно-прохладны и свежи от едва уловимого запаха первых, клейких еще светло-зеленых листочков. В такую погоду надо с любимым человеком гулять, наслаждаясь счастьем, беззаботностью и свободой, а не бегать в поисках продуктов для поминок по младшей сестре.
О мальчиках, которых родила Надя, Люба совсем не думала. Ну что о них думать? Кому они нужны, эти близнецы? Отца у них нет, матери тоже нет, совершенно очевидно, что их надо отдавать в Дом малютки, именно для этого такие Дома и существуют, чтобы в них попадали те детки, у которых нет родителей. И имена им там пусть сами придумают.
В тот момент, в день накануне похорон сестры, Любовь Филановская думала именно так. И ей даже в голову не приходило, что может быть как-то иначе.
* * *
Однако она ошибалась. Через два дня после похорон Нади Тамара Леонидовна заявила:
– Завтра мы забираем мальчиков из роддома.
– Куда забираем? – не поняла Люба.
– Как это куда? Сюда. Домой. А куда, по-твоему, их еще можно забрать?
– Но я думала, мы их оставляем… – растерялась Люба.
– Ты с ума сошла! Это же твои племянники, это наши с папой внуки! Да как у тебя язык повернулся такое сказать? Оставляем!
Люба набрала в грудь побольше воздуха, медленно выдохнула, обняла мать, усадила ее на стул.
– Мам, давай поговорим серьезно и спокойно. Насколько я знаю, ты никогда не рвалась стать бабушкой. Тебе эти дети не нужны. Ну что ты будешь с ними делать? У тебя постоянные съемки, бесконечные спектакли, экспедиции, гастроли, ты же не сможешь их растить. Правда?
– Их будешь растить ты, – твердо произнесла Тамара Леонидовна, глядя прямо в глаза старшей дочери.
– Но, мама… грех так говорить, но мне они тоже не нужны. Как я смогу их растить и воспитывать? Декретный отпуск мне не положен, я им не мать. И потом, я работаю, я взрослая женщина, у меня своя жизнь, а ты хочешь эту жизнь разрушить и привязать меня к двоим малышам?
– Ты их усыновишь, и тебе официально дадут отпуск до того времени, пока мы не отдадим мальчиков в ясли. Я уже все продумала. Вот смотри…
– Мама! – взорвалась Люба. – Ты за меня уже все решила, да? Ты хочешь повесить на меня двоих чужих детей и вырастить их моими руками? А что будет с моей жизнью, ты подумала? Я не хочу этих мальчиков, я не собираюсь их усыновлять, это не мои дети! Усыновляй их сама, если хочешь, и сиди с ними дома, пожертвуй своей артистической карьерой, откажись от съемок и спектаклей и расти себе собственных внуков. А меня уволь.
– Люба! – Тамара Леонидовна тоже повысила голос, но внезапно сменила тон и заговорила мягко и негромко: – Любочка, девочка моя, ты должна правильно понимать, что происходит. Все вокруг знали, что Наденька беременна. И всем известно, что ее больше нет. Возникает вопрос: а что с детьми? Где они? Как они? И что я должна отвечать? Тебе в твоей школе этот вопрос никто не задаст, там никто никогда не видел Надю и не знал ее, но у меня-то в театре ее все знают, и в последнее время она часто приходила ко мне, все видели, что она ждет ребенка. И мне эти вопросы обязательно зададут. Как ты думаешь, я могу, я имею право сказать, что мы отдали детей в приют? Я, народная артистка СССР, лауреат Государственной премии, член партии с 1942 года, член парткома театра, член бюро райкома партии, – и отказалась от родных внуков. А твой отец, если ты не забыла, – член бюро горкома. Ты хоть понимаешь, как это скажется на папиной карьере? А на моей? Я уже объясняла тебе все это, когда рассказывала о Юрцевиче, не будь он к ночи помянут, и мне казалось, что ты меня отлично поняла. Ты не меньше меня заинтересована в том, чтобы наша с папой карьера не пострадала, потому что все это, – она обвела широким жестом дорого и со вкусом обставленную комнату, которая должна была в данном случае олицетворять как достаток, так и возможности, ценившиеся в те времена даже несколько выше достатка, – все это прилагается к нашему с папой положению и к нашим заслугам. И мы не имеем права этим рисковать. Я уж не говорю о том, что как творческие люди мы просто умрем, потому что папе не дадут руководить театром и вообще не позволят работать в Москве, а меня перестанут снимать и ставить на главные роли. Ты хочешь, чтобы наша карьера так бесславно закончилась?
– Ты все время говоришь о себе и папе, – с раздражением ответила Люба. – Ваша жизнь, ваша карьера, ваше положение! Все ваше. А обо мне кто-нибудь из вас подумал? Что будет с моей жизнью, если я буду тащить на себе двух чужих детей? Кому я буду нужна с таким приданым? Я же замуж никогда не выйду, хоть это-то ты понимаешь? У меня даже не будет времени ходить на свидания! Я в театр не смогу сходить! Я собираюсь в этом году поступать в аспирантуру, я собираюсь писать диссертацию, защищаться, потому что не намерена весь век куковать в средней школе. И как я буду работать над диссертацией, имея на руках двоих грудных детей? У меня ни до одной книги руки не дойдут! У меня мозги атрофируются! Во что я превращусь?
– Да как ты можешь называть мальчиков чужими? – возмутилась мать. – Это же твои родные племянники!
– И твои родные внуки! Вот сама ими и занимайся.
– Любочка, деточка, – голос матери снова стал мягким и обволакивающим, – я все понимаю, родная моя. Но у нас нет другого выхода. В конце концов, если ты хочешь понравиться достойному мужчине, ты должна быть хорошо одета и иметь квартирные перспективы. Пока папа в бюро горкома, он всегда сможет при первой же необходимости выбить тебе отдельную квартирку, чтобы у тебя с мужем не было жилищных проблем. Сейчас у нас много возможностей, и мы должны всей семьей, все вместе постараться это сохранить. Поэтому мы не можем отдавать детей в приют. Тебе придется взять их на себя.
Люба всегда была послушной дочерью, и если сегодня попыталась оказать сопротивление, то только потому, что была выбита из колеи внезапной смертью сестры и плохо владела собой. В любое другое время она покорно и с первого же слова приняла бы решение родителей. Однако ресурс сопротивляемости оказался небольшим, и она очень быстро сдалась. Нет, она не признала правоту матери, не согласилась с ее доводами, просто она не посмела ослушаться и настоять на своем. Но одно условие все-таки выдвинула:
– Я не буду их усыновлять. Я оформлю опекунство.
– Но почему? – не поняла Тамара Леонидовна.
– Потому что я не собираюсь становиться матерью-одиночкой с двумя детьми. Мне замуж надо выходить. Ты же не хочешь, чтобы я положила собственную жизнь на алтарь Надиных детей? Мальчики останутся моими племянниками. Пусть и они сами, и все знают, что их мать умерла и что рожала их не я. Что касается их отца, то это был любовник Нади, а не мой, и мне не придется отвечать на миллион дурацких вопросов. Я не несу ответственности за то, что моя сестра была неразборчива и неосмотрительна в своей личной жизни.
– Хорошо, – кивнула мать. – Если ты настаиваешь, пусть будет опекунство. Ты пойдешь в ЗАГС регистрировать детей и дашь им другое отчество.
– Какое – другое?
– Да какое угодно, только не по настоящему отцу. Они не будут Сергеевичами. Нам все равно нужна какая-то легенда о том, от кого Наденька родила и почему он на ней не женился. То есть не успел жениться. Придумаем несчастный случай, ничего героического, чтобы не привлекать излишнего внимания. Хорошо, что Надюша в последнее время часто бывала у нас в театре, все видели, что она плохо выглядит, все время плачет, переживает. Вот и скажем, что отец мальчиков погиб. В общем, Любаша, ты все поняла. Будь умничкой и сделай все, как надо. Надюшу не вернуть, а нам надо жить дальше. Договорились?
«Нет!!! – захотелось крикнуть Любе. – Не договорились! Я так не хочу! Я не хочу растить чужих детей. Я не хочу жертвовать ради них своей жизнью! Они мне не нужны. Я знаю, они и тебе не нужны, и папе, которому вообще ничего не нужно, кроме театра и тебя. Они никому не нужны! Почему я должна тащить этот воз? Почему я?»
Но произнести это вслух она, разумеется, не осмелилась.
* * *
Тамара Леонидовна выписала из провинции дальнюю родственницу-пенсионерку, чтобы помогала ухаживать за детьми до достижения ими того возраста, когда можно будет отдавать мальчиков в ясли. Жизнь в столице пожилой даме не понравилась – слишком много людей, слишком много машин, слишком большие расстояния, никто друг друга не знает, совершенно не с кем поговорить… А дома ее ждали свои дети и подросшие внуки, и хотя Тамара Леонидовна постоянно делала родственнице дорогие подарки и периодически совала конверт с деньгами, та все-таки уехала, как только Сашу и Андрюшу отдали в ясли.
О том, каким способом семья Филановских оградила себя от подозрений в сочувствии инакомыслию, старались не вспоминать. Сергей Юрцевич оказался в колонии по общеуголовной статье, срок ему дали не очень большой, всего четыре года, но это казалось достаточным, чтобы оградить семью и сейчас, и на будущее. Тамара Леонидовна и ее супруг Григорий Васильевич сделали все, чтобы вызвать у беременной дочери глубокое отвращение и к «тупоголовому уголовнику», и к той безумной любви, которую девушка имела глупость и неосторожность к нему испытывать. На суд ее, разумеется, не пустили, а уж Иван Анатольевич Круглов расстарался, чтобы подругу подследственного не только ни разу не вызвали к следователю, но даже имя ее ни в каких официальных бумагах не мелькало. Надя и не узнала точно, за что именно был осужден Юрцевич, впрочем, ее родители и сестра тоже этого не знали и узнать не стремились. Его посадят, изолируют от Нади и от семьи в целом – и довольно. Многия знания, как известно… одним словом, душевному покою не способствуют.
Наденька рыдала, впадала в отчаяние, вся семья дружно ее утешала и «подставляла плечо», особо упирая на то, что волнения и переживания вредны для будущего ребеночка, и обещая, что малыша они прекрасно вырастят и без отца, тем более «такого». Постепенно Надюша успокоилась и полностью отдалась блаженному и благословенному предвкушению материнства в окружении любящей и заботливой семьи. Казалось, все наладилось, опасность миновала…
Когда Наденька умерла, горе переживали по-разному. Григорий Васильевич стал чаще хвататься за сердечные лекарства, Тамара Леонидовна резко постарела и выглядела уже не на пятнадцать лет моложе, а ровно на все имеющиеся годы, а Люба, как и положено, работала, занималась близнецами, и на переживания утраты у нее просто не оставалось ни сил, ни времени. Да и сама утрата ее скорее злила, чем печалила.
Однако Филановские напрасно полагали, что избавились от ненавистного Юрцевича раз и навсегда.
Прошел год, самый горький после потери близкого человека и самый трудный после рождения детей. Труппа театра разъехалась в отпуска, Григорий Васильевич отбыл в кардиологический санаторий, а Тамара Леонидовна легла в клинику, чтобы привести в порядок лицо. Люба осталась с детьми одна. Однажды на улице, где она сидела на скамеечке, покачивая широкую «двойную» коляску с мальчиками и читая книгу, к ней подошла незнакомая женщина и робко спросила:
– Извините, вы – Люба?
– Любовь Григорьевна, – сухо бросила в ответ та, полагая, что перед ней мать кого-то из ее младшеклассников. Голову от книги она, по обыкновению, не подняла.
– Извините, – покорно повторила женщина. – Можно с вами поговорить?
– О чем?
– О детях. О ваших мальчиках.
– Да-да, – рассеянно ответила Люба, по-прежнему не отрываясь от тома Экзюпери, которым в тот год зачитывалась вся страна. – Что вы хотели спросить?
Женщина немного помолчала, потом выпалила:
– Моя фамилия Юрцевич. Наталья Юрцевич. Я жена Сергея.
Люба вздрогнула, закрыла наконец книгу и посмотрела на незнакомку. Самая обыкновенная, не уродина и не красавица, одета так себе, особенно по сравнению с Любой, и прическа какая-то дурацкая. Вот только глаза… Страдающие и одновременно безумные, как у человека, решившегося на последний шаг, такой страшный, нежеланный, но единственно спасительный.
– Ну, я вас слушаю, – высокомерно произнесла она.
– Понимаете… Мне трудно говорить об этом… То, что я скажу, может показаться вам чудовищным… Простите меня…
Люба немного смягчилась.
– Да вы присядьте, – предложила она и подвинулась.
Наталья села и снова замолчала, поставив на колени клеенчатую кошелку, потертую на швах. Люба терпеливо ждала.
– Красивые мальчики, – наконец выдавила Наталья.
Люба ничего не ответила, даже не кивнула. Она пыталась понять, как правильно себя вести, и мысленно порадовалась, что никак не отреагировала на имя Сергея Юрцевича. А как реагировать-то? Дать понять, что знаешь, от кого Надя родила детей? Или делать вид, что вообще не понимаешь, кто эта женщина и что ей может быть нужно? И упорно стоять на том, что отец мальчиков – совсем другой человек?
– Сережа знает про них.
Этого еще не хватало! Ну знает. И дальше что?
– Я понимаю, что глупо… Ваша сестра… Примите мои соболезнования, Любовь Григорьевна.
– Вот что мне меньше всего нужно в этой жизни, так это ваши соболезнования, – резко ответила Люба. – Это все, что вы хотели сказать?
Наталья испуганно взглянула на нее и заговорила торопливо, словно сказанное Любой подстегнуло ее и вывело из растерянности и смущения:
– Сережа очень любил вашу сестру. Я знаю. Он этого не скрывал. Он всегда был честным со мной, он просил развода, и я обещала развестись с ним, как только пройдет самое трудное время… Вы, может быть, не знаете, но у меня тоже ребенок, всего на три месяца старше ваших мальчиков. Мы договорились, что он поможет мне в первое время, а потом я его отпущу, чтобы он мог жениться на вашей сестре. Когда он узнал, что Надя умерла, он чуть с ума не сошел от горя.
– Откуда он узнал?
– От меня. Я же пишу ему письма и на свидания езжу.
– А вы откуда узнали?
– У Сережи много друзей, и все они меня знают. И вашу сестру они тоже знали, Сережа их знакомил с ней. Они мне сказали. Я обо всем ему написала: и о смерти Нади, и о близнецах. Любовь Григорьевна, отдайте мне детей.
– Что?!
Люба развернулась на скамейке и уставилась собеседнице прямо в лицо.
– Как это – отдать вам детей? Зачем? С какой стати?
– Это Сережины дети.
– Ну и что? Это дети моей сестры, мои родные племянники.
– Любовь Григорьевна, постарайтесь меня понять, я вас умоляю! – На глазах Натальи показались слезы. – Я очень люблю Сережу. А он любил вашу сестру и теперь любит своих сыновей, которых она родила. Он думает только о них, все его письма – о них, и когда я приезжаю на свидания в колонию, все разговоры тоже только о мальчиках. Это единственное, что поддерживает его интерес к жизни. Если дети будут расти рядом с ним, он будет счастлив, а я так хочу, чтобы он был счастлив… Так хочу, – пробормотала она и расплакалась.
Люба судорожно обдумывала услышанное. Конечно, это чудовищно – отдать детей. Но зато какое облегчение! Разом решить все проблемы, избавиться от мальчишек и снова заняться только собой, своей работой, поступить в аспирантуру, защитить диссертацию и строить карьеру… Как соблазнительно! Но нет, нельзя. Нельзя связывать имя Филановских с именем Юрцевича, хотя если оформить усыновление, то будет предполагаться, что те, кто от детей отказался, не будут знать имени усыновителя. Отказаться от детей… Нет, не выход. Родители не согласятся ни за что, ведь все вокруг знают, что в семье Филановских растут два мальчика, и куда они делись? Их отдали на усыновление? Этот вариант уже рассматривался и был отвергнут еще тогда, когда они только родились. Мама и отец на это пойти не могут. А как хотелось бы их отдать!
– Не надо плакать, – холодно сказала она. – Вы и сами понимаете, какую чушь несете. Наша семья никогда и никому мальчиков не отдаст. И ваш муж не имеет к ним никакого отношения, так ему и передайте. Пусть забудет об их существовании. И не смейте больше приходить с этими глупостями.
Наталья пыталась настаивать, плакала, умоляла, хватала Любу за рукав легкого плащика, но Люба твердо стояла на своем. В конце концов, когда ей показалось, что проходящие мимо соседки кидают на них слишком пристальные любопытствующие взгляды, она поднялась и покатила коляску к подъезду, даже не попрощавшись с женой Юрцевича.
Весь остаток дня Любу одолевала досада. Стоило ей бросить взгляд на две детские кроватки, стоящие в ее комнате, она машинально представляла себе, что, если бы их здесь не было, можно было бы поставить вместительный стеллаж для книг и папок; включив телевизор, она начинала мечтать о том, что можно смотреть фильм, не отвлекаясь на плачущих описавшихся мальчишек; планируя дела на завтрашний день, она думала, сколько всего приятного, интересного и полезного можно было бы сделать, если бы не племянники. Ах, как было бы здорово!
На следующий день Люба после работы помчалась в клинику, где Тамара Леонидовна пыталась вернуть своей внешности прежнюю моложавость. Нужно было успеть вовремя забрать Сашу и Андрюшу из яслей, поэтому она, войдя в палату, не стала тратить время на пустяки и сразу приступила к главному, рассказав матери о вчерашнем разговоре с Натальей Юрцевич. Реакция Тамары Леонидовны оказалась такой, как Люба и ожидала: даже разговора быть не может, а если эта нахалка еще раз посмеет выступить с чем-то подобным, проявить жесткость и отвадить ее от семьи Филановских раз и навсегда.
Примерно через месяц Наталья появилась снова. На этот раз она позвонила в дверь, и как только Люба увидела ее на пороге, дверь была немедленно захлопнута без всяких объяснений.
Больше она не приходила, но Люба часто вспоминала ее и каждый раз злилась на родителей: ну что они так зациклились на своей карьере? Отдали бы детей – и дело с концом. Развязали бы Любе руки. Ведь какой хороший вариант!
* * *
Поступление в аспирантуру пришлось отложить. Люба разрывалась между работой и детьми, ежедневно, ежечасно чувствуя, как растет, накапливается и расцветает ее ненависть ко всему миру, и в первую очередь – к матери, к племянникам и к покойной сестре. Особенно к сестре. Ей досталось в этой жизни все: красота, талант, безумная любовь, свидания и прочие радости, и всем этим она успела попользоваться, и все это она забрала с собой, оставив Любе орущих капризных малышей, описанные пеленки, детские болезни, бессонные ночи и ни минуты свободного времени. Надя схватила все самое лучшее, самое радостное, а на долю ее старшей сестры выпала почетная доля разгребать последствия. Надя просто отняла у нее жизнь! Так, во всяком случае, чувствовала Люба Филановская. Дети раздражали и тяготили ее, однако, будучи от природы человеком ответственным и добросовестным, она делала все для того, чтобы вырастить их и воспитать.
Особенно воспитать. Ибо, кроме ответственности и добросовестности, Люба обладала еще и необыкновенной целеустремленностью. Ей пришло в голову, что чем раньше мальчики станут самостоятельными и разумными, тем скорее она освободится от ненужной обузы. Надо сделать так, чтобы дети как можно скорее научились не требовать ее внимания и постоянной опеки, чтобы могли быть предоставлены самим себе и не беспокоить тетку, которая получила бы наконец возможность заняться своими делами.
Профессиональный педагог, Любовь Григорьевна Филановская взялась за дело. Каждая минута, потраченная сегодня на занятия с мальчиками, окупится сторицей и в ближайшем будущем освободит ей целые часы, а то и дни. Она перелопатила горы литературы, освежая полученные в педагогическом институте знания и набираясь новых, выискивала оригинальные методики, попеременно опробуя их на племянниках, и с удивлением вдруг поняла, что ее мозг радостно и с удовольствием работает именно в этом направлении: дидактические приемы раннего развития детей дошкольного возраста. Ей это интересно, и, потратив полгода на освоение научной и методической литературы, Люба начала что-то придумывать и изобретать сама. Успехи окрыляли!
Когда Саша и Андрюша пошли в детский садик, они уже умели читать, знали довольно много слов по-английски, а речь их была чистой и правильной, без малейшей картавости. Они самостоятельно одевались, завязывали шнурки и застегивали пуговицы, не теряли вещей и не разбрасывали их, ели аккуратно, не пачкая одежду и стол вокруг тарелки. Воспитатели не могли нарадоваться на мальчиков и постоянно ставили их в пример всем малышам в группе.
В пять лет к ним по настоянию Тамары Леонидовны пригласили учительницу музыки, а Люба, используя собственные методы, приступила к интенсивному обучению мальчиков английскому языку. Она всегда умела понятно объяснять и преподносить новые знания так, что они намертво закреплялись в памяти, но тут нашел себе применение и еще один педагогический талант Любови Филановской: она могла заинтересовать учеников настолько, что они с энтузиазмом кидались осваивать новые знания и навыки. Что, собственно, и требовалось Любе. Она тратила час на то, чтобы чему-то научить, и потом как минимум три часа спокойно занималась своими делами, потому что племянники, пыхтя и высовывая от усердия языки, погружались в выполнение «домашнего задания». Люба и сама не заметила, как у нее набралось достаточно эмпирического материала для диссертации. Все новое, что придумывалось для воспитания Саши и Андрюши, она применяла и в школе с младшеклассниками, но особой изюминкой ее материалов были именно близнецы. В какой-то счастливый момент ей пришло в голову попытаться обучать мальчиков по-разному, применяя к Саше одни методы, а к Андрюше – другие, и сравнивать результаты, которые оказались даже интереснее, чем она предполагала вначале. Сама идея родилась по соображениям не научным, а сугубо практическим: пробуя одновременно два разных метода, можно одновременно, а не последовательно, оценить эффективность обоих и таким образом сэкономить время. Люба торопилась, ведь ей уже за тридцать, пора и о себе подумать, и надо как можно быстрее освобождаться от обузы. И только потом она сообразила, насколько любопытны результаты ее экспериментов, ведь они проводились на родных братьях, близнецах, растущих вместе, в одинаковых социальных и материальных условиях и имеющих одинаковые физиологические особенности.
Очень скоро она заметила, что мальчики, при всей своей одинаковости, имеют заметные отличия в образе мышления. Если для Саши основным вопросом было «как?», то для Андрюши первостепенное значение имел вопрос «зачем?». Активный, энергичный и веселый лидер Сашенька всегда хотел знать, как сделать так, чтобы получилось то, что он хочет. Более спокойный и задумчивый Андрюшка пытался понять, а зачем вообще это делать. При этом цепочка «зачем?» получалась у него такой длинной, что частенько ставила взрослых в тупик. Например, зачем нужно обязательно есть суп, если не хочется? Чтобы не болел животик. А зачем нужно, чтобы не болел животик? Чтобы не мучиться, потому что, когда болит живот, это неприятно. А зачем нужно, чтобы не мучиться? Зачем нужно, чтобы обязательно было приятно? Чтобы радоваться. А зачем нужно радоваться? Это уже было из области психологии, психиатрии и философии. Взрослые, конечно, знали ответ или думали, что знают, но совершенно не представляли, как в доступной форме донести его до четырехлетнего ребенка.
Да и к окружающим людям близнецы относились по-разному. Саша, к примеру, услышав, что в клубнике много витаминов и она очень полезна, тут же начинал совать ягодки в рот бабушке, дедушке и Любе, приговаривая: там витамины, они полезные, кушайте. Если взрослые отказывались, он проявлял потрясающую настойчивость и страшно расстраивался, когда ему не удавалось полностью осуществить задуманное. Потом брал несколько ягод себе и пододвигал тарелку с клубникой брату со словами:
– Ты слышал, что тебе сказали? Ешь, там витамины, они полезные. Ну ешь же! Чего ты сидишь?
Андрюша мог при этом молча съесть все остальное, сосредоточенно что-то обдумывая, а потом выступить с очередной исследовательской инициативой:
– Что такое витамины?
Надо заметить, что Саше и в голову не пришло этим поинтересоваться. Получив ответ, Андрюша продолжал допрос:
– Зачем они нужны?
– Чтобы быть здоровым и сильным, – отвечали ему.
– Зачем быть здоровым и сильным?
– Чтобы хорошо себя чувствовать, быстро бегать, не уставать.
– Зачем нужно быстро бегать? Зачем нужно не уставать?
Когда цепочка бесконечных вопросов и ответов, перевалив за грань объяснений насчет учебы, работы и всяческих успехов в трудовой деятельности (на доступном уровне, конечно), упиралась в непреодолимый хребет рассуждений о долгой и счастливой старости и взрослые расслаблялись, полагая, что на этом пытка закончилась, ибо о чем же еще можно говорить, когда «жизнь прожита», следовал очередной выпад:
– А зачем нужна долгая и счастливая старость?
Ответ был примитивен и от этого страшен: чтобы в конце концов умереть. Но умереть можно и без долголетия, и без счастья в старости, и вообще без старости. Собеседник мальчика внезапно это понимал, у него возникало непонятно откуда взявшееся ощущение бессмысленности всего происходящего, портилось настроение, он умолкал и уходил или переводил разговор на другую тему. Вопрос оставался без ответа. С детьми нельзя говорить о смерти, это все понимали.
Мальчики, рано научившиеся читать, думать и рассуждать, заметно выделялись из общей массы детей своего возраста и вызывали восхищение не только у воспитателей, но и у всех друзей и знакомых семьи. Они обладали прекрасной и упорно тренируемой Любой памятью и были настолько смышлеными и самостоятельными, что Григорий Васильевич не удержался от соблазна вывести внуков на сцену. Как раз в это время в театре готовилась к постановке пьеса одного современного драматурга на семейную тему, и главрежу не стоило никакого труда уговорить автора дописать пару эпизодов с участием пятилетних близнецов. Саша и Андрюша не подкачали, и спектакль имел оглушительный успех, особенно много аплодисментов выпало на долю маленьких артистов, ведь общеизвестно, что дети, равно как и животные, на сцене и на экране буквально завораживают зрителей. Пьеса продержалась целый сезон, а потом ее сняли с репертуара, поскольку автор ухитрился выступить на съезде Союза писателей как-то не так и впал в немилость.