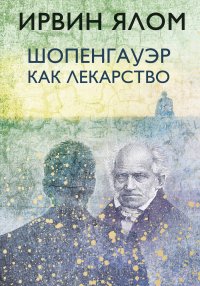Читать онлайн Все мы творения на день бесплатно
- Все книги автора: Ирвин Дэвид Ялом
Irvin D. Yalom
CREATURES OF A DAY and Other Tales
Copyright © Irvin D. Yalom, Dr, 2015. First published by Basic Books, A Member of the Perseus Books Group.
Translation rights arranged by Sandra Dijkstra Agency
© Перова Е., перевод на русский язык, 2019
© ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Глава 1
Терапевтический зигзаг
Доктор Ялом, я бы хотел прийти к вам на консультацию. Я прочитал ваш роман «Когда Ницше плакал» и подумал, вдруг вы не откажетесь встретиться с коллегой-писателем, переживающим творческий ступор.
Пол Эндрюс
Этим письмом, пришедшим на электронную почту, Пол Эндрюс явно стремился разбудить мое любопытство. Надо признать, это ему удалось: я бы никогда не отказал коллеге-писателю. Что касается творческого ступора, мне посчастливилось никогда не встречаться с этим явлением, и я бы полон решимости помочь Полу в его проблеме.
Десять дней спустя он явился на сессию. Я был поражен его внешним видом. Почему-то я ожидал увидеть человека средних лет, изнуренного душевными переживаниями, но полного страсти к жизни. Однако в мой кабинет вошел седой старик, скрюченный так, будто он разглядывает что-то на полу. Глядя, как Пол Эндрюс медленно, дюйм за дюймом, преодолевает путь до кресла, я задумался: чего ему стоило добраться до моего офиса, расположенного в самой верхней точке Рашн-Хилл[1]. Мне показалось, что я явственно слышу, как скрипят его суставы.
Взяв из рук Пола тяжелый потертый портфель, я помог ему сесть.
– Благодарю, благодарю вас, молодой человек. И сколько же вам лет?
– Восемьдесят, – ответил я.
– Ах-ах, где мои восемьдесят?
– Сколько же лет вам?
– Восемьдесят четыре. Да-да, восемьдесят четыре. Вы, должно быть, поражены? Большинство людей считает, что мне не больше сорока.
Наши взгляды встретились, и я был очарован искорками озорства в его глазах и мелькнувшей улыбкой. Молча мы смотрели друг на друга, и мне показалось, что мы нежимся в теплых лучах старой дружбы – как два путешественника, плывущих на одном корабле и одной холодной туманной ночью в разговоре на палубе выяснивших, что выросли по соседству. Мы мгновенно узнали друг друга: наши родители переживали Великую депрессию, мы следили за легендарными дуэлями между Ди Маджо и Тедом Уильямсом[2], помнили масло и бензин по карточкам, День Победы в Европе, «Гроздья гнева» Стейнбека и «Стадс Лониган» Фаррелла.
Слова были излишни; между нами чувствовалось столько общего, что наш контакт не вызывал сомнений. Пора было переходить к работе.
– Итак, Пол, если позволите обращаться к вам по имени…
– Разумеется, – кивнул он.
– Я знаю о вас лишь то, что вы сообщили в своем кратком письме. Вы написали, что мы с вами собратья по перу, вы прочитали мой роман о Ницше и у вас творческий ступор.
– Да, и я прошу об одной-единственной консультации. Я ограничен в средствах и не могу позволить себе больше.
– Постараюсь сделать все возможное. Давайте же приступим и будем максимально эффективны. Расскажите все, что мне следует знать о вашем ступоре.
– Я расскажу немного о себе, если вы не против, – начал Пол.
– Отлично, – кивнул я.
– Придется вернуться во времена моего студенчества. На последнем курсе Принстона я изучал философию и работал над диссертацией о несовместимости представлений Ницше о детерминизме и его восхваления идеи самопреобразования. Но я не мог закончить работу. Меня постоянно отвлекали интереснейшие письма Ницше, особенно адресованные его друзьям и собратьям-писателям – таким как Стриндберг. Постепенно я утратил интерес к философии Ницше и стал больше ценить его как художника. Я начал относиться к нему как к поэту с самым мощным голосом в истории человечества, голосом настолько величественным, что он затмил его идеи. И вскоре мне не оставалось ничего другого, кроме как сменить факультет и продолжить писать диссертацию уже по литературе. Шли годы, мое исследование продвигалось, но я попросту не мог ничего написать. В конце концов я пришел к выводу, что художника можно показать только художественным методом, и оставил идею о диссертации, решив вместо этого написать о Ницше роман. Однако творческий ступор не удалось обмануть сменой тактики. Он стоял намертво, как гранитная скала. Так и стоит по сей день.
Я был поражен. Полу восемьдесят четыре года. Работу над диссертацией он начал лет в двадцать пять, шестьдесят лет назад. Мне попадались вечные студенты, но шестьдесят лет?! Поставить жизнь на паузу длиной в шестьдесят лет? Нет-нет, не может быть!
– Пол, расскажите мне, что происходило в вашей жизни после колледжа.
– Рассказывать особо нечего. Разумеется, в Принстоне в конце концов решили, что я у них засиделся, и выгнали меня. Но страсть к чтению была у меня в крови, я не мог жить без книг, поэтому устроился на работу в университетскую библиотеку. Там и проработал до пенсии, безуспешно пытаясь начать писать. Вот и вся моя жизнь, прибавить больше нечего.
– Расскажите еще. У вас есть семья? Значимые люди?
На лице Пола промелькнуло нетерпение.
– Ни братьев, ни сестер. – Он произнес это так поспешно, будто выплюнул эти слова. – Дважды женат, дважды разведен. К счастью, оба брака недолгие. И без детей, слава богу.
«Странное дело, – подумал я. – Пол, поначалу казавшийся общительным и открытым, словно старается дать мне как можно меньше информации. Что ж такое?»
Я настойчиво продолжил:
– Вы собирались написать роман о Ницше и в своем имейле упомянули, что читали мою книгу «Когда Ницше плакал». Можете рассказать об этом побольше?
– Я не понимаю ваш вопрос.
– Какие чувства вызвала у вас моя книга?
– Поначалу сюжет буксовал, но постепенно дело пошло лучше. Несмотря на высокопарный язык и вычурные, неправдоподобные диалоги, это было в целом небезынтересное чтение.
– Нет-нет, меня интересует ваша реакция на книгу с учетом того, что вы сами хотели написать роман о Ницше. Эта ситуация должна была вызвать какие-то чувства.
Пол потряс головой, будто отмахиваясь от бессмысленного вопроса. Не понимая, что делать, я продолжал спрашивать:
– Расскажите, как вы решили обратиться ко мне? Причиной стал мой роман?
– Ну, какова бы ни была причина, сейчас мы здесь.
С каждой минутой все страннее. Но если я хочу, чтобы наша консультация помогла Полу, мне надо больше узнать о нем. Я решил прибегнуть к старому доброму вопросу, который всегда приносил информацию.
– Мне нужно побольше узнать о вас, Пол. Думаю, нашей сегодняшней работе пойдет на пользу, если вы расскажете, как проходит ваш обычный день, точнее, сутки. Как можно более подробно. Выберите какой-нибудь день этой недели, и давайте начнем с вашего пробуждения.
Я почти всегда задаю этот вопрос на сессии, поскольку он позволяет получить бесценные сведения о множестве сфер жизни пациента – о том, как он спит, ест, что ему снится, но больше всего я хочу узнать, какие люди «населяют» жизнь пациента.
Но Пол не разделял мой исследовательский энтузиазм. Он снова слегка потряс головой, будто отгоняя мой вопрос подальше:
– У нас есть темы поважнее. Много лет я переписывался с руководителем диссертации, профессором Клодом Мюллером. Вы знакомы с его работами?
– Я читал биографию Ницше его авторства. Замечательная книга.
– Хорошо. Очень хорошо! Я весьма рад услышать ваше мнение, – живо откликнулся Пол, открывая свой портфель и вынимая увесистую папку-скоросшиватель. – Вот, я прихватил тут подшивку писем и хотел бы, чтобы вы их прочли.
– Когда? Прямо сейчас?!
– Да, это самое важное, чем мы можем заняться на консультации.
Я посмотрел на часы.
– Но ведь у нас всего одна сессия. Чтение займет час, а то и два, и было бы куда полезнее, если бы мы…
– Доктор Ялом, поверьте, я знаю, о чем прошу. Начинайте читать. Пожалуйста.
Я был в крайнем замешательстве. Что же делать? Пол абсолютно убежден в своей правоте. Я напомнил ему о временных ограничениях, он ясно осознает, что у него есть одна-единственная сессия. Может, Пол в самом деле понимает, что делает? Возможно, он считает, что эта переписка даст мне всю необходимую информацию о нем? Да-да, наверняка так оно и есть.
– Пол, вы имеете в виду, что эта переписка расскажет мне о вас все, что нужно?
– Если вам необходимо так думать, чтобы начать читать, ответ: да.
Давно я не оказывался в такой необычной ситуации. Разговор по душам – моя профессия, привычная территория, где я всегда чувствую себя комфортно. Но в этом диалоге все шло не так. Может, мне стоит просто отдаться потоку? В конце концов, этот час принадлежит Полу, он оплатил его.
Ощущая некоторое головокружение, я решил подчиниться и протянул руку за подшивкой писем.
Передавая мне тяжелую папку, Пол сообщил, что их переписка с профессором Мюллером продолжалась сорок пять лет и оборвалась со смертью профессора в 2002 году. Я начал листать страницы, пытаясь понять, с чем мне предстоит иметь дело. Было заметно, что подшивку делали с большой заботой. Похоже, что Пол сберег, пронумеровал и проставил даты на всех письмах, которыми обменялся с профессором, будь то короткая записка о чем-то мимолетном или пространные рассуждения на нескольких страницах. Письма Мюллера заканчивались его небольшой, изящной подписью, в то время как письма Пола – как ранние, написанные под копирку, так и более поздние ксерокопии – были подписаны простой буквой «П».
– Пожалуйста, начинайте, – кивнул мне Пол.
Я прочитал первые несколько писем и убедился, что переписка увлекательна и чрезвычайно учтива. Было очевидно, что профессор Мюллер глубоко уважает Пола и в то же время не одобряет его восторг от словесных игр. В самом первом письме он отмечал: «Вижу, что вы влюблены в слова, мистер Эндрюс. Вам нравится вальсировать с ними. Но слова – это просто знаки, мелодию же создают идеи. Именно идеи определяют нашу жизнь».
«Признаю свою вину, – написал Пол в ответном письме. – Я не занимаюсь перевариванием и усвоением слов, я люблю танцевать с ними и, надеюсь, никогда не разлюблю».
Через несколько писем они, несмотря на разницу в положении и разделяющие их полвека, отказываются от формальных «мистер» и «профессор» и начинают обращаться друг к другу по имени: Пол и Клод.
В другом письме мой взгляд выхватил фразу Пола: «Я никогда не упускаю возможность озадачить своего собеседника». Что ж, выходит, не только мне досталось. «Следовательно, я буду всегда в объятиях одиночества, – продолжил он. – Знаю, что ошибаюсь, предполагая у других ту же страсть к хорошо сказанному слову. Знаю, что навязываю им свою страсть. Только представьте, как все в ужасе разбегаются, стоит мне приблизиться».
«Вот это важно», – подумал я. «В объятиях одиночества» – красивый оборот, придающий словам поэтическую окраску, но за этим стоит действительно очень одинокий старик.
Еще через несколько писем у меня произошел инсайт. Я наткнулся на абзац, который, возможно, был ключом к пониманию всей этой чрезвычайно странной консультации. Пол писал: «Понимаете, Клод, мне только и остается, что искать самый утонченный и возвышенный ум, какой можно найти. Мне нужен ум, который смог бы оценить мои чувства, мою любовь к поэзии. Ум ясный и достаточно упорный, чтобы вступить со мной в диалог. Заставляют ли мои слова биться ваше сердце быстрее, Клод? Мне нужен легкий на подъем партнер для этого танца. Не окажете ли мне честь?»
Догадка молнией озарила мой разум. Я понял, почему Пол так настаивал, чтобы я прочел переписку! Это же очевидно. Как же я не сообразил? Профессор Мюллер умер двенадцать лет назад, и Пол ищет себе другого партнера по танцу! Вот какую роль сыграл здесь мой роман о Ницше. Неудивительно, что я был сбит с толку. Мне казалось, что это я расспрашиваю его, в то время как на самом деле он проводил со мной собеседование. Вот что здесь происходило.
* * *
Секунду я смотрел в потолок, раздумывая, как выразить словами свое озарение, но Пол прервал мои размышления, указав на часы: «Доктор Ялом, прошу вас, время идет. Продолжайте читать». Я выполнил его просьбу.
Письма были увлекательны, и я охотно погрузился в них вновь.
В первом десятке писем отчетливо сквозили отношения учителя и ученика. Клод нередко давал Полу задания, например: «Пол, я бы хотел, чтобы вы написали работу по сравнению мизогинии у Ницше и у Стриндберга». Я предположил, что Пол выполнял эти задания, однако упоминаний о них больше не встречал. Должно быть, они обсуждали его работы при личной встрече. Но постепенно, примерно за год, роли ученика и учителя стерлись, о заданиях речь больше не заходила, и стало трудно понять, кто из них ученик, а кто учитель.
Клод посылал Полу свои стихи и просил комментариев, и ответы Пола не отличались почтительностью, когда он призывал Клода отключить интеллект и отдаться бурному потоку чувств. Клод же, со своей стороны, критиковал стихи Пола за избыток страсти при отсутствии внятного содержания.
С каждым письмом их отношения становились все более близкими и глубокими. Я задавался вопросом, не держу ли я в руках все, что осталось от великой любви Пола, любви всей его жизни. Может быть, Пол страдает от постоянной неутолимой тоски. Да-да, наверняка, так и есть. Именно это он пытается сообщить мне, заставляя читать переписку с давно ушедшим профессором.
Время шло, я пробовал одну гипотезу за другой, но ни одна не давала исчерпывающего объяснения. Чем дальше я читал, тем больше передо мной вставало вопросов. Зачем Пол пришел ко мне? Он назвал своей главной проблемой творческий ступор, так почему же он не выказывает ни малейшего интереса к обсуждению этого ступора? Почему он не рассказал мне подробнее о своей жизни? Зачем он так настаивает, чтобы все имеющееся у нас время я потратил на чтение старых писем? Нам нужно это выяснить. Я твердо решил проговорить все эти вопросы с Полом до того, как время сессии выйдет.
И тут я увидел пару писем, которые заставили меня замереть. «Пол, ваше постоянное восхваление чистого опыта приобретает опасное направление. Я должен снова напомнить вам слова Сократа: непознанный опыт не стоит того, чтоб его проживать».
«Отлично, Клод! – мысленно зааплодировал я. – Полностью поддерживаю ваш призыв к Полу, чтобы он исследовал свою жизнь».
Однако Пол в следующем письме ответил довольно резко: «Если бы у меня был выбор: жить или исследовать, я бы выбрал жить, жить каждый день. Я избегаю объяснений и призываю вас поступать так же. Стремление все объяснять поразило современную мысль, как эпидемия, и ее главные разносчики – психотерапевты. Все мозгоправы, которых я встречал, страдали этим недугом, эта дрянь заразна и вызывает зависимость. Объяснение – это лишь иллюзия, мираж, теоретический конструкт, успокаивающая колыбельная. Интерпретация не имеет ничего общего с бытием. Давайте назовем вещи своими именами: это трусливая защита от шаткости, безразличия и непредсказуемости бытия».
Я прочитал этот отрывок дважды, а потом еще раз, ощущая, как почва уходит из-под ног. Моя решимость обсудить идеи, зревшие у меня в голове, померкла. Я понял: шансы, что Пол примет мое приглашение на танец, равны нулю.
Время от времени я поднимал взгляд от писем и замечал глаза Пола, напряженно всматривающиеся в меня, вбирающие в себя каждую мою реакцию, призывающие продолжать чтение. Однако, заметив, что до конца сессии осталось всего десять минут, я закрыл папку и взял инициативу в свои руки.
– Пол, у нас осталось мало времени, и мне хотелось бы обсудить с вами несколько вещей. Я чувствую себя неловко, потому что мы подходим к концу сессии, а я до сих пор так и не приступил к проблеме, из-за которой вы обратились ко мне, к вашему творческому ступору.
– Я никогда этого не говорил.
– Но в своем письме вы… Погодите, вот оно, я распечатал его…
Открыв свою папку, я стал искать письмо, но Пол прервал меня:
– Я помню свои слова: «Я бы хотел прийти к вам на консультацию. Я прочитал ваш роман «Когда Ницше плакал» и подумал, вдруг вы не откажетесь встретиться с коллегой-писателем, переживающим творческий ступор».
Я поднял на него глаза, ожидая увидеть усмешку, но Пол был совершенно серьезен. Он в самом деле написал, что у него творческий ступор, но нигде не обозначил его как проблему, из-за которой он ищет помощи.
Это была словесная ловушка, и я почувствовал раздражение, что меня так провели.
– Я привык помогать людям с проблемами. Именно этим занимаются терапевты. Так что не мудрено, что я понял ваши слова определенным образом.
– Абсолютно согласен.
– Ну что ж, тогда давайте начнем все заново. Скажите, чем бы я мог вам помочь?
– Что вы думаете о переписке?
– Можете сформулировать свой вопрос поконкретнее? Это помогло бы мне быть точнее в моих комментариях.
– Мне ценно любое ваше наблюдение.
– Хорошо, – сказал я, открыл свой блокнот и полистал страницы. – Как вы понимаете, у меня было время ознакомиться лишь с небольшой частью переписки, но я поражен тем, сколько в этих письмах ума и эрудиции. Сильное впечатление на меня произвело смещение ролей. Сначала вы были учеником, а Мюллер – учителем. Но, очевидно, вы были особенным студентом, и через несколько месяцев юный ученик и заслуженный ученый уже общаются как равные. Нет никаких сомнений, что профессор уважал ваши суждения. Он восхищался вашей прозой, ценил ваши критические замечания по поводу его работ. Полагаю, на вас он тратил намного больше времени и энергии, чем на любого другого студента. И конечно же, поскольку ваша переписка продолжалась много лет после вашего ухода из университета, нет никаких сомнений, что вы очень много значили друг для друга.
Я посмотрел на Пола. Он сидел неподвижно, с полными слез глазами, и жадно впитывал мои слова, явно желая, чтобы я продолжал говорить. Наконец-то, наконец-то между нами произошла встреча. Наконец-то я мог что-то дать ему, мог подтвердить то, что имело для Пола необычайную важность. Я – и только я – мог засвидетельствовать, что великий человек считал Пола Эндрюса значительным. Но этот великий человек умер много лет назад, и Пол слишком ослаб, чтобы выносить это знание в одиночку. Ему нужен был свидетель, авторитетная фигура, и на эту роль он выбрал меня.
У меня не осталось сомнений в правильности моей догадки. Теперь нужно передать некоторые из этих мыслей Полу – они могут ему пригодиться. Но я так много всего осознал, а нам оставалось всего несколько минут! Я не знал, как успеть все, и решил начать с самого очевидного.
– Пол, больше всего в вашей переписке меня поразила та сильная и полная нежности связь, которая сложилась между вами и профессором Мюллером. Для меня эта связь выглядит как глубокая любовь. Его смерть, должно быть, стала для вас ужасным потрясением. Полагаю, боль от потери все еще не прошла, и именно поэтому вы обратились ко мне за консультацией. Что вы об этом думаете?
Пол не ответил. Вместо этого он протянул руку за письмами, и я вернул ему папку. Он открыл портфель, спрятал туда папку и надежно застегнул его.
– Я прав, Пол?
– Я обратился к вам за консультацией, потому что хотел консультацию. И вот я ее получил. Это ровно то, чего я хотел. Вы мне помогли, очень помогли. Я меньшего и не ожидал. Спасибо вам.
– Прежде чем вы уйдете, Пол, пожалуйста, еще один вопрос. Мне всегда важно понять, что именно помогло. Вы могли бы кратко сформулировать, что именно вы получили от меня? Я убежден, такое прояснение будет полезно вам в будущем и может помочь мне и другим моим клиентам.
– Ирв, мне очень жаль, что приходится покидать вас с таким количеством неразгаданных загадок, но боюсь, наше время вышло. – Он покачнулся, пытаясь подняться.
Я вскочил и поддержал его под локоть. Пол выпрямился, пожал мне руку и бодрой походкой двинулся восвояси.
Глава 2
Быть настоящим
Чарльз, респектабельный руководитель в частной компании, имел все, что только можно пожелать для успешной карьеры. У него было безупречное образование, начатое в элитной школе в Андовере и продолженное в Гарварде и Гарвардской школе бизнеса. Его отец и дед были успешными банкирами, мать возглавляла попечительский совет известного женского колледжа. И сейчас его жизни позавидовали бы многие: кондоминиум в Сан-Франциско с панорамным видом на залив от моста Золотые ворота до Бэй-Бридж; пользующаяся успехом в обществе красавица жена; оклад около полумиллиона в год; наконец, кабриолет «Ягуар». И все это – в «преклонном» возрасте тридцати семи лет.
Но за блестящим фасадом все было далеко не радужно. Чарльза постоянно терзали неуверенность в себе и чувство вины. Он покрывался холодным потом всякий раз, когда на шоссе замечал позади себя патрульную машину. «Свободно перетекающая вина, ищущая грешок, чтобы прицепиться, – в этом весь я», – шутил он. В его сновидениях постоянно возникали мотивы самоуничижения: он видел себя с огромными открытыми ранами, скорчившимся в подвале или пещере; он был бездомным бродягой, преступником, жалким и неуклюжим самозванцем.
Но даже в снах Чарльза сквозь самоуничижение просвечивало его своеобразное чувство юмора.
– Я был в группе людей, которые проходили прослушивание на роль в фильме, – рассказал он мне свой сон на одной из ранних сессий. – Я дождался очереди и довольно неплохо выступил. Режиссер разыскал меня в зале ожидания и похвалил. Затем он стал расспрашивать о моих прошлых ролях в других фильмах, и я сказал ему, что никогда не играл в кино. Он ударил рукой по столу, вскочил и крикнул, выходя из зала: «Никакой вы не актер! Вы только изображаете актера!» Я бежал за ним, крича: «Если изображаешь актера, то ты и есть актер». Но режиссер быстро удалялся. Я закричал со всей мочи: «Актеры изображают людей! Именно этим они занимаются!» Но все было зря. Он исчез, и я остался один».
Чувство собственной неполноценности прочно закрепилось у Чарльза в сознании и не отпускало, несмотря на все его достижения. Успешная карьера, любовь жены, детей и друзей, симпатия коллег, восторженные отзывы клиентов – всё это протекало сквозь него, как вода сквозь решето, не оставляя ни малейшего следа.
Хотя между нами, по моим ощущениям, сложились хорошие рабочие отношения, Чарльз упорно считал, что мне с ним скучно и я недоволен его прогрессом. Однажды я сказал, что у него дырки в карманах, и мои слова столь сильно его задели, что он часто повторял их на следующих сессиях. Мы провели много часов, анализируя все распространенные причины неуверенности в себе и низкой самооценки: недостаточно высокие баллы по тестам на интеллект и общую академическую успеваемость, неспособность дать сдачи хулигану в начальной школе, подростковые прыщи, неловкость в танцах, случающаяся иногда преждевременная эякуляция, переживания из-за размера пениса, – и постепенно подошли к первичному источнику тьмы.
– Все началось однажды утром, когда мне было восемь лет, – рассказал мне Чарльз. – Дело было в Бар-Харбор, штат Мэйн. Мой отец, яхтсмен-олимпиец, отправился в свой ежедневный утренний заплыв на небольшой лодке и не вернулся. Тот день врезался в мою память: вся семья в напряженном ожидании, усиливающееся буйство шторма, мама неустанно меряет шагами комнату, мы звоним друзьям и в береговую охрану, взгляды прикованы к телефону на кухонном столе, покрытом красной клетчатой скатертью, воющий ветер и наш страх, нарастающий с приближением ночи. Но ужаснее всего были рыдания матери на следующее утро, когда нам позвонили из береговой охраны и сообщили, что обнаружили пустую перевернутую лодку. Тело отца так никогда и не нашли.
По щекам Чарльза текли слезы, голос срывался – будто все произошло не двадцать восемь лет назад, а вчера.
– Пришел конец хорошим временам, конец теплым папиным объятиям, нашим играм в подковы, в шашки и монополию. Мне кажется, в тот момент я понял, что жизнь уже никогда не будет прежней.
Мать Чарльза до конца дней носила траур, и никто не занял место его отца. Ему пришлось самому стать себе родителем. Да, создание своей жизни собственными руками имеет определенные преимущества и позволяет почувствовать себя сильным, но в то же время обрекает на одиночество, и часто, лежа без сна глухой ночью, Чарльз горевал о давно остывшем домашнем очаге.
Год назад, на благотворительном вечере, Чарльз познакомился с Джеймсом Перри, предпринимателем в области информационных технологий, на двадцать лет его старше. Они понравились друг другу, и после нескольких встреч Джеймс предложил Чарльзу весьма привлекательную руководящую должность в его новом стартапе.
Джеймс как будто обладал способностью превращать в золото все, к чему прикасался. Сколотив огромное состояние, он никак не мог выйти из игры – как он это называл – и продолжал запускать все новые компании. Чарльз нашел в лице Джеймса одновременно друга, наставника и руководителя. Несмотря на разноплановость их отношений, они отлично ладили. Работа требовала постоянных разъездов, но когда оба оказывались в городе, они всегда выкраивали вечер, чтобы выпить и пообщаться. Они говорили обо всем: о компании, конкуренции, новых продуктах, сложностях с сотрудниками, своих семьях, инвестициях, новых фильмах, планах на отпуск – обо всем, что приходило в голову. Чарльз очень ценил эти встречи за близость, которой они были наполнены.
Через некоторое время после знакомства с Джеймсом Чарльз впервые обратился ко мне. Может показаться странным, что именно в безмятежные дни, когда есть дружба и наставничество, человек решает пойти на терапию, однако тому есть объяснение. Забота и покровительство, которые Чарльз получал от Джеймса, пробудили его воспоминания о смерти отца и заставили ярче осознать, чего он лишился.
На четвертом месяце нашей терапии Чарльз позвонил и попросил срочно назначить внеплановую встречу. Он появился на пороге моего кабинета с пепельно-серым лицом. Медленно дошел до своего кресла, осторожно опустился в него и смог произнести два слова:
– Он умер.
– Чарльз, что произошло?
– Джеймс умер. Обширный инсульт. Мгновенная смерть. Его вдова рассказала мне, что вернулась домой со встречи совета директоров и нашла его лежащим в кресле в гостиной. Господи боже, он ведь даже ничем не болел! Я не могу это даже представить!
– Ужасно! Какое это должно быть для вас потрясение.
– Я не могу найти слов, чтобы описать это. Джеймс был таким хорошим, он был так добр со мной. Мне так повезло, что я его знал… Я предвидел! Я с самого начала предвидел, что это слишком хорошо, чтобы продлиться долго! Господи, как мне жаль его жену и детей!
– А мне очень жаль вас.
На протяжении следующих двух недель мы с Чарльзом встречались по два-три раза в неделю. Он не мог работать, плохо спал и на сессиях часто плакал. Снова и снова он говорил о своем уважении к Джеймсу Перри и глубокой благодарности за все, что они успели разделить.
Поднялась на поверхность боль прошлых потерь. Чарльз оплакивал не только отца, но и мать, которая к тому моменту была три года как мертва. А также Майкла, школьного приятеля, который умер в седьмом классе, и Клиффа, вожатого из лагеря, скончавшегося от разрыва аневризмы. Снова и снова Чарльз говорил о потрясении.
– Давайте исследуем ваше потрясение, – предложил я. – Из чего оно состоит?
– Смерть – всегда потрясение.
– Продолжайте. Расскажите мне об этом.
– Это же очевидно.
– Постарайтесь сформулировать.
– Раз, и жизнь кончилась. Вот так вот просто. Негде спрятаться. Никакой безопасности… Мимолетность… Жизнь преходяща… Я это знал, это все знают. Но я никогда особо не задумывался. Никогда не хотел об этом думать. Но смерть Джеймса заставляет меня думать, думать непрерывно. Он был старше меня, я понимал, что он умрет раньше. Это заставило меня взглянуть правде в глаза.
– Продолжайте. Какой правде?
– Правде о моей жизни. О моей смерти, которая ждет меня впереди. О постоянстве смерти. О том, что мертвым становятся навсегда. Эта мысль – быть мертвым навсегда – как будто застряла у меня в голове. Как я завидую моим друзьям-католикам и всем этим идеям о жизни после смерти. Хотел бы я, чтобы для меня это звучало сколько-нибудь убедительно! – Чарльз глубоко вздохнул и посмотрел на меня. – Вот о чем я думал. А еще меня преследует множество вопросов о том, что же действительно важно.
– Расскажите мне об этом.
– Я думаю, как бессмысленно трачу всю свою жизнь на работу и зарабатывание денег. У меня их уже достаточно, но я продолжаю зарабатывать еще больше, как и Джеймс. Мне очень грустно от того, как я живу. Я мог бы быть лучшим мужем, лучшим отцом… Слава богу, еще есть время.
Слава богу, еще есть время. Я был рад это услышать. Мне довелось видеть немало людей, которые смогли отреагировать на горе в такой позитивной манере. Столкновение с неумолимыми данностями бытия пробудило их и послужило катализатором значительных перемен в жизни. Похоже, так могло получиться и с Чарльзом, и я надеялся помочь ему двигаться в этом направлении.
Однако через три недели после смерти Джеймса Перри Чарльз вошел в мой кабинет чрезвычайно взволнованным. Он часто дышал и, чтобы успокоиться, положил руку себе на грудь и сделал долгий выдох, после чего медленно опустился в кресло.
– Как хорошо, что наша встреча была назначена на сегодня. Иначе мне пришлось бы вчера вечером звонить вам. Я только что пережил одно из величайших потрясений в жизни.
– Что случилось?
– Вчера мне позвонила Марго Перри, вдова Джеймса, и попросила заехать к ней. Она хотела о чем-то поговорить. Вечером я был у нее и… Я перейду сразу к делу. Она сказала мне: «Не хотела тебе этого говорить, Чарльз, но теперь уже слишком многие знают, и я подумала, что лучше тебе услышать это от меня, чем от кого-то постороннего. Джеймс умер не от инсульта. Он совершил самоубийство». И с этого момента мир для меня будто перевернулся.
– Как это ужасно для вас. Расскажите мне, что происходит у вас внутри.
– Очень много чувств, целый ураган. Трудно выделить что-то одно.
– Начните с любого места.
– Ну, одна из первых мыслей, сверкнувших в моем мозгу, была о том, что если он совершил самоубийство, то и я могу. Понимаете, я так хорошо знал Джеймса, мы были так близки, он был как я, а я – как он… И вот, если он смог это сделать, смог себя убить, значит, я тоже могу. Мысль о такой возможности меня потрясла. Не беспокойтесь, у меня не возникло желания убить себя, но эта мысль не уходит. Если он смог, то могу и я. Смерть, самоубийство – это не абстрактные идеи, теперь уже нет. Они стали реальностью. Но почему?! Почему он убил себя? Я уже никогда не узнаю. У его жены нет предположений, или она что-то скрывает. Она сказала, что произошедшее стало для нее полной неожиданностью. Мне придется свыкнуться с неведением.
– Продолжайте, Чарльз. Расскажите мне все.
– Мир перевернулся. Я уже не знаю, что можно считать настоящим. Джеймс был таким сильным, таким умелым, так меня поддерживал… Он заботился обо мне, переживал и в это самое время – вы только вдумайтесь! – в это самое время, когда он старался сделать мою жизнь комфортнее, сам мучился настолько, что решил уйти из жизни. Чему можно верить? Всякий раз, когда Джеймс поддерживал меня, давал мне советы, он одновременно помышлял о самоубийстве. Понимаете, что я имею в виду? Все эти наши прекрасные разговоры, наше переживание близости – теперь я понимаю, что ничего этого не существовало на самом деле. Я чувствовал душевный контакт, я делился с ним всем, но это был театр одного актера. Джеймс в этом не участвовал. Ему не было хорошо, он думал, как покончить с собой. Я больше не знаю, во что верить. Я сам выдумал свою реальность.
– А что насчет этой реальности, здесь, в этой комнате? Той, где есть вы и я, наше взаимодействие?
– Я не знаю, чему верить, кому доверять. Нет никакого «мы», я совершенно один. Очень сомневаюсь, что вы и я в этот момент переживаем одно и то же.
– Я хочу, чтобы вы и я были «мы», насколько это возможно. Между людьми всегда есть дистанция, но мне бы хотелось, чтобы здесь и сейчас, в этой комнате, мы постарались сделать эту дистанцию как можно меньше.
– Ирв, но я могу лишь гадать, что вы чувствуете и думаете. Вы только посмотрите, как я ошибался насчет Джеймса! Я думал, у нас дуэт, а сам все время играл соло. Уверен, что и сейчас происходит то же самое и я ошибаюсь насчет вас. – Чарльз на секунду замолчал и вдруг спросил: – Вот о чем вы сейчас думаете?
Двадцать-тридцать лет назад подобный вопрос привел бы меня в замешательство, но, повзрослев как терапевт, я научился доверять своему бессознательному в том, что касается профессиональной ответственности. И я отлично знал: значение имеет, не что я отвечу на вопрос о своих мыслях, а сама моя готовность на него ответить. Поэтому я сказал первое, что пришло мне в голову.
– В тот момент, когда вы задали мне вопрос, на уме у меня была весьма странная мысль. Я вспомнил запись, которая недавно попалась мне на глаза на одном сайте, где люди анонимно делятся всякими секретами: «Я работаю в «Старбакс», и, если посетитель ведет себя грубо, я наливаю ему кофе без кофеина».