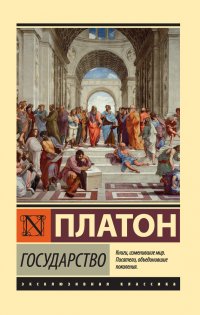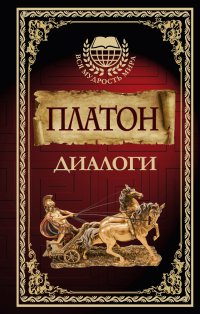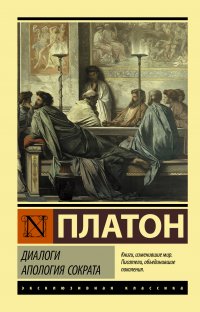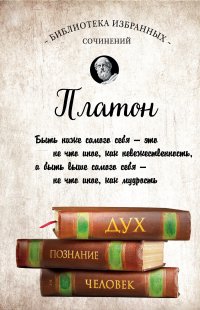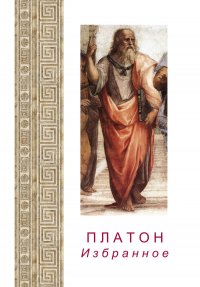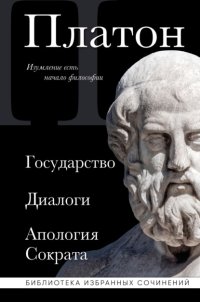Читать онлайн Пир бесплатно
- Все книги автора: Платон
ПИР
В диалоге участвуют
АПОЛЛОДОР
ГЛАВКОН
Персонажи, введенные в рассказ
АРИСТОДЕМ, СОКРАТ, АГАФОН, ФЕДР, ПАВСАНИЙ, ЭРИКСИМАХ, АРИСТОФАН, ДИОТИМА, АЛКИВИАД
Кажется, я не готов к рассказу о том, о чем вы спрашиваете меня. Ведь вот недавно случилось мне из своего фалерского дома идти в город, как один из моих знакомых, шедший позади, увидел меня издалека и, желая остановить, шутливо крикнул:
– Ох, это фалерский Аполлодор! Что бы подождать!
Я остановился и подождал. Тогда он сказал:
– Ведь я недавно еще искал тебя, Аполлодор, с намерением расспросить о беседе Агафона, Сократа, Алкивиада и других присутствовавших тогда на вечере: какие речи вели они о любви? Мне рассказывал о них некто слышавший это от Феникса, сына Филиппова, и говорил, что и тебе то же известно; но в его рассказе не было ничего ясного. Так расскажи мне ты, потому что тебе всего приличнее передавать речи твоего друга. И вопервых, скажи, – промолвил он, – сам ты участвовал в этой беседе или нет?
– Из твоего вопроса, участвовал ли я, видно уже, что твой рассказчик не рассказал тебе ничего ясно, если ты представляешь эту беседу как дело, происходившее недавно.
– И я то же думаю.
– Куда мне, Главкон! – промолвил я. – Разве не знаешь, что протекло уже много лет, как Агафон и не приезжал сюда? А тому, как я начал обращаться с Сократом и каждый день ревностно замечать, что он говорит или делает, не прошло еще и трех лет. До этого же времени я бегал куда случалось и, думая, будто что-то делаю, был самым жалким, не менее, чем ты теперь с твоей мыслью, что лучше делать все, что угодно, нежели философствовать.
– Не смейся, – прервал он, – а скажи мне, когда происходила эта беседа.
– Происходила она еще во время нашего детства, когда Агафон, выиграв награду первой своей трагедией, на другой день приносил жертву благодарности вместе со своими хористами.
– Стало быть, это было, как видно, очень давно. Кто же тебе пересказывал, не сам ли Сократ?
– Нет, клянусь Зевсом, – отвечал я, – но тот же, кто Фениксу, – некто Аристодем, кидафинеец, человек маленький и всегда босоногий. Он был в том собрании, потому что любил Сократа, как мне кажется, больше всех тогдашних. Впрочем, кое о чем из того, что слышал от него, после спрашивал я и у Сократа, и он подтвердил то, что тот рассказывал.
– Почему же ты не расскажешь этого мне? – спросил он. – Ведь дорога-то в город такова, что идущих располагает говорить и слушать.
Итак, идя вместе, мы завели о том речь. Вот причина, по которой я, как и сказал вначале, не был готов к этому. И если теперь надобно рассказывать, то должно сделать это, потому что, кроме пользы, которую думаю получить, я вообще бываю чрезвычайно рад, когда или сам говорю что-нибудь о философии, или слушаю других. А что касается до иных речей, особенно каковы они у вас – людей богатых и предприимчивых, то вы надоедаете ими, и мне жаль друзей ваших, потому что, ничего не делая, вы думаете, будто что-то делаете. Может, и вы со своей стороны почитаете меня несчастным, и я полагаю, что ваше мнение справедливо; только относительно вас-то у меня не мнение, а знание.
Главкон. Ты всегда тот же, Аполлодор, всегда порицаешь и себя и других, и мне кажется, начиная с себя, просто всех почитаешь жалкими, кроме Сократа. Не знаю, откуда взяли называть тебя этим именем – именем неистового; только в своих речах ты всегда таков – сердишься и на себя, и на всех других, кроме Сократа.
Аполлодор. Ах, любезнейший! Уж разумеется, что если я так мыслю и о себе, и о вас, то неистовствую и заблуждаюсь.
Главкон. Но теперь, Аполлодор, не стоит спорить об этом; а вот о чем мы просили тебя – не откажись и расскажи, какие тогда были речи.
Аполлодор. Были какие-то такие. Но лучше постараюсь рассказать вам все сначала так, как тот мне рассказывал.
Он говорил:
Встретившись с Сократом, вымывшимся и обутым в сандалии, что случалось с ним редко, я спросил его: куда он идет таким пригожим? А он отвечал:
– На пир к Агафону. Вчера я ушел с его торжества, испугавшись толпы, и обещал прийти сегодня. Так вот и принарядился, чтобы к хорошему идти таким же. А ты, Аристодем, как находишь намерение идти на ужин незваным? – спросил он.
– Да так, – отвечал он, – как прикажешь.
– Пойдем же вместе, – сказал он, – и испортим пословицу таким изменением, что к столам добрых людей добрые идут сами собою. Ведь Гомер-то, должно быть, не только испортил эту пословицу, но и посмеялся над нею, когда, изобразив Агамемнона в воинских делах человеком отличным и дельным, а Менелая воином слабым, заставил последнего, в то время как Агамемнон принес жертву и давал праздник, прийти к его столу незваным, заставил худшего прийти на пир к лучшему.
Выслушав эти слова, тот сказал:
– Так, может быть, и я поступлю неладно, не как ты говоришь, Сократ, а как говорит Гомер, что, будучи человеком плохим, приду незваный на пир человека мудрого. Разве, ведя меня, ты сам скажешь что-нибудь в мое оправдание? Ведь я-то не признаюсь, что пришел незваный, но что приглашен был тобою.
– Идя вдвоем, – сказал он, – вместе и будем думать друг за друга, что говорить. Пойдем.
Потолковав между собой таким образом, мы пошли. Но Сократ, углубившись как-то в самого себя, остановился на дороге и, когда я хотел ждать его, велел мне идти вперед. Пришедши к дому Агафона, я нашел дверь отворенной и испытал тут, рассказывал он, нечто смешное. В доме встретился какой-то мальчик и повел меня прямо туда, где сидели другие и где я застал их собиравшимися уже ужинать. Там Агафон, только что увидел меня, тотчас сказал:
– А! Аристодем? Кстати пришел, будешь вместе с нами ужинать. А если приход твой для чего иного, то отложи до другого времени. Я и вчера искал тебя, чтобы пригласить, да не мог найти. А почему не привел ты к нам Сократа?
Тут, обернувшись, я увидел, что Сократа за мною не было, и сказал:
– Ведь и мне самому случилось прийти с Сократом, который позвал меня сюда на ужин.
– И хорошо сделал, – промолвил Агафон, – но где же Сократ?
– Остался позади, сейчас войдет. Впрочем, я и сам удивляюсь, где бы мог он быть.
– Мальчик, посмотри, – сказал Агафон, – и введи Сократа. А ты, Аристодем, – промолвил он, – садись подле Эриксимаха.
Мальчик обмыл меня, чтобы мне возлечь, а другой кто-то из мальчиков пришел и доложил, что Сократ, пошедши назад, остановился у соседнего крыльца и не хотел войти по моему зову.
– Вздор говоришь, – сказал Агафон, – зови его и не отпускай.
А я промолвил:
– Нет, оставьте его, ведь у него есть такая привычка. Иногда он отойдет, куда случится, и станет. Я думаю, придет тотчас, поэтому не трогайте его, оставьте.
– Сделаем и так, если тебе угодно, – сказал Агафон. – А вы, мальчики, угощайте нас и непременно подавайте все, что захотите, так как над вами нет распорядителя, чего я никогда не делал. Представляйте теперь, что и я приглашен вами на ужин, и эти прочие, и служите нам, чтобы мы хвалили вас.
После этого стали мы ужинать, а Сократ не входил. Агафон часто приказывал звать Сократа, но он не соглашался. Наконец Сократ явился, по своему обычаю, для беседы, промешкав, вопреки обычаю, не слишком долго; ужин как раз был на середине. Тут Агафон, которому случилось возлежать одному и последним, сказал:
– Сюда, Сократ, поместись подле меня, чтобы, прикасаясь к тебе, я насладился той мудростью, которая представлялась тебе там – у крыльца. Ведь явно, что ты нашел ее и держишь, а без того и с места не сошел бы.
Сократ сел и сказал:
– Прекрасно было бы, Агафон, если бы мудрость была такова, что из полнейшего между нами текла бы в пустейшего, когда мы прикасаемся друг к другу, как вода в чашах из полнейшей через шерсть течет в пустейшую. Ведь если бы такова была и мудрость, то для меня много значило бы склониться возле тебя, потому что от тебя я наполнился бы, думаю, обширной и прекрасной мудростью. Моя-то мудрость, может быть, плоха и сомнительна, как сновидение, а твоя блистательна и весьма успешна: она в тебе, человеке еще молодом, вон с какой силой недавно воссияла и проявилась при свидетельстве более чем тридцати тысяч эллинов.
– Насмешник ты, Сократ, – сказал Агафон. – Немного спустя мы, я и ты, рассчитаемся с тобою относительно мудрости и обратимся к суду Диониса, теперь примиська прежде за ужин.
После того как Сократ восклонился и поужинал, собеседники стали делать возлияния, воспевать бога, совершать все прочее обычное и обратились к питью. Тут Павсаний начал говорить следующую речь.
– Нуте-ка, друзья, – сказал он, – каким бы образом нам легче было пить? Говорю вам, что и после вчерашней попойки я, по правде, чувствую себя очень худо и прошу некоторого отдыха; да многие и из вас, думаю, в этом имеют нужду, потому что вчера тоже были здесь. Так рассудите, каким бы образом полегче нам пить.
На это Аристофан сказал:
– Ты действительно хорошо говоришь, Павсаний. Надобно всячески придумать какое-нибудь облегчение в попойке. Я и сам из тех, которые вчера нагрузились.
Слыша их, Эриксимах, сын Акумена, сказал:
– Вы прекрасно решили; хотелось бы еще услышать одно: находит ли себя способным пить Агафон.
– Нет, – сказал он, – и я не способен.
– Так для нас, как видно, находка, – промолвил он, – то есть для меня, Аристодема, Федра и подобных, если и вы, самые сильные питухи, теперь отказываетесь. Ведь мы-то всегда очень слабы. Сократа я исключаю, потому что он способен к тому и другому и будет доволен, что бы мы ни делали из этих противоположностей. А так как из присутствующих никто не расположен, кажется мне, пить много вина, то, если я скажу правду о пьянстве, каково оно, может, буду не совсем неприятен. Ведь это-то известно мне, думаю, из врачебного искусства, что пьянство для людей тяжело, потому и сам я не хотел бы впредь пить по доброй воле, и другому не посоветовал бы, особенно если он с похмелья от прошедшего дня.
– Да, – прервал его Федр из Мирринунта, – я уже привык верить тебе, особенно когда ты говоришь чтонибудь о врачебном искусстве, а теперь, если хорошо размыслят, поверят тебе и прочие.
Выслушав это, все согласились в настоящее время вести беседу, не предаваясь пьянству, а пить так, для удовольствия.
– Итак, если мы решили, – сказал Эриксимах, – пить сколько каждый захочет, без всякого принуждения, то я подаю голос отпустить вошедшую сюда флейтистку, пусть она играет сама для себя или, когда ей угодно, для находящихся в доме женщин; мы же займемся теперь беседами между собой, а какими беседами, о том хочу предложить вам.
Тут все заговорили, объявляли свое желание и просили его предлагать. Тогда Эриксимах сказал:
– Началом моей речи будет Еврипидова Меланиппа1, и мысль, которую намерен я высказать, принадлежит не мне, а вот этому Федру. Федр всякий раз надоедает мне следующим вопросом. Не ужасно ли, Эриксимах, – говорит он, – что некоторым другим богам поэты сочинили гимны и пэаны, а Эроту2, такому и столь великому богу, из числа столь многих поэтов ни один никогда не сочинял даже похвальной песни? Посмотри, если угодно, на добрых софистов: они писали прозой похвалы Гераклу и другим, равно как и добрейший Продик. Да это еще и не так удивительно: мне случилось видеть одну книгу мудрого мужа, в которой излагалась дивная похвала соли за получаемую от нее пользу; превозносимы были похвалами и многие другие того же рода предметы, и для этого употреблено немало старания; а Эрота до настоящего дня никто из людей достойно воспеть не решился. Вот как не радеют о таком боге! Так говорит Федр, и, мне кажется, говорит хорошо. Потому и я вместе с ним желаю принести свою долю и возблагодарить Эрота; да в настоящее время нам, присутствующим, почтить этого бога, думаю, и прилично. Итак, если то же нравится и вам – предмета для настоящей беседы будет у нас довольно. Мне кажется, всякий из нас, справа и по порядку, должен сказать Эроту, насколько может, прекраснейшую похвальную речь. А начинать первому – Федру, потому что он и первый возлежит, и вместе есть отец нашей беседы.