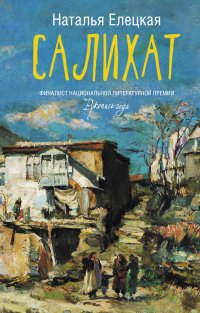
Читать онлайн Салихат бесплатно
- Все книги автора: Наталья Елецкая
* * *
Роман – финалист национальной литературной премии «Рукопись года».
© Наталья Елецкая, текст, 2020
© Тимур Кагиров, ил., 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
* * *
Меня выдают замуж за убийцу.
Эта мысль терзает меня уже четыре дня и все не укладывается в голове. Пусть все в округе твердят, что Джамалутдин-ата самый уважаемый человек в нашем селе и мне повезло быть за него сосватанной, женщины у родника провожают меня жалостливыми взглядами, а Шамсият-апа вчера поутру сказала мне в спину: «Вай, Салихат, бедняжка!»
Мне шестнадцать, и меня некому защитить. Моя мать умерла так давно, что я ее почти не помню, а мою любимую сестру Диляру отец выдал замуж прошлым летом, теперь она живет в соседнем селе, и видимся мы редко. Я живу в доме отца и его новой жены, которая занята тем, что каждый год рожает по ребенку, а однажды родила сразу двоих, одного за другим, с разницей в десять минут. Жубаржат почти не покидает своей половины, она занята детьми и хозяйством, а когда нам удается перекинуться словечком, из страха перед мужем она даже пожалеть меня не смеет, не говоря уж о том, чтобы чем-то помочь. Ведь она ненамного меня старше, а детей у нее уже больше, чем пальцев на одной руке.
Да и зачем помогать? Никому это и в голову не придет. Выдают замуж против воли? В Дагестане это обычное дело. Пусть у многих в домах телевизоры и телефоны, нравы в нашей горной долине остались такие же, как много веков назад. Мы живем по законам предков, подчиняемся обычаям, а если точнее, все сводится к одному обычаю. Мужчина – всё, женщина – никто. Это мы, девочки, усваиваем, едва начинаем делать первые шаги, держась за юбку матери.
Я знала, что рано или поздно это случится. Вступив в брачный возраст, стала жить в неотступном страхе, что однажды отец скажет: на тебя нашелся покупатель. Правда, пока не выдали Диляру, я не сильно волновалась, ведь по нашим законам сначала должна выйти замуж старшая сестра, а уж потом наступает черед остальных девочек в семье. Если бы ее никто не засватал, я бы тоже осталась старой девой, пусть бы даже за мной выстроилась очередь. Но со дня свадьбы Диляры мне не стало покоя. Изнурительный труд с утра до вечера лишь немного притуплял этот страх, да еще робкая надежда, что отец пожалеет меня и позволит самой выбрать суженого. Глупые мечты, недостойные честной девушки. Позволь мне отец такое, и позору не оберешься. Старейшины села отвернутся, про наш дом станут говорить нехорошее. И поэтому я смирилась, как смирилась Диляра, а перед этим – наша мать, а перед ней – мать нашей матери.
Ожидание неизбежного так отравляло мою жизнь, что – клянусь Аллахом – я испытала облегчение, когда увидела входящую во двор Расиму-апа. Лицо у нее было такое, что я сразу все поняла и тотчас опустила голову как можно ниже, сделав вид, что занята замесом теста для чуду[1] и не замечаю ничего вокруг. Расима-апа удовлетворенно кивнула, шествуя мимо меня в своих просторных одеждах, скрывающих дородное тело. Она вошла в дом, и вскоре отец позвал меня в залу, где принимал только дорогих гостей. Вот тогда я и узнала, что сосватана за Джамалутдина-ата, которому Расима-апа приходится родной тетей и который полгода назад убил свою жену.
1
Мой отец, как сказали бы в России, занимается бизнесом. У нас про таких, как он, говорят – уважаемый человек. Ему принадлежит большой участок земли в получасе ходьбы от села, где растут перцы, баклажаны и лук, которые отец раз в неделю отвозит в Махачкалу на своем ржавом грузовичке и сдает оптовику. Кто такой этот оптовик, я толком не знаю, просто слышала, как отец не раз сетовал на его жадность, порочащую правоверного мусульманина.
Наверное, дела у отца идут хорошо, мы ни в чем не нуждаемся (не то, что большинство соседей). У нас просторный дом, правда, большая его часть отведена Жубаржат и детям, которые все рождаются и рождаются. Отец занимает скромную комнату в задней части дома, где он спит и ведет свои учетные книги. Я сплю в пристройке за кухней, такой маленькой, что там умещается только мой топчан, и даже сундук с одеждой приходится оставлять за занавеской. Еще есть гостевая комната – зала, где всегда чисто и пусто. Отец не позволяет детям туда ходить, да и большинству гостей тоже. Когда жители села приходят в дом, отец принимает их в кухне, а если визитеры женщины, они через боковую дверь идут сразу на половину Жубаржат. Расима-апа – исключение, возраст и положение позволяют ей говорить с мужчиной с глазу на глаз, особенно по такому важному поводу, как сватовство.
Живем мы скромно. Отец говорит, что выставлять напоказ достаток – харам, грех. Поэтому в моем сундуке только два повседневных платья, которые я чиню в случае надобности, и одно выходное. Платков у меня около десятка, ведь их нужно стирать ежедневно – не дай Аллах, кто-нибудь увидит пятнышко, да и стоят они немного, поэтому отец покупает мне их время от времени, а я бережливая, вещи меня любят, как говорит Жубаржат. Ей-то вечно требуются обновки.
Косметикой я не пользуюсь. Ходить накрашенной считается одним из самых ужасных грехов для незамужней девушки, такая никому не будет нужна. Мне бы хотелось иметь хоть одну из тех красивых вещиц, что я видела у двоюродных сестер, когда ездила в Махачкалу навещать тетю. Но отец в ответ на мою просьбу нахмурился и сказал только одно слово – «харам!», а это равносильно строжайшему запрету, нарушение которого жестоко карается. У нас нравы суровые, за помаду девушку могут прилюдно побить, и никто за нее не вступится, наоборот – еще и осудят.
Абдулжамал (так зовут моего отца) не всегда жил в достатке. Когда мы с сестрой были еще маленькие, он, если находился в добром настроении, рассказывал истории из своего детства, и один раз я даже заплакала от жалости к нему, настолько тяжелой была его жизнь, пока он не стал сам зарабатывать на хлеб. Абдулжамал, а с ним девять его сестер и двое братьев, вместе с родителями ютился в маленьком домике у подножия гор и с пяти лет в любую погоду помогал отцу пасти овец. Но овцы не принадлежали семье Абдулжамала, его отец был лишь наемным пастухом, и вот однажды, когда оба заснули, разморенные полуденной жарой, кто-то украл почти всех овец из стада. Отцу Абдулжамала нечем было возместить убыток, его жестоко избили, он долго лежал в больнице, и все это время семья жила впроголодь, питаясь лишь тем, что росло в огороде. С той поры Абдулжамал твердо решил, что придет день, когда его семья не будет нуждаться. Но прошли долгие годы, прежде чем это и в самом деле произошло.
Мама была совсем юной, когда отец на ней женился. За четыре года она успела родить ему лишь двух дочерей и умерла, рожая мальчика, который не прожил и дня. Горевал отец недолго, в наших краях мужчине нельзя без жены, которая ведет хозяйство и смотрит за детьми, поэтому на исходе положенного срока он привел в дом Джамилю.
Джамиля прожила с нами чуть больше трех лет. Она была добра ко мне и Диляре и хорошо справлялась с домашними обязанностями, вот только никак не могла зачать. Отец хотел сына, поэтому он развелся с Джамилей и отправил ее обратно в родительский дом, а для женщины нет большего позора, чем быть отвергнутой мужем. Говорят, Джамиля от отчаяния подалась в город и там пошла по кривой дорожке. Но думаю, это наговоры дурных людей. Она была правоверная мусульманка, наша первая мачеха.
С появлением Жубаржат все изменилось. Не прошло и года после свадьбы, как она родила первенца – Азима, что в переводе с арабского значит «великий». Отец на радостях подарил молодой жене несколько отрезов со стеклярусом на нарядные платья. Видимо, Жубаржат понравились отрезы, и она захотела еще, потому что ровно через год появился Гусейн, за ним – близняшки Шамиль и Шахбаз, и только потом, одна за другой, две девочки-погодки, наши любимые сестренки – Адиля и Шамсият. Не успевает у Жубаржат опадать после родов живот, как через несколько месяцев опять надувается, словно шар. Она почти не выходит из дому, боится дурного глаза – не все женщины могут похвастаться такой плодовитостью. Поэтому за водой на родник и на работу в поле всегда ходили мы с Дилярой. Но мне это нравилось, ведь больше у нас не было поводов, чтобы выйти из дому.
Когда Диляра вышла замуж, работать пришлось больше прежнего. Теперь я хожу на родник в дальнем конце села по три, а то и четыре раза в день, ведь воды требуется много. Жубаржат готовит еду и купает детей, а я мою полы и посуду, стираю на всех. До родника с пустыми ведрами десять минут ходу, обратно – в два раза больше. Идти надо медленно, чтобы не расплескать воду, и смотреть себе под ноги, но не только чтобы не споткнуться, а потому, что так положено. Молодая девушка не может поднять взгляд выше кончиков своих туфель, даже если на дороге кроме нее никого нет, а уж когда на скамейках у своих домов с утра до вечера сидят старики… Они всегда найдут, за что осудить девушку, даже если она в юбке до пят и платок полностью скрывает ее волосы. Так что лучший способ уберечься от греха – не допускать даже вероятности греха, так говорит мой отец, и я с ним согласна.
Пока дела у отца шли не так хорошо, мы с сестрой все лето работали в поле. На коленях ползали вдоль бесконечных грядок, уходящих за горизонт, выдергивая сорняки, рыхля землю, а потом собирая урожай. Пальцы трескались до крови, платки выгорали на солнце, а кожа шелушилась от обезвоживания. Когда жара становилась нестерпимой, мы возвращались домой и помогали Жубаржат, торопясь, чтобы к приходу отца ужин был готов, а дом чисто убран. Мы так худели за летние месяцы, что одежда болталась на нас, а глаза западали. Когда несколько человек спросили у отца, не заболели ли мы, он испугался, что люди решат, будто он морит нас голодом, и никто нас таких не засватает. Тогда он нанял сезонных помощников, а нам предоставил заниматься домашней работой. Я стала вставать не в четыре часа утра, а в шесть. Не спеша, по утренней прохладе, шла за водой, готовила завтрак, пила с Дилярой чай в тени раскидистого абрикоса и только после этого начиналась обычная круговерть: помыть, постирать, убрать. В течение дня, если отец отсутствовал, можно было ненадолго зайти к Жубаржат, поиграть с малышами, обсудить насущные дела, а заодно угоститься засахаренными фруктами, которыми отец иногда баловал жену. Детям он никогда не покупал лакомств, считая это расточительством.
Диляра недолюбливала Жубаржат, не знаю, почему – спросить я не решалась. А вот мне мачеха понравилась сразу, и я старалась помогать ей с детьми и уборкой, если у меня оставалось свободное время после всех дел.
Когда Диляра нас покинула, мы с Жубаржат еще больше сблизились. Правда, отец не догадывается об этом. В его присутствии мы не смеем и словечком перемолвиться. Когда он избивает одну из нас, другая не вмешивается, твердо усвоив: вступишься – сразу получишь свое. Отец не трогает жену, лишь когда у нее живот уже такой огромный, что она того гляди начнет рожать. Тогда он ограничивается тем, что кричит и замахивается на Жубаржат, но я все равно каждый раз закрываю глаза, чтобы не увидеть, как тяжелый кулак опустится ей на голову – вдруг в этот раз отец не сдержится?..
А вот мне всегда достается сполна. Повод может быть любой: не доварила хинкал, плохо выгладила рубашку, задержалась возле родника дольше положенного (наверняка заглядывалась на парней, нечестивая!), не кинулась выполнять распоряжение отца с должной поспешностью… Я научилась молниеносно уворачиваться от летящих в меня калош, палок и алюминиевых мисок и терпеть боль от ударов чем ни попадя, если отцу удается меня поймать. Все считают его добрым. Он очень редко избивает нас до потери сознания, чего не скажешь о других мужчинах, крики жен и дочерей которых давно стали привычными звуками на нашей улице, и на которые никто не обращает внимания, как на кукареканье петуха или лай собаки.
За тяжкую провинность женщину могут приговорить к смерти, и никто за нее не вступится. Вот Джамалутдин-ата убил жену, и ничего ему за это не было. Теперь он снова решил жениться, и его выбор пал на меня. Если бы он убил Зехру на полгода раньше, он бы тогда засватал не меня, а Диляру, старшую дочь Абдулжамала Азизова, и к тому же более красивую, чем я. Но когда сватали Диляру, жена Джамалутдина-ата еще была жива. Вот так и получилось, что Диляре достался добрый и спокойный муж, который со дня свадьбы ее ни разу пальцем не тронул, а я уже четыре дня трясусь от страха, прекрасно понимая, что меня ждет.
* * *
– Салихат!
Я захожу в комнату, втянув голову в плечи и, не поднимая взгляда от выскобленных добела половиц, останавливаюсь перед отцом. Он опирается на стол одной рукой, колени широко расставлены. Я знаю, что за его спиной Жубаржат – хотя и не вижу ее – опустила глаза.
– Тебе понадобится все, что полагается к свадьбе.
Это не вопрос, это утверждение, и я молча киваю, соглашаясь. Если я сейчас заговорю, из глаз польются слезы и тогда в меня наверняка полетит что-нибудь, до чего отец сможет дотянуться.
– Свадьба через две недели.
Так скоро! Я цепенею от ужаса. Я надеялась, что это произойдет ближе к зиме. Или хотя бы ранней осенью. А теперь только июнь. В свой день рождения я проснусь уже замужней. О Аллах, почему ты посылаешь мне такое испытание? Может, еще не поздно все исправить?
– Отец… – умоляюще шепчу я.
Жубаржат за его спиной делает страшные глаза и мотает головой. Но я не обращаю внимания, ведь сейчас решается моя судьба. Хотя на самом-то деле она уже давно решена – в день, когда я появилась на свет.
– Отец, пожалуйста…
– Ты что сказала, Салихат? – Брови отца сходятся на переносице, это очень тревожный знак, но страх перед скорым замужеством лишает меня остатков разума.
– Прошу, не отдавай меня Джамалутдину-ата. Ты знаешь, что он сделал со своей женой…
– Его жена была шлюха! – Слова, хлесткие как плеть, вылетели из отцова рта вместе со слюной. – И получила по заслугам. Если ты сделаешь, как она, я сам тебя убью, а не твой муж. Ты поняла?
Я киваю, хотя и не знаю, что именно сделала покойная Зехра. Ноги дрожат противной дрожью, руки липкие от пота, я кусаю губы, чтобы не разрыдаться. Это была единственная попытка сопротивления, на большее я не способна. И отец это прекрасно понимает. Помолчав какое-то время, достаточное, чтобы я пришла в себя, он продолжает спокойным голосом:
– Через неделю из Махачкалы приедет твоя тетя Мазифат, привезет свадебный наряд и останется помочь с торжеством. Перед свадьбой из соседних сел приедут другие мои сестры, которых мужья согласились отпустить. Гости приедут отовсюду, еду придется готовить несколько дней подряд. Со стороны Джамалутдина будет много родственников. Он уважаемый человек, не хочу, чтобы люди потом судачили за моей спиной, будто я пожалел чего-то для дочери. Теперь можешь идти. Если к моему возвращению хинкал не будет горячим, шкуру спущу.
Не припомню, когда в последний раз отец обращался ко мне с такой долгой речью. Сегодня он уделил мне целых десять минут. Обычно все происходит куда быстрее: сначала приказ что-то сделать, потом расправа (когда на тебя сыплются колотушки, минуты длятся бесконечно). Но чаще всего он просто молча смотрит на меня одним из своих грозных взглядов, и не нужно слов, чтобы я опрометью кинулась выполнять то или это.
Я иду, ничего не видя вокруг, спотыкаясь, как слепая. Отчаяние, плотное, как тесто для хинкала, залепило мои глаза и легкие, так что я ничего не вижу и почти не могу дышать. До этого момента во мне теплилась робкая надежда, что отец передумает, что не сможет он отдать меня убийце, даже если Джамалутдин-ата пообещал ему объединить деньги в бизнесе. Я отказываюсь верить, что меня продали, словно вещь, завалявшуюся на полке магазина. Странно, но мысль о том, что многих девочек на нашей улице охотно отдают замуж за первого посватавшегося, лишь бы поскорее сбыть с рук, а не ради денег, не внушает мне такого отвращения, как сделка между отцом и Джамалутдином-ата.
Я забиваюсь в укромный уголок под навесом, где отец хранит инвентарь, чтобы он не увидел, что я прохлаждаюсь. Хочу немного посидеть в тишине и спокойно подумать. Надо, чтобы руки перестали трястись, а тело – исходить липким потом. Может, не все так страшно, как кажется. Если хорошенько подумать, в этом замужестве наверняка найдутся и положительные стороны, ведь все события посылает нам Аллах, да не оскудеет милость Его.
Вспоминаю все, что слышала о Джамалутдине-ата. Но прежде пытаюсь представить его лицо – и не могу. Я попросту никогда на него не смотрела, хотя мы и встречались иногда на улице. Всякий раз я так поспешно опускала голову, что успевала заметить лишь внушительную фигуру и крупные руки с пальцами, поросшими волосами. Именно эти руки задушили несчастную Зехру. Я вздрагиваю и тотчас прогоняю ужасную мысль, не хочу об этом думать, не хочу. Я не знаю, красивый Джамалутдин-ата или нет, совсем старый или не очень. Его старший сын недавно женился, отец гулял на свадьбе, рассказывал потом, как все было хорошо организовано, не стыдно людям в глаза смотреть. Значит, Джамалутдин-ата никак не может быть молодым. Повезло Диляре – мало того что муж ее не бьет, так он еще и одних с нею лет. Может, поэтому они так хорошо живут, и Диляра не нарадуется. Одно только плохо – беременность все не наступает, и свекровь разносит дурные сплетни о сестре по соседнему селу.
Возвращаюсь мыслями к будущему мужу. Его дом стоит на краю села, почти у самого родника. Теперь мне не придется далеко ходить за водой. Дом обнесен высоким забором, со двора на улицу свешиваются ветви абрикосов, летом густо усыпанные спелыми плодами. У Джамалутдина-ата есть машина, новая «десятка», на ней он каждый день уезжает по делам. Дорога в город проходит мимо нашего двора, так что я наверняка это знаю. Значит, дома он бывает не так уж и часто. Говорят, у него водятся деньги, и дом полон всяких дорогих вещей. Я не привыкла к роскоши и заранее робею: а ну как не смогу управляться по хозяйству? Но на этот случай есть Расима-апа, которая Джамалутдину-ата вместо матери и живет с ним, она мне все покажет и будет давать наставления. Конечно, мне придется во всем ее слушаться и угождать, так делают все женщины, они обязаны выполнять малейшую прихоть матерей своих мужей. Еще в доме живут оба сына Джамалутдина-ата и его невестка. Надеюсь, мне удастся подружиться с этой девушкой. Слышала, ее взяли из села, где живут Диляра и две мои тетки, сестры отца. Хотя свадьба была еще в марте, я ни разу не видела ее у родника и вообще на улице. Интересно, кто у них ходит за водой? Ведь не сама же Расима-апа? Младший сын Джамалутдина-ата еще мальчик, жену ему подыщут нескоро.
Кто-то меня зовет. Это Жубаржат. Я смотрю на солнце, оно в зените, и вздрагиваю от ужаса: скоро вернется отец, а теста еще и в помине нет! Несусь через двор к дому. Жубаржат стоит на крыльце и, приставив ладонь козырьком ко лбу, высматривает меня. Вторая рука лежит на животе, где ждет своего часа маленький. Жубаржат надеется, что будет мальчик. Девочек уже хватит, от них никакого толку, а от сыновей женщине уважение, и муж с каждым новым мальчиком становится добрее.
– Ну что ты себе думаешь, Салихат! – выговаривает она, пытаясь казаться строгой, а у самой в глазах жалость пополам с нежностью. – Или синяки от той палки уже все сошли, еще захотелось?
Я пытаюсь что-то сказать в свое оправдание, но она перебивает:
– Все знаю. Сама засватанной была. Ох, и страшно мне тогда было! Не знала, какая жизнь меня ждет. Плакала, в ногах у отца валялась, умоляла не отдавать за Абдулжамала. Побоев мне за тот месяц досталось больше, чем за все годы замужества. А сейчас не устаю славить Аллаха, что послал мне мужа и таких прекрасных деток. Пойдем, помогу тебе с тестом, пока малыши спят. Я их только уложила, так что все успеем.
Благодарно прижимаюсь щекой к плечу Жубаржат. Как я буду без нее? Сначала без Диляры, а теперь еще и без мачехи. Привычно отгоняю грустные мысли, а заодно и слезы, что в который раз наворачиваются на глаза. Сейчас не время жалеть себя, надо поспешить с обедом. Обычно это обязанность Жубаржат, но как только меня засватали, отец велел мне готовить обеды самой, чтобы я как следует научилась для мужа.
Усаживаемся с Жубаржат за стол на кухне и начинаем месить тесто. Я хорошо умею делать хинкал. Подготовленные для варки квадратики выходят у меня такими же ровными, как у Жубаржат. Наши пальцы заняты работой, и мы спешим поговорить, пока не вернулся отец, – даже дети боятся шуметь в его присутствии. Я спрашиваю у Жубаржат, как это было, когда ее засватали. Раньше мне не полагалось расспрашивать о таких вещах, ведь до прихода Расимы-апа в наш дом я считалась девочкой. А теперь самое время, и я жажду узнать подробности, о которых Жубаржат посчитает возможным рассказать.
– Мне только-только исполнилось шестнадцать. – Голос Жубаржат льется спокойно и неторопливо, словно она рассказывает историю давно минувших дней, случившуюся с кем-то другим. – Совсем как ты была, только тебе уж семнадцать вот-вот. Я и подумать не могла, что скоро стану замужней. Ведь моя старшая сестра вышла замуж в девятнадцать. Мама очень нас любила, хотела, чтобы мы подольше не покидали дом. Но отец решил иначе. Мама и слова сказать не посмела, когда одна из сестер Абдулжамала пришла по мою душу, только плакала тайком вместе со мной. А что еще она могла? Я знала, что Абдулжамал до того дважды был женат и что первая его жена умерла, а вторую он прогнал. Боялась, вдруг и со мной что-нибудь плохое случится. Не хотела идти за старика, у которого дочери уже почти взрослые. Да только кто меня спрашивал? – Она грустно качает головой, потом тихонько охает, прикладывая руку к животу, видать, ребеночек пнул ножкой. – Каждый раз, как начинала умолять отца меня пожалеть, он приходил в ярость. Ну точь-в-точь как Абдулжамал сейчас. Я, когда вижу, как он на тебя гневается, сразу те дни вспоминаю, когда сама засватанной ходила. И так жутко становится, будто все вчера было. – Она замолкает, сосредоточенно нарезая квадратики теста.
– Ну а дальше? – нетерпеливо подгоняю я ее. – Что дальше было?
– О Аллах, что за любопытство! Погоди, сама узнаешь. Две недели быстро пролетят.
– Пожалей меня, скажи, что дальше будет. – В моем голосе мольба, я все, что угодно, готова сделать, лишь бы она продолжала.
– А ну как ты в арык кинешься, – упрямится Жубаржат, но я вижу, что она это только для виду, ей и самой хочется поделиться своей историей, ведь больше-то не с кем. – Да что было? Колотил меня отец чуть не каждый день, думала, места живого не оставит, но потом я умнее стала, поняла – просить бесполезно, не то мертвой стану от побоев. Через месяц свадьбу гуляли. Увидела я Абдулжамала, когда мулла над нами стал обряд делать, и заплакала, таким он мне страшным показался. Так и проплакала до вечера, хорошо, что накидка плотная была.
– И что стало, когда пир закончился? – Я широко распахиваю глаза, понимая: задай я такой вопрос кому другому, плохо бы мне было.
Бледные щеки Жубаржат вспыхивают, она смущенно отводит глаза и бормочет:
– Вай, Салихат, это слишком! Узнаешь, когда время придет. Скажи лучше, ты ведь… девушка? – выдавливает она.
Теперь мой черед краснеть. Я знаю, о чем она. Но ни один мужчина не касался меня и не видел без одежды. Конечно, я честная девушка и Жубаржат это знает.
– Тогда все пройдет хорошо, – кивает она, увидев ответ в моей вымученной улыбке.
– Что пройдет?
Можно лишь догадываться. Смутные знания «об этом», почерпнутые в основном из туманных намеков Диляры, лишь усиливают страх и жгучее чувство стыда, ведь порядочной девушке не пристало не то что спрашивать – даже думать о таких вещах. Будь у меня мама, она бы мне шепнула что-нибудь «об этом» перед свадьбой, но мамы нет, и Жубаржат придется взять эту миссию на себя. Наверняка она и Диляру наставляла.
– Брачная ночь, что ж еще. Наутро платок покажут всему селу.
– Вах, стыд какой! – Я прикрываю рот белой от муки рукой.
Жубаржат кусает губы. Если Абдулжамал узнает, что она такие разговоры со мной водит, прибьет, несмотря на ее живот.
– Если крови не будет, лучше бы тебе не родиться на свет. Всю семью опозоришь. Муж вернет тебя, и отец со стыда на глаза соседям не сможет показаться. Кровь – вот что главное в день твоей свадьбы, Салихат. Чем ее больше, тем лучше.
– А откуда она берется?
– Оттуда, – шепчет Жубаржат, делая большие глаза, и стонет: – Ну же, хватит, Салихат, не мучь ты меня, ради Аллаха!
– Но мне надо знать, – кухня плавится от жара печи, но я дрожу, будто зимним вечером выбежала во двор в одном платье, – надо знать, Жубаржат, миленькая, ведь сама-то ты…
– Да я-то ничегошеньки не знала! – перебивает она меня почти сердито. – Все случилось, когда нас с Абдулжамалом отвели в комнату, где я теперь детей рожаю. Пришлось потерпеть, но ничего, жива осталась. Я так тебе скажу – побои больнее. Главное, не сопротивляйся и мужа слушайся. Помни, так в Коране написано. А то кровь у тебя не только из того места пойдет, откуда надо. Муж все равно будет бить, без этого никак, но не в первую же брачную ночь. Как потом к гостям-то выходить, подумай.
– Я так боюсь его, Жубаржат. Не знаю, в чем Зехра провинилась, но ведь не настолько, чтобы умереть. А что, если и меня…
– Молчи, дурная! – Теперь Жубаржат уже по-настоящему разозлилась. – Мало ли что с этой Зехрой стало, не наше это дело. Аллах карает только виновных! Не перечь мужу, рожай ему исправно детей и будешь жить не хуже, чем другие. Ну хватит болтать, – она решительно встает и ставит на огонь кастрюлю с куриным бульоном, – пора варить хинкал.
Я передаю ей большую доску с нарезанными квадратами теста, сметаю со стола остатки муки и протираю столешницу мокрой тряпкой. Понимаю, что разговор закончен, продолжения не будет. И так Жубаржат сказала куда больше, чем дозволено. Но все же не выдерживаю, подхожу к мачехе, осторожно опускающей тесто в закипевший бульон, и шепчу ей в ухо:
– Скажи, а это очень больно?
Она охает, замахивается на меня, и в этот момент у нее начинаются роды.
2
Тетя Мазифат сидит в тени старого абрикоса и шумно прихлебывает чай из щербатого блюдца, вприкуску с колотым сахаром. На дворе печет, тете жарко от горячего чая, она то и дело утирает лицо краем широкого платка, наброшенного на голову, и внимательно наблюдает за тем, как я пеку хлеб в глиняном очаге под навесом. Мне еще жарче, чем тете Мазифат, но она может оставить свое занятие и уйти в дом, а я не могу: печь хлеб – моя обязанность с десяти лет. Надо следить, чтобы лепешки были ровными и не подгорали с одного боку. Я вынимаю из печи готовый хлеб, кладу на покрытую чистой тряпицей доску и принимаюсь за новую партию. Хлеба требуется много, дети Жубаржат растут и постоянно голодны, а теперь и самой Жубаржат нужно хорошо питаться.
Она уже неделю не выходит из спальни – восстанавливает силы после тяжелых родов. Они случились на месяц раньше срока – по моей вине. До сих пор в ушах стоят ее ужасные крики. Жубаржат никогда не кричала так прежде, она легко родила шестерых детей, но маленький Алибулат, хоть и родился недоношенным, видать, отыгрался за своих братиков и сестричек. Так сказала Жубаржат, когда я зашла ее проведать после того, как все кончилось. Странно, но она совсем на меня не сердилась, только улыбалась измученной улыбкой да сжимала и разжимала пальцы, между которыми был зажат край одеяла. Я заплакала, а она принялась меня утешать и говорить, что я вовсе ни при чем, просто Алибулатику не терпелось выйти наружу.
– Даже хорошо, что он такой нетерпеливый оказался. В жару с животом тяжко. А теперь ничего, дышать сразу легче.
Но из комнаты она по-прежнему не выходит, хотя пошел уже восьмой день. Тетя Мазифат говорит, что Жубаржат скоро поправится. Она поит ее целебными настоями из горных трав. Я молю Аллаха, чтобы вернул силы мачехе. Если она умрет, что мы будем без нее делать? Особенно младенец, ведь ему нужно материнское молоко. Правда, если в нашем доме случится покойник, свадьбу отменят. Но я гоню прочь нечестивые мысли, я ругаю себя последними словами, я готова хоть завтра стать женой Джамалутдина-ата, только бы Жубаржат поправилась.
Я люблю тетю Мазифат больше других сестер отца. Она самая младшая из них, поэтому почти молодая. Старший сын тети Мазифат, мой двоюродный брат Гаффар, учится в университете. Он привез ее вчера на «Жигулях» дяди Ихласа и сразу уехал обратно. Они потом вместе приедут на свадьбу: дядя Ихлас, Гаффар и две мои двоюродные сестры.
Зарема и Зарифа давно окончили школу, но дядя не разрешает им учиться дальше, он подыскивает им достойных женихов и не скрывает, что обе дочери засиделись в невестах. Еще немного, и их никто не возьмет, даже в таком современном городе, как Махачкала. Тетя Мазифат считает, что у дочек появилось бы больше шансов найти мужей, если бы они хоть иногда выходили из дому, но дядя с ней не согласен. А как он разозлился, когда Гаффар предложил познакомить Зарему с хорошим парнем со своего курса! Тот как-то увидел Зарему возле ее дома, когда ждал Гаффара, и влюбился. Но родители парня недостаточно богаты, чтобы породниться с дядей Ихласом. Тетя Мазифат звонила моему отцу и кричала, что по милости мужа дочка старой девой останется. Я как раз мыла полы в зале, где стоит телефон, и все слышала.
И вот теперь тетя сидит под абрикосом и пьет чай. Вид у нее довольный, еще бы: позвали помогать со свадьбой, а значит, ей большое доверие и почет. Она уважаемая женщина, единственная из большой семьи Азизовых живет в Махачкале. И муж у нее уважаемый человек: заместитель директора в крупной торговой фирме. Всего у отца шесть сестер. Когда-то было девять, но три умерли, четверо замужних раскидало по соседним селам, а самая младшая не замужем и живет с моей бабушкой, матерью отца, которая уже такая старенькая, что не выходит из дому, и тетя Шерифа за ней ухаживает. Она не вышла замуж, чтобы остаться с престарелыми родителями, и я ни разу ее не видела – дом, где родился и вырос отец, стоит далеко, по ту сторону гор.
Тетя Мазифат привезла мне свадебный наряд. Это расшитое серебряными нитями белое платье, а к нему – фата из плотной непрозрачной материи, шаровары и туфли. Украшения прислал Джамалутдин-ата, это его свадебный подарок. Вчера по просьбе тети я примерила наряд и расплакалась. Тетя молча прижала меня к необъятной груди и покачивала, как маленькую, пока я не успокоилась. Она помогла мне снять все эти красивые вещи и убрала их в сундук, пусть пока полежат, сказала она, будто свадьба не через неделю, а через сто тысяч лет. Все-таки тетя любит меня, как родную дочку, хотя мы видимся очень редко. Я бы хотела, чтобы у моей матери была сестра, и чтобы она жила в нашем селе. Тогда я бы не чувствовала себя так одиноко.
В последние дни мои мысли путаются и скачут в разные стороны, словно резиновые мячи. Все, за что ни возьмусь, валится из рук, сегодня утром я чуть кипяток на себя не вылила, когда стирала одежду. Только Аллах уберег от беды. Я говорю себе, что это из-за усталости, потому что Жубаржат болеет и не может заниматься делами по дому, у нее хватает сил только чтобы ухаживать за младенцем, а остальные дети сейчас на мне. Их надо помыть, покормить, поменять им грязную одежду, поругать за шалости… Хорошо, что приехала тетя Мазифат. Она мне сильно помогает, хотя и не обязана. Она гостья в нашем доме и должна целыми днями пить чай под абрикосом или ходить в гости к соседкам. Но тетя понимает, что мне тяжело, и охотно берется помочь с обедом или последить за детьми. Но, конечно, всю грязную работу приходится делать мне самой. Тетя качает головой, она недовольна, что я так надрываюсь и ничего не ем, а сегодня утром сказала отцу, что на меня смотреть страшно, такая я изможденная. И о чем он только думает, ведь меня выдавать через неделю. Отец разозлился, накричал на тетю Мазифат и уехал. Я заверила ее, что нисколечко не устаю, а про себя подумала: хорошо бы мне сильно заболеть и подурнеть настолько, чтобы Джамалутдин-ата увидел меня в день свадьбы и передумал жениться. Будет позор, и меня больше никто не засватает. Но это не так уж и плохо. У отца я не останусь, уеду в Махачкалу к тете Мазифат, там окончу школу, курсы и стану продавщицей в магазине. А когда отец умрет, вернусь в село и буду жить с Жубаржат.
Все это только мечты. Я знаю – свадьба состоится, но уже не боюсь. Я просто устала плакать и бояться. Тетя и Жубаржат смотрят на меня с подозрением, наверное, думают, что я замыслила нехорошее. Но это не так. Пусть будет что будет. Во мне что-то надломилось и умерло, и стало все равно. Я продолжаю вставать затемно, готовить завтрак после молитвы, заниматься детьми, убирать в доме и ходить за водой, но все это делаю будто не я, а другая девушка. И от этого мне становится немного легче.
– Салихат, девочка!
Я отрываю взгляд от очага, где подрумянивается хлеб, и смотрю на тетю Мазифат. Она манит меня пальцем.
– Иди сюда.
Дожидаюсь, пока лепешки пропекутся, вынимаю их, заливаю угли и только тогда иду к тете. После спасительной тени навеса раскаленный двор прижимает зноем к земле. Скорее под новую тень, теперь уже от абрикоса.
– Что, тетя? Еще чаю вам принести?
Она качает головой.
– Иди, спроси у Жубаржат, не надо ли ей чего. Хлеб оставь, я сама в дом отнесу. Отдохни немного, ты так раскраснелась. Слышишь, да?
– Не могу. Скоро отец вернется, он просил чуду с курятиной к обеду испечь.
– Чуду я сама испеку! Иди, иди, – машет она нетерпеливо. – Лучше побудь с Жубаржат, плохо ей, бедняжке, там одной.
Я ни за что в этом не признаюсь, но рада немного побыть в прохладе комнат. Нынче на улице и правда печет, будто и не июнь вовсе, а начало августа. Открываю дверь на половину Жубаржат и сразу глохну от криков малышни, которая вся собралась в одной комнате. Кто играет на полу, кто дерется, кто бегает друг за другом. Слишком жарко, чтобы выгонять их во двор, а время дневного сна еще не подошло. Растаскиваю дерущихся старших, меняю штанишки обеим сестренкам (младшая еще не умеет ходить, ползает по голым доскам пола), навинчиваю колеса на старую-престарую машинку Шамиля и Шахбаза и только потом вхожу в спальню Жубаржат.
Там душно, окно занавешено, пахнет испражнениями младенца и потом Жубаржат. Постель пуста, грязные простыни сбиты на сторону. Жубаржат качает люльку, в которой покряхтывает Алибулат. Даже в полумраке вижу, как похудела Жубаржат, рубаха болтается на ней, запястья стали совсем тонкими. Она поворачивает ко мне бледное, без кровинки лицо и улыбается.
Сердце сжимается от жалости к ней. А она, наверное, жалеет меня, потому что говорит:
– Я сегодня уже хорошо себя чувствую. Вот оденусь и помогу тебе.
Протестующе машу руками:
– Ты сумасшедшая, да? Посмотри, какая ты бледная, снег и тот не такой белый. Ложись в постель, я покачаю. – Подхожу к люльке, заглядываю внутрь. – Он уже заснул, видишь? Ложись. Нет, погоди. Дай сначала белье перестелю.
Жубаржат обессиленно опускается на голый пол. На лице облегчение, но при этом она продолжает спорить:
– Салихат, сестренка, из-за меня тяжело тебе. В чем только душа держится? У тебя свадьба скоро, ты должна быть самой красивой невестой. Если не по хозяйству, так хоть с детьми немножко побуду, ты лишний час отдохнешь. Они вон какие беспокойные, целый день скачут.
– Куда тебе к детям, – ворчу, взбивая подушки. – И так покоя тебе не дают, то один забежит, то другой. Не волнуйся, ничего с ними не сделается. Скоро обедом их накормлю и спать уложу, а после, как жара спадет, на двор выгоню до ужина. Тетя Мазифат мне помогает. Ты скажи, что хочешь есть? Чаю с хлебом или, может, хинкал? С вечера остался, погреть могу. Или вот тетя скоро чуду с курятиной испечет, принести тебе?
– Чуду я бы съела. – Жубаржат вытягивается на расправленных простынях, вздыхает облегченно. – Молоко плохо идет, Алибулатик голодным остается, засыпает плохо. А у меня сил нет на руках его носить. Такая слабость, хоть плачь.
– Тебе отдохнуть надо, выспаться. Хочешь, малыша к себе возьму? Буду приносить, только чтобы ты его кормила.
– Не привыкла я столько отдыхать. Вот и Абдулжамал ругается, заходил сегодня, сказал: что валяешься, ребенок уже скоро ногами пойдет, а ты все лежишь. Говорит, если до конца недели не начну работать по дому, он с плеткой придет, быстро на ноги поставит. Да я и сама понимаю, что вставать надо. На свадьбе должна быть, хочу посмотреть, какая ты будешь нарядная. Платье-то примеряла уже?
– Да, вчера.
– Красивое?
– Как у Диляры было, даже лучше.
– Ну вот, опять плачет, только этого не хватало. Салихат. Салихат!
Я, нагнувшись над колыбелькой, прячу лицо, чтобы Жубаржат не видела моих слез. Но она зоркая. А может, распознала эти самые слезы в моем голосе, шайтан их забери. Вот ведь, а я была уверена, что уж все выплакала.
– Смирись, – говорит Жубаржат, и ее голос необычно тверд. – Это только вначале тяжело, потом полегчает. Родишь первенца, если Аллах пошлет мальчика, тебя уважать станут, муж не так сильно будет бить. По хозяйству ты управляешься, все хорошо делаешь, Расима-апа порадуется такой помощнице.
– Мы с тобой и видеться не будем, – горько шепчу я, вглядываясь в личико Алибулата и представляя, что это мой собственный сынок, тот первенец, за которого мне будет уважение.
– А родник на что? За водой-то теперь мне ходить. Дочки еще не скоро подрастут.
– Ведь и правда, сколько теперь тебе лишней работы делать…
– Без тебя я бы с самого замужества все одна делала. Тебе теперь тоже достанется, только успевай вертеться. Дом-то у них огромный: и кур держат, и сад фруктовый. Правда, невестка Джамалутдина-ата по хозяйству помогает, да только кто знает, добрая она или злая, ты ведь младшей в семью войдешь, а ну как будут тобой помыкать… Ну вот, опять расплакалась, а я-то хороша, отними шайтан мой язык, говорю всякий вздор! Ты меня не слушай, подружишься с ней, она ведь тоже молоденькая, и деток у нее пока нет. Так что вместе как-нибудь…
– Принесу чаю.
Опрометью выскакиваю из комнаты, не слушая возражений Жубаржат, но вместо кухни бегу в свою комнатку, падаю на топчан и даю волю слезам, чтобы к возвращению отца предстать перед ним спокойной и безучастной – какой он привык меня видеть все эти дни.
3
Пути назад нет, я стала женой Джамалутдина Канбарова. Несколько часов назад сельский мулла совершил над нами никах и свадебный пир в самом разгаре. Мы сидим за длинными столами в просторном дворе Джамалутдина. Столы поделены на мужские и женские. Для пожилых родственников и старейшин устроен отдельный стол на небольшом возвышении, туда подносят самые вкусные блюда и в первую очередь. Бьют в тамбурины, кто-то танцует в центре двора, но в основном все едят и пьют. Я ничего не ем, только иногда делаю глоток воды из стакана, который стоит рядом с моей нетронутой тарелкой.
Мне жарко, солнце палит, на мне плотное платье до пят, шаровары и фата, скрывающая волосы и лицо. Я не смотрю по сторонам, не слышу, что говорят все эти женщины, что склоняются ко мне и, должно быть, поздравляют – они улыбаются, кивают и ободряюще похлопывают меня по плечу. Раньше я не думала, что настанет момент, когда я не смогу чувствовать ни боли, ни страха, ни запахов, ни звуков. Осталась только жара, но я с ней почти свыклась, и она мне не досаждает. Я боюсь только одного: что на глазах у гостей потеряю сознание. В детстве я несколько раз теряла сознание, когда отец чересчур сильно избивал меня палкой. Просто проваливалась в темную липкую тишину, а спустя какое-то время открывала глаза и понимала, что наказание закончилось, осталась лишь боль от перенесенных ударов. Но потеряй я сознание сейчас, то, когда приду в себя, ничего не закончится. Наоборот, все только начнется. Я набираю в грудь больше воздуха и снова делаю глоток. На еду смотреть не могу, хотя ничего не ела со вчерашнего утра. От всех этих запахов и вида дымящихся тарелок у меня спазмы в животе. Женщины, помогавшие с готовкой, превзошли сами себя: жарили, варили и пекли целых три дня. Шампанское и водка льются рекой. Конечно, алкоголь пьют только мужчины, у женщин на столах вода и лимонады.
Рядом со мной, по обычаю, должен сидеть муж. Нас должны были посадить за отдельный стол, чтобы все на нас смотрели, но Джамалутдин решил иначе. Он остался на мужской половине, ко мне подошел только один раз и спросил, все ли в порядке, а когда я поспешно кивнула, сразу ушел. И вот теперь он среди мужчин, громко смеется и ест шашлык. Я время от времени украдкой смотрю на него, но не дольше секунды, иначе мне совсем дурно станет. Как хорошо, что нас не посадили рядом. Тогда бы я уж точно сознание потеряла.
Чья-то рука, унизанная золотыми кольцами, кладет мне на тарелку кусок баранины из плова. Слегка поворачиваю голову влево – это Расима-апа. Она широко улыбается, а у самой в глазах такое, что я поспешно отвожу взгляд.
– Что не ешь ничего? Так не годится, дочка. Силы тебе сегодня понадобятся.
Она подмигивает, слышится женский смех.
Я вспыхиваю, осознав смысл ее намека, послушно беру кусок мяса, подношу ко рту. С мяса капает жир, от густого запаха баранины тошнота подкатывает к горлу, и я поспешно кладу его обратно, вытираю пальцы о край скатерти. Расима-апа хмурится и обиженно поджимает губы, но мне все равно. Отщипываю от лепешки кусочек и кладу в рот, пытаюсь проглотить, но сухое тесто обдирает горло и просится обратно. Ловлю на себе взгляд невестки Джамалутдина. Она сидит напротив меня, на ней нарядное платье и расшитый золотыми нитями платок. Взгляд у Агабаджи равнодушный: ни любопытства, ни сочувствия, а ведь нам жить под одной крышей. Личико хорошенькое, но слишком худое и бледное. Выглядит она как четырнадцатилетняя, хотя на самом деле старше меня на год. Агабаджи рассеянно ест чуду и запивает лимонадом. Когда она встает, чтобы дотянуться до блюда с курзе[2], я понимаю, что она беременна. Срок, наверное, еще не очень большой, но под платьем отчетливо обозначился округлый животик.
Ищу глазами Диляру. Она должна сидеть за соседним столом, но сейчас ее место пустует, она куда-то отлучилась. Мы так давно не виделись, я хочу обнять ее, расспросить, как у нее дела. Надеюсь, получится, если не сегодня, то хотя бы завтра. Диляра и ее муж останутся ночевать в доме моего отца, так же, как и другие родственники, приехавшие из соседних сел. Завтра второй день свадьбы, на который по традиции приходят только самые близкие люди.
Кто-то касается моего плеча. Я вздрагиваю, почему-то уверенная, что это Джамалутдин. Но вместо него вижу Диляру и вздыхаю от облегчения.
– Сестренка, – говорит она. – Поздравляю.
Говорит так, будто и впрямь за меня рада. Будто это самый счастливый в моей жизни день.
– Иди к пристройке за домом. Я сейчас туда приду, – шепчу, чтобы не услышала Расима-апа.
В глазах Диляры сомнение, но, помедлив, она все же кивает и отходит. Я выжидаю минут пять, потом поднимаюсь, бормочу что-то насчет острой надобности и покидаю свое место за столом, провожаемая любопытными женскими взглядами. По счастью, столы мужчин далеко, и вездесущее око отца не может уследить за тем, что я нарушаю правила. Хотя отныне я принадлежу не отцу, а Джамалутдину, страх перед неограниченной властью Абдулжамала еще долго будет меня преследовать. Но мне невмоготу, хочу поговорить с сестрой. Быть может, тогда станет чуточку легче.
Диляра ждет, спрятавшись за дверью пристройки. Здесь тихо, звуки музыки и голосов со двора сюда почти не доносятся. Втаскиваю сестру внутрь и стягиваю с себя ненавистную фату. Мои волосы слиплись от пота, он стекает тонкими струйками за высокий ворот платья. Диляра прижимает меня к себе крепко-крепко. Как же я по ней соскучилась! Словно не год прошел с момента ее замужества, а целая жизнь.
– Как ты, Салихат? – ласково спрашивает Диляра.
Этого достаточно, чтобы слезы, скопившиеся внутри, хлынули рекой. Я плачу и не могу остановиться. Мне кажется, вместе с рыданиями из тела выходит моя душа. Диляра напугана, она пытается меня успокоить, усаживает на стопку пустых джутовых мешков, дует мне в лицо, говорит, что я испорчу макияж и платье. Все без толку. Проходит, должно быть, не меньше десяти минут, прежде чем рыдания начинают стихать. Вот зачем, оказывается, я позвала Диляру – чтобы она задала всего один вопрос, который заставил слезы вырваться наружу, словно гной из нарыва.
– Ну что ты, что? – Диляра берет мое лицо в ладони и заглядывает в глаза. – Перенервничала, бедняжка? Жарко тебе, новые туфли жмут? Живот болит?
– Я не хочу за него… – Мои губы снова начинают трястись, но слез уже нет, они все вытекли.
– Но ведь ты уже его жена, дурочка, – ласково говорит Диляра. – Ничего тут не поделаешь. Радоваться надо, ты теперь замужняя женщина.
– Ты знаешь про его первую жену? – Я в упор смотрю на сестру.
Она опасливо озирается на дверь и поспешно – слишком поспешно – отвечает:
– Ничего не знаю. Только то, что она умерла. Женщины в наших краях часто умирают, Салихат. Но с тобой все будет хорошо.
– Я его боюсь. Боюсь того, что будет вечером. Мне ведь есть чего бояться, да?
– Нет, – твердо отвечает Диляра и ставит меня на ноги. – Нечего, если ты сейчас же вернешься на свое место. А вот если тебя найдут здесь зареванную, нам обеим достанется.
– Тебе повезло. Назар и пальцем тебя не трогает…
– Одну пощечину я уже заработала, – усмехается Диляра. – Но я ее заслужила. Правда, Назар потом прощения просил, и я простила, а что еще оставалось?
– И он у тебя такой красивый, не то что Джамалутдин…
– Твой муж тоже красивый, Салихат, – отвечает Диляра, осторожно промокая мне лицо подолом длинной юбки. – Ты разве не заметила?
Я смотрю на сестру в изумлении. Должно быть, от жары у нее помутился рассудок. Джамалутдин – красивый?
– То есть я, конечно, не заглядывалась на него, – поспешно добавляет Диляра. – Но у многих мужья куда страшнее, Салихат.
Осмысливаю ее слова, пока Диляра приводит меня в порядок. Признаюсь, я тоже сегодня украдкой смотрела на мужа, и не один раз, а целых три или четыре. Мне он показался очень высоким – выше моего отца почти на голову, – широкоплечим и крепким. Волосы у Джамалутдина темно-русые и слегка вьются у шеи и на висках, кожа довольно светлая, особенно по контрасту с темной короткой бородкой. Нос длинный и широкий, губы плотно сжаты, как будто он сильно разозлился. Но если Джамалутдин начинает смеяться, вся суровость исчезает, и он перестает казаться таким старым, хотя на самом деле ему уже сорок два года.
– Ну вот теперь почти хорошо. – Диляра отстраняет меня и критически разглядывает. – Можешь возвращаться. Тебя наверняка уже хватились. И не плачь больше.
Я послушно направляюсь к двери, но Диляра меня удерживает.
– Погоди. Что еще хотела сказать… – Она краснеет. – У меня будет маленький. Зимой…
Я охаю и кидаюсь ее обнимать. Теперь свекровь перестанет нашептывать Назару, чтобы вернул бракованную жену и взял ту, которая способна понести. Диляра смущенно смеется и отрывает мои руки от своей шеи.
– Ты меня задушишь. Ну все, хватит! Пора возвращаться.
Расима-апа встречает меня враждебным взглядом. «Где тебя носит?» – вопрошает этот взгляд.
– Живот прихватило, – не задумываясь, вру я.
– С чего бы вдруг? Ты ведь ничего не ешь, – подозрительно щурится она.
– Это еще с вечера. Должно быть, от волнения.
На этот раз она мне верит. А я вдруг отчетливо понимаю, что отныне моей жизнью будет управлять куда более беспощадная сила, чем отец.
И от этой мысли живот болит уже по-настоящему.
Праздник продолжается до позднего вечера. Когда на столах почти не остается еды и молодежь уже устала танцевать под дробный перестук тамбуринов, а старики дремлют сидя, опершись на поставленные между ног суковатые палки, ко мне подходит Джамалутдин, и разговоры вокруг смолкают.
Я ждала этого момента со смирением приговоренного к смерти, поэтому медленно поднимаюсь, опустив глаза, не в силах посмотреть на человека, который по воле Аллаха и с благословения муллы получил безграничную власть надо мной.
Расима-апа тоже поднимается, на ее жирных от плова губах блуждает усмешка, глаза блестят в предвкушении чего-то, что мне еще не ведомо, но скоро – очень скоро – станет моим кошмаром. Я это чувствую, хотя не могу знать наверняка. А Расима-апа точно знает, не зря она так улыбается. Она много лет прожила замужней, а когда ее муж умер, Джамалутдин взял ее в свой дом смотреть за хозяйством. Дочери Расимы-апа давно замужем, а сыновей Аллах ей не дал. Поэтому Джамалутдин ей вместо сына.
Под взглядами гостей мы идем к дому. Внутри я еще не была. В другое время я бы с любопытством стала смотреть по сторонам, шутка ли: дом самого уважаемого человека в селе. Но теперь этот человек – мой муж, и я покорно иду следом за ним туда, где пройдет наша брачная ночь. Расима-апа замыкает маленькую процессию.
Открывается дверь, меня вводят в комнату, зачем-то сунув в руки белый платок, и дверь захлопывается. Расима-апа и Джамалутдин остаются снаружи, я слышу их приглушенные голоса, но не могу разобрать, что они говорят. Какое-то время я стою в оцепенении, потом осматриваюсь. Почти всю ширину комнаты занимает кровать. Я впервые вижу такую большую. Она не старая и продавленная, как кровать Жубаржат, и не узкая и низкая, как кровать отца. На ней высокий матрац, и несколько подушек, и деревянная спинка в изголовье. Еще здесь шкаф, два стула и тумбочка. На тумбочке настольная лампа, кувшин с водой и Коран.
Свет от лампы почти не освещает комнату, по углам прячутся тени, окно занавешено. Должно быть, оно выходит на заднюю часть двора – голоса гостей почти не слышны. А может, они уже устали и просто ждут, когда им вынесут доказательство моей невинности, чтобы разойтись по домам. Меня бьет озноб, и я обнимаю себя руками, пытаясь согреться. Неужели то же самое чувствовала и Диляра, когда ее привели в спальню Назара и оставили одну? А Жубаржат? А моя мать? О Аллах, почему ты посылаешь своим дочерям такие страшные испытания?.. Я кладу платок на кровать, раздумывая, зачем Расима-апа дала его мне. Может, чтобы вытирать слезы, которые потекут от боли?..
Входит Джамалутдин. Он плотно закрывает за собой дверь. Это твой муж, говорю я себе, и поднимаю на него глаза. Я ожидаю чего угодно: злого окрика, удара, любого насилия, которое отныне может безнаказанно совершаться надо мной. Но чего я никак не ожидаю, так это того, что он станет улыбаться.
– Сними фату.
Я снимаю фату. Джамалутдин берет ее из моих безвольных рук и бросает на пол. Потом подходит почти вплотную и приподнимает пальцами мой дрожащий подбородок. Теперь, вблизи, я понимаю, что он еще выше, чем я думала, – моя голова на одном уровне с его грудью. Какое-то время он смотрит мне в глаза, пока я не выдерживаю и не отвожу взгляд. Тогда он усмехается и убирает руку.
– Боишься?
Я киваю. Конечно, мне страшно. Страшно так, что ноги подгибаются, а сердце бьется где-то в горле. Может, все-таки стоит потерять сознание, а потом прийти в себя и обнаружить, что все самое плохое уже закончилось?.. Но нет, Джамалутдин не позволит мне упасть в обморок. От него словно исходит мощный поток, который парализует мою волю и заставляет недвижно стоять перед ним, несмотря на жгучее желание убежать.
– Ты меня боишься или того, что сейчас будет?
– Вас, – я с трудом разжимаю запекшиеся губы, – и того, что будет…
Джамалутдин не пытается меня успокоить, заверить, что мои страхи напрасны. Вместо этого он говорит:
– Почему ты такая изможденная? Выглядишь совсем больной. Когда мы встретились у магазина в прошлом месяце, на тебя куда приятней было смотреть.
У магазина?! Мысли лихорадочно скачут. Разве я в том месяце ходила в магазин?.. Да, кажется, отец посылал за чем-то… Но, разумеется, я не могла видеть Джамалутдина, даже если он прошел совсем рядом. Я ведь всегда хожу по селу, низко опустив голову.
Мой муж ждет ответа. О Аллах, верни мне мозг обратно, хотя бы на минутку!..
– Я… со мной все в порядке, Джамалутдин-ата. Просто… Жубаржат, моя мачеха, она недавно родила и пока не поправилась. Она должна была прийти на свадьбу, но не смогла, вот я и помогала и по хозяйству, и с детьми. Времени, чтобы поесть, совсем не оставалось…
Слова льются из меня неудержимым потоком, вырвавшись из плена. Джамалутдин кивает, удовлетворившись ответом. Потом говорит:
– Там, за дверью, Расима-апа. Она ждет, когда мы начнем. Сказала, что не уйдет, пока не удостоверится, что все случилось, и не примет платок с доказательством твоей невинности. Я могу сказать ей, чтобы ждала в своей комнате, если хочешь.
Я потрясенно смотрю на Джамалутдина. С каких пор муж интересуется пожеланиями новоиспеченной жены? Он проверяет меня, вот что. Наверное, это часть ритуала брачной ночи. Поэтому я покорно отвечаю:
– Как вам будет угодно, Джамалутдин-ата.
Он раздраженно ходит по комнате, заложив руки за спину, потом останавливается напротив меня и чуть повышает голос.
– Я спрашиваю, чего ты хочешь, Салихат.
– Я сделаю так, как хотите вы. Я должна выполнять все, что вы мне велите.
– Хорошо. – Он усмехается. – Благодарение Аллаху, я выбрал себе послушную жену. Но сейчас не время строить из себя мученицу. Ты вот-вот в обморок грохнешься от ужаса, а в мои планы вовсе не входит возиться с бездыханным телом.
Как только Джамалутдин это говорит, я сразу вспоминаю, что он убил свою первую жену, и мне становится по-настоящему страшно. Видимо, он что-то понимает по моему лицу, потому что решительно подходит к двери, открывает ее, делает несколько сердитых распоряжений и, не слушая визгливых возражений Расимы-апа, которая все это время наверняка прижимала ухо к замочной скважине, захлопывает дверь. Потом тянет меня за руку в сторону кровати.
– Иди сюда.
Я подчиняюсь. А что остается делать? Все, что бы ни происходило дальше, я покорно приму с именем Аллаха на устах. Если будет очень больно (хотя почему и где именно, никто не объяснил), просто крепче сожму зубы и потерплю, как терпела побои отца. Жубаржат сказала, что побои больнее, а уж она точно знает, о чем говорит. Раз у женщин потом рождаются дети, значит, все у них внутри после брачной ночи остается невредимым.
Джамалутдин садится на кровать, ставит меня перед собой и зажимает с двух сторон ногами. Ноги у него мощные, обтянутые полотняными штанами. Я чувствую тепло его тела сквозь ткань. Его руки, лежащие на моей талии, тоже теплые и совсем не злые. Он расслаблен, но я чувствую силу его мускулов, он весь как твердая скала, а еще от него исходит странный слабый запах – чего-то сладковатого и терпкого.
– Ты знаешь, что происходит в первую ночь между мужем и женой? – спокойно спрашивает Джамалутдин.
– Только то, что я должна быть покорной и терпеть.
– Терпеть? – Его брови удивленно взлетают.
– Мне будет больно. Так мачеха сказала. И я должна делать все, что вы мне велите. Тогда вы меня не побьете.
– Я не собираюсь тебя бить, Салихат. Может, когда-нибудь, если ты серьезно провинишься. Но ты не провинишься, правда?
Я мотаю головой. Кто, будучи в своем уме, посмеет ослушаться человека, убившего свою жену? Уж в чем-в чем, а в этом он может не сомневаться.
– Хорошо. А насчет боли… – Джамалутдин умолкает, я напряженно жду. – В какой-то момент я причиню ее тебе. Но в твоих силах сделать так, чтобы ты этого почти не почувствовала.
Теперь я слушаю с жадным любопытством. Во мне зарождается робкая надежда: быть может, все совсем не так ужасно? Но что именно муж потребует от меня, чтобы уменьшить боль? Не слишком ли велика будет плата? Теперь уже я могу ожидать от него чего угодно. Вряд ли найдется много мужей, ведущих со своими женами такие разговоры в первую брачную ночь.
– Ты должна расслабиться и позволить мне делать то, что я сочту нужным.
Разумеется, муж волен делать со мной все, что захочет. Так же можно сказать про снег: он белый, а про траву: она зеленая. Ведь это очевидно. Должно быть, он снова меня проверяет. Я поспешно киваю и вдруг с изумлением поднимаю на него глаза. Нет, уши меня не обманывают: Джамалутдин действительно смеется.
– Похоже, ты заранее решила соглашаться со всем, что я говорю.
Меня так и подмывает спросить: «А как иначе, если я не хочу быть убитой, как Зехра?» Но я плотно смыкаю губы, а для верности прикусываю кончик языка, чтобы вопрос не вырвался наружу.
Но в следующий момент мне уже не до вопросов, потому что Джамалутдин начинает снимать с меня платье. Он уверенно расстегивает крючки и пуговицы, распускает пояс, а потом стягивает платье через мою голову, и я остаюсь перед ним в одних шароварах и туфлях, таких тесных, что пальцы в них давно онемели. Я закрываю глаза. С этой минуты я уже не невинная девушка, ведь мужчина увидел меня без одежды. Правда, шаровары пока на мне, но и они, я уверена, вскоре отправятся за платьем на пол. Ай, зачем он проводит ладонями мне по спине и груди? Зачем запускает пальцы в мои распущенные волосы? Зачем сжимает ладонью затылок, касается мочек ушей с вдетыми в них золотыми серьгами – его собственным подарком?..
Сильные руки Джамалутдина отрывают меня от пола, словно пушинку, и укладывают на кровать. Я с немой мольбой смотрю на мужа, охваченная паникой, но он качает головой:
– Тебе лучше закрыть глаза.
Дальнейшее я ощущаю смутно, как будто время остановилось и пространство сжалось до размеров кровати. Вдруг неожиданно становится легко ногам, я понимаю, что туфель на мне уже нет, и шаровар тоже. Моя кожа покрывается мурашками от холода и страха, а щеки пылают от стыда. Я чувствую себя вдвойне раздетой из-за того, что накануне с моего тела тщательно удалили все волоски, даже в таких местах, на которые я никогда не смотрю из-за стыдливости. Тонкие узоры хной на ступнях и ладонях, нарисованные специально к свадьбе, нисколько не защищают от наготы.
Джамалутдин разглядывает меня, смотрит бесконечно долго, лучше бы поскорее причинил боль, которую я жду уже с нетерпением, ведь после нее все закончится. Зачем он меня рассматривает? Во мне нет ничего такого, чего он не видел у своей первой жены. Я знаю, что у меня маленькая грудь – меньше, чем у Диляры или Жубаржат, и кожа смуглее, чем у большинства девушек, а бедра узкие – пожалуй, слишком узкие. А вдруг он решит, что я не смогу родить здорового ребенка, и вернет меня отцу?.. От ужаса я снова открываю глаза, забыв про приказ Джамалутдина, и вижу совсем близко его лицо, которое странно изменилось, стало таким напряженным, будто он увидел врага и сейчас набросится на него. Из его груди вырывается приглушенный стон. Что с ним? Может, внезапно заболело в животе? Ведь он уже почти старик, наверное, часто болеет… Но Джамалутдин совсем не похож на больного. Он накрывает ладонями мои груди и сжимает их, так что я от неожиданности и изумления резко приподнимаюсь.
– Лежи спокойно, – говорит Джамалутдин хриплым голосом, совсем как у отца, когда тот подхватил простуду прошлой зимой.
– Простите! Клянусь, я не хотела…
Я зажмуриваюсь в ожидании удара, но вместо этого Джамалутдин начинает меня целовать. Я чувствую его дыхание, оно пахнет шашлыком и водкой. Отвращение накатывает волной. Не знаю, долго ли смогу выдержать, но, к счастью, Джамалутдин не задерживается на моем лице, а перемещается ниже, и теперь целует грудь и живот, не переставая гладить. Так продолжается какое-то время, в тишине комнаты слышно только хриплое дыхание Джамалутдина, и вдруг я понимаю, что мое тело неожиданно расслабилось. Мне становится тепло, потом жарко. По телу проходит странная волна, и в животе что-то сладко сжимается, будто я проглотила маленькую пружинку и она меня щекочет изнутри. Странно, я все еще жду боли, но больше ее не боюсь. И даже когда Джамалутдин разводит в стороны мои сжатые ноги и кладет руку на самый низ живота, это не вызывает во мне протеста, и мысль о полном подчинении, о котором говорила Жубаржат, уже не кажется такой ужасной. Мое дыхание становится таким же учащенным, как у Джамалутдина. О Аллах, что же со мной такое? Этот человек всего за несколько минут подчинил меня своей воле, лишил способности к малейшему сопротивлению и делает вещи, о которых я не могла даже помыслить. Я чувствую тяжесть тела Джамалутдина, он прижимает меня к кровати, так, что я не могу пошевелиться. Что-то твердое и горячее упирается в меня, а потом проскальзывает внутрь, туда, откуда каждый месяц течет кровь из-за недомоганий, – и замирает.
И тут происходит невероятное. Как будто это не я, а кто-то другой стал управлять моим телом, только бедра сами собой приподнимаются резким движением навстречу тому непонятному, что замерло в ожидании. От острой боли я вскрикиваю, из глаз брызжут слезы. Я не сразу понимаю, что это та самая боль, она закончилась так же внезапно, как и возникла. Но Джамалутдин не отпускает меня, наоборот, еще глубже вдавливает в кровать, его мощное тело приходит в движение и заставляет меня двигаться вместе с ним. Кажется, что проходит бесконечность, прежде чем я слышу стон Джамалутдина, и он откатывается в сторону.
Потрясение настолько велико, что обычные ощущения возвращаются ко мне медленно, очень медленно. Сначала я чувствую холод от того, что лежу обнаженная, а Джамалутдин больше не накрывает меня. Потом – струйки пота – мои или его? – стекающие по телу. И только после этого – жжение внизу живота, будто кто-то нахлестал там крапивой, да еще и внутрь положил немножко, и что-то липкое между ног. Джамалутдин встает с кровати, я поспешно отвожу глаза – муж полностью голый, как и я. Он что-то вытаскивает из-под меня. Оказывается, все это время я лежала на том самом платке, который дала мне Расима-апа. Джамалутдин рассматривает большое красное пятно, расползшееся по кипенной белизне, и довольно смеется, а я облегченно вздыхаю. Инстинктивно понимаю: все в порядке, позора не будет, меня не вернут отцу.
Мне хочется плакать от облегчения, и не только потому, что на платке кровь. Джамалутдин идет к двери, открывает ее и что-то кричит. Потом отдает платок какой-то женщине, которая пытается заглянуть внутрь, и возвращается к кровати. Садится рядом и гладит меня по бедру.
– Все хорошо, – говорит мне Джамалутдин. – Теперь спи. Спи.
Он укрывает меня простыней и уходит.
* * *
На следующий день застолье продолжается. Правда, из гостей теперь только родственники да близкие друзья родственников и жениха. Сегодня Джамалутдин сидит рядом со мной, я чувствую его присутствие, но оно уже не пугает меня, как накануне. Иногда я ловлю на себе его внимательный взгляд, и тогда мои щеки становятся пунцовыми от смущения. Я все еще не оправилась от поздравлений, встретивших меня утром, когда я вышла к гостям в новом платье из бордовой парчи, расшитой серебряными нитями. Я совсем не ожидала, что женщины кинутся ко мне с поцелуями и станут говорить, что я не опозорила честь семьи, с такой гордостью, словно речь идет об их собственной чести. Мужчины держались в отдалении, но я видела, как они пожимают руку Джамалутдину, будто в том, что на платке оказалась кровь, есть и его заслуга. Единственный из мужчин, кто подошел ко мне, был отец. Я по привычке вжала голову в плечи, ожидая окрика или удара, но он неожиданно обнял меня и поцеловал в лоб, обдав запахом табака и лука, и пробормотал, что не сомневался в моем целомудрии.
Не понимаю, что такого в этом пятне крови. Оно лишь подтвердило очевидное. Разве в том, что природа сотворила меня невинной, есть хотя бы капля моей заслуги? Неужели гости всерьез думали, что я могла позволить кому-то из мужчин сделать со мной такое? Неужто кто-то посмел бы хоть пальцем ко мне прикоснуться, зная, что за это последует неминуемая смерть? Даже если бы этот сумасшедший подался в бега, его нашли бы на следующий день где-нибудь в горах, с перерезанным горлом. Когда-то подобное уже случалось в долине, но наказание за преступление было таким скорым и жестоким, что память о нем передается от отцов к мальчикам, чтобы те, когда вырастут, и думать не смели ни о чем таком.
Расима-апа сегодня особенно ласкова со мной, расстилается шелком, улыбается и касается то плеча, то щеки, но я знаю – это напоказ, на самом деле она ждет не дождется, когда праздник кончится, и я поступлю в ее распоряжение. Мне неприятны эти улыбки и прикосновения, но я заставляю себя улыбаться в ответ. Каким-то внутренним чутьем понимаю: ни в коем случае нельзя наживать в ее лице врага, потому что мужчина всегда принимает сторону матери, даже если ему вместо матери – тетка.
Внизу живота саднит, но Джамалутдин сказал, что так должно быть и это пройдет. Под утро он вновь пришел в спальню и делал это со мной. Правда, сначала спросил, нужно ли мне совершить омовение и намаз, и когда я сказала – «да», дал мне достаточно времени. На этот раз мне почти не было больно, да и то лишь вначале. А потом стало приятно, я опять чувствовала теплые волны внутри. Он спросил: «Тебе хорошо?» Но мне стыдно было в таком сознаться, и я промолчала.
Когда Джамалутдин ушел, я задремала и проснулась оттого, что Расима-апа стучала в дверь и говорила: пора выходить к гостям. Я испугалась, вдруг она войдет и увидит меня голой, поэтому завернулась в простыню, подошла к двери и сказала, что скоро выйду. А сама не знала, что делать. На второй день свадьбы полагается надевать другое платье, не белое, да только где оно? В отчаянии я натянула вчерашние шаровары и уставилась на свою обнаженную грудь, как будто видела ее впервые. Нестерпимо хотелось в туалет. Время шло. Снова послышались шаги, и Расима-апа спросила из-за двери, не умерла ли я, а если живая, когда соизволю явиться. В ответ я смогла выдавить из себя что-то невразумительное, ожидая, что сейчас тетка Джамалутдина ворвется и начнет таскать меня за волосы, как на глазах у всех это делала наша соседка Муминат-апа со своими невестками, когда учила их уму-разуму. Но вместо Расимы-апа в комнату вошел мой муж.
– Что происходит? – спросил он, нахмурившись, глядя на меня, закутанную в простыню, с высоты своего роста. – Зачем заставляешь уважаемых гостей ждать?
Он не бил меня, даже не замахнулся, но и слов, сказанных суровым голосом, было достаточно, чтобы я расплакалась. Всхлипывая, спрятав лицо в ладони, призналась, что не знаю, где моя одежда, а еще давно хочу в отхожее место. Я была уверена, что от моих слез и беспомощности Джамалутдин разозлится еще сильней, но вместо этого он рассмеялся, взял меня за руку, подвел к шкафу и распахнул дверцы. Я увидела много платьев, и юбок, и кофт, а на отдельной полке платки – повседневные и нарядные. Внизу стояли шлепанцы и туфли. Все новехонькое, только из магазина.
– Почему не догадалась заглянуть в шкаф? – спросил Джамалутдин, снимая с плечиков парчовое нарядное платье, сшитое для второго дня свадьбы.
– Я думала, это ваш шкаф… и в нем ваши вещи.
– О Аллах, за что послал мне глупую жену? Ведь это женская половина, Салихат. Здесь не может быть моих вещей.
Я униженно кивнула. Простыня на мне разошлась, обнажив живот и часть груди, и лицо у Джамалутдина опять стало напряженное, как будто он увидел врага. Но он отвернулся и приказал, чтобы я одевалась быстрее и выходила в коридор.
Уборная оказалась в задней части дома. Только сделав свои дела, я поняла, насколько сильно мне этого хотелось еще с вечера. Но я была так напугана всем происходящим, что обратила внимание на позывы, только когда терпеть стало невозможно. Мне пришлось снова раздеться, чтобы совершить омовение, которого я не делала со вчерашнего утра, но надеялась, что Аллах не слишком на меня разгневается. Когда я вышла во двор, солнце стояло уже высоко и гости пировали.
И вот я снова сижу на виду у всех. Вчера мне не хотелось есть, а сегодня живот сводит от голода. Поэтому я кладу себе на тарелку разных кушаний и ем, стараясь выглядеть достойно и не испачкать платье. Джамалутдин ест со мной наравне. Видно, ночь забрала у него много сил. Никому не признаюсь в ужасном: мне понравилось то, что случилось в брачную ночь, и я совсем не против, если и следующей ночью Джамалутдин придет ко мне. Но сказать о таком – значит сообщить во всеуслышание, что я развратная. Я слышала, как отец называл этим словом одну глупую девушку, которую застали в сомнительной компании с приезжим парнем, – плохо же для нее все закончилось. Вдруг первая жена Джамалутдина тоже была развратная? Не хочу, чтобы он и меня убил, поэтому буду делать вид, что просто покоряюсь его воле, как велит Аллах, Иншалла.
Оглядываю сидящих за женскими столами, и вдруг среди множества лиц вижу Жубаржат. Вай, пришла – здоровая! Вчера я так расстроилась, узнав от тети Мазифат, что Жубаржат не смогла выйти из дому из-за слабости. Наверное, тетя дала ей особенно сильный отвар, придающий сил. Жубаржат бледная, но глаза подведены сурьмой, и платье на ней новое, нарядное, сшитое из отреза, подаренного мужем на рождение Алибулата. Она улыбается мне в ответ, но почему-то неуверенно. Наверное, думает, я мучилась всю ночь. Ну, ей можно сказать правду, Жубаржат мне вместо близкой подруги, никому мою тайну не выдаст.
Дожидаюсь момента и подхожу к ней. Она целует меня и поздравляет, а у самой в глазах невыплаканные слезы, и платок повязан так, что полностью скрывает шею, плечи, даже щеки, оставляя открытым лишь часть лица. Жубаржат хочет что-то сказать, но вокруг так много женщин, все едят, смеются, громко разговаривают, играет музыка, поэтому я отзываю ее в сторонку, как вчера Диляру. Но едва мы начинаем говорить, слышится окрик отца. Мы обе вздрагиваем и поворачиваемся на голос. Отец от ворот подает Жубаржат знак подойти. Жубаржат спешит, даже спотыкается, так боится замешкаться. Я иду следом. Я больше не боюсь отца. Почти не боюсь. Внутри навсегда останется ужас, который он сумел внушить мне с самого рождения.
– Нам пора, – говорит отец жене. – Идем, да.
Потом обращается ко мне:
– Передай мужу слова моего почтения и безграничного уважения, Салихат. А еще извинения за то, что не можем остаться. У меня неотложное дело. Завтра я непременно приду снова.
– Передам, – послушно говорю я.
Отец делает шаг к воротам, но Жубаржат стоит, переминаясь с ноги на ногу, и он оборачивается, хмуря брови.
– Или Аллах лишил тебя слуха, женщина?
– Одну минутку, Абдулжамал, – просительно говорит она. – Всего минутку, пожалуйста. Хочу попрощаться с Салихат. Когда мы теперь увидимся?
– Не заставляй меня ждать.
С этими словами отец выходит за ворота. Жубаржат порывисто меня обнимает, я ощущаю худобу ее тела сквозь платье.
– Как все прошло? – спрашивает она.
Мы обе понимаем смысл вопроса. Я чувствую, как лицо заливается краской.
– Все хорошо. Нет, правда! Мне даже понравилось… – Я запинаюсь, не в силах продолжать.
Жубаржат смотрит недоверчиво, в ее глазах вопрос: «Как такое может понравиться?» Но она, конечно, не решается спросить.
– И он не бил тебя? Я видела платок, столько было крови!
– Нет, и не собирается, если повода не дам. Как ты сама, Жубаржат? Уже не болеешь?
Она бросает испуганный взгляд на ворота, приближает ко мне лицо и шепчет:
– Абдулжамал заставил меня пойти. Я вчера не могла встать с кровати, ноги совсем не держали. Тогда он…
– Что? – страх сжимает мне горло. – Что он сделал?
– Схватил за волосы, швырнул на пол, а потом бил ногами, везде бил, кроме лица… – Жубаржат сдавленно плачет, дрожащими пальцами оттягивает край платка, и я с ужасом вижу на ее шее и груди припухлые багровые кровоподтеки. – По животу бил, из меня теперь столько крови течет… Тетя пыталась вмешаться, но ей дядя Ихлас не позволил, прогнал из комнаты, а сам запер дверь с той стороны, чтобы я не смогла убежать. Да я и не могла, сил не было подняться, просто лежала на полу и ждала, когда это закончится. Алибулатик так плакал в кроватке, так плакал… А когда Абдулжамал устал бить, я уж почти не дышала, и отовсюду шла кровь. Он сказал, что если завтра я не встану и не пойду на свадьбу, он меня убьет. И вот сегодня я встала, оделась и пошла. Поэтому жива, слава Аллаху.
– Жубаржат! – доносится с улицы грозный голос.
Мачеха вздрагивает всем телом и пропадает за воротами. Я даже ничего не успеваю сказать или поцеловать ее на прощание. Медленно возвращаюсь к столу. Джамалутдин-ата спрашивает, где я была. Отвечаю, что провожала отца, и передаю слова Абдулжамала. Муж удовлетворенно кивает, проводы родителей – уважительная причина. Муж спрашивает, что мне положить на тарелку, но я не могу больше есть. Перед глазами стоит тело Жубаржат, скрюченное на полу, покорно принимающее удары. За что отец с ней так? Ведь она хорошая, послушная жена, рожает детей, не перечит ни в чем… Неужели и меня скоро ждет та же участь? Неужели мало быть покорной, и моя жизнь будет зависеть лишь от настроения мужчины, во власть которому я отдана?..
Проходит час за часом, а гости все едят и пьют. Молодежь танцует. Откуда только берут силы? Многие из них придут и завтра. Поистине, свадьба – серьезное испытание, не только для жениха с невестой, но и для гостей. Мои двоюродные сестры, Зарема и Зарифа, в кругу танцующих. Парни приглашают их чаще, чем других девушек. Конечно, ведь они городские, и одеты нарядно.
Старшей, Зареме, уже двадцать два. Почти старуха, еще немного, и ее никто не засватает. Поэтому она так призывно смотрит на парней, поэтому делает танцевальные движения на грани приличия. Стеклянные бусы, нанизанные на шею в три ряда, громко звенят, широкий подол юбки разлетается в стороны, словно крылья заморской птицы. Сестра делает вид, будто внимание парней ей совсем неинтересно, будто она танцует только для себя и других девушек.
Зарифа, которая младше ее на два года, не такая нескромная. Она тоже хочет замуж, но понимает: вперед сестры ей нипочем не выйти. Поэтому она терпеливо ждет, когда придет ее очередь, и танцует больше для того, чтобы поддержать сестру, чтобы та поскорее уже нашла себе мужа.
Зря они стараются. В нашем селе им не на что рассчитывать. Уж если дядя Ихлас отверг городского жениха для Заремы, что говорить про местных парней? Дядя хмурится, поглядывая на дочерей. Зарема и Зарифа еще не знают, что, когда они вернутся домой, им придется пожалеть о том, что опозорили семью своими танцами. Дочерям такого уважаемого человека пристало скромно сидеть в сторонке, на приглашения парней отвечая опусканием глаз и чуть заметным качанием головы. Дядя считает, что только тогда есть шанс быть сосватанной приличным человеком. Приличный – это в равной степени обеспеченный и богобоязненный. Возраст, внешность и все остальное, что важно для девушки, тут ни при чем. Даже городская жизнь не меняет сознание отцов девушек на выданье. Совсем немногие позволяют дочерям выбрать себе мужа по душе: симпатичного ровесника с добрым сердцем. Диляре повезло: она любит мужа, и муж любит ее, а теперь, когда на подходе ребенок, и вовсе станет на руках носить, а его матери придется умолкнуть.
Вот она, Диляра, уплетает чуду с бараниной. Теперь, когда я знаю ее тайну, мне легче на душе, и, если не думать о несчастной Жубаржат, я почти счастлива. Чувствую присутствие мужа рядом, и от этого кровь быстрее бежит по телу. Внезапная мысль пронзает меня: я ведь тоже могу сделаться беременной. Может, это уже произошло сегодня ночью? Ну конечно, ведь я стала замужней женщиной. Теперь даже отец не посмеет ничего мне сделать, если только Джамалутдин по какой-то причине не вернет меня домой. Надо подождать немного, и у меня появятся дети, а если Аллах снизойдет к нам особой милостью, то много детей, как у Жубаржат. Я еще не знаю страданий, которые испытывают женщины, производя дитя на свет, но буду просить Аллаха: пусть даст хотя бы одного ребеночка, чтобы Расима-апа не смогла обвинить меня в бесплодии.
Я еще не видела сыновей Джамалутдина. Пока мне довелось побывать только на женской половине дома, куда никто, кроме моего мужа, заходить не может. Да и он будет приходить, только если в комнатах нет посторонних женщин. Джамалутдин обязан заранее предупредить о своем появлении, чтобы гостьи успели покрыть головы платками или уйти, если мужья или отцы запрещают им находиться в одном доме с чужими мужчинами. Я надеюсь, что муж позволит, чтобы ко мне приходили девушки выпить чаю и поболтать. Правда, из подруг у меня только бывшие одноклассницы Генже и Мина, они еще не замужем. Вплоть до прошлой недели мы каждый день встречались у родника, обсуждали парней и делились новостями, и на все сельские праздники тоже ходили вместе.
Вот бы Жубаржат иногда заглядывала в гости, но отец не позволяет ей выходить из дому, да и где ей взять время? Теперь на Жубаржат готовка, уборка и все остальное, что раньше делала я. На руках младенец, и думаю, скоро она снова будет в тягости. Одна надежда на родник. На такой большой дом, как у Джамалутдина, требуется много воды, поэтому придется ходить за ней по два раза в день, если не чаще. Можно сговориться с Жубаржат видеться там. Нам хватит и десяти минут, пока ждем своей очереди за водой, чтобы поделиться новостями.
От зноя, сытной еды и переживаний прошедшей ночи клонит в сон. Я бы с радостью прилегла хоть на полчаса. Странно, когда я жила в родительском доме, такие мысли никогда не приходили мне в голову, даже когда я валилась с ног от усталости. Знала: если отец увидит прохлаждающейся, в живых мне оставаться недолго. В новом доме тоже нельзя расслабляться. Вряд ли Расима-апа позволит отдыхать, с таким-то хозяйством, тем более Агабаджи не может работать в полную силу. Я хочу, чтобы скорее закончились свадебные торжества и началась обычная жизнь, с установленными для каждого члена семьи обязанностями. Я готова работать так же, как работала в доме отца, и даже больше, лишь бы избежать обвинения в лености, ведь это второй по тяжести грех после бесплодия, за который молодую жену могут вернуть отцу.
Солнце клонится к закату, жара спадает. Женщины перестают подносить к столам еду, да никто и не может больше есть. Даже молодежь перестала танцевать, и Зарема с Зарифой чинно сидят рядом с матерью. Сегодня они вернутся в Махачкалу. У дяди Ихласа работа, которую он не может оставлять надолго. Я знаю, что в следующий раз увижусь с тетей Мазифат только на большом семейном празднике. Надеюсь, Зарема в скором времени выйдет замуж. Тогда и я смогу погулять на ее свадьбе.
Если, конечно, мне позволят поехать.
4
Уже неделя, как я замужем. Всего семь дней прошло с никаха, а мне кажется, будто целая вечность. Тут все чужое, и надо привыкать к новым порядкам и людям в доме. Первое время я ходила, будто во сне, постоянно все путала, мешкала с поручениями Расимы-апа и заработала от нее несколько обидных прозвищ, одно из которых – «нерасторопная лентяйка». Меня не отпускал страх, что я сделаю что-нибудь не то, или отвечу без должной почтительности, или еще как-нибудь провинюсь. Но постепенно все стало налаживаться, и теперь я боюсь уже не так сильно, даже начинаю находить маленькие радости в замужней жизни.
Дом Джамалутдина куда больше, чем дом отца, и поделен на две половины, на каждую из которых ведет свой вход. Мужская половина для Джамалутдина и его сыновей, женская – для Расимы-апа, Агабаджи, а теперь и для меня. На каждой половине своя уборная и комната для омовений, а кухня только на женской. Еще на нашей половине есть зала для гостей, куда могут приходить женщины, чтобы выпить чаю, почитать Коран или просто поговорить. В основном, конечно, приходят к Расиме-апа. Соседки целыми днями сидят на кушетках, болтают и смеются, а меня посылают на кухню за новой порцией чая и сладостей. Но я рада, когда у Расимы-апа гостьи. Тогда она не следит за каждым моим шагом, не обзывается и не раздает поручения. Тогда она ласковая, называет меня доченькой. Но едва за последней гостьей закрывается дверь, зло выбирается из нее, как подошедшее тесто из кастрюли.
Агабаджи странная. Просыпается поздно, идет на кухню за чаем с лепешками, со мной заговаривает только по необходимости. Лицо у нее после сна припухшее и совсем детское. Даже не верится, что она скоро станет матерью. Я пробовала подружиться с ней, спрашивала, когда ей рожать и как ей живется у Канбаровых, общается ли она с кем в селе (она ведь родом не отсюда), но Агабаджи отвечает односложно или вовсе отмалчивается. Вряд ли я ее чем-то обидела, поэтому решила, что у нее просто такой характер, и оставила попытки, хотя и расстроилась: надеялась, что у меня будет если не подруга, то хотя бы собеседница. Расима-апа обращается с Агабаджи как с дочкой. Не ругает, не нагружает работой, спрашивает, не хочет ли она отдохнуть, хотя та и так большую часть дня проводит в своей комнате. Возможно, это потому, что Агабаджи носит ребенка. И когда я тоже понесу, Расима-апа и со мной станет добрее. Так хочется в это верить…
У Расимы-апа две комнаты. В одной она спит, а в другой хранит свои наряды, хотя непонятно, зачем они ей? Праздники на селе редкость, и обычно Расима-апа носит безразмерные темные платья одинакового фасона, ведь она вдова. В своих комнатах Расима-апа убирается сама, ни меня, ни Агабаджи туда не пускает. Наверное, боится за золотые украшения, которые носит на себе килограммами.
Муж Агабаджи, Загид, ничем не занимается. Считается, что он помогает отцу в бизнесе, но на самом деле он целые дни проводит на мужской половине, или болтается по селу с местными парнями, или уезжает куда-то. Он курит вонючие самодельные сигареты, и на его лице вечно блуждает высокомерная ухмылка. Мне не нравится, как он смотрит на меня, и я стараюсь реже с ним встречаться, а если это случается, накидываю на лицо край платка, оставляя открытыми только глаза. Кажется, пасынок раздевает меня взглядом, хотя смотреть так на женщину – харам.
Облик Загида, его манера смотреть и говорить совсем не соответствуют имени[3]. Когда Джамалутдин дома, Загид берет его машину и куда-то уезжает, возвращаясь поздно вечером. Джамалутдин не возражает. Кажется, он не считает, что Загид должен вести себя как-то иначе. Муж велел слушаться Загида и стараться ему угождать, так что я чуть не каждый день готовлю любимые блюда пасынка – курзе и жижиган-чорпа[4]. Загид требует, чтобы подавала еду тоже я, а не Агабаджи. Приходится носить кушанья на мужскую половину, укутавшись так, что открытыми остаются лишь кисти рук и часть лица. Я стараюсь подавлять неприязнь к Загиду, хотя начинаю думать, что уж лучше провести целый день в обществе Расимы-апа, чем десять минут в одной комнате с Загидом. В нем есть что-то очень неприятное, но я убеждаю себя, что мне это только кажется.
Младшему сыну Джамалутдина Мустафе тринадцать лет. Он хороший, скромный мальчик, считается одним из лучших учеников в школе, много занимается и каждый день читает Коран. Мустафа с почтением относится ко всем членам семьи, даже ко мне, хотя я старше его всего на четыре года. Мулла местной мечети прочит мальчику духовное будущее, но Джамалутдин возражает, хотя сам богобоязнен. Я слышала, как он говорил сыну, чтобы выбросил из головы мысли об учебе в медресе, к которой склоняет его мулла. Похвально, что Мустафа так благочестив, ходит в мечеть и знает наизусть много сур, – но этого достаточно, чтобы быть правоверным мусульманином и отправиться, когда придет его время, в лучший из миров. Мустафа не посмел возразить, но я видела слезы в его глазах.
Всеми в доме управляет Джамалутдин, даже Расимой-апа, хоть она и делает вид, что главная. Он выдает ей деньги на хозяйство, требуя, чтобы она не экономила, но в то же время не тратила понапрасну. Поэтому каждый день на обед у нас мясное блюдо, мебель у всех удобная и новая, в зале мужской половины стоит большой телевизор, а на кухне холодильник с морозильной камерой. Во дворе фруктовый сад с инжиром, абрикосами и грушами и разные хозяйственные постройки. Расима-апа держит кур, сама за ними ухаживает и каждое утро собирает к завтраку свежие яйца.
Самое большое потрясение я испытала, когда Расима-апа отвела меня за дом и показала колонку, из которой берут воду. Вот почему я никогда не видела Канбаровых у родника. Мне бы радоваться, что не придется таскать тяжелые ведра, а я едва не расплакалась от отчаяния: как теперь видеться с Жубаржат? Она будет ждать меня один день и другой, а когда не дождется, подумает, что меня не выпускают за ворота даже за водой.
Отныне я словно птица в клетке. Продукты покупает Расима-апа, и нет больше причин, чтобы отлучиться со двора хотя бы ненадолго. Женщины должны сидеть дома, чтобы не давать поводов для грязных сплетен, говорит Расима-апа. Теперь я должна ждать, пока в каком-нибудь доме не решат играть свадьбу. Джамалутдина, как самого уважаемого жителя села, зовут на все свадьбы, и он никому не отказывает, ходит даже к беднякам, потому что так повелел Всевышний. Но женщины могут пойти только в такие же уважаемые дома, в каких живут сами, а в нашем селе мало таких: только дома Джамалутдина и моего отца.
Я не знаю, чем занимается Джамалутдин, как зарабатывает деньги. Он приходит ко мне только поздним вечером, после наступления темноты, и не остается на ночь – уходит спать на свою половину. Рано утром он совершает намаз, потом снова ложится, и в восемь часов я приношу ему завтрак из свежеиспеченных лепешек, масла, сыра и крепкого сладкого чая. Пока муж ест, я стою рядом, и он меня не отпускает на случай, если ему еще что-нибудь понадобится. Потом он уезжает, а я остаюсь прислуживать Расиме-апа и Загиду и заниматься делами по хозяйству, которых с утра до вечера не переделать.
Ночует Джамалутдин всегда дома, если только ему не нужно в Махачкалу. Раз в месяц, а иногда чаще, он уезжает в город на несколько дней. Но пока у нас медовый месяц, сказал Джамалутдин, поездок не будет. Не могу понять, обрадовало меня это известие или огорчило. Я все еще боюсь сурового и сдержанного мужа и испытываю трепет, когда он входит в комнату или обращается ко мне. Душа на миг сжимается от ужаса, но я говорю себе, что Джамалутдин ничего плохого не сделает, ведь со дня свадьбы прошла целая неделя, а он ни разу не ударил меня и даже не прикрикнул. Чтобы он не решил, будто я с ним недостаточно почтительна, я никогда не заговариваю первой, только отвечаю на вопросы, опустив глаза.
Джамалутдину это не нравится. Он просит хотя бы иногда смотреть на него и улыбаться, но я не могу. Внутри будто сидит кто-то, управляющий моим лицом и голосом. Я не могу вести себя иначе в присутствии мужчины, ведь шестнадцать лет прожила с отцом, который бил меня только за то, что я говорила чуть громче, чем он считал приличным, или «смотрела дерзко». В мою голову вбили: поднять глаза на мужчину, пусть даже близкого родственника, значит навлечь на себя неприятности. И вот теперь Джамалутдин требует, чтобы я смотрела ему в лицо и не использовала в ответах только «да» и «хорошо» или «как скажете, Джамалутдин-ата». Воистину, Аллах не думал о своих дочерях, когда создавал таких разных мужчин!
После вечернего омовения и намаза я жду мужа в спальне. На мне рубашка из тонкой ткани с вырезом на груди и короткими рукавами. Рубашку дал мне Джамалутдин, велев надевать перед сном. Если бы отец увидел меня в таком виде, я не прожила бы и пяти минут и отправилась в этой рубашке прямо в ад, потому что в рай меня бы в ней не пустили. Я была уверена, что Джамалутдину в ней не понравлюсь. Но он целовал мое тело сначала через рубашку, а потом уже без нее. Я не знала, как пережить такой стыд, просила перестать, хотя сама хотела, чтобы он продолжал. Потом он долго находился внутри меня, и был так неистов, что из моих глаз брызнули слезы. Он спросил, почему я плачу. Я спрятала лицо в подушку и промолчала, стыдясь и боясь, что Аллах меня накажет за то, что муж делает со мной. Джамалутдин оторвал меня от подушки и не позволил отвернуться. Я закрыла глаза, но он велел:
– Смотри на меня.
Пришлось подчиниться. Я впервые видела лицо мужа так близко. Оказывается, глаза у него голубые, как небо в весенний день. Он чужой и далекий, как те страны, в которых я никогда не побываю, и в то же время он – мой муж. Это так странно, но еще удивительнее было то, что я прижималась к нему совсем голая, ощущая странный жар внутри, который занимается всякий раз, едва он ложится со мной.
– Почему плачешь? Больно, да? Скажи.
– Я уже не плачу, Джамалутдин-ата.
– Я спросил почему.
– Не знаю… не от боли, нет.
– Тогда что?
Я молчала. Я не знала, как отвечать. Пусть лучше ударит меня за то, что молчу, чем убьет за то, что я развратная.
Наверное, Джамалутдин почувствовал мой страх, его голос вдруг смягчился, и руки перестали сжимать меня с такой силой.
– Салихат, тебе нравится, когда я беру тебя.
Я тихо охнула, закусила губу и помотала головой.
– Помни, если солжешь мужу, двери рая закроются для тебя навсегда.
– Да, нравится. – Кровь так прилила к моим щекам, что еще немного – и хлынет через кожу.
Если бы он убил меня в тот момент, клянусь, я испытала бы облегчение. Но Аллах дал мне в мужья странного человека. Почему Джамалутдин смеется? Почему он всегда смеется, когда слышит мои ответы? Что такого забавного я говорю? Может быть, он так же смеялся перед тем, как убить Зехру, и его смех – это последнее, что она слышала в этой жизни?..
– Салихат, ты глупая. Послушай, что я сейчас скажу.
Он сел, прислонившись к спинке кровати, не отпуская меня, так что я оказалась прижатой к его груди, поросшей темными волосами.
– Удовольствие, которое испытывают муж и жена от близости, – не грех, а величайшая милость Аллаха. Если бы ты чаще читала Коран, то знала бы: нет ничего постыдного в моих действиях и в том, что ты чувствуешь, ведь это дозволено Всевышним, а то, что не дозволено, я не делаю. Мне приятно ласкать тебя и целовать, и я бы хотел, чтобы ты делала то же. Но ты пока не готова, и я тебя не принуждаю, жду, пока привыкнешь. Но в остальном на мою снисходительность не рассчитывай и бойся меня, как всякая жена страшится своего мужа. Ты должна быть покорной, не лгать и угождать мне, моим сыновьям и Расиме-апа. Пока все именно так, мне не приходится тебя наказывать, и это хорошо. Ибо нет для правоверного более тяжкой обязанности, чем вразумлять нерадивую жену. Но если когда-нибудь ты забудешь о страхе перед Всевышним, о своем долге передо мной, мне придется напомнить тебе. Все это я говорю для того, чтобы ты не стыдилась своих ощущений и не боялась показывать их мне. Куда больше меня разозлит твое притворство или равнодушие. Помни об этом, Салихат.
Я слушала его в изумлении. Не могла поверить, что слышу это от немногословного Джамалутдина. Я действительно боюсь мужа, но еще больше – его ласк, от которых становлюсь сама не своя. Откуда же мне было знать, что все, что происходит в нашей спальне, – с благословения Аллаха? Уж точно не от отца и не от Жубаржат, которая уверена, что ее долг состоит в покорности мужу и в рождении детей, и которая ни о каком удовольствии и не помышляет.
Джамалутдин продолжал говорить, а я лежала не дыша, старалась запомнить каждое слово.
– Ты должна родить много детей. Двух сыновей мне недостаточно. Я хочу, чтобы этот дом был наполнен детьми. Поэтому я буду приходить к тебе, пока ты не понесешь. Как только почувствуешь, что твои недомогания не пришли, скажешь мне.
– И тогда вы не будете приходить в мою спальню, пока я не рожу?
– Буду. Ведь, помимо долга, мною движет удовольствие, которое я получаю, владея тобой. И то, что ты разделяешь со мной это удовольствие, доставляет мне еще большую радость.
Все-таки мой муж – странный человек. Может, убийство жены на него так подействовало? Может, он пытается усыпить мою бдительность, чтобы убедиться в моей развратности и потом сказать моему отцу: «Она была шлюха, и я отправил ее прямиком в ад». Но я не хотела в это верить. И когда следующим вечером Джамалутдин пришел, я уже не притворялась равнодушной, и он остался со мной на всю ночь – впервые после свадьбы.
* * *
Я пеку чуду с бараниной к завтраку. За окнами едва рассвело, и остальные еще спят после утренней молитвы. Это мое самое любимое время: можно побыть в одиночестве без приказаний Расимы-апа: сделай то и сделай это, которые она щедро раздает до самого вечера.
Хотя прошло уже десять дней, как я вошла в дом Джамалутдина, я все еще не могу привыкнуть к роскоши, которая моему отцу и не снилась, хоть он и слывет самым богатым после Джамалутдина. Кухня просторная и обставлена совсем как в махачкалинской квартире тети Мазифат. Есть холодильник и газовая плита с духовкой, так что чуду можно печь, не выходя во двор. И два стола – один обеденный, за которым едим мы с Агабаджи, и другой для готовки. На нем удобно раскатывать тесто, резать овощи и разделывать мясо. Пол не земляной, как в других домах, а дощатый, и я отскребаю его каждый день после ужина, чтобы половицы блестели.
У стены стоят ведра с водой, которую я ношу с колонки: достаточно только зайти за дом, и вот она, вода, течет себе свободно, не надо стоять в очереди. Джамалутдин говорит, что хочет провести в дом водопровод, чтобы было, как у тети Мазифат в ванной – открываешь кран, и вода течет сразу теплая, но я в такие чудеса не верю. Как может вода течь в любое время по твоему желанию? Откуда она возьмется в таком количестве, да еще подогретая? Так что я просто вежливо выслушала планы Джамалутдина, делая большие глаза от удивления, а сама про себя посмеялась, и только.
Чуду в духовке не подгорают, получаются румяные, пышные от большого количества начинки. В этом доме не надо экономить мясо. Когда запасы кончаются, Джамалутдин привозит освежеванную тушу барана, а кур Расима-апа режет сама. Дважды в неделю мне приходится ощипывать теплые, залитые кровью тушки, я стискиваю зубы и задерживаю дыхание, чтобы не мутило от сладковатого запаха, который потом долго не отстает от рук. После того как я ощипала не меньше десятка тушек, блюда с курятиной уже не кажутся такими аппетитными, но я должна есть то, что едят другие.
Горячие чуду лежат на блюде, прикрытые чистой тряпицей. Они так пахнут, что в животе урчит от голода. Предвкушаю, как разломлю жирный сочный пирожок и съем, пока никто не видит. Завариваю крепкий чай, наливаю себе чашку, добавляю сахар – роскошь, к которой я уже успела привыкнуть. Это так вкусно: сладкий чай с мятой, да еще со свежим чуду!..
– Завтракаешь, значит.
Чашка выскальзывает из моих рук, и немного чая проливается на стол. Я сижу спиной к двери, на волосы накинут платок, но лицо и шея спереди открыты. Аллах, что надо здесь Загиду?.. Ведь на женской половине он может заходить лишь в комнату жены.
Поспешно встаю, поправляю платок и оборачиваюсь. Старший сын Джамалутдина небрежно прислонился плечом к косяку, на лице – кривая усмешка. Я опускаю глаза и бормочу:
– Доброе утро, Загид. Хотите чуду?
Он мой пасынок, но я к нему на «вы», ведь он старше меня и не терпит неуважения. Мне не нравится взгляд, которым Загид охватывает меня с головы до пят, я вспыхиваю, а ему мое смущение, похоже, доставляет удовольствие.
– Я за этим и пришел. Неси завтрак поскорее. Уезжаю по делам.
Загид раздает приказания, словно он не пасынок мне, а муж. Это странно, ведь у него есть жена, почему он не разбудит Агабаджи и не велит ей все то, что велит мне? Но я не могу задать ему этот вопрос, поэтому просто киваю, и он наконец уходит.
Ставлю на поднос все необходимое и отправляюсь в столовую мужской половины. Чтобы попасть туда, надо пройти длинным полутемным коридором мимо закрытых дверей женских спален, миновать небольшую прихожую, за которой начинаются жилые комнаты Джамалутдина и его сыновей. Здесь всегда тихо, мебели почти нет, все скромно и просто, даже в зале, где бывают уважаемые гости, вместо диванов на полу ковры и подушки. Единственный предмет роскоши – большой телевизор на подставке. Я каждый день протираю экран от пыли специальной тряпочкой, которую мне выдала Расима-апа, и всякий раз боюсь, что останутся разводы от чистящего средства с резким запахом, поэтому тру хорошенько, досуха.
Я стараюсь бывать на мужской половине как можно реже, но все равно получается не меньше трех раз в день, ведь я убираюсь и приношу еду, – и перед каждым походом я закутываюсь в платок, чтобы ни один волосок не выбивался наружу. Перед тем как войти, я должна убедиться, что в доме не гостят посторонние мужчины. Утром все просто: в такое время к нам никто не приходит, если только не стряслось что-то важное, как на днях, когда Джамалутдину принесли весть о внезапной смерти дальнего родственника. А вот днем или вечером приходится спрашивать у Расимы-апа, не пришел ли кто.


