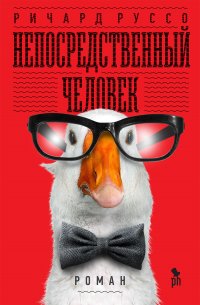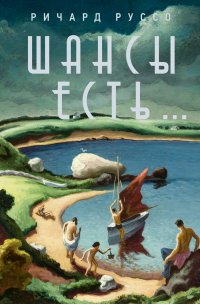Читать онлайн Эмпайр Фоллз бесплатно
- Все книги автора: Ричард Руссо
Empire Falls by Richard Russo
Copyright © 2001 by Richard Russo
All rights reserved
© Елена Полецкая, перевод, 2018
© Андрей Бондаренко, оформление, 2018
© “Фантом Пресс”, издание, 2018
Книга издана с любезного согласия автора и при содействии литературного агентства Permissions & Rights Ltd.
Художественное оформление и макет
Андрея Бондаренко
Пролог
По сравнению с городским особняком Уайтингов дом, выстроенный Чарлзом Бьюмонтом Уайтингом спустя десять лет после возвращения в Мэн, выглядел скромно. Но по любым меркам Эмпайр Фоллз, где жилье на одну семью стоило много меньше семидесяти пяти тысяч долларов, этот дом с пятью спальнями, пятью полностью оборудованными санузлами и отдельной студией для творчества смахивал на дворец. Ч. Б. Уайтинг провел несколько очень важных для него лет в старой части Мексики, и дом, что он возвел, наплевав на условности, был асьендой в суровом миссионерском стиле. Он даже раздобыл кирпичи с особой текстурой и выкрасил их в мутно-желтый цвет, чтобы они походили на саман. Дурацкий дом, говорили люди, надо же было отгрохать такое – и где, в глубинке штата Мэн, но лично Ч. Б. Уайтингу они этого не говорили.
Как и все Уайтинги мужского пола, Ч. Б. был коротышкой и не любил привлекать внимание к данному обстоятельству, поэтому приземистая испанская архитектура устраивала его как никакая другая. Мебель он выбрал ту, которой начиняют выставочные образцы домов и трейлеров с целью создать впечатление простора, и эта оптическая иллюзия держалась стойко, пока к Ч. Б. не являлись рослые визитеры, и тогда его хоромы обретали вид дорогущего кукольного домика.
Асьенда – иначе свой дом Ч. Б. Уайтинг не называл – стояла на участке земли, числившемся в семейной собственности уже несколько поколений. Первые Уайтинги из графства Декстер валили и сплавляли лес, скупая потихоньку землю по обоим берегам реки Нокс, чтобы приглядывать за своим добром, дрейфовавшим на юго-восток страны, к океану, одолевая путь длиною миль в пятьдесят. К появлению на свет Ч. Б. Уайтинга штат Мэн опутали электропроводами, и река, перекрытая дамбой ниже Эмпайр Фоллз, рядом с Фэрхейвеном, во многом утратила свою первостепенную важность. Лесозаготовки передвинулись к северу и западу, а семья Уайтинг переключилась на ткацкое, бумажное и швейное производство.
Хотя атрибутом могущества река более не являлась, Ч. Б. вместе с прочими правами и обязанностями, данными ему от рождения, унаследовал и рудиментарную потребность держать Нокс в поле зрения, и когда пришло время строить свой собственный дом, он выбрал площадку прямо над водопадом у Железного моста, по другую сторону от Эмпайр Фоллз, в ту пору процветающего городка, где мужчины и женщины дружно трудились на заводах и фабриках предпринимательской империи Уайтингов. Когда участок расчистили, а дом возвели, зимой, длящейся в сердцевине штата Мэн бо´льшую часть года, Ч. Б. мог видеть за голыми деревьями свои мастерские по пошиву рубашек и ткацкую фабрику. Его бумажный комбинат находился в нескольких милях выше по течению, но клубы дыма, когда белые, когда черные, изрыгаемые мощной трубой, можно было наблюдать из патио на задах особняка.
Переселившись на другой берег реки, Ч. Б. Уайтинг первым в своем клане признал за благо отдалиться на приличествующую дистанцию от тех, кто обеспечивал семейную прибыль. В особняке Уайтингов в Эмпайр Фоллз, георгианской громадине, построенной в начале прошлого века, в каждой спальне имелся камин из плитняка, в чинной обеденной зале под сверкающими люстрами, доставленными на поезде из Бостона, за дубовым столом помещалось до тридцати человек гостей. Дом проектировали с расчетом возбудить восторг и трепетную почтительность в сердцах ирландских, польских и итальянских иммигрантов, прибывавших с юга из Бостона, и французских канадцев, прибывавших с севера, – в поисках работы, разумеется. Семейный особняк располагался прямо в центре города, в одном квартале от рубашечной фабрики и в двух – от ткацкой; место для фабрик мужчины из клана Уайтингов выбирали с умом, ибо, вы не поверите, эти мужчины работали по четырнадцать часов в день, в обеденный перерыв забегали домой перекусить и опять возвращались на производство, где нередко задерживались до глубокой ночи.
В детстве Ч. Б. нравилось жить в городской усадьбе Уайтингов. Его мать постоянно жаловалась: дом старый, по нему гуляют сквозняки и от него неудобно добираться до загородного клуба, летнего дома на озере и, главное, до шоссе, что ведет на юг, к Бостону, где мать предпочитала делать покупки. Но на просторных тенистых угодьях, окружавших особняк, и в многочисленных комнатах причудливой конфигурации ребенок чувствовал себя прекрасно. Его отец, Хонас Уайтинг, тоже любил свою усадьбу – в частности, за то, что это было родовое поместье, никогда не принадлежавшее людям с иной фамилией. Отец Хонаса, Илайя Уайтинг, в ту пору старик под девяносто, жил там же, в поместье, в бывшем каретном сарае, вместе со своей вздорной супругой. Мужчины Уайтинги были во многом похожи, включая и то, что все они вступали в брак с женщинами, превращавшими их жизнь в нескончаемую муку. Отец Ч. Б. справлялся с ситуацией лучше, чем большинство его прародителей, но и в нем тлела обида на жену за плохое отношение к супругу, его особняку, городку Эмпайр Фоллз и глубинке штата Мэн в целом, куда ее, выросшую в Бостоне, забросила, как она утверждала, жестокая судьба. Изящные кованые ворота и ограда по всему периметру усадьбы, привезенные аж из самого Нью-Йорка, были для нее тюремным застенком, и всякий раз, когда она произносила эту фразу, Хонас напоминал: ключ от ворот у него в кармане и он в любой момент распахнет их для нее. Если ей так чертовски хочется обратно в Бостон, значит, туда ей и дорога. Он говорил это, ничуть не сомневаясь, что никуда она не уедет, ибо на Уайтингах мужского пола лежало специфическое родовое проклятье: жены назло им оставались с ними навсегда.
Однако к тому времени, когда у них родился сын, Хонас Уайтинг начал понимать и втайне разделять умонастроения своей жены – по крайней мере, в том, что касалось Эмпайр Фоллз. Во второй половине девятнадцатого века городок рос как на дрожжах, усадьбу Уайтингов постепенно окружили дома заводских рабочих, и со временем в повадках этих новых соседей все отчетливее проступала неприязнь. По давно установившейся традиции Уайтинги старались умаслить своих работников, закатывая каждое лето шумные празднества на усадебной лужайке, но Хонасу Уайтингу казалось, что многие из тех, кто исправно являлся на эти сборища, странным образом не выглядят благодарными за обильное дармовое угощение, выпивку и музыку, а некоторые взирали на семейный особняк с плохо скрываемым раздражением – они явно не расстроились бы, сгори дом дотла.
Вероятно, из-за этой молчаливой, но нарастающей враждебности Ч. Б. Уайтинга отослали из дома сначала в частную школу, потом в колледж. Далее он провел лет десять в путешествиях, сперва с матерью по Европе (которая пришлась этой доброй женщине куда более по вкусу, чем штат Мэн) и позднее самостоятельно по Мексике (которая пришлась ему куда более по вкусу, чем Европа, где нужно было на каждом шагу лезть в справочники, чтобы понять, чем же ты, собственно, восхищаешься). Если европейские мужчины по большей части нависали над ним, то мексиканцы ростом были даже пониже, и Ч. Б. Уайтинга особенно радовала их мечтательность, очищенная от настоятельной потребности претворять мечты в жизнь. Но его отец, за чей счет Ч. Б. болтался по свету, решил наконец, что наследнику пора возвращаться домой и приниматься за упрочение семейного благосостояния, а не проматывать по другую сторону южной границы все, что ему присылали. Чарлзу Бьюмонту Уайтингу в ту пору было под тридцать, и его отец нехотя осознал, что единственное, в чем его сын по-настоящему талантлив, так это в умении тратить деньги, хотя молодой человек уверял, что в живописи и поэзии он не менее силен. Настал момент покончить и с мотовством, и с искусством – таков был вердикт главы семьи. Хонас Уайтинг стремительно приближался к шестидесятилетию, и, хотя ему доставляло удовольствие баловать сына, теперь он понимал, что чересчур увлекся, потакая Ч. Б., и к введению наследника в тонкости семейного бизнеса следовало приступить много раньше. Сам Хонас начинал на рубашечной фабрике, затем перебрался на ткацкое производство и под конец, когда старый Илайя в припадке сумасшествия попытался убить жену лопатой, занял директорский пост на бумажной фабрике, стоявшей выше по реке. Хонас хотел подготовить сына к тому, что неизбежно должно произойти: его отец тоже сорвется с катушек и набросится на супругу с тем, что попадется под руку. Европа не улучшила ее мнения о муже, Эмпайр Фоллз или штате Мэн, на что Хонас в душе надеялся. На собственном опыте он убедился: люди редко становятся счастливее, увидев воочию, чего они лишены, и Европа только укрепила естественную склонность благоверной к презрительным и ядовитым сравнениям.
Что касается Чарлза Бьюмонта Уайтинга, в детстве, когда его отправляли в иногороднюю школу, он предпочел бы остаться дома, теперь же возвращаться из Мексики ему хотелось не больше, чем его матери – из Европы, но, повздыхав, он сделал то, что ему велели; он почти всегда так делал. Не то чтобы он не понимал: молодости неминуемо придет конец, а с ней и путешествиям, живописи и поэзии. Рано или поздно он возглавит “Предприятия Уайтинга и сыновей”, это само собой разумелось, и хотя у него мелькала мысль, что возвращение в Эмпайр Фоллз к работе в семейном бизнесе будет равносильно отказу от его истинного призвания – творчества, деваться было некуда. Однажды, чувствуя, что очень скоро его призовут домой, он попытался выразить словами то, что, по его мнению, было лучшим в его человеческой природе, и сколь ужасной ошибкой было бы закопать в землю его таланты. Этими размышлениями он намеревался поделиться с отцом, но то, что он написал, походило на его стихи, туманные и неубедительные, даже на его собственный взгляд, и в итоге он выбросил письмо в мусор. К тому же он не был уверен, что отец, практик до мозга костей, поверит, что у человека может быть природа, а если таковая все же завелась, то ее обладатель обязан не поддаваться, но не мытьем, так катаньем придать этой “природе” подобающий вид, показав, кто в доме хозяин. В последние месяцы свободы Ч. Б. валялся на мексиканском пляже и мысленно спорил с отцом, выдвигая все новые и новые аргументы и каждый раз проигрывая спор, и когда его вызвали домой, у него уже не было сил сопротивляться. Он вернулся, чтобы исполнить свой долг, но опасаясь, что его подлинное “я” и все, для чего он был создан, осталось в Мексике.
Выяснилось, однако, что поступать вопреки своему “я” не настолько неприятно или трудно, как он представлял. На самом деле, когда он немного освоился в Эмпайр Фоллз, у него возникло стойкое впечатление, что люди здесь поступают так каждый день. А если ты – мужчина с фамилией Уайтинг, вынужденный отказ от своего призвания выглядит не так уж страшно. К своему удивлению, он также обнаружил, что можно преуспеть в том, что тебя крайне мало интересует, как и потерпеть неудачу в том, к чему тебя искренне влечет, – в живописи или поэзии, например. Рубашечная фабрика не потрясла его воображения, но управлял он ею очень даже недурно, угадывая скрытые причины сбоев и понимая инстинктивно, как устранить проблему. Кроме того, он любил своего отца и восхищался энергией этого коротышки, его напористостью, неуступчивостью, неколебимой убежденностью в своей правоте и умением железно обосновать любой свой шаг. Хонас либо пребывал в полной гармонии со своей природой, либо кулаками усмирил ее до совершенной покорности. Чарлз Бьюмонт Уайтинг так и не разобрался, как именно его отец поладил со своей природой, да это было и неважно; в любом случае старик являл достойный пример для подражания.
Тем не менее Ч. Б. Уайтингу было ясно, что буйный рост, пережитый “Предприятиями Уайтинга и сыновей” в годы правления его отца и деда, завершился. Времена менялись, и уже ни рубашечное, ни текстильное, ни бумажное производство не приносило таких же дивидендов, как раньше. В предыдущие два десятилетия в графстве Декстер на заводах и фабриках предпринимались попытки организовать профсоюзы, и хотя эти начинания провалились – это вам не Массачусетс, но штат Мэн, – даже Хонас Уайтинг не отрицал: что разрешать профсоюзы, что ставить им заслон обходится одинаково дорого. Угрюмые рабочие, вернувшись к станкам, не торопились признать поражение и на работе более не выкладывались.
Хонас Уайтинг предполагал, естественно, что его сын поселится в фамильном особняке, как только обзаведется женой, а старик Илайя из чувства приличия покинет эту грешную землю, но спустя десять лет по возвращении Ч. Б. из Мексики ни того ни другого не произошло. В молодые годы, жаркие и солнечные, Ч. Б. Уайтинг был отъявленным женолюбом, но в морозном Мэне он словно утратил сексуальный пыл и погрузился в непреднамеренный целибат, хотя и воображал иногда, как лучшая часть его “я” беззаботно предается плотским радостям в Юкатане.
Возможно, его страшила наследственная матримониальная перспектива – жениться на девушке, которую однажды ему захочется убить.
Илайе Уайтингу, которому было уже под сто, не удалось убить жену лопатой, и от огорчения и досады он так и не оправился. Он по-прежнему жил с супругой в бывшем экипажном сарае, цепляясь за свое горе, а сварливая жена цеплялась к нему. Его лечащий врач говорил, что старый Илайя умирает изнутри, вернейшим доказательством чего служил его прямо-таки эпический метеоризм. В экипажном сарае уже много лет было не продохнуть, но все обследования показывали: сердце реликтового старика бьется ровно, и Хонас осознал, что сам он еще не скоро переедет в каретный сарай, освободив фамильный особняк для сына. И даже если старик умрет завтра, понадобится не меньше года, чтобы проветрить после него помещение. А кроме того, собственная жена Хонаса дала ясно понять: в сарай она не переедет ни в коем случае, и мысль о том, что она умрет в штате Мэн, настолько ее угнетала, что Хонас, скрипя зубами, купил ей небольшой дом из тех, что стоят впритык друг к другу в зажиточном бостонском Бэк-Бэе, где, по ее уверениям, она провела детство, что, конечно, было враньем. Хонас повстречался с ней в Южном Бостоне и, будь у него голова на плечах, там бы с ней и расстался. Тем не менее, когда Чарлз явился к отцу и объявил о своем намерении построить себе дом, отгородившись рекой от Эмпайр Фоллз, Хонас не возразил и даже одобрил эту затею. Позднее, однако, когда из дома получилась асьенда, Хонас не на шутку испугался: уж не принялся ли его мальчик снова кропать стишки.
Зря он тревожился. Ранее в том же году Ч. Б. Уайтинга на улице приняли за его родителя, и вечером, глядя в зеркало, он понял почему. Волосы у него уже серебрились, а в глазах появилась некоторая лютость – как у терьера, чего он прежде не замечал. От молодого человека, жаждавшего жить и умереть в Мексике, мечтать, рисовать и сочинять стихи, мало что осталось. И когда прошлой весной отец предложил ему возглавить не только рубашечную, но и ткацкую фабрику, он не почувствовал, что его навеки загоняют в капкан ответственности, напротив, скорее обрадовался этому следующему шагу к реальному обладанию тем, что причиталось ему по праву рождения. В мужской компании его начали называть Ч. Б. вместо Чарлз, и ему это нравилось.
Когда бульдозерами взялись расчищать площадку для дома, обнаружилось нечто неприятное. Несметное количество мусора – кучи и кучи – вдоль реки; мусор торчал меж корней деревьев и свисал с ветвей, холмистый берег был усеян им до самого верха. Такое скопление отходов ошеломляло, и сперва Ч. Б. Уайтинг решил, что кто-то, и вовсе не один человек, а многие имели наглость устроить на частной собственности незаконную свалку. Сколько же лет длилось это безобразие? У рассвирепевшего Ч. Б. руки чесались пристрелить мерзавцев, пока один из работников, которых он нанял убирать мусор, не вразумил его: для того чтобы превратить землю Уайтингов в помойку, кому-то одному или многим людям сразу понадобилась бы подъездная дорога, каковой не существовало, – точнее, не существовало, пока сам Ч. Б. Уайтинг не проложил дорогу месяцем ранее. И хотя казалось невероятным, что такую тьму отбросов – автомобильные камеры и колпаки, коробки из-под молока, ржавые банки, переломанную мебель и прочее в том же роде – могло прибить к берегу естественным путем, течениями и водоворотами, однако вот она, свалка, а значит, так оно и произошло. Иного выхода, кроме как вывозить мусор, не просматривалось, что и было сделано в мае одновременно с заливкой фундамента нового дома.
Весенние дожди, половодье и рекордный выводок мошкары замедляли строительство, но к концу июня нижний ярус обширной асьенды был виден с другого берега реки, откуда Ч. Б. Уайтинг, сидя в своем офисе на последнем этаже рубашечной фабрики, наблюдал за ходом работ. К празднику Четвертого июля установилась сухая и жаркая погода, прикончившая остатки мошкары, и полураздетые загорелые плотники, оседлав кровельные балки, морщились и подозрительно поглядывали друг на друга. Чем здесь так воняет, господи прости?
Вздувшийся труп крупного лося в лощине обнаружил лично Ч. Б. Уайтинг. Лось валялся под деревьями, что пощадил бульдозер, – предполагалось, что эти зеленые насаждения обеспечат асьенде тень, а также приватность, если вдруг кому-то в Эмпайр Фоллз станет любопытно узнать, как там живут-поживают на другом берегу. Но даже более, чем эта разлагающаяся туша, Ч. Б. Уайтинга поразил слой мусора, хотя и меньший по объему, чем уже вывезенный, в том самом месте, где берег узкой полосой вдавался в реку, образуя на изгибе стоячую, кишевшую комарами, а теперь и провонявшую мертвым лосем заводь.
Размокший, склизкий, смрадный мусор вынудил Ч. Б. Уайтинга задуматься, а не вредят ли ему нарочно, и, присев на речном берегу, он перебрал в памяти всех, кого ему, его отцу и деду случилось разорить в процессе естественного развития бизнеса. Перечень получился не коротким, но никто в этом списке – если, конечно, Ч. Б. удалось припомнить всех до единого – не тянул на статус врага. В основном это были незначительные люди с незначительными средствами – из тех, кто мог бы пристрелить его, представься им такая возможность. К примеру, забреди он в их любимый кабак, эти людишки, хлебнув для храбрости, схватились бы за оружие, при условии, что таковое при них имелось. Нет, эта враждебность была иного сорта. Кто-то, по-видимому, решил, что за все отходы, производимые графством Декстер, в ответе лично Ч. Б. Уайтинг, и, будучи уверен в своей правоте, собрал весь мусор (геройски преодолев отвращение, надо думать) и перевез сюда.
Выходит, мертвый лось здесь случайно оказался? Ч. Б. не торопился с ответом. На шее животного виднелась дырка от пули, и это могло означать что угодно. Возможно, тот, кто сваливал отбросы, заодно убил и лося и специально оставил его здесь. Опять же, животное мог подстрелить браконьер в любом другом месте (в Эмпайр Фоллз проживало целое семейство браконьеров по фамилии Минти). Что, если раненый зверь попытался перебраться через реку, но, выбившись из сил, рухнул головой в заводь, где и упокоился прямо под асьендой?
Ч. Б. Уайтинг провел полдня, то вскакивая, то присаживаясь неподалеку от гниющего лося и пытаясь установить личность своего врага. Первым приплыл бумажный стаканчик и застрял между задними ногами лося. Затем в течение часа к берегу прибило пакет из супермаркета, пустую, но все пузырившуюся бутылку из-под колы, проржавевшую банку из-под масла, огромный моток лески и, если Ч. Б. не обознался, человеческую плаценту. Все это перемешалось со смердящим лосем. Оттуда, где сидел Ч. Б. Уайтинг, было видно лишь небольшой отрезок Железного моста, и в следующие полчаса он насчитал с полдюжины людей, автомобилистов и пешеходов, на ходу что-нибудь швырнувших в реку. Ч. Б. прикинул в уме количество мостов на реке Нокс выше по течению (восемь) и количество фабрик, заводов и самых разнообразных мелких предприятий, выстроившихся вдоль реки (десятки). Он и сам после заката солнца не раз поддавался искушению сбросить отходы в воду. Поколения Уайтингов сливали красители и прочие химикалии, загаживая берег на всем его протяжении вплоть до Фэрхейвена – городка, которому было грех жаловаться, учитывая, что их собственное ткацкое производство десятилетиями столь же мало беспокоилось о соседях, обитавших ниже по течению. Жалобы, как усвоил Ч. Б., неизбежно ведут к обвинениям, обвинения – к шумихе, шумиха – к судебным разбирательствам, суды – к расходам, расходы – к богадельне.
И однако вот эту свалку нельзя было оставить как есть. Разумный человек, Чарлз Бьюмонт Уайтинг пришел к разумному заключению. К исходу второго часа, проведенного у кромки воды, он осознал: у него и впрямь имеется враг, и не кто-нибудь, но сам Господь Бог, сотворивший проклятую реку такой – узкой и бурной в верховьях, расширяющейся и замедляющей течение у Эмпайр Фоллз, – что все виды человеческого дерьма сваливаются кучей к ногам Ч. Б. Уайтинга. Хуже того, ему казалось, он понимал, почему Господь предпочел именно этот эскиз для русла. Он поступил так, чтобы заблаговременно наказать Ч. Б. за то, что все лучшее, что в нем было, он оставил в Мексике много лет назад и в результате превратился в человека, которого по ошибке принимают за его отца.
Это были неприятные мысли. Впрочем, подумалось Ч. Б., вблизи смердящего лося приятным и взяться неоткуда. Тем не менее он продолжал сидеть на берегу, и в плеске воды ему слышалось закодированное послание и казалось, что он его вот-вот расшифрует. По правде сказать, в последнее время Ч. Б. не раз посещали неприятные мысли. С тех пор как он решил строить дом, ему постоянно что-нибудь снилось, заставляя просыпаться по нескольку раз за ночь, а порою он обнаруживал, что стоит у темного окна, выходившего на газоны перед особняком Уайтингов, и не может припомнить, как он встал с кровати и подошел к окну. Он пребывал под впечатлением, будто ему все еще снится сон – о чем бы то ни было, – хотя подробности уже ускользнули. Вроде бы он вел с кем-то очень важный разговор. Но с кем?
Днем, когда ему следовало заниматься неотложными делами на двух фабриках, он рассеянно разглядывал чертежи асьенды, словно забыл вставить в них некую весьма важную деталь. В прошлом месяце ему стало настолько трудно сосредоточиться на работе, что он попросил отца, заведовавшего бумажным производством, помогать ему один день в неделю, пока не закончат строительство дома. Теперь, сидя у реки под гнетом мрачных мыслей, возможно вызванных соседством дохлого лося, он начал сомневаться в том, что новый дом был хорошей идеей. Асьенда с примыкающей художественной студией была, разумеется, не чем иным, как призывом к его прошлому “я”, Чарлзу Бьюмонту Уайтингу – Удальцу, как называли его тамошние приятели, – оставшемуся в Мексике. Именно с Удальцом, сообразил вдруг Ч. Б., он и беседовал в своих снах. Хуже того, для этого молодого “я”, преданного им, он и строил асьенду. Он убеждал себя, что студия предназначена его сыну, в надежде, что со временем его таковым осчастливят. В таких пределах он мог позволить себе бунтовать. Студия будет его даром мальчику, подразумевающим, что сыну никогда не придется по необходимости или из соображений лояльности отказаться от своего истинного призвания. Но, конечно, понял он теперь, все это было самообманом. Студию он строил для себя, а точнее, для Чарлза Бьюмонта Уайтинга – то ли погибшего, то ли ведущего жизнь поэта и распутника в Мексике. Тогда как на самом деле он вел жизнь, исполненную навязанных ему обязательств и монашеского целомудрия в Эмпайр Фоллз, штат Мэн. По пятам за этим ошарашивающим откровением явилось еще одно. Послание, нашептываемое ему рекой, пока он целый день сидел на берегу, было приглашением, простым и кратким. “Ступай ко мне, – совершенно отчетливо пробулькала вода. – Ступай… ступай… ступай…”
В тот же вечер Ч. Б. Уайтинг привез отца и старика Илайю на строительную площадку. До сих пор он не подпускал их к новому дому, сам не зная почему. Теперь он знал. Деда, не выходившего из экипажного сарая целый месяц, усадили на пенек, где он тут же заснул крепким, спокойным, метеорно-газовым сном, а Ч. Б. с отцом отправились осматривать стены и перекрытия. Да, признал Ч. Б., конструкция у его дома, черт его дери, мексиканская, а строение на отшибе – будущий гостевой дом; пусть он лишь изменил назначение студии, но так тому и быть. Зов реки перепугал его. Когда они закончили экскурсию по стройке, Ч. Б. Уайтинг повел отца на реку показать залежи мусора, подросшие с утра, и раскисшего лося. С того места, где они стояли, Ч. Б. видел и лося, и старого Илайю, приподнимавшего во сне то одну ягодицу, то другую под неудержимым напором газов, и хотя Ч. Б., если разобраться, не мог считать себя ответственным ни за лося, ни за старика, слюна во рту отдавала горечью разочарования в самом себе. И все же, опомнился он, предпочтительнее ощущать иногда привкус виноватости на языке, нежели пустить на ветер труды всей жизни отца и деда, и он поймал себя на том, что смотрит на обоих мужчин с искренней теплотой, особенно на отца, которого он всегда любил и чья основательность, практичность и несгибаемая твердость помогут ему выбраться из этой смрадной жути.
“Ладно, Бог так Бог”, – согласился Хонас, когда Ч. Б. изложил ему свою “вражескую” теорию, а затем оба молча наблюдали, как разнообразные ошметки и обломки болтаются на воде, пока не пристроятся под боком у лося. Уайтинг-отец был религиозным человеком, тем более что Господь умел объяснить то, что иначе было бы абсолютно невразумительным. “Давай-ка лучше прикинем, как теперь с Ним быть”.
Хонас посоветовал сыну нанять инженеров и геологов для изучения проблемы. Ничего лучше и нельзя было предложить: инженеры-геологи, предупрежденные о том, с Кем они, может статься, соревнуются, не пожалели времени и сил и вдобавок к многочисленным обследованиям местности проштудировали геологические карты по всему региону, даже проплыли от истоков реки у канадской границы до того места, где она сбрасывает воды в залив Мэн. Что касается реки Нокс, тут Господь не слишком мудрствовал, сотворив ее широкой и ленивой там, где ей полагалось быть узкой и проворной, и инженеры подтвердили догадку своего работодателя: именно базовый инженерный недочет Всевышнего привел к тому, что любой бумажный стаканчик, брошенный в воду между Канадой и Эмпайр Фоллз, вероятнее всего, осядет на предполагаемой лужайке Ч. Б. Уайтинга. Это была плохая новость.
Хорошая новость заключалась в том, что такой расклад – не приговор. Люди прозорливые, устремленные в будущее уже два столетия совершенствуют Господние проекты, и почему бы не подкорректировать и этот. Если военные инженеры заставили непомерно громадную Миссисипи течь там, где им требовалось, то уж плюгавенькую Нокс можно переделать в два счета. План действий был составлен немедленно. За несколько миль к северо-востоку от Эмпайр Фоллз река делает резкий и несуразный поворот, и, прежде чем вернуться к направлению, по которому она текла изначально, Нокс довольно долго плетется, извиваясь и заболачивая низины на северо-западных окраинах города, где каждую весну вызревают легионы мошкары, а затем, летом, столь же бесчисленное множество комаров. С высоты глядя, абсурдность такого положения вещей была очевидна. Вода, пояснили инженеры, предпочла бы течь под уклон наиболее прямым из всех возможных маршрутом. Изгибы случаются, лишь когда похвальным намерениям реки что-то мешает. Преградой на прямом и верном пути реки Нокс стала узкая полоска земли (скалы на самом деле), прозванная местными Засадой Робидо, – неровный бугристый выход на поверхность горной породы, не лишенный живописности в глазах тех, кто захотел бы построить на берегу летний домик с видом на реку, но решительно не предназначенный для возделывания, чем владельцы этого участка упрямо и безуспешно занимались на протяжении многих поколений. Со временем, естественно, реки берут свое, и в конце концов – скажем, через пару тысяч лет – Нокс выпрямится, ликвидировав все извилины и излучины.
Ч. Б. Уайтинг не любил ждать и воодушевился, когда услыхал от инженеров, что при наличии достаточных средств можно прорыть канал в самой узкой части Засады Робидо, взорвав каменистую породу, и тогда за один календарный год река выпрямится, а возросшей скорости потока в районе Дуги Уайтинга хватит, чтобы унести практически весь мусор (включая затесавшегося туда лося) вниз по течению прямиком к дамбе в Фэрхейвене, где ему самое место. Разумеется, в департаменте штата на поспешно созванных слушаниях за закрытыми дверями эксперты утверждали, что выиграют все поселения по берегам Нокс, поскольку река станет много лучше прежней – быстрее, красивее, чище. Вдобавок, когда ее воды прекратят подпитывать болота, штат разбогатеет на несколько тысяч акров земли, которую можно будет использовать не только для разведения насекомых. Сколько-нибудь значимое экологическое движение в штате Мэн возникнет лишь спустя десятилетия, так что против этого плана всерьез никто не возражал, хотя эксперты допускали – вполголоса и в узком кругу, – что река, обретя дополнительную игривость, способна разыграться не на шутку. Нокс, как и большинство рек в Мэне, всегда была склонна к разливам, особенно весной, когда под теплыми дождями снежные заносы на севере таяли слишком быстро.
Более существенным препятствием для модификаций, задуманных Ч. Б. Уайтингом, являлось то, что предыдущие поколения его семьи, скупая участки по берегам Нокс, почему-то упустили из виду Засаду Робидо. Этот кусок принадлежал семье по фамилии Робидо, и владели они им с прошлого века. Но и тут судьба улыбнулась Ч. Б. Уайтингу, ибо Робидо оказались не только жадными, но и невежественными – идеальное сочетание в сложившихся обстоятельствах. Люди более сведущие задумались бы о стоимости своего владения, когда юристы от имени богатого человека обратились к ним с предложением о покупке, но Робидо думать не стали. Больше всего они боялись, как бы Ч. Б. Уайтинг самолично не прибыл осмотреть землю, которую они ему продают, потому что, увидев, сколь эта почва непригодна для фермерства, а иного варианта ее использования они и вообразить не могли, он бы мигом отказался от сделки.
Ничего подобного у Ч. Б. и в мыслях не было, он купил их акры, заплатив неслыханную, по представлениям Робидо, цену, и потом они долгие годы верили, что сумели обставить одного из богатейших и влиятельнейших людей в штате Мэн, а приобретение им Засады Робидо лишь окончательно убедило их в том, что они давно и так знали: богатеи не больно-то башковиты. Ч. Б. Уайтинг, отряхнувшись от смрада и ужаса и вновь став самим собой, пришел к выводу не менее спорному: он обвел вокруг пальца не только Робидо, которые могли его разорить, но по простоте своей до этого не додумались, но и Господа Бога, чью реку он теперь реформирует.
Подрыв Засады Робидо в семи милях вверх по течению в Эмпайр Фоллз услышали и ощутили, а когда взрывные работы завершились, Ч. Б. Уайтинг теплым августовским днем устроился на берегу перед своим новым, полностью отстроенным домом и с гордостью наблюдал, как резко оживившийся поток уносит прочь то немногое, что осталось от лося, вкупе с подросшими залежами молочных коробок, пластиковых бутылок и ржавых банок из-под супа, – мусор бодро и весело плыл на юг по направлению к ничего не подозревавшему Фэрхейвену. Река более не нашептывала всяких ужасов, не то что в начале лета. Зарядившись энергией, она бурно радовалась предприимчивости Ч. Б. Уайтинга. Довольный результатом, он закурил сигару, глубоко вдохнул пряный летний воздух и посмотрел на стройную женщину, сидевшую рядом, которую звали – кто бы мог подумать! – Франсин Робидо.
Франсин была девушкой смышленой и с далеко идущими планами; она только что закончила Колледж свободных искусств имени Колби, и, будучи лет на десять моложе Ч. Б. Уайтинга, до того дня, когда ее родня заключила сделку о продаже Засады Робидо ее будущему мужу, она в глаза его не видела, хотя, конечно, о нем слыхала. Ч. Б. учился в том же колледже, что и его отец, и дед; Франсин, однако, была первой в семье Робидо, кто после школы поступил в высшее учебное заведение. Ей повезло получить стипендию, и из колледжа она вышла другим человеком. По ее речи, манерам, светскому тону никто не признал бы в ней Робидо, что обескураживало и злило ее родных, и знай они наперед, каким презрением она обольет их по возвращении, не видать бы ей студенческой скамьи. Бедная девушка среди богатых, Франсин Робидо исподтишка подглядывала за сокурсницами, перенимая у них ловкость в обращении со столовыми приборами, умение одеваться, интонации, лишенные и намека на вульгарность, и гигиенические привычки. В колледже она также научилась флиртовать.
В уставленном книжными полками, мягко освещенном кабинете его юристов Ч. Б. Уайтинг, который не рассматривал всерьез ни одну женщину с тех пор, как вернулся в Мэн, залюбовался Франсин Робидо. Кроме диплома о высшем образовании, что было немаловажно, его особенно восхитило то, как она держалась, – девушка вроде бы понимала, что Ч. Б. собирается надуть ее семью, но не считала нужным вмешиваться. С каждым взглядом в ее сторону, с каждой ее репликой зачарованность Ч. Б. Уайтинга нарастала, ибо он явственно ощущал, что находится в поле внимания Франсин, тогда как ее поведение и манеры скорее говорили о том, что его присутствия она даже не замечает. То ли был он в кабинете, то ли нет – непонятно. И, желая выяснить, был он все же там или нет, Ч. Б. решил жениться на Франсин, если она ему не откажет.
Не отказала, нет. Они поженились в сентябре, и до конца дней своих на этой земле Ч. Б. Уайтинг пытался вспомнить, что же именно привлекло его в Франсин Робидо на той встрече в адвокатской конторе с приглушенным светом. При дневном освещении Франсин выглядела костлявой заносчивой замухрышкой, и, как у многих женщин с предками – выходцами из французской Канады, у нее был скошенный подбородок, словно его срезали. Он также понял, что женитьба на Франсин Робидо, вопреки ожиданиям, не дала исчерпывающий ответ на вопрос, замечает ли Франсин его присутствие, находясь с ним в одном помещении. В тот августовский день, в наплывавших сумерках, когда он закурил сигару, празднуя победу вместе со своей будущей женой, Ч. Б. Уайтинг исподтишка изучал суженую. Мужчины из рода Уайтингов все как один обладали врожденным деловым чутьем, и каждого из них неизменно, словно мотылька к пламени, тянуло к единственной женщине в мире, полагавшей своим высшим предназначением сделать мужа глубоко несчастным, а потом держаться за их брак с мрачным упорством монахинь, преданных страдающему Христу. Отлично усвоив семейную историю, Ч. Б., естественно, опасался женитьбы. Время от времени отец напоминал сыну, что тому нужен наследник, но Ч. Б., глядя на отца и деда, не был в этом уверен. Почему бы не положить конец этому безумному замкнутому кругу несчастий? И зачем производить на свет новых Уайтингов мужского пола, если им суждены вечные матримониальные муки?
Вот почему Ч. Б. Уайтинг пристально разглядывал Франсин Робидо, пытаясь представить, как по прошествии скольких-то лет ему захочется забить ее до смерти лопатой. К счастью, он оказался не способен живо воспроизвести эту сцену в своем воображении. Самое большее, на что его хватило, – поразмыслить, стоило ли затевать войну с Богом. Если Он смог подбросить дохлого лося, что Ему стоит подбросить что-нибудь куда хуже. Например, женщину – не ту, какая ему нужна. Подобные размышления встревожили бы Ч. Б., не будь эта женщина ему нужна. Но она была ему нужна. В этом он почти не сомневался.
Его невеста предавалась иным мыслям. “Вон там отличное место для беседки”, – сказала она, тыча тощим указательным пальцем на середину отлогого берега. Чарлз Бьюмонт Уайтинг медлил с ответом, тогда Франсин Робидо повторила фразу, и на этот раз будущий супруг различил в ее голосе жесткую нотку: “Ты слышал, что я сказала, Чарли?”
Слышал. И в принципе, он ничего не имел против беседок, но сооружать таковую в качестве архитектурной спутницы асьенды казалось ему не лучшей идеей. Однако вовсе не эстетические соображения погрузили его в задумчивость. Он не откликнулся сразу, потому что никто и никогда не называл его Чарли. С самого детства он был Чарлзом, и его мать решительно не допускала, чтобы прекрасное имя, которое она ему дала, искажали пошлыми производными вроде Чарли или, того хуже, Чака. В быстро промелькнувшие студенческие годы друзья звали его Бьюмонтом, а в Мексике – Удальцом. С недавнего времени его знакомые по бизнесу обращались к нему Ч. Б., но с почтительной интонацией, им бы и в голову не пришло назвать его Чарли.
Ясно, что устанавливать правила нужно было прямо сейчас, но пока он раздумывал, как половчее преподнести преимущества Чарлза перед Чарли, “сейчас” плавно скатилось в “тогда”. Странно. Если бы кто другой назвал его Чарли, он поправил бы этого человека, не дав его голосу стихнуть, но с этой женщиной, которую он, опустившись на колено, попросил стать его женой, как ни странно, вышла заминка. Момент был упущен, а за ним и другой, и третий, и вдруг Чарлз Бьюмонт Уайтинг осознал, что причина его онемения в некоей новой эмоции. Сперва он отметил лишь непонятное ощущение, но постепенно распознал, что это такое. Новым чувством был страх.
“Я сказала…” – в третий раз начала его суженая.
“Конечно, дорогая. Прекрасная мысль”, – согласился Чарлз Бьюмонт Уайтинг и в этот судьбоносный миг превратился в Чарли Уайтинга. Впоследствии он любил говорить, не без печальной усмешки, что в размолвках с женой за ним всегда оставалось последнее слово, а точнее, два слова: “Конечно, дорогая”. Знай он, сколько раз в общении с Франсин он повторит эту фразу, будто мантру их супружеских отношений, возможно, он принял бы приглашение реки и следом за лосем отдался на волю волн, избавив себя от многих мучений и сэкономив на револьвере, который он купит тридцатью годами позже, чтобы покончить со своей жизнью.
“И будь любезен, загаси эту ужасную сигару”, – добавила Франсин Робидо.
Часть первая
Глава 1
“Имперский гриль” был вытянутым, слегка вросшим в землю строением, с окнами во всю длину, и поскольку соседнее здание, аптеку “Рексолл”, подвергли разорению и сносу, теперь можно было, не отходя от стойки, обозревать всю Имперскую авеню вплоть до старой ткацкой фабрики и прилегавшей к ней рубашечной. Обе пустовали уже лет двадцать, но их мощные грозные стены в самом конце авеню, где улица плавно обрывалась у косогора, по-прежнему притягивали взгляд. Разумеется, ничто не мешало смотреть на Имперскую авеню в противоположном направлении, но Майлз Роби, управляющий ресторана – и в будущем хозяин, как он надеялся, – давно заметил, что его клиенты в другую сторону почти не глядят.
Нет, они инстинктивно предпочитали пялиться туда, где улица буквально и фигурально заканчивалась тупиком у подножия двух фабрик – кирпичного олицетворения славного прошлого их города, и эти магнетические свойства старых пустующих зданий лишь укрепляли Майлза в решимости продать “Имперский гриль” за любые, пусть и невеликие деньги, как только ресторан перейдет в его собственность.
Прямо за фабриками протекала река, некогда питавшая их энергией, и Майлз часто задавался вопросом: если эти старые здания снести, очнется ли наконец город, выросший вокруг них, чтобы начать новую жизнь? Не факт. На месте сгинувшей аптеки не возникло ничего, кроме забора из металлической сетки, а значит, размышлял Майлз, одно дело – махнуть рукой на прошлое, но совсем другое – изобрести будущее и попытаться претворить его в жизнь. Опять же, если стереть прошлое, предложив людям пресловутый “чистый лист”, может, они станут реже путать прошедшее с будущим, а это уже кое-что. Ибо, пока фабрики нависают над городом, опасался Майлз, многие будут по-прежнему верить, вопреки всякому здравому смыслу, что по крайней мере на одну из них или даже на обе найдется покупатель и тогда к Эмпайр Фоллз вернется его прежняя экономическая бойкость.
Но в этот день в начале сентября Майлз Роби не спускал глаз с Имперской авеню – не потому что ему не давали покоя потускневшие высокие окна рубашечной фабрики, где его мать проработала боґльшую часть своей жизни, или похожая на крепость, мрачная ткацкая фабрика – нет, он лишь надеялся увидеть свою дочку Тик, когда она появится из-за угла и медленно потопает вверх по пустынной авеню. Как и большинство ее сверстников, Тик, худая как щепка десятиклассница, складывала все свои учебники в холщовый рюкзак и несла его, согнувшись, будто сильный ветер дул ей в лицо, а иначе она могла бы и упасть под грузом, едва ли не равным ее собственному весу. Поразительно, сколь многое переменилось с тех пор, как Майлз учился в старшей школе. Они с товарищами носили учебники на бедре, перекидывая их с одного бока на другой. Домой они брали только те книги, которые понадобятся вечером для домашнего задания, либо те, что они не забывали взять с собой, оставляя все прочее в именных школьных шкафчиках. Теперь же ребята сгружали содержимое шкафчиков целиком в крепкие плотные рюкзаки и тащили домой – вероятно, затем, полагал Майлз, чтобы не выбирать, какие им понадобятся, а какие нет, и таким образом не принимать решений, чреватых последствиями. Увы, без последствий мало что обходится. На осмотре у врача прошлой весной у Тик обнаружились зачатки сколиоза, пока только небольшое искривление позвоночника, но беспокоился Майлз не только о физическом здоровье дочери. “Просто эта ноша слишком тяжела для нее”, – объяснила врач, не замечая, насколько Майлз мог судить, метафорического подтекста сказанного. Тик потребовалось почти целое лето, чтобы вернуть себе нормальную осанку, и вчера, всего через день после начала занятий, она опять ссутулилась.
Вместо дочери, единственного в данный момент человека в мире, которого он хотел бы увидеть выворачивающим из-за угла, взору Майлза предстал Уолт Комо, которого он совсем не желал видеть и не огорчился бы, если бы этот малый больше никогда не попадался ему на глаза. Свой фургон Уолт использовал в качестве рекламы на колесах: на капоте прямо над радиатором было выведено “МАТЁРЫЙ ЛИС”, а на сделанных на заказ номерах – “ЛАПА 1”. Фургон был высоким, а Уолт низким, и ему приходилось спрыгивать с подножки, и что-то в этом молодцеватом прыжке вызывало у Майлза желание схватить топор, рвануть навстречу Уолту и раскроить ему башку прямо на пороге заведения. Это желание преследовало Майлза уже почти год и наяву и во сне.
Однако он вернулся в ресторан и занялся бургером для Хораса Веймаута, волнуясь, не передержал ли мясо на сковороде. В бургерах Хорас ценил кровавость.
– Ладно. – В предвкушении еды Хорас свернул газету “Бостонский глобус”, его внутренние часы подтверждали: Майлз и впрямь замешкался. – Ты уже встретился с миссис Уайтинг?
– Нет еще. – Майлз положил на тарелку Хораса помидор, салат, колечко бермудского лука, маринованный огурчик и разрезанную не до конца булочку, затем надавил на бургер лопаткой, заставив его пошипеть, и сбросил на булку. – Обычно я жду, когда меня позовут.
– И зря, – наставительно произнес Хорас. – Кто-то ведь должен унаследовать Эмпайр Фоллз. Почему бы не ты, Майлз Роби?
– Скорее я выиграю в лотерею “Мега Бакс”.
Майлз поставил тарелку на стойку и заметил, чего с ним давно не случалось, багровую фиброзную кисту, проросшую на лбу Хораса. Она увеличилась или просто Майлз, уезжавший в отпуск, хотя и ненадолго, отвык от этого зрелища? Киста занимала половину правой брови Хораса, туго натянутая безволосая кожа поблескивала на узелке, из которого веером расходились темные венозные сосуды. Маленькие города, часто говаривала мать Майлза, хороши еще и тем, что в них удобно жить любому; хромые и покалеченные – твои соседи, и, встречаясь с ними каждый день, ты вскоре перестаешь замечать то, что отличает их от других людей.
На Мартас-Винъярде, где они с дочерью отдыхали на прошлой неделе, Майлз практически не сталкивался с физическими изъянами. Почти все на острове выглядели богатыми, стройными и красивыми. Когда он удивился вслух этому факту, его старый друг Питер посоветовал Майлзу наведаться в Лос-Анджелес. Там, уверял Питер, уродство быстро и целенаправленно отбраковывают путем селекции.
– Он имеет в виду не столько ЛА, – поправила мужа Дон, когда Майлз недоверчиво прищурился, – сколько Беверли-Хиллз.
– И Бель-Эр, – добавил Питер.
– И Малибу, – подхватила Дон.
И далее они перечислили чертову дюжину мест, где некрасивость извели на корню. Питер и Дон могли многое порассказать о том, как устроен нынешний мир, и Майлз обычно с удовольствием внимал им. Все трое вместе учились в маленьком католическом колледже в пригороде Портленда, и Майлзу нравилось, сколь мало осталось в его друзьях от студентов, какими он их когда-то знал. Питер и Дон стали совсем другими людьми, и Майлз полагал, что так оно и должно быть, хотя с ним ничего подобного не произошло. Если его друзья и были разочарованы вялостью личностной эволюции Майлза, они ловко скрывали свое разочарование и даже заявляли, что их старый друг возвращает им веру в человечество, оставаясь таким, каким был прежде. Поскольку они явно преподносили это как комплимент, Майлз старательно делал вид, будто ему польстили. Каждый год в августе они, похоже, были искренне рады его видеть, и хотя каждый год Майлз запрещал себе рассчитывать на очередное приглашение, но таковое неизменно получал.
Хорас большим и указательным пальцами снял с тарелки колечко бермудского лука, будто счел великим оскорблением столь тесную близость лука к тому, что ему предлагалось съесть.
– Я не ем лук, Майлз. Знаю, ты был в отъезде, но я-то не изменился. Я читаю “Глобус”, пишу для “Имперской газеты”, никогда не посылаю рождественские открытки, и я не ем лук.
Майлз забрал бермудское колечко и бросил в мусор. Он и правда весь день был не в форме; несколько разленившись и расслабившись в отпуске, он будто забывал, где он и с кем. Майлз собирался впрягаться в работу постепенно, выходить поначалу только в первую смену, но Бастер, его сменщик у гриля, неизменно отыгрывался, уходя в загул, стоило Майлзу вернуться с острова, и Майлз парился у гриля, будучи к этому пока не готов.
– Она лучше, чем “Мега Бакс”, – развивал Хорас тему миссис Уайтинг, которая с каждым годом все меньше и меньше времени проводила в Мэне, зимуя во Флориде и предаваясь тому, что покойная бабушка Майлза с материнской ирландской стороны, никогда не покидавшая насиженного места, называла “дурью маяться”. А совсем недавно миссис Уайтинг вернулась из круиза по Аляске. – Принадлежи я к твоей семье, я бы изо дня в день лизал ее тощий зад.
Майлз наблюдал, как Хорас собирает свой бургер, и с облегчением вздохнул, когда по булочке растеклось красное пятно.
Майлз Роби, разумеется, не принадлежал к семье миссис Уайтинг. Хорас лишь намекал на девичью фамилию старухи – Робидо, а по уверениям некоторых, Роби и Робидо были, пусть и в отдаленном прошлом, одной семьей. Макс, отец Майлза, в это свято верил, принимая желаемое за действительное, по мнению его сына. Не умея доказать свою родственную связь с богатейшей женщиной Центрального Мэна, Макс просто постановил, что они родня, и точка. Обладай отец таким же состоянием, подозревал Майлз, Макс решил бы этот генеалогический вопрос совершенно иначе, и ни один Робидо не увидел бы от него ни цента.
Досужие разговоры о миссис Уайтинг не утихали. Она вышла замуж за деньги в лице Ч. Б. Уайтинга, владевшего бумажной, рубашечной и ткацкой фабриками, проданными позднее международной корпорации, которая сперва разорила их, а потом закрыла. Уайтинги по-прежнему владели половиной недвижимости в Эмпайр Фоллз, включая ресторан, где вот уже пятнадцать лет хозяйничал Майлз под присмотром миссис Уайтинг, обещавшей ему, что по ее кончине бизнес достанется Майлзу, и он надеялся, что она исполнит обещание, но почему-то не мог себе этого представить. Участь остального имущества старухи порождала самые различные домыслы. В нормальных обстоятельствах все унаследовала бы ее дочь, но Синди Уайтинг половину своей взрослой жизни провела в психиатрической лечебнице в Огасте, и мало кто сомневался, что миссис Уайтинг никогда не оставит дочери больше, чем требовалось на жизнь и услуги медиков. На самом деле в графстве Декстер никто не знал ни истинных размеров состояния миссис Уайтинг, ни ее дальнейших намерений. С местными юристами и бухгалтерами она никогда не имела дела, предпочитая нанимать бостонскую фирму, чьими клиентами Уайтинги были на протяжении почти ста лет. Она не развеивала слухи о своем желании посмертно облагодетельствовать город, но и не высказывалась на сей счет сколько-нибудь определенно. К филантропии миссис Уайтинг не проявляла особого интереса. В кризисных ситуациях, как, например, при недавнем разливе реки Нокс, она порою жертвовала деньги, но всегда лишь половину суммы, необходимой для решения проблемы, вынуждая город потратить столько же. На тех же условиях она участвовала в сборе средств на новое крыло больницы и апгрейд компьютеров в старшей школе. Каждый раз ее вклад, хотя и внушительный, виделся как тонко срезанная верхушка финансового айсберга. Когда старуха умрет, надеялись в городе, деньги потекут более мощным потоком.
Майлз не был в этом уверен. Щедрость миссис Уайтинг по отношению к Эмпайр Фоллз, как и к самому Майлзу, не поддавалась однозначному толкованию. Несколько лет назад она преподнесла в дар городу старый ветшающий особняк Уайтингов, занимавший большой участок в старом центре, с тем условием, что дом сохранят. И только приняв это пожертвование, мэр и муниципалитет поняли, какое бремя на них взвалили. Они больше не могли взимать налоги с этой недвижимости, и им не разрешалось использовать особняк для общественных мероприятий, а средств на содержание дома с участком уходило изрядно. И Майлз боялся, что если миссис Уайтинг в итоге отдаст ему ресторан, он не сможет принять подарок по причине его дороговизны. Мало того, теперь, когда фабрики не работали, миссис Уайтинг, как заправский монополист, не брезговала давить на бизнес. Она владела большей частью коммерческой недвижимости в городе и всегда с радостью предоставляла помещения для новых предприятий. Но затем арендная плата неуклонно повышалась, и никто из бизнесменов или менеджеров, обращавшихся к миссис Уайтинг с просьбой о более щадящих условиях, понимания у нее не нашел.
– Уж не знаю, Майлз, – сказал Хорас, – похоже, старуха к тебе неравнодушна. Она явно выделяет тебя среди прочих. Что ей стоило прикрыть ресторан? И то, что ты все еще здесь, свидетельствует о глубине ее чувств к тебе. Либо о том, что ей нравится смотреть, как ты мучаешься.
Майлз понимал, что последняя фраза Хораса была шуткой, однако – и не впервые – задумался, а не является ли это чистой правдой. Да, миссис Уайтинг обходилась с ним более милостиво, чем с другими предпринимателями, и все же временами ему казалось, что она не питает к нему ни малейшей приязни. Вероятно, по этой причине он не рвался встречаться с ней, сознавая, впрочем, что свидания с миссис Уайтинг надолго не отложить. Каждую осень она все раньше отбывала во Флориду, и хотя его ежегодный отчет о положении дел в “Гриле” был не более чем ритуальной проформой, миссис Уайтинг настаивала на этих встречах. И все эти годы он не мог избавиться от впечатления, что старуха ждет от него чего-то, – но чего, он понятия не имел. С каждой встречи он уходил с ощущением, будто провалился на экзамене по неведомо какому предмету.
Над дверью прозвенел колокольчик, и Уолт Комо танцующей походкой вошел в ресторан, разведя руки на манер эстрадного певца полувековой давности; его седые волосы были гладко зачесаны назад по моде пятидесятых.
– “Не дай звезде ослепить тебя, – заголосил Уолт, – не дай луне разбить твое сердце”[1].
Завсегдатаи ресторана, сидевшие за стойкой, понимая, чего от них ждут, развернулись на табуретах, наклонились боком к проходу, вытянули правые руки и подхватили вразнобой: “Па-па-па-па-пайя”.
– Перри Комо, – произнес Хорас, когда, не поворачивая головы, ощутил, что место рядом с ним заняли. – Самое время.
– Командир, – обратился Уолт к Майлзу, – слыхал новость?
– О-о, ради бога, – ответил Майлз. За утро кто только не сообщил ему эту “новость”.
На выходных рядом с ткацкой фабрикой видели черный “линкольн” с массачусетскими номерами. В прошлом году это был “БМВ”, годом ранее – шикарный “кадиллак”. Цвет автомобиля менялся от черного до белого, номера, однако, всегда оставались массачусетскими, и Майлза это забавляло. Орду приезжих, наводнявших Мэн каждое лето, обычно именовали “массачушками”, но когда бы Эмпайр Фоллз ни предавался фантазиям о своем возрождении, спасители всегда являлись из Массачусетса.
– Что? – возмутился Уолт. – Тебя здесь даже не было.
– Дай ему рассказать, – посоветовал Хорас. – Иначе он не уймется.
Уолт Комо переводил взгляд с Майлза на Хораса, словно прикидывая, кто из них больший недоумок, и в конце концов остановился на Хорасе – наверное, потому, что тот высказался последним.
– Ладно, тогда как ты это объяснишь? Три парня в костюмах по восемьсот долларов тащатся сюда из Бостона субботним утром, паркуются у фабрики, взбираются к вершине водопада, не жалея своих лакированных черных ботинок, потом стоят там с полчаса и тычут пальцами в здание фабрики. И кто же они, по-твоему, такие и зачем их сюда принесло?
Хорас положил бургер на тарелку, вытер рот салфеткой:
– По мне, так все ясно как день. Они приехали, чтобы вложить сюда миллионы. Раньше они подумывали о хайтеке, но теперь нет, черта с два. Займемся текстилем, сказали они. Вот на чем реально разбогатеешь. И знаете, что они придумали? От идеи построить фабрику в Мексике или Таиланде, где люди работают за десятку в неделю, они гордо отвернулись. Поедем в Эмпайр Фоллз в штате Мэн, решили они, глянем на остов старой выпотрошенной фабрики, который чуть не снесло наводнением прошлой весной, закупим новое оборудование и создадим сотни рабочих мест с оплатой не меньше двадцати баксов в час.
Майлз не смог сдержать улыбки. За вычетом сарказма, очень похожий сценарий ему озвучивали все утро. Ежегодный слух об инвесторах, полагал Майлз, родился из той же потребности, что заставляет людей натыкаться на Элвиса в дешевых забегаловках. Но почему всегда осенью? Кажется, не самое подходящее время года для генерирования столь рьяного оптимизма. Может, это как-то связано с тем, что дети опять пошли в школу, рассуждал Майлз, и у родителей появилось свободное время, чтобы в преддверии очередной зверской, безжалостной зимы сочинить волшебную байку, которая поможет пережить холода.
– Эй, – Уолт явно обиделся, – я лишь хочу сказать, что однажды даже здесь может случиться что-то хорошее. Ведь никогда не знаешь. А больше я ничего не хотел сказать.
Хорас, опять принявшийся за бургер, на сей раз не стал отрываться от еды и вытирать рот, прежде чем заговорить.
– Хорошее, значит, – повторил он вслед за Уолтом. – Значит, так ты мыслишь? Деньги делают людей хорошими?
– А, да ну вас, – отмахнулся Уолт от обоих собеседников. – Но вот что мне хотелось бы понять, умник хренов. Как ты можешь сидеть здесь и лопать один жирный бургер за другим день за днем, черт побери? Разве ты не знаешь, что такая жратва тебе вредна?
Бургера у Хораса осталось на один укус, он положил его на тарелку и уставился на Уолта:
– А я не понимаю, почему тебе обязательно надо испортить мне ланч, и так каждый раз. Почему ты не можешь оставить людей в покое?
– Потому что я беспокоюсь о тебе, – ответил Уолт. – И ничего не могу с собой поделать.
– Жаль. – Хорас отодвинул тарелку.
– Такой уж я человек. – Уолт отодвинул тарелку Хораса еще дальше и, вынув из кармана потрепанную колоду карт, шлепнул ею по стойке перед Хорасом. – Не могу позволить тебе умереть, пока не выясню, как тебе удается обыгрывать меня в джин.
Хорас вытер салфеткой стойку там, где с бургера капнуло жиром, и сдвинул колоду.
– Тебе придется долго жить. Черт, нет, это мне придется долго жить, – сказал Хорас, наблюдая, как Уолт сдает карты, и безмятежно дожидаясь окончания раздачи, прежде чем взять их в руки. Он вел себя как человек, изучивший эту игру досконально, и самой большой трудностью для него было скрывать скуку, притворяясь опять и опять, будто ему невдомек, чем закончится партия. И наоборот – когда сдавал Хорас, Уолт подхватывал каждую карту на лету, нетерпеливо впивался в нее глазами, словно играл впервые.
– Не-а. – Уолт перекладывал карты из раздачи и так и эдак, пытаясь вычислить, как выстроить комбинацию – по масти или значимости, – чтобы наверняка победить. – Я твой лучший друг, Хорас. Ты просто этого не понимаешь. И не только это. Еще ты не понимаешь, кто твой злейший враг.
Хорас, которому обычно было достаточно переложить одну-две карты, чтобы из его раздачи образовалась комбинация, закатил глаза, повернулся к Майлзу и спросил тоном человека, заранее знающего ответ:
– И кто бы это мог быть, Перри? – В эту игру он тоже играл не раз.
Уолт кивком указал на Майлза и снова никого не удивил:
– Командир, кто же еще. Ты постоянно ешь его бургеры и скоро станешь похожим на него, если, конечно, инфаркт не хватит тебя раньше.
– Хочешь кофе, Уолт? – спросил Майлз. – Мне всегда легче слушать, как ты порочишь мой бизнес, предварительно раскрутив тебя на восемьдесят пять центов.
– Побольше бы тебе таких клиентов, как я, – ответил Уолт, швыряя двадцатку на стойку. В числе многого прочего, бесившего Майлза в Матёром Лисе, была его навязчивая привычка расплачиваться крупными купюрами. Иногда он пытался заставить Майлза отсчитать сдачу с сотни и блаженствовал, когда Майлз отказывался. – Чашка кофе, она обходится тебе… во что? В десять центов? Пятнадцать? А берешь ты за нее почти доллар, так? Это же восемьдесят пять центов прибыли. Недурно.
Майлз налил игрокам кофе и с двадцаткой Уолта направился к кассе. Не было никакого смысла уличать Матёрого Лиса в прихотливости его арифметики. “После того как я подолью вам кофе раз пять, сколько я выручу?”
Дверной колокольчик снова звякнул, и в ресторан вошел младший брат Майлза с газетой, зажатой под мышкой изуродованной руки. Увидев Уолта Комо, он уселся на противоположном конце стойки. Когда Майлз налил ему кофе, Дэвид, читавший первую полосу, поймал взгляд брата, затем покосился на Уолта и снова уткнулся в газету. Обычно братья отлично понимали друг друга, особенно когда оба молчали. На сей раз молчание Дэвида предполагало, что Майлз вернулся из отпуска таким же дураком, каким уехал.
– Ты сегодня задашь жару, – сказал Майлз, имея в виду частную вечеринку, которую Дэвиду предстояло обслуживать. – Я привез тебе пару банок лобстера для соуса.
Дэвид кивнул, наливая молоко в кофе здоровой рукой.
– Объясни наконец, почему ты пускаешь его сюда?
– Отказывать в обслуживании противозаконно.
– Убивать тоже. – Дэвид перевернул газетную страницу. – Тем не менее это было бы изящным решением проблемы.
Майлз попытался представить себе это “решение”. Положим, ему удастся раздобыть револьвер, но кем должен быть человек, чтобы приблизиться к другому человеческому существу – пусть даже к Уолту Комо – и принести в мир еще одну смерть? Не Майлзом Роби, заключил Майлз Роби.
– Эй, – окликнул Дэвид брата, когда тот двинул обратно к грилю, – спасибо за лобстера. Как там на Винъярде?
– Похоже, Питер и Дон хотят разбежаться, – сообщил Майлз.
Дэвид не удивился, не заинтересовался. К дружбе бывших однокурсников он был равнодушен – возможно, потому, что сам он не учился в высшем учебном заведении, если не считать одного семестра в Кулинарном институте штата Мэн.
– Но я не уверен, – продолжил Майлз. Мысль о разводе Питера и Дон вгоняла его в тоску, с этим трудно будет свыкнуться. Он и с мыслью о собственном разводе до сих пор не свыкся. – Может, мне просто почудилось.
– Ты не ответил на мой вопрос, – сказал Дэвид, не поднимая головы от газеты.
Майлз растерянно припоминал. Ему задали вопрос? И не один?
– Как… там… на Винъярде?
– Ах да, – откликнулся Майлз и тут же подумал, что именно на это его будущая бывшая жена все время жаловалась: он никогда ее по-настоящему не слушает. Двадцать лет он старался убедить Жанин, что это не так или, по крайней мере, не совсем так. Не то чтобы он пропускал мимо ушей ее вопросы и просьбы. Скорее, они провоцировали ответы, которых она не ожидала. “Я не игнорирую тебя”, – твердил Майлз, на что у нее была одна реплика: “А выглядит так, будто игнорируешь”.
– Ну? – потребовал ответа его брат. Насчет Винъярда.
– Как обычно, – сказал Майлз. Из всех мест в мире, которые были ему не по карману, Винъярд нравился ему больше прочих.
– Знаешь, что тебе нужно, командир? – громко заговорил Уолт, чтобы его было слышно на другом конце стойки. Каждый раз, проигрывая Хорасу очередную партию в джин, он выступал с предложениями по реформированию “Имперского гриля”.
– Что, Уолт? – вздохнул Майлз, насыпая соль в солонки.
– Завязывай ты с этим пойлом и начинай подавать кофе “Грин Маунтин”.
Себя Уолт числил человеком передовым, мгновенно подхватывающим все новое и высококачественное. В своем фитнес-клубе, куда он без устали заманивал Майлза, суля выдающуюся мускулатуру, Уолт недавно завел новшество, белковые протеиновые коктейли, и полагал, что и в “Гриле” на них набросятся. Майлз, разумеется, отвергал подобные идеи, лишь укрепляя Уолта в убежденности о патологической замшелости Майлза, которому на роду написано управлять замшелым ресторанчиком. Уолт высказывал эту мысль практически ежедневно, впрочем оставляя без ответа вопрос: почему он, человек прогрессивный во всех отношениях, предпочитает проводить столько времени в этом замшелом заведении?
– Спорим, вслепую ты на вкус эти два кофе не различишь? – сказал Хорас, обычно принимавший сторону Майлза в подобных диспутах, тем более что сам Майлз крайне неохотно отбивал эти нескончаемые атаки на свое личное мировоззрение.
– Издеваешься? Кофе “Грин Маунтин”? Колоссальная разница, – ответил Уолт.
Опять звякнул колокольчик, Майлз обернулся и на сей раз увидел свою дочь, а значит, если ее никто не подвез, она всю дорогу топала от реки по Имперской авеню, а он даже не вышел ей навстречу. Майлз вдруг разнервничался. С тех пор как они с Жанин расстались, между ним и Тик тоже образовалось расстояние, и он давно пытался понять, в чем тут дело. Он бы не обиделся на дочь, сочти она его за предателя, когда он согласился развестись с ее матерью, но вроде бы она так не думала. Тик с самого начала понимала, что инициатива исходила от Жанин, и с матерью обходилась куда суровее, чем с отцом, настолько суровее, что Майлз из чувства справедливости был вынужден напомнить ей: тот, кто хочет развода, необязательно главный виновник матримониального краха. Он подозревал, что перемены в их отношениях скорее связаны с ним, а не с дочерью. Начиная с весны Тик постоянно уворачивалась от его пристального внимания. Разумеется, она взрослела, превращалась из ребенка в юную женщину, и с ней что-то происходило, чего он не понимал, да его вмешательства никто и не требовал. И все же его беспокоило, что он не держит руку на пульсе. Слишком часто ему страшно хотелось увидеть ее, словно только физическое присутствие Тик могло унять его отцовские тревоги, но когда она появлялась, то вовсе не походила на девочку, за которую следовало столь отчаянно переживать. Неделю на Винъярде они провели замечательно, и к концу отпуска Майлз более чем когда-либо с тех пор, как он и Жанин разъехались, ощущал себя на одной волне с Тик. Но по возвращении домой чувство разобщенности нахлынуло с новой силой, и когда дочери не было рядом, ему уже мерещились всякие ужасы. Вот и сейчас, вместо того чтобы обрадоваться, Майлз перемалывал в голове альтернативный сценарий: хриплый визг шин где-то за квартал от ресторана; безжизненное тело Тик на асфальте; автомобиль мчится прочь, волоча за собой ее огромный рюкзак. Чего не произошло, опомнился Майлз, торопливо проглатывая панику.
Как обычно, когда Тик после уроков приходила в “Гриль”, она аккуратно обогнула Уолта Комо, притворяясь, будто не видит его вытянутой руки, и вырулила у другого конца стойки.
– Привет, дядя Дэвид. – Тик чмокнула его в щеку.
– Привет, красавица, – ответил Дэвид, помогая племяннице сбросить рюкзак. Когда тот стукнулся об пол, стаканы и солонки на стойке задребезжали. – Сегодня ты моя помощница?
– Что ты носишь в рюкзаке, зайка? Камни? – раздался голос Уолта Комо.
Продолжая не замечать Уолта, Тик подошла к Майлзу, обвила его руками, сцепила пальцы в замок и уткнулась лицом в отцовский фартук.
– У меня в голове АББА, – сказала она. – Выгони их.
– Бедняжка. – Майлз обнял дочь, чувствуя, как улыбка расползается по лицу от того, что она рядом, и от того, что верит в его дар развеивать дурную магию старых поп-групп. Хотя она уже не ребенок, не совсем ребенок. – Ты по радио их наслушалась?
– Нет, – ответила Тик. – Это все из-за него. – Она имела в виду Уолта. Предъявив обвинение, Тик разжала руки, выпрямилась и взяла фартук.
Вина Уолта Комо состояла в том, что Жанин, мама Тик, работала в его фитнес-клубе, где вела занятия по аэробике у новичков и в группе второй ступени под “Мамма миа” и “Танцующую королеву”, а потом напевала эти песни дома. Предполагалось, что лишь наиболее продвинутым из обучающихся по силам совладать с крутостью Барри Манилоу и его “Копакабаны”.
– Твой отец говорит, что вы хорошо провели время на Винъярде, – обронил Дэвид, когда Тик направилась в подсобку с подносом, полным грязной посуды.
– Я хочу там жить, – призналась Тик с той легкостью, с какой признаются в грехе, когда не видят ни малейшей возможности этот грех совершить. – Там по дороге на пляж выставили книжный магазин на продажу, но папа ни за что его не купит. – Дверь в подсобку за ней захлопнулась.
– Сколько? – поинтересовался Дэвид, отложил газету, схватил фартук и встал рядом с братом у сервировочного стола. Покалеченная рука плохо его слушалась, прежняя сила и ловкость пока не вернулись. – Завяжешь? А то я полчаса буду с этим возиться. – Но Майлз уже взялся за тесемки его фартука, оставив в покое солонки. – Ну? – продолжил Дэвид, когда с узлом было покончено.
– “Ну” что?
– Сколько хотят за магазин? Господи! Как так получается, что ты способен запомнить наизусть, что заказывали на завтрак двадцать пять клиентов, и тут же позабыть, о чем тебя спрашивали две секунды назад?
– На самом деле это книжный секонд-хэнд.
Майлз говорил чистую правду, именно такова была специализация магазина. На первом этаже хватило бы места для торговли новыми книжками и маленького кафе, поскольку теперь люди уже не могут представить книжного магазина без кафе, а второй этаж, если привести его в порядок, сгодился бы для подержанных книг. На участке также стоял небольшой коттедж. Магазином около двадцати лет владела и заправляла одна и та же семейная пара, но теперь жена болела, и ее муж убеждал себя в необходимости свернуть семейный бизнес. Их дети, разъехавшись по колледжам, не хотели участвовать в этом никоим образом.
– Выходит, ты знаешь об этом все, кроме цены? – удивился Дэвид, когда Майлз закончил рассказывать.
– Я не видел объявления о продаже. Питер просто показал мне это место. Вряд ли он в курсе, сколько они запрашивают. Книжная торговля его не привлекает.
– Командир, у них там есть фитнес-клуб? – встрял Уолт.
– Не знаю, – ответил Майлз как можно более нейтральным тоном. Если что-то и могло испортить остров в глазах Майлза, так только присутствие Уолта Комо. Конечно, трудно было вообразить, что за пределами Эмпайр Фоллз найдется место для самовлюбленного придурка по кличке Матёрый Лис, но поехидничать Майлз не осмелился. Год назад Уолт как бы в шутку сказал, что если Майлз не поостережется, то он уведет у него жену, а потом взял и увел.
Уолт задумчиво скреб подбородок, прикидывая, какую карту сбросить.
– А что, дела в моем клубе идут отлично. Все работает как часы. Пожалуй, настало время расширяться. – Интонацией Уолт давал понять, что самое главное в его ситуации – не упустить удобный момент.
Матёрый Лис любил намекнуть: деньги для него не проблема, любой банк в графстве Декстер с радостью даст ему кредит на любую запрашиваемую сумму. Майлз в это не верил, но всякое бывает. Когда-то Майлз не верил, что его будущая бывшая способна повестись на хвастливый треп Уолта Комо, и сильно ошибся.
– Иди рассчитай его, – сказал Дэвид, – и он тут же захочет помериться с тобой силой на руках.
– Думаю, – пожал плечами Майлз, – он ходит сюда, чтобы показать, что не держит зла.
– После того, как умыкнул твою жену? – хохотнул Дэвид.
– Грех часто сам по себе наказание, – тихо произнес Майлз, поглядывая на дверь в подсобку, где Тик гремела тарелками, укладывая их в дряхлую посудомоечную машину.
Когда их брак с Жанин распался, они мало о чем сумели договориться касательно их дальнейшего существования, но одной из договоренностей было не поливать друг друга грязью перед дочерью. Майлз понимал, что соглашение ему на руку, поскольку у него редко возникало желание обругать почти бывшую жену, тогда как Жанин была всегда готова поделиться своим уничижительным мнением о Майлзе. Разумеется, все прочие соглашения – позволить Жанин жить в их доме, пока его не продадут, отдать ей машину получше и боґльшую часть имущества – оказались в ее пользу, Майлзу же осталось разбираться с долгами.
– Тик правда хорошо отдохнула?
– Видел бы ты ее, – кивнул Майлз. – Она была такой, как прежде, до того как на нее обрушилась вся эта хрень. Улыбалась всю неделю напролет.
– Приятно.
– А еще она там познакомилась с парнем.
– Это всегда помогает.
– Не вздумай ее подкалывать.
– Ладно, – пообещал Дэвид, хотя кому-кому, а ему сдержать подобное обещание было нелегко.
Майлз снял фартук и бросил его в корзину, стоявшую у двери.
– Тебе бы тоже стоило отдохнуть недельку. Поезжай куда-нибудь.
– Зачем кликать беду? – усмехнулся Дэвид. – Я уже однорукий. Ну поеду я поразвлечься и вдруг начну себя плохо вести, и потом придется мне переворачивать твои бургеры ступнями.
Он был прав, конечно. Майлз знал, что брат уже три года не пьет, с того самого дня, когда, возвращаясь с охоты на севере графства, Дэвид, пьяный, заснул за рулем и его пикап сорвался с горной дороги в овраг. В свободном полете грузовичок врезался в дерево, и в это мгновение автомобиль и его не пристегнутый водитель расстались, еще с сотню ярдов пикап носило по оврагу, пока он не утихомирился в густом перелеске. Дэвид же, выброшенный из кабины, зацепился охотничьим жилетом за верхние ветви дерева, где и повис примерно в пятидесяти футах над землей, то теряя сознание, то приходя в себя, с рукой, переломанной в нескольких местах, и четырьмя треснувшими ребрами, пока следующим утром его, почти окоченевшего, не обнаружила компания охотников. Один из них пристроился отлить ровно под тем самым деревом, на котором – ни фига себе! – покачивался Дэвид, будучи не в силах издать ни звука. Если бы того мужика не подвел мочевой пузырь, любил повторять Дэвид, он бы до сих пор болтался там на ледяном ветру мешком с побелевшими костями в классной охотничьей упаковке от “Л.Л.Бин”.
Ночь в беспомощном одиночестве и полубреду оказалась куда эффективнее, чем все курсы терапии в клиниках, где Дэвида на протяжении десяти лет лечили от разных зависимостей. Старые дружки, с которыми он вместе выпивал, – многие из них по-прежнему бороздили на снегоходах графство – время от времени наведывались к нему в надежде убедить развязать, задушевно напомнив, насколько веселее жить поддатым, но пока Дэвид не велся на их увещевания. Год назад он купил небольшую турбазу в лесу неподалеку от озера Смолл-Понд и говорил, что как только его потянет взглянуть на мир сквозь коричневое стекло пустой пивной бутылки, то все, что ему надо сделать, – просто выйти на дощатое крыльцо, поднять голову к соснам и снова услыхать этот жуткий свист ветра в ветвях ближе к верхушкам. Майлз надеялся, что так и есть. На момент инцидента он почти не общался с братом и теперь неустанно втихаря наблюдал за Дэвидом, сомневаясь не столько в твердости его намерения исправиться, сколько в его внутренних силах. Майлз был в курсе, что Дэвид понемножку покуривает травку и, возможно, даже возделывает малюсенькую плантацию марихуаны в лесу, как и добрая половина его соседей в деревнях штата Мэн, но после аварии Дэвид ни разу не выпил и частенько надевал оранжевый охотничий жилет, что спас ему жизнь.
Майлз оглядел ресторан, соображая, не оставил ли что-то недоделанным. Одной недели отпуска хватило, чтобы он чувствовал себя здесь чужаком. Вчерашний день он провел, восстанавливая в памяти, где что лежит, и лишь когда был занят делом и не было времени думать, тело само вспоминало привычные движения. Сегодня все шло лучше, хотя пока и не отлично.
– Ладно, – сказал Майлз. – Ты уже знаешь, что тебе понадобится?
– Все на свете, – усмехнулся Дэвид. – Но ты не парься.
– Окей, – согласился Майлз.
– Тебе стоит об этом подумать, Майлз. – Дэвид, согнувшись, проверял запасы под стойкой.
– О чем? – Его брат высунул голову из-за стойки.
– О чем? – повторил Майлз.
Пожав плечами, Дэвид нырнул к полкам.
– Пункт первый: мне это не по карману. По крайней мере, до тех пор, пока я не продам ресторан. Пункт второй: Жанин никогда не отдаст мне Тик, а Тик – единственное, чего я не хочу ей оставлять. И пункт третий: кто присмотрит за отцом?
Дэвид встал на ноги, прижимая локтем искалеченной руки мегаупаковку салфеток, явно в укор Майлзу, забывшему пополнить салфетницы.
– Пункт первый: ты не знаешь, по карману ли тебе это, потому что понятия не имеешь, сколько хотят за этот книжный. Хозяин может творчески подойти к финансовому вопросу, если ему понравится покупатель. Пункт второй: загорись ты этой идеей, у тебя хватило бы запала, чтобы подать в суд насчет опеки над Тик. Далеко не факт, что именно тебя сочтут непутевым родителем. И пункт третий: не родился еще на земле человек крепче Макса Роби. Он только выглядит и прикидывается беспомощным. Короче, твой отказ на самом деле означает, что тебе просто неохота с этим связываться, я прав?
– Думай что хочешь, Дэвид. – Майлз был не в настроении спорить. – Дай сюда.
Но когда он потянулся за салфетками, брат ловко увернулся:
– Отвали.
– Дэвид, отдай чертовы салфетки.
Человеку с двумя здоровыми руками разложить салфетки – плевое дело, однорукий же намучается, что Дэвид и имел в виду: пусть ему будет трудно, но он исправит недочет Майлза. Для парня, повисшего на дереве и едва на замерзшего насмерть по собственной глупости, брат Майлза был, как ни странно, нетерпим к промахам других людей.
– Иди уже. Проваливай.
Покачав головой, Майлз сдался. И спросил:
– Он заходил сюда на прошлой неделе?
– Макс? Целых три раза.
– Ты не подпускал его к кассе, надеюсь?
Их отца не стоило оставлять наедине с деньгами; впрочем, Майлз с Дэвидом издавна спорили о границах его бесчестности. По мнению Майлза, таковых вовсе не существовало. Дэвид настаивал на том, что границы имеются, только их не всегда легко определить. Например, он считал, что Макс запросто очистит карманы своих сыновей, но не ресторанную кассу.
– Правда, я рассчитывался с ним по-черному, – признался Дэвид.
– Я же просил тебя этого не делать.
– Просил. Но почему не рассчитаться с ним так, как ему приятнее. Да и какая разница?
– Разница в том, что это противозаконно. Кроме того, миссис Уайтинг на стенку полезет, если заподозрит меня в двойной бухгалтерии.
– А вдруг она обрадуется, когда смекнет, что так для нее прибыльнее.
– Может, и обрадуется. Но заодно начнет сомневаться: если я обдуриваю власти, то почему бы мне не обдуривать и ее тоже?
Дэвид кивнул с видом человека, неудовлетворенного полученным объяснением, но решившего не возражать.
– Ладно, у меня к тебе еще вопрос. – Он в упор уставился на Майлза: – С чего ты взял, что эта женщина отдаст тебе ресторан?
– Она так говорила.
Дэвид снова кивнул:
– Ну не знаю, Майлз…
Остался только один таз с грязной посудой, но самый большой. Майлз перетащил его на кухню и водрузил рядом с мойкой, потом замер, прислушиваясь к пыхтенью и урчанью “Хобарт”: сквозь стальную коробку машины просачивался пар. Сколько лет здесь стоит эта посудомойка? Двадцать? Или все двадцать пять? Майлз отлично помнил, что машина уже была, когда Роджер Сперри нанял его, старшеклассника, помогать в ресторане. Скорее всего, недолго ей осталось, и если бы Майлза попросили предсказать, когда она испустит дух, он бы назвал день, который наступит сразу после того, как “Гриль” перейдет в его собственность. Майлз беседовал с миссис Уайтинг насчет замены машины, но “Хобарт” – штука дорогая, и старуха не хотела и слышать о подобных расходах, пока старая посудомойка на ходу. В приливе великодушия Майлз говорил себе, что если женщине хорошо за семьдесят, ей не могут нравиться разговоры о старых изношенных вещах, чей срок годности давно истек, вещах, которым пора бы уже на свалку. В менее человеколюбивые моменты он подозревал, что владелица из вредности намерена приурочить окончательный выход из строя всего ресторанного оборудования – машины “Хобарт”, плиты “Гарланд”, гриля, миксера для молока – к собственной кончине и таким образом предельно минимизировать свой дар Майлзу.
Договор между ними, согласованный почти двадцать лет назад (еще один срок длиною в жизнь, думал Майлз), когда Роджер Сперри занемог, предполагал, что Майлз будет управлять рестораном, покуда жива миссис Уайтинг, а затем унаследует заведение. Сделку заключили тайно из-за матери Майлза – Грейс наверняка была бы против того, чтобы сын бросил колледж на последнем курсе бакалавриата, а его идея отдать в заклад свое будущее, потому что он хотел быть рядом с больной матерью, привела бы ее не только в отчаяние, но и в ярость. Миссис Уайтинг тоже не терпелось ударить по рукам, ведь Грейс, узнай она об их замыслах, отговорила бы Майлза от напрасного милосердия, пояснив, что она все равно умрет, рисковать же перспективами – неслыханная дурость, которая сведет на нет все жертвы, принесенные матерью ради сына. Майлз все это предвидел, поэтому и вступил в сговор с миссис Уайтинг.
Но даже если бы мать не была больна, хозяйничать в “Имперском гриле” на тот момент представлялось не такой уж идиотской затеей. Специализируясь по истории, Майлз со временем понял, что без магистерской степени работы ему не найти, а денег на продолжение учебы не было. Трудиться в ресторане он начал за год до окончания школы, а уехав в колледж, подрабатывал в “Гриле” летом и по выходным, так что все аспекты ресторанной деятельности были ему знакомы. И хотя управление “Грилем” не сулило легкой жизни и награда за труды была скромной с общепринятой точки зрения, по меркам Эмпайр Фоллз Майлзу определенно повезло. Так почему бы не попотеть в заведении несколько лет и не подкопить денег? Закончить колледж он всегда успеет. И миссис Уайтинг отпустит его доучиваться, ей просто придется с этим смириться.
Разумеется, все это происходило до того, как закрыли текстильное производство и население городка стало уменьшаться: люди уезжали семьями в поисках работы. А Майлз по молодости лет не знал – да и откуда было знать, – что ему никогда не полюбить ресторан так, как любил его Роджер Сперри, и что “Гриль” выживал исключительно благодаря искренней привязанности к нему прежнего хозяина. Тем не менее Майлз понимал, что в такие места, как “Имперский гриль”, люди приходят не ради еды. Оттрубив две-три смены в качестве ученика, он уже куда лучше и быстрее, чем его наставник, управлялся с блюдами, которые готовятся на раз. Роджер с гордостью провозгласил его прирожденным ресторатором, вероятно имея в виду способность Майлза запоминать, что обычно заказывают клиенты, и держать необходимые продукты наготове. Самого Роджера память частенько подводила, и если он и замечал недостатки Майлза, то с ним своими наблюдениями не делился, не желая огорчать юношу, который ему так нравился.
Лишь взяв ресторан в свои руки, Майлз начал понимать, насколько трудно ему в новой должности выстраивать отношения с завсегдатаями “Гриля”. Раньше он был смышленым пареньком, сынком Грейс Роби, учившимся не где-нибудь, а в колледже, – а это не тьфу тебе, добродушно усмехались клиенты. Поглощая ланч за стойкой, они постоянно задавали ему каверзные вопросы: как превратить трактор в экскаватор или где лучше выкопать выгребную яму – по их представлениям, в колледже учили именно этому. Обнаруживая его полную неосведомленность в подобных вопросах, они недоумевали вслух: что же в Портленде за колледж такой, черт побери. Часто они обращались к Майлзу не напрямую, но через Роджера Сперри, словно им уже нужен был переводчик. После смерти Роджера еда улучшилась в обратной пропорции к общению. Претензий Майлзу не предъявляли, но, по мнению все тех же мужчин за стойкой, он слишком много времени проводил спиной к ним, уделяя куда больше внимания скворчащим гамбургерам, нежели разговору, взаимным шуткам и обсуждению бытовых неурядиц. Уважая его поварские умения, они чувствовали, что беседа с ними его мало интересует и что он в принципе недоволен жизнью. Роджер Сперри был всегда так рад их видеть, что вечно пережаривал или недосаливал, и его промахи служили лишь общему веселью. Под руководством компетентного Майлза “Имперский гриль”, отродясь не приносивший серьезных дивидендов, тихо, медленно, почти незаметно для невооруженного глаза катился к упадку, пока в один прекрасный день не стало ясно: заведение не прибыльно, и таковым ресторан оставался долгие годы.
Майлзу нередко слышалась нотка сожаления в голосе миссис Уайтинг, когда она вспоминала о своем обещании оставить ему ресторан. Казалось, она винила Майлза в том, что дела настолько плохи, и вопрошала вслух, зачем ей не самый доходный бизнес, который грозит превратиться в убыточный. Но когда – и такое случалось не раз – Майлз падал духом и задавал своей нанимательнице тот же вопрос, миссис Уайтинг мгновенно меняла тон и призывала Майлза не опускать руки. “Имперский гриль”, уверяла она, крайне важен для города в качестве единственного заведения, где не кормят фастфудом, и обитателям Эмпайр Фоллз, из последних сил сохраняющим надежду на будущее, “Гриль” жизненно необходим, и неважно, процветает ресторан или нет.
Еще более загадочным было возникшее у Майлза ощущение, что миссис Уайтинг совсем не обрадовалась, когда бизнес с некоторых пор начал оживать. В последние девять месяцев благодаря смелым инициативам Дэвида ресторан успешно сводил концы с концами, а весенние месяцы завершились даже небольшой прибылью. Когда Майлз доложил миссис Уайтинг о внушающих оптимизм переменах, ожидая улыбчивой реакции на скромное умножение ее достояния, она отнеслась и к этому известию, и к самому глашатаю настороженно, будто не поверив представленным ей цифрам либо заподозрив, что ребятки Роби пытаются ее на что-то раскрутить.
Майлз знал, что миссис Уайтинг упомянула в своем завещании о передаче “Гриля” Майлзу, много лет назад она показала ему соответствующий пункт в документе. Но чего он не знал, естественно, не изменила ли она завещание, о чем его не раз предупреждал Дэвид. Конечно, всякое могло быть, но Майлз упорно твердил – по крайней мере, в ответ на сомнения брата, – что коли старушка пообещала оставить ему ресторан, она так и поступит. Однако признавал: было бы очень в духе миссис Уайтинг сделать так, чтобы к моменту наследования ресторан стоил как можно меньше. Пока же отжившая свое “Хобарт” оставалась исключительно его проблемой, и Майлз подумывал о резиновых уплотнителях.
Тик сидела напротив, устало жуя батончик мюсли в ожидании завершения посудомоечного цикла.
– У меня случился “имперский момент” по дороге сюда, – сообщила она без особого энтузиазма. – Не очень грандиозный, но все же. Цветочный магазин. “Б. У. К. Е. Й. Т.”
Они играли в эту игру уже год, обнаруживая непреднамеренный юмор в опечатках “Имперской газеты”, странностях в рекламе местных магазинов, логических нестыковках в объявлениях и указателях, как, к примеру, в надписи на кирпичной стене, огораживавшей старую пустующую рубашечную фабрику, – “БЕЗ ПРОПУСКА НЕ ВХОДИТЬ”. Они называли эти смешные находки “имперскими моментами”, и Тик проявляла завидную, если не обескураживающую ловкость в этой игре. В прошлом месяце в Фэрхейвене она заметила объявление рядом с закрытой из-за ремонта дверью невзрачного бара, о котором поговаривали, что там собираются геи, – “ВХОД СЗАДИ”. Майлз опешил, осознав, что его шестнадцатилетняя дочь понимает юмор ситуации, но в то же время гордился ею. Хотя и задумывался, а не была ли права Жанин. Его будущая бывшая с самого начала не одобряла эту игру, считая, что таким способом эти двое опять демонстрируют свое мнимое превосходство над всеми и особенно над нею, Жанин.
– У тебя зоркий глаз, – кивнул Майлз. – Я наведаюсь туда и взгляну на эту б/у Кейт. – По правилам они должны были проверять находки друг друга.
– Это и я могу сделать, – вызвалась Тик, когда ее отец принялся очищать тарелки, прежде чем поставить их в посудомоечную машину.
– Не сомневаюсь, – заверил ее Майлз. – Как дела в школе?
– Нормально, – пожала плечами Тик.
Если Майлзу и хотелось что-нибудь изменить в своей дочери, то самую малость, и все же, вопреки его разумению, в жизни Тик слишком многое было “нормальным”. Она была умницей, из тех, кто понимает разницу между первоклассным, посредственным и паршивеньким, но, как и большинству ребят ее возраста, пускаться в подробные разъяснения ей было в лом. Как тебе фильм? Нормально. А жареная картошка? Нормально. Как твоя вывихнутая лодыжка? Нормально. Все и всегда было нормально, если даже и не было, если даже на самом деле все было паршивенько. Когда полный эмоциональный спектр от отчаяния до восторга суммируется одним словом, что прикажете делать родителям? Еще более Майлза беспокоила мысль, что “нормально” часто используют в качестве затычки в разговоре, надеясь, что человек, задавший вопрос, попросту отвалит.
И Майлз придумал хитрый ход: не отваливать. Но и не продолжать расспросы, потому что на них ответят тем же уклончивым словом. Надо молчать. Хотя далеко не всегда эта хитрость срабатывала.
– У меня новая подруга, – разразилась наконец Тик целым предложением, когда “Хобарт”, содрогнувшись, затихла. Девочка поднялась, чтобы вынуть чистую посуду.
Майлз ополоснул руки и подошел к шкафу, куда Тик убирала теплые тарелки. Взяв одну с полки, он придирчиво осмотрел ее. Тарелка сверкала чистотой. “Хобарт” еще поживет.
– Кэндис Берк. Она тоже ходит на рисование. Сегодня она украла канцелярский нож.
– Зачем?
– Наверное, у нее такого не было. Каждую фразу она начинает с “о боже, о господи”. Типа, “о боже, о господи, у меня тушь потекла”. Или “о боже, о господи, ты даже тощее, чем в прошлом году”.
Последнее, догадывался Майлз, не было выдуманным примером. Тик, и раньше худую как палка, теперь все чаще подозревали в анорексии, в прошлом году даже вызывали в медпункт и расспрашивали о ее режиме питания. Майлза с Жанин тоже вызвали, и произошло это до того, как Жанин резко похудела, так что, глядя на родителей Тик, заполнивших собою почти целиком крошечный школьный медпункт, сама собой напрашивалась мысль, что девочка не без ухищрений довела себя до состояния тростинки.
Майлз тщился вспомнить, знает ли он Кэндис Берк. В городе фамилия Берк нередко встречалась.
– Как она выглядит?
– Толстой.
– Сильно или слегка?
– Она такая же толстуха, как я худышка.
– Иными словами, не слишком, – ввернул Майлз. Дочь-подросток шарахалась от его комплиментов. По правде говоря, Майлз считал ее неотразимой красавицей и регулярно пытался объяснить, что ее популярности среди мальчиков мешают только ее ум и чувство юмора. – Интересно, из каких она Берков?
– Она живет с матерью, – пожала плечами Тик, – а мать с новым бойфрендом в конце Уотер-стрит. Она говорит, у нас с ней много общего. По-моему, она влюблена в Зака. Все время твердит: “О боже, о господи, он такой милый. Как ты это выдерживаешь? То есть он же был твоим, а теперь нет”.
– Ты сказала ей, что она не много теряет?
При упоминании Зака Минти, бывшего бойфренда Тик, Майлз до сих пор скрипел зубами, хотя с их разрыва минул не один месяц. Майлз лелеял надежду, что столь своевременное знакомство с Донни на Винъярде освободит его дочь от какой-либо остаточной привязанности к подростку, за которым, как и за его отцом и дедом в свое время, всегда нужен был глаз да глаз. Молчание дочери встревожило Майлза.
– Все бы ничего, – сказала она наконец, – но сейчас я не только без Зака, у меня и ни одной подруги не осталось.
В течение полугода две лучшие подруги Тик уехали из города.
– Кроме Кэндис, – напомнил Майлз.
– О боже, о господи, – заверещала Тик в притворном ужасе, – я забыла про Кэндис!
– И ты забыла меня, – опять напомнил Майлз.
Тик посерьезнела, дернула плечом:
– Ты прав.
– И дядю Дэвида.
Нахмуренные брови, извиняющийся тон:
– Да.
– И твою маму.
Едва заметная морщинка на лбу. Длить перечень Майлз не стал, и Тик позволила себя обнять, покорно скользнув в его неловкие, слишком широкие объятия. Обычно, предвидя эту медвежью ласку, Тик поворачивалась боком, и ее плечо впивалось Майлзу под грудину. Причину такого поведения ему объяснила Жанин: вероятно, развивающаяся с опозданием грудь у их дочери побаливает; из этого объяснения Майлз понял, почему сама Жанин не очень любила обниматься с ним.
– Конечно, мы не те друзья, которых ты имела в виду, – сказал Майлз дочери, – но мы не кто-нибудь.
– Да. – Шмыгнув носом, Тик зарылась лицом в его рубашку.
– Ты собираешься написать Донни?
– Зачем? Я никогда его больше не увижу.
– Кто знает, – пожал плечами Майлз.
– Я. – Тик отодвинулась от него. – И ты. – Она вернулась к посудомоечной машине.
– Тебе уроки задали? – спросил Майлз. (Тик помотала головой.) – Хочешь, я загляну попозже и отвезу тебя домой?
– Мама обещала заехать, – сказала Тик. – А если она забудет, идиот меня довезет.
– Эй. – Майлз дождался, когда она повернется к нему лицом. – Полегче с ним. Он старается. Просто он не понимает, как ему… существовать рядом с тобой.
– Лучше бы ему вовсе прекратить существовать.
– Тик.
– Да ладно, ты сам его люто ненавидишь, но не признаешься. Интересно почему?
Потому что. А вдруг одним признанием дело не ограничится – вот почему. Потому что, когда Дэвид предложил убийство как способ положить конец ежедневным визитам Матёрого Лиса, Майлзу пришлось унимать разыгравшееся воображение.
– Командир! – возопил Уолтер Комо, когда Майлз вышел из кухни. – Поди сюда на минутку.
Уолт снял верхнюю рубашку, отметил Майлз. Под рубахой Уолт всегда носил белые футболки с логотипом своего фитнес-клуба на груди слева и всегда на размер меньше, чтобы каждый мог полюбоваться его по-прежнему бугристым накачанным пятидесятилетним торсом и бицепсами. Дэвид, конечно, был прав. Уолт готовился водрузить локоть на пластиковую стойку и предложить Майлзу помериться силой.
– Сейчас буду, – отозвался Майлз и повернулся к Дэвиду, который с помощью Хораса наполнял салфетницы: – Нашел помощника на вечер?
– Шарлин, – ответил Дэвид. – По-моему, это она только что припарковалась.
– Может, мне задержаться?
– Ни-ни.
Майлз пожал плечами, а Дэвид ухмыльнулся:
– Тебе пора сматываться, и, понятно, через черный ход.
– Не иначе.
Позади ресторана крайнее парковочное место рядом с мусорными баками занимала десятилетняя “джетта” Майлза, к ней пристроился еще более обшарпанный “хендай эксель” Шарлин. Майлз старался производить как можно больше шума, приближаясь к Шарлин, чтобы не напугать ее, но радио в ее машине орало, и она вздрогнула, когда Майлз возник у дверцы.
– Господи, Майлз, – прохрипела она, зажав зубами косячок и опуская стекло. Под старую песню “Роллинг Стоунз” потянуло сладким дымком. – Ты меня до инфаркта доведешь. Я уж было приняла тебя за того копа-придурка. – Имелся в виду Джимми Минти.
– Извини, – сказал Майлз, хотя и не был искренне огорчен.
Женщины в большинстве своем отлично знали, чего от него ждать, и не скрывали этого. Во всяком случае, Жанин. “И не воображай, что ты меня поразил, Майлз. Ничуть”, – заявила она, согласившись выйти за него замуж. Сам же Майлз был удивлен тем, что сделал ей предложение, и соответственно полагал, что и Жанин удивится, но нет. Она называла его “самым прозрачным мужчиной на свете”. “Даже и не думай о карьере преступника, – предупреждала она. – Только захочешь ограбить банк, а копы уже будут в курсе, какой именно ты выберешь”.
– Как вы тут без меня на прошлой неделе? – спросил он Шарлин.
– Не шибко. Хотя ужинов прибавилось.
– Ну, к этому мы почти привыкли.
– Ребята из колледжа опять зачастили.
Ужины были относительным новшеством. Еще год назад ресторан работал только в утренние и обеденные часы, но Дэвид предложил открываться и по вечерам в выходные – в надежде привлечь иную публику; миссис Уайтинг была против этой затеи, опасаясь, что они потеряют старых, испытанных и преданных, клиентов. Майлз сумел довести до ее сведения, что многих из старых-преданных след простыл, умерли либо уехали. В итоге миссис Уайтинг согласилась, но сперва убедилась, что они не потребуют рекламного бюджета, не внесут никаких изменений в меню завтраков и ланчей и не станут вымогать у нее денег на дорогостоящий ремонт в оправдание новому и более изысканному обслуживанию по вечерам.
По задумке Дэвида они начали с заманивания студентов, сочинявших за бесплатную еду отзывы на рестораны для студенческой газеты. Колледж находился в семи милях вверх по реке, в Фэрхейвене, и даже Майлз не верил, что студенты протопчут к ним дорожку, учитывая, что их родители ежегодно выкладывают минимум по двадцать пять тысяч на обучение, жилье и мелкие расходы своих детей. Но, видимо, кое-какие деньжата еще оставались. Когда студенты принялись наведываться в “Имперский гриль”, машины на парковке перед рестораном пополнились рядком “БМВ” и “ауди”. Летом эта роскошная армада вернулась в Массачусетс и Коннектикут, что притормозило наплыв клиентов, но вечером по пятницам и субботам посетителей набиралось достаточно, чтобы не закрывать ресторан сразу после ланча. Другой революционной идеей Дэвида стало обслуживание частных вечеринок.
– Вы сегодня с Дэвидом вдвоем управитесь?
– Да запросто. Репетиция свадебного обеда на двадцать человек.
– Окей, – сказал Майлз, не сумев скрыть разочарования от своей ненужности.
Шарлин, кажется, поняла его настроение и сменила тему:
– А вы с Тик хорошо отдохнули?
– Прекрасно. И наверное, зря я делился своими восторгами. Теперь Уолт подумывает открыть фитнес-клуб на острове.
– Я видела его фургон перед входом. Хочешь, я ему сейчас такое устрою, что у него член отсохнет?
– Оставь, – ответил Майлз, зная, что Шарлин подобное по силам. В свои сорок пять ей более чем хватало женской властности, чтобы вгонять в ступор самодовольных качков из колледжа. – Я все равно ухожу.
– Он выдавливает тебя из твоего же ресторана. Так нельзя, Майлз.
– Да я рад, что он приходит. Если бы не он, я бы там дневал и ночевал.
С тех пор как они с Жанин расстались, Майлз жил в квартире над рестораном. Он собирался навести в квартире чистоту и уют, но за минувшие полгода далеко с этим не продвинулся. Половина жилого пространства была по-прежнему забита картонными коробками из подвальной кладовой, запасами, перенесенными наверх много лет назад, когда разлилась река. Майлз также подозревал, что и с вентиляцией в квартире не все в порядке: в холодную погоду он часто просыпался с тяжелой головой и ему не хватало воздуха. В прошлом апреле он даже собрался попросить у Жанин разрешения ночевать в гостевой спальне, пока он не избавится от головных болей, но когда Майлз явился к Жанин с этой просьбой, оказалось, что Матёрый Лис уже поселился в его бывшем доме. Лучше уж задыхаться в “Гриле”, решил Майлз.
– Ладно, если ты уходишь, так давай уходи, а я пока докурю косячок, – сказала Шарлин.
– Кури себе на здоровье. Кто тебе мешает?
– Ты. Я чувствую себя неуютно, когда курю травку в твоем присутствии.
Поскольку фраза Шарлин смахивала на оскорбительный упрек, Майлз не мог не поинтересоваться почему.
– Потому что ты из тех людей, у кого никогда не получается надежно скрыть свое неодобрение.
Майлз вздохнул. Вероятно, Шарлин права. То же самое ему не раз говорила Жанин. До чего же странно, однако, то, как тебя воспринимают другие люди. Майлз всегда считал себя образцом толерантности.
Глава 2
Отец Марк, возвращаясь с обхода лежачих больных из его паствы, столкнулся с Майлзом; тот, стоя позади церкви Св. Екатерины, пялился на колокольную башню со шпилем. В детстве Майлз был заядлым верхолазом, настолько бесстрашным, что его мать столбенела от ужаса. Приготовив ужин, она выходила позвать его в дом и всегда искала сына на уровне земли, к его вящему удовольствию, – ему нравилось окликнуть ее с высоты, вынуждая поднять голову и обнаружить сына среди ветвей под голубым небом, и ее узкая ладонь мгновенно тянулась прикрыть разинутый рот. В ту пору Майлз думал, что у матери плохо с памятью, если она каждый раз ищет его на земле, когда он то и дело поднимается в небо. Став отцом, он понял, как ей, наверное, было страшно. Она не смотрела наверх, потому что вокруг было слишком много деревьев, слишком много ветвей, слишком много опасностей. Лишь когда Майлз ловко спускался вниз и спрыгивал на ноги, у нее получалось улыбнуться, хотя она и ругала его и требовала обещания, которого он все равно не исполнит. “Ты прирожденный верхолаз, – говорила она по дороге домой. – Каких высот ты достигнешь, когда вырастешь! Аж дух захватывает!”
Теперь у Майлза захватывало дух – практически при любом подъеме. В какой-то момент своей жизни он начал до жути бояться высоты, и от мысли о покраске башни у него подгибались колени.
– Когда я был маленьким, – сказал отец Марк, – я думал, что Бог живет там наверху.
– В башне? – спросил Майлз.
Отец Марк кивнул:
– Мне казалось, когда мы поем гимны, мы зовем Его спуститься к нам. Конечно, мы именно это и делали – взывали к Нему. Но Его буквальное присутствие согревало.
Мужчины пожали друг другу руки. Майлз уже переоделся в заляпанную краской одежду, но за работу еще не принялся, и рука у него была сухой. Небо, пока он добирался из ресторана к церкви, угрожающе потемнело.
– Сам Господь всего в нескольких этажах от нас… так близко.
– А я как раз думал, как башня далеко от нас, – признался Майлз. – Правда, я размышлял о покраске.
– В этом вся и разница, – заметил отец Марк.
– На самом деле я размышлял не столько о покраске, сколько о том, как бы не рухнуть с этой высоты.
Любопытно, подумал Майлз. В детстве его, как и отца Марка, радовала воображаемая близость к Богу, тогда как взрослые люди – возможно, потому, что их помыслы редко бывают чисты, – находят утешение в отдаленности Всевышнего. Хотя Майлз не назвал бы свои помыслы нечистыми, он предпочитал представлять Господа всеблагим, а не всезнающим. Ему нравилось воображать Бога похожим на свою мать, нагруженным слишком многими обязанностями и слишком измотанным, чтобы ни на секунду не спускать глаз с шустрого мальчонки, но из любви к ребенку и боязни за него при каждом удобном случае проверявшим, как он там. Разве это так уж глупо? У Господа наверняка имеются и другие проекты, кроме “Человека”, как и у родителей куча дел, кроме воспитания детишек. В воображении Майлза Господь, улучивший наконец минутку вновь обратить внимание на детей своих, качает головой и бормочет: “Боже правый, опять они чудят”. Задерганный Господь и, наверное, ошарашенный тем, сколь многие из чад его влезли на деревья с тех пор, как он в последний раз бросал на них заботливый взгляд. Господь, что ладонью зажмет приоткрывшийся рот – из страха за ребенка: силы небесные, пацан вот-вот себя покалечит! Господь, который вдруг, сам того не ожидая, испытывает гордость: аллилуйя, мальчик и впрямь верхолаз!
Забывчивое, витающее в облаках божество, признавал Майлз. Впрочем, когда Господь обращает пристальное внимание на своих проказливых детишек, они обычно заняты кое-чем похуже, нежели лазание по деревьям.
Если такой Бог и существовал и если он когда-либо опасался, как бы Майлз ни причинил себе вреда, теперь ему уже не о чем волноваться. Сколь бы многообещающим ребенком Майлз ни был, ни одной вершины он так и не покорил, и теперь, в сорок два года, он так боялся высоты, что подолгу топтался у стальных дверей стеклянных лифтов, подавляя желание уйти прочь и мешая другим войти в кабину.
– Мы же договорились, башня – не твоя забота, – сказал отец Марк.
– Вроде договорились.
Изначально идея Майлза состояла в том, чтобы самому покрасить здание церкви, а на башню кого-нибудь нанять и таким образом сэкономить приходу кучу денег, но оба подрядчика, с которыми он разговаривал насчет покраски башни, запросили за работу столько, сколько стоило бы выкрасить церковь целиком. Рассердившись на Майлза, намеревавшегося взять на себя легкую и безопасную часть работы, они дали ему понять: то, чего не хочет делать он, не хочет никто, а значит, придется раскошелиться. Их правота была для Майлза как удар под дых.
– Беда в том, – признался Майлз своему другу, – что каждый раз, когда я смотрю вверх, чувствую себя виноватым.
– А ты не смотри вверх.
– Отличный совет от духовного лица, – сказал Майлз, снова задрав голову, и в этот момент почувствовал, как на щеку упала капля.
Отец Марк тоже поднял голову, и на него тоже закапал дождь.
– Идем в ректальный дом, выпьем по чашке кофе, – предложил он. – Заодно расскажешь о своем отпуске.
С тех пор как младшеклассник Майлз перепутал “ректорский” с “ректальным”, отец Марк – хохотавший до слез вместе с Грейс Роби – предпочитал этот детский термин, хотя порой он был не совсем уместен. К примеру, тогда же, в начале лета, по окончании мессы отец Марк пригласил прихожан “угоститься лимонадом в компании с ним и ректором отцом Томом на лужайке за ректальным домом”. Ректорский дом при Св. Екатерине был одним из любимейших мест Майлза. Там было уютно и солнечно круглый год, тепло зимой, прохладно летом, но, возможно, благодарить за это следовало отца Тома – ныне пенсионера, по-прежнему проживающего в ректорском доме, – он никогда не пускал туда детей. Впрочем, мать Майлза тоже никогда не приглашали в гости, так что недоступность, вероятно, добавляла этому “ректальному” привлекательности. Все комнаты на первом этаже были просторными, с высокими потолками и большими окнами без занавесей, что позволяло прохожим подглядывать иногда за жизнью и бытом привилегированных обитателей дома. В столовой, окнами выходившей на улицу, за дубовым обеденным столом могли поместиться человек двадцать, однако когда Майлз с матерью субботними вечерами после исповеди проходили мимо, то в столовой они видели лишь отца Тома, величественно восседавшего во главе стола, и хлопотавшую вокруг него экономку миссис Домбровски. В то время в доме проживали два, иногда три священника, но по субботам отец Том любил ужинать рано, не дожидаясь, пока пастор помоложе и рангом пониже управится с возложенной на него обязанностью исповедовать по вечерам. Мать Майлза каждый раз, минуя окна ректорской столовой, роняла: “Как это грустно”, Майлз же не видел ничего особенного в происходящем и не мог понять, что так расстраивало его мать. К тому времени, когда они возвращались домой, отец Майлза, прикончив сэндвич, уже направлялся пешочком к ближайшему питейному заведению.
Юному Майлзу запретный ректорский дом, до краев наполненный теплом и светом, деревом и книгами, казался принадлежавшим иному миру, и Майлз полагал, что священники наверняка люди очень богатые. Очарованность этой профессией долго не покидала его. В старших классах он всерьез подумывал о духовном сане, а позднее иногда спрашивал себя, не упустил ли он свое призвание. Жанин задавалась тем же вопросом. В ее понимании любому мужчине с таким же сексуальным пылом, как у Майлза Роби, лучше сразу принять обет безбрачия – и дело с концом, вместо того чтобы разочаровывать бедных несчастных девушек вроде Жанин.
С отцом Марком Майлз никогда не пил кофе в столовой, так восхищавшей его в детстве, друзья предпочитали кухню с уютным закутком, отведенным для завтраков и напоминавшим такие же закутки со столиками и мягкими скамьями в “Имперском гриле”. Отец Марк водрузил блюдо с печеньем на пластиковый стол и налил им обоим кофе. Сентябрь только начался, но воздух, проникавший сквозь тюлевые шторы, уже был осенним. Дождь прекратил моросить, стоило приятелям войти в “ректальный” дом, тучи, однако, не рассеялись. Сумерки наступали все раньше, укорачивая время, годное для покрасочных работ. Обычно Майлзу удавалось уйти из “Гриля” до трех, но пока он переодевался и устанавливал лестницу, проходило не менее получаса. В пасмурные дни к шести часам дневной свет мерк и работу приходилось заканчивать. Впрочем, главным виновником медленного продвижения малярных работ был не укорачивающийся день, но длительные беседы за кофе с отцом Марком, усаживавшимся на диванчик напротив Майлза.
– Судя по твоему виду, отпуск пошел тебе на пользу, – заметил отец Марк.
– Так и есть. И в бухте Винъярда имеется симпатичная церквушка. Я ездил туда на утренние мессы. А что еще лучше, Тик составляла мне компанию.
В разводе родителей одно хорошо, заявила однажды Тик, теперь ей, по крайней мере, не надо ходить в церковь, поскольку мать переметнулась из католицизма в аэробику. Тик причисляла себя к агностикам, чья философия позволяла ей спать по воскресеньям допоздна. У Майлза хватало ума не тащить ее силком в церковь, и в отпуске он на нее не давил, и тем приятнее ему было, когда она, полусонная, вылезала из постели, чтобы ехать с ним. К концу мессы Тик окончательно просыпалась, и, угостившись маффинами в уличном кафе, они отправлялись обратно на побережье к Питеру и Дон, чтобы проваляться остаток дня на пляже. Вернувшись в Мэн, Майлз спросил дочь, не собирается ли она вновь ходить на мессы, коли уж за неделю снова к этому привыкла, но Тик покачала головой. На Мартас-Винъярде, сказала она, как-то легче верить в Бога или хотя бы в возможность его существования, чем в Эмпайр Фоллз. Майлз понимал, что она имеет в виду и откуда берется ее горькая ирония. Добрую половину автомобилей на парковке у винъярдской церкви составляли “мерседесы” и “лексусы”. Неудивительно, что их владельцы верили в Бога и райские небеса.
– И конечно, – добавил Майлз, – Питер и Дон непрерывно ее баловали.
– Даже больше, чем ты?
– Куда мне до них, – ответил Майлз, жуя печенье. Забавно, но никогда у него так не разыгрывался аппетит, как в конце дня на кухне при церкви. В ресторане, целый день окруженный едой, он часто забывал поесть, тогда как здесь, не одергивай он себя, прикончил бы все печенье. – Либо столь же непрерывно, как баловал бы ее я, имей на то средства. На самом деле баловали нас обоих. Хорошая еда. Бутылка вина за двадцать долларов каждый вечер.
– Наверное, странно было оказаться там без Жанин.
– Ее приглашали. – Майлз с удивлением услыхал нотку обиды в своем голосе.
– Да, ты говорил.
– Мне и без нее было чем заняться. Перед их домом частный пляж, и женщины там через одну купаются голышом. Подозреваю, без нас Питер и Дон поступают так же. Линию загара у Дон я так и не обнаружил.
– А у Питера? – поинтересовался отец Марк. – У него была линия загара?
– Мне и в голову не пришло посмотреть, – рассмеялся Майлз.
– Ты истинный манихеец, Майлз, – улыбнулся в ответ отец Марк. – С утра несешься на мессу, а днем отыскиваешь линию загара у жены твоего друга. Ладно, чем они сейчас занимаются?
– Пишут сценарии для комедийных сериалов. Через неделю запрут дом и вернутся в Лос-Анджелес. Видел бы ты этот дом, где они живут всего два месяца в году, а в промежутке он стоит пустой.
Отец Марк молча кивнул. Зная о политических взглядах священника, Майлз не ждал, что он вознесет хвалу личному обогащению и уж тем более экстравагантностям консьюмеризма.
– Питер, между прочим, сказал одну любопытную вещь, – продолжил Майлз вопреки ранее принятому решению никому об этом не рассказывать. – Он сказал, что их с Дон поражало, что мы с Жанин так долго держимся друг за друга, учитывая, насколько нам обоим было плохо. Они много лет восхищались нашими упорными попытками наладить семейную жизнь.
– Не забывай, – усмехнулся отец Марк, – в Лос-Анджелесе бытует мнение, что супружеские проблемы плохо поддаются урегулированию, а значит, не стоит тратить на это время.
Майлз пожал плечами:
– Может, они правы… Но меня больше удивило то, какими нас видели со стороны.
– Неподходящими друг другу, хочешь сказать?
– Не только, – после паузы ответил Майлз. – Прежде всего, несчастными. Но я не был таким уж несчастным… или не понимал этого. И очень странно, когда твои друзья приходят к таким выводам. То есть если я был настолько несчастным, то наверное, и чувствовал бы себя соответственно?
– Наверное, – сказал отец Марк. – Но необязательно.
– Жанин понимала, – вздохнул Майлз. – Надо отдать ей должное. Во всяком случае, она понимала, каково ей.
В этот момент в коридоре послышалось шарканье тапок без задников. Отец Марк закрыл глаза, словно у него начиналась мигрень. Секунду спустя отец Том с растрепанными волосами, свернутым набок священническим воротничком вошел в кухню и свирепо уставился на Майлза.
– Садись с нами, Том, – предложил отец Марк, несомненно в надежде избежать свары. – Я сделаю тебе горячего какао, если пообещаешь хорошо себя вести.
Отец Том обожал какао, особенно когда не надо было самому его готовить, но жажда иного сорта – поскандалить от души – пересилила.
– Что делает здесь этот нечестивый выродок? – взревел отец Том.
Майлз, также стремившийся задобрить старого священника, попытался встать, чтобы пожать ему руку, но подняться на ноги оказалось не так-то просто, поскольку и стол, и диван были прибиты к полу.
– Том, это не выродок нечестивый, – невозмутимо произнес отец Марк. – Это Майлз, наш преданнейший прихожанин. Ты крестил его и венчал его родителей.
– Я знаю, кто он, – не унимался отец Том. – Он мудозвон, а мать его была шлюхой. Я ей так и сказал.
Майлз опустился на диван. Старик не впервые, едва завидев Майлза и бог весть чем возбужденный, принимался поносить его, но его покойную мать он прежде не оскорблял. Разумеется, это было очередным проявлением старческого слабоумия, и, однако, второй раз за день у Майлза мелькнула мысль: как приятно было бы отправить кое-кого в мир иной. Теперь уже священника.
– Ты только посмотри на него. Посмотри на его лицо. Он знает, что я говорю правду, – продолжил отец Том, глядя на заляпанную краской спецовку Майлза. – Он грязный дегенерат, вот кто он такой. И он тащит грязь в мой дом.
Отец Марк вздохнул:
– Ты кругом не прав, Том. Во-первых, это не твой дом.
– И мой тоже.
– Нет, дом принадлежит приходу, как тебе отлично известно.
Отец Том, казалось, размышлял о несправедливости подобного положения вещей, но в конце концов махнул рукой.
– И Майлз не дегенерат. А краска на нем, потому что он красит церковь для нас, разве ты забыл? За бесплатно.
Отец Том покосился сперва на своего коллегу, потом на Майлза. Старик славился прижимистостью, и сообщение о дармовой услуге должно было его утихомирить, тем не менее он по-прежнему злобно пялился на гостя, словно давая понять: добрым деянием не замаскировать фундаментальную нечестивость Майлза.
– Может, я и стар, – сделал великодушное допущение отец Том, – но мудозвона я распознаю на раз.
Потеряв терпение, отец Марк соскользнул с дивана, взял старика за плечи и мягким, но решительным движением развернул к себе лицом:
– Том, посмотри на меня. – Старик продолжал испепелять Майлза взглядом, и тогда отец Марк, ухватив кончиками пальцев щетинистый подбородок старика, повернул его голову к себе. – Посмотри на меня, Том. (В итоге старик так и поступил, и вмиг выражение его лица изменилось, возмущение уступило место стыду.) Том, – спросил отец Марк, – помнишь, о чем мы с тобой говорили накануне? (Если старик и помнил, то виду не подал, взирая на отца Марка красноватыми мутными глазами.) Мне жаль, что сегодня ты не очень хорошо себя чувствуешь, но подобное поведение недопустимо. Ты обязан извиниться перед нашим другом.
Майлзу отец Том напоминал нашкодившего мальчишку, покорно внимавшего увещеваниям строгого и любящего родителя, хотя и не понимающего, что такого дурного он совершил. Он обернулся к Майлзу, желая оценить, достоин ли этот человек извинений, затем опять уставился в суровые глаза отца Марка. Так священники простояли довольно долго, и Майлз уже не знал куда деваться, пока отец Том в конце концов не обратился к нему:
– Прости меня.
– Конечно, отец Том, – с облегчением выпалил Майлз. – Я тоже прошу прощения. – И ему было за что извиняться. Приятно или нет, но убивать престарелого священника определенно нехорошо, а значит, и желать этого тоже плохо.
– Ну вот, – сказал отец Марк, – так-то лучше. Мы же все друзья, и ссориться нам ни к чему.
Отец Том явно находил это утверждение крайне сомнительным, он опять впился глазами в Майлза, потом тряхнул головой и зашаркал прочь из кухни. Майлзу показалось, что он услыхал, как старик, выйдя в коридор, обронил: “Мудозвон”.
Отец Марк смотрел на дверной проем, пока не стихло шарканье тапок. И лицо его не светилось бесконечным терпением, что несколько противоречило его сану.
– Все нормально, – заверил его Майлз. – Мы ведь с отцом давние знакомые. А теперь он просто не в себе.
– Ты так считаешь?
– Он же не виноват, что несет всякую чушь.
– Понятно, что не виноват, – кивнул отец Марк, – но это еще ничего не объясняет. Я вот чего не могу уразуметь: каким ветром, по-твоему, подобную чушь занесло в его голову?
– Ну…
– Оставь, – улыбнулся отец Марк. – Это вечный вопрос, и ответ на него ищите в Книге Бытия. И все же прости за то, что он здесь наговорил. Бог весть, что творится в его голове. Скорее всего, он и не помнит твоей матери.
Майлз заставил себя рассмотреть такой вариант. Верно, старик теряет разум. Но проблема в том, что окончательно он еще его не потерял, и – особенно в те минуты, когда отец Том гневался, – в глазах его светились ум и памятливость.
– Признаться, в последнее время я часто о ней думаю, – сказал Майлз и добавил: – Сам не знаю почему. – Хотя на самом деле знал. Винъярд навеял ему эти мысли, и так случалось каждое лето.
На улице снова закапал дождь, гуще и настойчивее из потемневших туч. Майлз отодвинул пустую кофейную чашку к середине стола:
– Похоже, не поработать мне сегодня. – С этими словами он выбрался из-за стола. Блюдо с печеньем каким-то образом опустело, и Майлз ощутил, как последняя порция тяжело продирается по пищеводу.
Приятели вышли на крыльцо, постояли, слушая дождь.
– Сколько еще дней тебе понадобится на северную стену? – спросил отец Марк, оглядывая церковь.
– Дня два, – ответил Майлз. – Например, завтра и послезавтра, если небо прояснится.
– И на этом стоит закончить, – сказал отец Марк. – Из епископата доносятся тревожные слухи. Возможно, очень скоро нас лишат работы. Подозреваю, до сих пор нас не трогали исключительно из-за бедняги Тома.
Уже более года поговаривали, что приход Св. Екатерины объединят с церковью Сердца Христова, находившейся на другой стороне города. Некогда изобиловавший католиками в числе, оправдывавшем содержание двух приходов, Эмпайр Фоллз утрачивал религиозное рвение вместе с населением. Ныне же единственная причина существования двух католических церквей заключалась в том, что церкви Сердца Христова, или Сакре-Кёр, как ее до сих пор называло большинство франкоговорящих прихожан с канадскими корнями, требовался пастор, владеющий французским. Иначе приходы объединили бы много лет назад. Отец Марк догадывался, что в этом тесте на выживание победит Сакре-Кёр, а его, молодого священника, куда-нибудь переведут. Он не говорил по-французски, тогда как отец Тибидо был двуязычным.
Предстояло лишь решить, что делать с отцом Томом. Обителей для престарелых, отошедших от дел и часто тяжело больных священников имелось достаточно, но старческое слабоумие отца Тома, проявлявшееся то в сквернословии, то в прямом богохульстве, смущало епископат: уместно ли помещать отца Тома среди дряхлого, но в целом нормального духовенства, при том что большинство из них прослужило достаточно долго и столь же плодотворно, чтобы в последние годы жизни подвергаться испытанию веры со стороны выжившего из ума старика, чье любимое словечко – “мудозвон”. Вдобавок отцу Марку удается справляться со старым священником, прожившим в ректорском доме Св. Кэт сорок лет и чувствовавшим там себя как дома. В некотором смысле это и был его дом, на чем он сам настаивал. Опять же, бытуют слова и повредоноснее, чем “мудозвон”, и если епископат попробует переселить отца Тома, то, возможно, он начнет эти слова активно употреблять. Его болтовня уже побудила некоторых прихожан Св. Екатерины сменить веру – одни примкнули к протестантам, другие к агностикам, и епископ не желал рисковать: не ровен час, отец Том собьет с пути истинного и кое-кого из священников. Нет, в епископате возобладало мнение, что ситуация с отцом Томом у них под контролем, и до недавних пор они не выказывали ни малейшего намерения выпустить старика из карантина.
– Как думаешь, куда тебя назначат? – спросил Майлз.
– Представления не имею. Подозреваю, они думают, что еще недостаточно меня наказали.
Отец Марк защитил докторскую по иудаизму, и самым подходящим местом для него был бы Центр Ньюмана при колледже или университете. Именно в таком качестве он работал в Массачусетсе, пока не совершил ошибку, присоединившись к группе активистов, перелезших через забор военного объекта в Нью-Гэмпшире, где их арестовали за то, что они стучали по неуязвимой броне атомной подлодки молотками с круглым бойком, – действо, которое отец Марк счел символическим, но начальник базы, буквалист, истолковал как саботаж и госизмену. Не то чтобы участие в протесте было единственным прегрешением отца Марка. Кроме преподавания и пасторского служения в университетском Центре Ньюмана, по воскресеньям он вел вечернюю радиопередачу и однажды довел епископа до белого каления, порекомендовав в ответ на звонок молодого человека моногамию для двух любящих сердец, “независимо от сексуальной ориентации” звонившего, и вдобавок напомнив о бесконечном понимании и милосердии Господнем. А что обычно происходило с молодыми, чересчур образованными и, по слухам, голубыми священниками, посещавшими сомнительные студенческие вечеринки и раздававшими либеральные советы? Им приказывали собирать вещички и ехать куда-нибудь вроде Эмпайр Фоллз в штате Мэн – вероятно, в надежде, что там Господь Бог навеки отморозит их заблудшие члены.
– Надеюсь, ничего хуже они для тебя не найдут, – сказал Майлз, силясь вообразить, что может быть хуже.
Отец Марк пожал плечами, разглядывая наполовину окрашенную церковь.
– Тебя не обидят, пока ты сам этого не допустишь. Во всяком случае, я не жалею, что приехал к Святой Кэт. Она всегда была умницей. И мне выпал шанс подружиться с тобой.
– Да, мне тоже, – откликнулся Майлз и добавил почти без паузы: – Интересно, что с ней станет?
– Трудно сказать. Иногда эти прекрасные старинные церкви выкупают и превращают в театры, арт-центры или что-нибудь в таком роде.
– Вряд ли здесь это выгорит, – сказал Майлз. – Искусством в Эмпайр Фоллз интересуются еще меньше, чем религией.
– Однако заканчивай северную стену – и баста. В городе есть что красить – например, очередную баптистскую церковь.
Дом на Лонг-стрит, в котором он вырос, уже год как был выставлен на продажу, и Майлз, припарковавшись на другой стороне улицы, пытался представить, кто мог бы купить этот дом в его нынешнем состоянии. Заднее крыльцо, опасно прогнившее еще в его детстве, убрали, но не заменили; на тех местах, откуда его выдрали, осталось четыре уродливых, не закрашенных шрама. Всякому, кто выходил через заднюю дверь, – а Майлз только так и делал – предлагалось спрыгивать с шестифутовой высоты в заросли ядовитых на вид сорняков с вкраплениями ржавых колесных колпаков. Сам дом посерел от старости и небрежения, а его парадное крыльцо причудливо кренилось в разные стороны, словно дом возвели на разломе. Даже табличка “ПРОДАЕТСЯ”, торчавшая на террасе, и та покосилась.
После смерти матери дом поочередно снимало несколько семей, и никому из них явно было не нужно ни беречь дом, ни даже предотвращать разруху. Впрочем, справедливости ради признавал Майлз, разруха началась еще при семействе Роби. На улице, некогда ухоженной и населенной средним классом, их жилье и соседнее, где обитали Минти, стали первыми ласточками, возвестившими упадок всего района. Отец Майлза, подрабатывавший малярными работами, всячески увиливал от покраски дома, где жил сам. Летом он трудился на побережье и к октябрю объявлял себя “одуревшим от краски”, хотя порой его вынуждали потрудиться с недельку, когда домовладелец, скостивший им арендную плату в обмен на обещание содержать дом в порядке и приличном виде, начинал предъявлять претензии или грозить выселением. Возмущенный столь буквальным толкованием договоренности с хозяином, Макс в отместку окрашивал стены снаружи в десятки самых разных и в основном несочетаемых оттенков, черпая из многочисленных полупустых банок с краской, присвоенных им на летних подработках. Погреб у Роби всегда был забит этими огромными банками с покореженными крышками, а на отсыревших гниющих полках высились бутыли со скипидаром, запах которого зимой обволакивал весь дом. Когда Майлз учился в четвертом классе, приятель спросил его, каково оно, жить в смешном доме, и Майлз переадресовал этот вопрос не отцу, ответственному за балаганный вид их жилья, но матери. Та сперва вспыхнула, потом закусила губу, словно едва сдерживала слезы, после чего рванула в свою комнату, с треском захлопнула дверь и разрыдалась. Позже, с заплаканными глазами, она постаралась объяснить Майлзу, что главное в доме то, что внутри (имея в виду любовь, надо полагать), а не то, что снаружи (краска, желательно одинаковая), но вечером, лежа в постели, Майлз слышал, как родители ругались, и с тех пор Макс уже никогда не красил их дом. Теперь же арлекиновая пестрота красок выцвела и потускнела до ровного серого.
Майлз простоял напротив дома не более минуты, глядя на темное, незашторенное окно, за которым его мать начала свой марш к смерти, когда из-за угла двумя кварталами выше вырулила патрульная машина и, прибавив скорости, рванула к Майлзу и затормозила так резко, что едва не стукнулась бампером о решетку радиатора “джетты”. За рулем сидел молодой полицейский, Майлзу не знакомый; выйдя из автомобиля, он надел темные очки, хотя небо было затянуто тучами. Майлз опустил оконное стекло.
– Ваши права и регистрация, пожалуйста, – произнес молодой коп.
– А в чем проблема?
– Права и регистрация, – повторил коп жестче.
Майлз выудил из бардачка регистрационное свидетельство и вместе с правами протянул их в окошко. Полицейский прикрепил обе бумажки к планшету и сделал пару пометок.
– Вас не затруднит объяснить, что вы здесь делаете, мистер Роби?
– Затруднит.
Майлзу совершенно не хотелось вдаваться в объяснения, которые в любом случае прозвучат неубедительно. Что он мог сказать? Полоумный старый священник обозвал его мать шлюхой, и поэтому он отправился взглянуть на дом, где вырос, будто его мать, скончавшаяся двадцать лет назад, до сих пор поджидает его на крыльце в кресле-качалке? Такого рода история вряд ли удовлетворит человека, испытывающего потребность надевать солнцезащитные очки на исходе пасмурного дня.
– И почему же, мистер Роби? – Майлзу этот вопрос показался дурацким, и он не ответил. Молодой коп опять нацарапал что-то на своем планшете. – Может, вы не расслышали вопрос?
– Я каким-то образом нарушаю закон?
Настала очередь копа погрузиться в молчание. С минуту он игнорировал Майлза, очевидно давая понять, что тоже умеет играть в молчанку.
– Вам известно, мистер Роби, что вы находитесь за рулем незарегистрированного средства передвижения?
– Разве я вам не показал регистрацию?
– Она уже месяц как просрочена.
– Я этим займусь.
Коп как бы пропустил ответ Майлза мимо ушей, ткнув пальцем в талон техосмотра на ветровом стекле:
– Техосмотр также давно просрочен.
– Вероятно, мне и этим придется заняться.
Снова не отреагировав на реплику Майлза, полицейский осведомился так, будто спрашивал впервые:
– И что же вы здесь делаете, мистер Роби?
– Когда-то я жил вон в том доме, – Майлз указал, в каком именно, – давно. Но больше там не живу.
– Понятно.
В этот момент в зеркале заднего вида мелькнуло нечто красное, и, обернувшись, Майлз увидел, как за его машиной тормозит красный “камаро” Джимми Минти. Бывший сосед Джимми был последним человеком, с которым Майлз хотел бы столкнуться на улице, где прошло их детство. Джимми приоткрыл окно, и молодой коп заторопился к его машине. Майлз, наблюдавший за ними в зеркало, улыбнулся, когда молодой коп снял очки. В подобных ситуациях, надо полагать, только старший офицер имел право оставаться в темных очках. Разговор был коротким; развернувшись, Джимми Минти двинул вниз по улице туда, откуда приехал. Молодой полицейский, явно разочарованный, смотрел ему вслед, затем подошел к Майлзу и отдал ему права и регистрацию.
– Будет очень неплохо, если вы займетесь этим прямо сегодня. – Напористости в его голосе как не бывало.
– Вы меня не оштрафуете?
– Только если сами попросите, мистер Роби.
Майлз вложил права в бумажник, свидетельство о регистрации убрал в бардачок.
Теперь, когда они стали приятелями, коп стремился развеять неприятное впечатление от их знакомства:
– Значит, вы жили в том доме?
Майлз кивнул, включая мотор.
– Надо же, – сказал полицейский, – совсем как дом с привидениями.
Управление автомобильного транспорта располагалось в бывшей усадьбе Уайтингов, точнее, в так называемом коттедже, вместительном строении, стоявшем посреди рощицы за главным домом. Пристанище было временным, до завершения ремонта в здании суда, купольная крыша которого местами обвалилась, не выдержав ледяного дождя, случившегося минувшей зимой. С тех пор правосудие – в Эмпайр Фоллз издавна не слишком ходкое – практически встало на прикол. Кроме транспортных неурядиц, все прочие дела рассматривались в соседнем Фэрхейвене, где суд оказался настолько загруженным, обслуживая два города сразу, что решений по любым вопросам, начиная с лицензий на строительство и имущественных споров и кончая мелкими тяжбами и пересмотром начисленных налогов, приходилось дожидаться месяцами. Даже простейшие судебные процедуры, вроде выдачи постановления о разводе, бесконечно затягивались, а так как сам Майлз развода не хотел, его это не волновало. Более того, прошлой весной он надеялся, что в наступившей паузе Жанин одумается, но теперь сомнения отпали. Жанин, твердо намеренная выйти за Матёрого Лиса, вину за юридические проволочки, помешавшие ей сыграть свадьбу летом, почему-то возлагала на Майлза. Настойчивость, с каковой она желала стать законной женой Уолта Комо немедля, как только получит развод, наводило Майлза на подозрение, что каким-то краем сознания, функционировавшего таинственным для Майлза образом, Жанин понимала: ее второй брак – чистейшая глупость, которую надо совершить как можно быстрее, пока она не в состоянии ясно соображать.
Машину Майлз оставил на маленькой парковке между особняком, отданным ныне Музею графства Декстер вкупе с Историческим обществом, и коттеджем, где размещалась, временно уплотненная УАТом, Городская комиссия по планированию и строительству, превратившаяся за последний десяток лет в объект для шуток, поскольку за это время в Эмпайр Фоллз никто не построил и сарая и уж тем более ничего не планировал. Миссис Уайтинг, однако, будучи председателем комиссии, регулярно проводила совещания, и, заметив на парковке ее “линкольн”, Майлз, пригнув голову, припустил через газон в надежде, что она не увидит его из окна офиса. После отпуска ему до сих пор удавалось избегать “встречи в верхах”, и хотя дела в ресторане наладились, ему еще больше, чем прежде, не хотелось тратить полдня на проверку счетов и рассуждения о перспективах его бизнеса.
Благополучно прошмыгнув в коттедж, он встал в короткую очередь к окошку с надписью “Регистрация автомобилей”. Стойку красного дерева, смекнул Майлз, явно привезли из здания суда и, разумеется, обратно не вернут. Прочая обстановка, включая картины и фотографии Уайтингов мужского пола, украшавшие стены, являлась частью музейной коллекции. Ожидая своей очереди, Майлз изучал этих мужчин. Несмотря на прямое родство, сходства между ними обнаруживалось немного, за исключением, решил Майлз, одной-единственной черты. Даже в молодости все они выглядели преждевременно состарившимися либо просто невероятно важными – седые волосы, лбы, изрезанные морщинами от тяжких раздумий. И скорее всего, их важность покоилась на глубоком удовлетворении от мысли, что история Эмпайр Фоллз, как и всего графства Декстер, мало чем отличается от истории их семьи.
Спустя несколько минут на парковку въехал красный “камаро” Джимми Минти. Оставив автомобиль отдыхать, полицейский направился к коттеджу, миновал вход в УАТ и проследовал по лужайке к задней стороне здания. Майлз следил за его перемещениями, пока человек, стоявший за ним, не похлопал его по плечу, указывая, что подошла его очередь. Майлз выписал чек на оплату регистрации и сунул его в окошко. Женщина по другую сторону стекла улыбнулась: “Привет, Майлз”, и он узнал ее – они вместе учились в старшей школе. Марсия, подсказывал ее бейджик. Что более вероятно, задумался Майлз, ни разу за столько лет не столкнуться с бывшей одноклассницей, проживая с ней в одном маленьком городе, или пересечься с Джимми Минти дважды в течение получаса?
– Проездишь еще года два на этой машине, и нам придется платить тебе за перерегистрацию, – сказала служащая, увидев сумму чека, выписанного Майлзом.
– Я буду только рад, Марсия, – ответил он в надежде, что она решит, будто за все эти годы после окончания школы он не забыл, как ее зовут.
– Вот твои новые знаки с синичками. – Она пропихнула их в отверстие окошка. – А чем омары не угодили?
– Люди в глубинке потешались. Говорили, что омары смахивают на тараканов. – Новые знаки не привели Майлза в восторг; впрочем, лобстеры и правда походили на тараканов. – Но, думаю, мы все же не начнем питаться синицами.
– Может, и до этого дойдет, если ничего не изменится, – сказала Марсия. – Поговаривают, однако, что на фабрику вроде бы нашелся покупатель.
Не спросить ли, кто ей это сказал? – раздумывал Майлз. В конце концов, Комиссия по планированию и строительству в двух шагах от УАТа, и Марсия вполне могла подслушать официальные переговоры. Но скорее всего, эту информацию она почерпнула из пересудов в очереди к окошку между теми, кто утром пил кофе в “Имперском гриле”.
Через другое пустующее окошко был виден офис Городской комиссии по планированию и строительству, на пороге которого стоял Джимми Минти, беседуя с кем-то, остававшимся невидимым, но Майлз не сомневался, что разговаривает он с миссис Уайтинг. Язык тела полицейского укрепил его в этой мысли: Джимми стоял в той же позе, что и молодой коп получасом ранее, выслушивая его указания, офицера выше рангом, и на этот раз Минти снял темные очки. Майлз наблюдал, как он кивнул, потом опять и опять, – очевидно, ему выдавали некие особые инструкции. Майлзу померещилось или Минти действительно бросил взгляд в сторону УАТа, а потом быстро отвернулся, словно ему приказали не смотреть туда?
– Как думаешь? – не умолкала Марсия.
– Извини. – Майлз уставился на нее. – О чем?
– Ну должно же нам наконец повезти или как?
– Конечно, должно, – согласился Майлз. Проблема лишь в том, что называть “везением”, продолжил он про себя. Собственно, та же проблема, что и с теорией вероятности: она априори предполагает, что новое обстоятельство в твоей жизни возникло по воле случая, и только.
Джимми Минти кивнул в последний раз, прежде чем направиться по лужайке к прохлаждавшемуся без дела “камаро” и выехать обратно на Имперскую авеню. Майлз выждал, пока он не исчезнет за углом, сунул новые знаки под мышку и двинул к выходу. Но побег сорвался, когда у Марсии зазвонил телефон и она ответила в трубку: “Да, верно”, а потом окликнула его по имени. Притворюсь, что не расслышал и просто уйду, решил Майлз. Но передумал.
Миссис Уайтинг разговаривала по телефону, когда он вошел, постучавшись, но на его присутствие она отреагировала незамедлительно, указав на свободное кресло. Майлз, однако, не спешил усаживаться, выискивая глазами обожаемую компаньонку старухи – злобную черную кошку по кличке Тимми. У Майлза была аллергия на кошек и в особенности на домашнюю питомицу миссис Уайтинг. Редко когда после встречи с Тимми он не уходил с царапинами и одышкой.
Улыбаясь, миссис Уайтинг прикрыла трубку ладонью:
– Расслабьтесь. Тимми осталась дома.
– Точно? – недоверчиво спросил Майлз. Эту кошку он наделял многими сверхъестественными, если не запредельными способностями, включая талант материализоваться в любой момент.
– Это смешно, дорогой мой, – ответила миссис Уайтинг и возобновила телефонный разговор.
Майлзу нередко приходила в голову мысль, что все двадцать лет их знакомства отлично укладываются в эти четыре слова. С самого начала, когда Майлз и ее дочь Синди учились вместе в старшей школе, миссис Уайтинг обращалась к нему “дорогой мой”, хотя Майлз не чувствовал, что он ей чем-то дорог. А то, что он говорил, она неизменно провозглашала “смешным” и при этом, судя по выражению лица, не находила его высказывания даже мало-мальски забавными.
Офис Городской комиссии по планированию и строительству, где Майлз прежде никогда не бывал, помещением был просторным, а к одной из стен примыкал огромный макет центральной части Эмпайр Фоллз, настолько идеализированной, что Майлз не сразу узнал город, где жил с рождения. Вдоль улиц выстроились непомерно зеленые игрушечные деревья, здания радовали глаз яркими красками, а улицы сияли такой чистотой, что Майлз сперва принял макет за продукт творческого воображения – таким увидел его автор будущее Эмпайр Фоллз после завершения амбициозного и дорогущего проекта по возрождению города. И лишь присмотревшись, Майлз понял, что перед ним не будущее, но прошлое. Таким был Эмпайр Фоллз в его детстве, и на Имперской авеню он опознал несколько предприятий, снесенных за последние двадцать лет, а теперь на образовавшихся пустырях кто только не парковался. “Имперский гриль”, обшарпанный в реальной жизни, в миниатюре выглядел так, будто миссис Уайтинг не пожалела ни единого цента, ссужая Майлза в ответ на его просьбы о деньгах.
Маленькая серебряная табличка внизу гласила: “Эмпайр Фоллз, около 1959 г.” Настоящий город, разумеется, никогда не выглядел столь процветающим. К 1959-му кирпичные стены ткацкой и рубашечной фабрик – ярко-красные на макете – побурели, словно их покрыла ржавчина, и местами даже почернели от непогоды и сажи. А реку, протекавшую за ними, на макете изобразили небесно-голубой. Вот это было действительно смешно, ибо за последние сто лет Нокс поголубела лишь однажды, когда с ткацкой фабрики в нее слили синий краситель. Еще смешнее казалась идея декорировать ностальгическим прошлым офис по планированию, проектированию и градостроительству. Получалось, что комиссия трудится над проектом, способным повернуть время вспять.
С противоположной стены на макет сурово взирал Илайя Уайтинг, явно не улавливая юмора ситуации. Как и прочие Уайтинги в другой комнате, старик Илайя на портрете был мрачен и строг, и только линия рта подкачала, обнаруживая некую расплывчатость. Все они Майлзу кого-то напоминали, но он никак не мог сообразить кого.
Миссис Уайтинг положила трубку, распрощавшись с собеседником буквально на полуслове, и Майлз невольно задумался: она и вправду с кем-то разговаривала или только притворялась, наблюдая за ним исподтишка. В ее обществе он уже привык к ощущению, что его пристально изучают. Старуха развернулась на кресле, откинулась назад и посмотрела на Илайю Уайтинга:
– Они все были совершенно чокнутыми. Каждый на свой лад. Это видно по их глазам, если приглядеться.
Майлз пригляделся, однако признаков чокнутости не обнаружил. Рвение, возможно, необузданное – да, и намек на консерватизм, но не сумасшествие.
– В детстве вы, наверное, наслушались баек про этого выдающегося предка?
– Не припоминаю.
– Якобы здесь, в этой комнате, он гонялся за женой с лопатой с намерением раскроить ей череп.
– Однако здесь ничего подобного никогда не случалось. – Майлз указал на макет, на котором лишь усадьба Уайтингов нисколько не отличалась от своего реального облика. Ему вдруг пришло в голову, что миссис Уайтинг лично курировала создание макета. Изрядно приукрасив улицы вокруг, она ловко завуалировала правду: из благополучного и энергичного города выжали все соки несколько поколений одной семьи. Интерпретация, не лишенная цинизма, но объяснявшая попутно, почему дом Ч. Б. Уайтинга, построенный за рекой, на макете не воспроизвели. По ту сторону Железного моста простиралась первозданная природа – густые перелески, волнистые холмы.
– Глядя на вас на фоне макета, знаете, о чем я вдруг подумала? – сказала старуха, и Майлз, даже не выслушав до конца, усомнился, что ее внезапное озарение хотя бы в одной детали совпадает с его собственным. – Вам нужно стать мэром.
– Макета? – усмехнулся Майлз. – Что ж, это меня не разорит.
Должность мэра Эмпайр Фоллз означала полный рабочий день с половинной оплатой. Впрочем, в городе поговаривали, что предыдущие мэры находили способы восполнить свой доход.
– Вы чересчур скромны, дорогой мой. По моему мнению, вы просто созданы для публичной деятельности.
Майлз не стал напоминать ей, что он дважды баллотировался в школьный совет и оба раза успешно.
– То есть вы предлагаете мне работу?
– Дорогой мой, вы переоцениваете мою влиятельность, – улыбнулась миссис Уайтинг. – В этом отношении вы похожи на свою мать. Но людям свойственно путать силу воли с властью, верно? И у меня есть теория, объясняющая, почему так. Если вам любопытно, могу рассказать.
– Почему я похож на мать, – Майлз наконец опустился в кресло, – или почему люди путают волю с властью?
– Последнее, – ответила старуха. – В конце концов, нет ничего загадочного в том, что вы пошли в мать. Учитывая, что ваш отец не из тех, на кого хотелось бы походить. Нет, люди путают силу воли с властью, потому что очень у немногих имеется пусть даже самое туманное представление о том, чего они хотят. Лишенная этого знания, воля остается бессильной. Как бы вялым членом. – Она выгнула бровь. – Редким счастливчикам удается выяснить, чего они хотят, это и наделяет их сильной волей.
– Только и всего? И больше ничего не требуется?
– Ну, скажем так, это необходимое начальное условие.
Майлз поудобнее устроился в кресле. Ему отлично было известно умение миссис Уайтинг втягивать его в беседы, от которых в иных обстоятельствах он бы уклонился. Причиной тому была, скорее всего, прямая противоположность установок каждого из них.
– То есть, по-вашему, человеческие существа наделены свойством понимать, чего они хотят?
Миссис Уайтинг вздохнула:
– Слово “наделены” предвещает, что вы опять прибегнете к своим старым трюкам, дорогой мой, трактуя все в религиозном духе. Так не пойдет, если вы собираетесь стать мэром.
– Я не собираюсь, – возразил Майлз. – Во всяком случае, не в Эмпайр Фоллз образца 1959 года.
– Вот в чем ваша ошибка, дорогой мой. Большинство американцев хотят оказаться в 1959-м, пусть и с некоторыми добавками в виде капучино и кабельного ТВ.
– Они этого хотят или думают, что хотят? – Сейчас на уме у него была Жанин. Его в очень скором времени бывшая жена толком никогда не знала, чего она хочет, и каждый раз расстраивалась, получая желаемое. Примером тому мог служить сам Майлз. Матёрый Лис станет следующим, хотя он об этом пока не подозревает.
– Различие, мне кажется, не слишком конструктивное. Что такое “хотение”, если не “думание”. Но спорить так спорить, поэтому давайте примем вашу терминологию и начнем с самого начала. Адам и Ева. Они знали, чего они хотят, верно?
– Сомневаюсь, – сказал Майлз также из желания поспорить. – До введения запрета – вряд ли.
– Именно, дорогой мой. Но стоило наложить запрет, и подобные сомнения их более не мучили – согласны?
– Да. Только сожаления.
– Полагаете, что отказ от запретного плода сделал бы их счастливее? Избавил бы их от сожалений? Или же сожаления все равно возникли бы, но иного сорта?
В ее словах был смысл.
– Думаю, мы никогда этого не узнаем.
– Я определенно не узнаю, дорогой мой, но, как и наши прародители, я не смогла устоять перед многими искушениями. Вы же, напротив… – Миссис Уайтинг многозначительно умолкла. Она никогда не скрывала, что считает Майлза, с его бесконечно подавляемыми желаниями, находкой для психиатров. – Как вы провели отпуск?
– Прекрасно. – Майлз не упустил случая внушить старухе, что и у других людей может быть все хорошо.
Миссис Уайтинг искоса поглядывала на него, словно не верила в искренность его восторга.
– Вы ездите туда каждое лето, да?
– Почти.
– И вы никогда не задавались вопросом почему?
– Нет, – ответил Майлз.
Кроме подавленных желаний, старуха любила намекнуть на ограниченность Майлза: каким бы умным он ни был, но он слишком мало видел, потому что мало путешествовал. Как и многие богатые люди, она, казалось, не понимала, почему бедные не планируют провести зиму на Капри, где климат куда более благоприятен. И не видела ничего зазорного в том, чтобы говорить об этом с человеком, который вот уже двадцать лет держит на плаву одно из ее предприятий, пока она путешествует.
– У моих друзей там дом, – добавил Майлз, не уточняя, что иначе он не смог бы себе позволить даже такого скромного отпуска; несомненно, миссис Уайтинг и сама это прекрасно понимала.
На самом деле именно Майлз много лет назад, когда они еще учились в колледже, привез Питера и Дон на Винъярд. Тогда все трое были бедны, и когда той осенью они скинулись на поездку, денег им хватило только на паромную переправу. Спали они на пляже под скалами, там, где кончался городок Гей-хед, – в полной уверенности, что после Дня труда их не потревожит островная полиция, насчитывавшая, наверное, не более полудюжины человек. В те выходные на острове, догадывался Майлз, Питер и Дон влюбились – сперва в остров, а затем друг в друга. С тех пор они числили Майлза творцом их счастья и были благодарны ему за это, и даже если их взаимные чувства слегка поувяли, как опасался Майлз, Винъярд они по-прежнему любили. Он не представлял, чтобы кто-нибудь из них добровольно расстался с их островным домом, и, следовательно, развод был маловероятен.
– Что ж, пожалуй, это многое объясняет, – нехотя признала миссис Уайтинг. – И все же…
– И все же что?
На миг показалось, что старуха позабыла, что хотела сказать, но она быстро опомнилась:
– И все же “мы не сдаемся, плывем против течения, что непрестанно отбрасывает нас в прошлое”. – Миссис Уайтинг заговорщицки улыбалась, и Майлз, узнавший концовку “Великого Гэтсби”, почувствовал острую необходимость не обнаруживать не только своей начитанности, но и тени любопытства насчет причин, побудивших старуху процитировать эту фразу.
Зазвонил телефон – к явному облегчению обоих. Миссис Уайтинг сняла трубку и без лишних церемоний, небрежным взмахом руки вместо “до свидания” выдворила Майлза из офиса.
Неслабо, подумал Майлз, так обойтись с человеком, которому только что прочили пост мэра.
Глава 3
Закончив занятия в группе аэробики, Жанин наскоро приняла душ и отправилась в “Имперский гриль”, но сперва, обогнув задние, удостоверилась, что Майлза там нет. Рассмотрение их заявления о разводе длилось уже целую вечность, при этом отношения между ними оставались вполне дружескими. Мало того, в последние девять месяцев, с тех пор как они разъехались, Майлз нравился ей больше, чем в предыдущие двадцать лет. Однако прямо сейчас она категорически не желала его видеть, и тем более в компании с ее женихом. Уолт – завсегдатай “Гриля”! Это не укладывалось в ее голове, и между прочим, когда они встречались тайком, он близко не подходил к ресторану.
Паркуясь рядом с фургоном Уолта, Жанин старательно отводила глаза от слогана, красовавшегося на капоте, не желая признаваться самой себе, что он начинал ее раздражать. МАТЁРЫЙ ЛИС. Каким надо быть мужчиной, чтобы написать такое на своей машине? Для Жанин этот вопрос не был ни праздным, ни риторическим. Она собиралась замуж за Уолта Комо, как только получит развод, и в глубине души ей хотелось узнать ответ, прежде чем она станет совладелицей этого транспортного средства и единственным собственником его водителя.
Опять же, некоторые вопросы лучше оставлять без ответа. Давным-давно, когда они с Майлзом поженились, она даже не знала, кто она такая, не знала, каково ее истинное “я”, не говоря уж о том, что представляет собой ее молодой супруг. Теперь, по крайней мере, Жанин понимала, кто такая Жанин, чего Жанин хочет и, что не менее важно, чего Жанин не хочет. Она не хотела Майлза и никого, кто бы напоминал ей Майлза. Она не хотела снова растолстеть. Ни за что и никогда. Еще она хотела настоящего секса, а также, для разнообразия, пожить как молодая женщина, чего ей не удалось, когда она на самом деле была молодой. Она хотела танцевать, и чтобы мужчины заглядывались на нее. Ей нравилось, как ведет себя ее тело после того, как она сбросила весь этот вес, и, господи, да, ей нравилось кончать. Для сорокалетней Жанин оргазмы были новостью, она едва не теряла рассудок, когда с ней это происходило либо когда представляла, что запросто могла бы всю жизнь прожить, не испытав этого необыкновенного, несравненного, щекочущего, взрывного, умопомрачительного возбуждения. Впервые, когда с Жанин это случилось, к ее полному изумлению, ей почудилось, что на гребне волны ее уносит куда-то далеко-далеко, потом она вернулась, рыдая в объятиях Уолта и не сомневаясь, что больше этих высот ей не достичь никогда, но Уолт уверял ее в обратном и постарался подтвердить свои слова делом. Помнится, она подумала тогда: “Офигеть. Нет, правда, ОФИГЕТЬ”.
Именно Уолт открыл ей глаза на самое себя и потребности ее тела, хотя Жанин начинала понимать, что воззрения Уолта на сей счет все же грешат упрощенностью. Он считал, что ее телу нужно много-много физических упражнений и много-много Уолта. Сама Жанин подозревала, что ее телу очень бы не повредили путешествия. Она ничего не имела против клуба Уолта, но недавно она прочла о спа в аризонской пустыне рядом с Тусоном, где специализировались по женским фигурам. В брошюре спа был назван “роскошным”, и теперь, когда Жанин начала ощущать свое тело роскошным, разве не заслуживает она недели или двух в таком заведении? Разумеется, удовольствие дорогое, но Уолт любит распространяться о своих капиталах, и Жанин надеялась уговорить его провести медовый месяц под Тусоном. А когда Тик закончит школу, им уже ничто не помешает перебраться в края с более теплым климатом. Прожив столько лет в Мэне, было бы замечательно поселиться там, где солнце, взойдя, не прячется тут же за тучи. Уолт постоянно твердил о новом фитнес-клубе, так почему бы не открыть его в Седоне или Санта-Фе? Если слухи не врут, юго-западная пустыня[2] похожа на Калифорнию. Люди там следят за своим здоровьем и фигурой, а на их купальные костюмы ткани расходуется чисто символическое количество. Если даже профессиональное любопытство не сдвинет Уолта с места, Жанин могла бы отправиться туда одна на недельку. Ей понравились латиноамериканские массажисты на снимках в брошюре. Конечно, это не слишком хорошо по отношению к Уолту, должна она признать. В конце концов, именно Уолт пробудил ее к новой жизни, помог разобраться в себе и стать такой, какая она есть на самом деле. А кроме того, он нашел эту чудесную маленькую зону, с ходу нашел, при том что Майлз даже не подозревал о ее существовании. И вот теперь Жанин подумывает о массажистах-латиносах.
Если бы только он не вывел эти дурацкие слова на своем фургоне, вздохнула Жанин, вылезая из своего “блейзера”. Хотя “дурацкие”, наверное, слишком резко сказано. Это не столько дурость, сколько бахвальство, решила Жанин, направляясь к двери ресторана. И потом, разве не задиристость Уолта привлекла ее в первую очередь? То, чем он так отличался от Майлза, вечно тихого, смирного. Ее мать, естественно, по-прежнему обожала Майлза и всегда вставала на его сторону, называя Уолта не иначе как “горластым петушком”. “Майлзу есть отчего скромничать, ма, уж поверь”, – уверяла она мать. Возможно, неприлично так говорить, но это правда, и намек, содержавшийся в ее словах, отклика у Беа не находил: обсуждать с матерью секс было делом немыслимым. Беа, догадывалась Жанин, была одной из тех несчастных женщин, кому удалось совершить то, во что едва не вляпалась Жанин. Ее мать за всю свою взрослую жизнь, от начала и до конца, ни разу не испытала оргазма. Когда она умрет, можно будет сказать, не покривив душой, что Беа скончалась прежде, чем кончила. В отличие от Жанин. Имейся у нее склонность расписывать свой автомобиль, она написала бы нечто вроде “ОНА КОНЧИЛА, ПРЕЖДЕ ЧЕМ СКОНЧАТЬСЯ”. А значит, приходила к выводу Жанин, она и Уолт Комо созданы друг для друга, и не подобает ей размышлять о сильных руках латиноамериканских массажистов.
– Привет, зайка, – сказала она, усаживаясь на табурет рядом с мужчиной, за которого она выйдет замуж в следующем месяце, если верить этому идиоту адвокату. И если, конечно, крыша в здании суда Фэрхейвена не рухнет, что Жанин ничуть не удивит, потому что с самого начала все оборачивалось против нее, с того самого момента, когда она крупно промахнулась, рассказав священнику с Альцгеймером про себя и Уолта в расчете на то, что он отпустит ей грехи и тут же обо всем забудет. Все вокруг говорили, что у него в одно ухо влетает, в другое вылетает, поэтому и наняли второго священника, помоложе. Однако на сей раз в ухо старикана влетело, а потом увязло в его болотистых мозгах. Он пересказал Майлзу все, что Жанин говорила на исповеди, забыл об этом и дня через два повторил все сначала.
Впрочем, теперь, когда волнения почти улеглись, Жанин думала, что, наверное, старый дуралей, настучав на нее, ей же помог. Тогда она толком не понимала, что ей нужно, иначе не отправилась бы к священнику. Но стоило тайному сделаться явным, и в голове у нее прояснилось: ей нужен Уолт и ей нужен секс с ним, чтобы наверстать упущенное – не по ее вине – за долгие годы. Если это означало, что все, включая ее дочь и мать, считают Жанин потаскухой, ну и ладно, пусть думают что хотят. В некотором смысле хорошо, что их с Уолтом поймали, ведь Уолт, как водится у мужчин, с удовольствием длил бы интрижку до бесконечности. Но Жанин прятаться не нравилось, и разоблачение, по крайней мере, дало толчок бракоразводному процессу, что уже не мало. И на то, чтобы довести этот процесс до конца, требовалась вся ее энергия, за вычетом той, что она приберегала для секса и тренажера-лестницы. Минувшие девять месяцев наглядно доказали: тяжело бодаться с городской администрацией, когда у нее крышу сорвало.
Уолт увлеченно играл в джин с Хорасом и не заметил, как она вошла. Еще одна деталь начинала утомлять Жанин – наморщенный лоб Уолта, когда что-либо напрягало его интеллект. А напрягало многое, не отрицала Жанин, так что она успела хорошо изучить это самое неприятное для нее выражение на его лице. Вот и сейчас с той же миной Уолт, зажав карты в руке, разглядывал своего противника, будто надеялся прочесть на широком лбу Хораса или на безобразной кисте ответ на поставленную перед ним задачу. В такие моменты его собственный лоб складывался в гармошку, глаза были сощурены и казалось, что Уолт Комо пытается сообразить не почему его противник опять выигрывает, но как он его обжуливает. Уж не за эту ли хитроватость и подозрительность он получил свое прозвище, задавалась вопросом Жанин. И каждый раз ей хотелось отвести его в сторонку и объяснить доходчиво, как его обжуливают. “Он умнее тебя, Уолт, – сказала бы она ему. – Он обжуливает тебя, запоминая карты, с которых ты пошел и какие он сам выложил. Поэтому он знает, что осталось в колоде. Он следит за тем, что ты делаешь, и смекает, к чему это ведет. Никакой чертовой крапленой колоды. И сообщника у него тоже нет, как и зеркала за твоей спиной, чтобы видеть твои карты. Он просто умнее. Может, это и несправедливо, но что есть, то есть”.
Майлз, как бы плох он ни был, в карты играл куда лучше. Непроницаемости игрока в покер у него и в помине не было, и он не мог сдержать удивления, когда госпожа Удача улыбалась ему, как и разочарования, когда она отворачивалась, но обычно Майлз умел предвидеть следующий ход противника, не то что Матёрый Лис. Жанин усматривала жестокую иронию в том, что Майлз, играя в “ведьму”, в два счета угадывал, у кого на руках пиковая дама, но за двадцать лет совместной жизни так и не нашел заветную зону у своей жены.
Жанин медленно считала про себя и досчитала до десяти, прежде чем Уолт решил, какую карту ему сбросить, к вящему удовольствию Хораса. Уолт, вечно сгоравший от любопытства, перевернул карту, которую Хорас положил лицом вниз, и простонал:
– Везет же некоторым. С этой, блин, картой я бы победил.
– Знаю, мистер Комо, – ответил Хорас, суммируя выигранные у Уолта очки. – Почему, по-вашему, я ее не отдал?
Разрешив таким образом свои мучительные сомнения, Уолт развернулся на табурете и, расплывшись в улыбке, обнял свою будущую жену. Вот оно, осенило Жанин, пока Уолт ее оглядывал, вот почему она выходит замуж за этого человека. Возможно, он слегка тугодум – ладно, допустим, не слегка, – ну и черт с ним, если он всегда рад ее видеть. Каждый раз он впивался в нее своими ясными глазами, и если причиной тому была его короткая память, ей плевать. Под одобрительным взглядом Уолта у нее внутри вспыхивал огонь, она преображалась, а ее потайная зона раскрывалась мягкими лепестками, как цветок, и в таком виде даже Майлз смог бы ее найти, да только шиш кто ему теперь позволит.
– Эй, очаровашка, – сказал Уолт. – Хорошо, что командира сейчас нет. Он бы совершил харакири, увидев, как здорово ты выглядишь. – Озвучив столь заманчивую черную мысль, он повернулся к Хорасу узнать его мнение: – Понравилось бы вам доживать жизнь, зная, что вы обладали такой красивой женщиной и потеряли ее?
Хорас продолжал подсчитывать очки в блокноте либо только притворялся, что занят, и Уолт снова крутанул табурет:
– Дай-ка угадаю. Сотня и двадцать два.
Ну да, окей, конечно. И это тоже злило Жанин – постоянное угадывание ее веса на людях. Не то чтобы она не гордилась сброшенными пятьюдесятью фунтами. А еще она понимала, что Уолт поступает так, потому что гордится ею. Однако ей это напоминало аттракцион в парке времен ее детства, когда надо было угадать вес других людей.
– Сто двадцать три, – улыбнулась она, довольная собой, несмотря на раздражение. – Но нельзя ли нам не обсуждать это в общественных местах?
– Сто двадцать три? – взревел Уолт. – Я собираюсь проверить весы в женской раздевалке. – Он опять развернулся к Хорасу и ткнул его локтем: – Слыхали? Сто двадцать три. Угадайте, сколько она весила, когда мы познакомились?
– Я бы на вашем месте не заморачивалась, – посоветовала Жанин Хорасу, хотя тот вряд ли нуждался в подобных предостережениях.
– Да брось, – сказал Уолт. – Ты должна гордиться. – И снова поворот к Хорасу: – Сто восемьдесят с лишком.
– Закажешь что-нибудь, Жанин? – спросил Дэвид через плечо, продолжая обжаривать мясо. И разумеется, не взглянув на нее.
– Нет, я не голодна, – ответила Жанин. – Тик уже заканчивает там, в подсобке?
– Скоро закончит. – Глаз на нее он так и не поднял, гад.
– Скажи ей, что я здесь, ладно?
– Она знает, что ты здесь.
И как его прикажете понимать: ребенок чует свою мать по запаху? Или с появлением Жанин атмосфера в заведении разительно меняется?
– Что за женщина, а? – вопрошал Уолт, обращаясь к Дэвиду. – Нет, я точно не хотел бы быть твоим братом, знать, что не удержал при себе такую прелесть.
– Красотка, а то, – согласился Дэвид.
– Слыхала? – Уолт уткнулся носом в шею Жанин. – Все подтверждают.
Жанин услышала сказанное ее деверем – и куда отчетливее, чем Матёрый Лис. Она отодвинулась от его холодного носа. Дома ей эти нежности, наверное, понравились бы, но не здесь, особенно когда некоторые отпускают саркастические замечания. Решив показать Дэвиду, кто здесь главный, Жанин встала, обогнула стойку, подошла к кассе, нажала на клавишу, и ящик с деньгами открылся.
– Хочу разменять полтинник, Дэвид, – сообщила она. – Надеюсь, ты не против? Я ведь бывшая служащая и местная королева красоты.
– Спроси у Майлза, – сказал Дэвид. – Я тут просто работаю.
Жанин окончательно разозлилась:
– Подойди и проследи за мной, если хочешь.
Шарлин вмешалась вовремя: выхватила у Жанин полтинник, быстро выудила из ящика ту же сумму мелкими купюрами и захлопнула кассу, давая понять, что вопрос исчерпан.
– Как дела, Жанин? – спросила она.
– Супер, Шарль.
Она сгребла банкноты и запихнула в кошелек, чувствуя, что у нее украли пусть и не самую значительную, но победу. К тому же мелкие купюры ей были совсем не нужны. Одна радость, подумала Жанин, глядя, как Шарлин накрывает на столы для сегодняшней частной вечеринки, – сорок пять годков Шарлин наконец дают о себе знать. После операции она постоянно выглядела усталой, а в уголках глаз проступили “гусиные лапки”, и с каждым днем они становились все глубже. Заодно она, похоже, набрала фунтов десять, что навело Жанин на мысль – как долго еще ее вот-вот бывший муж будет сохнуть по Шарлин? Ему будет тяжело избавиться от этой привычки, она при нем давно – все то время, пока он был женат. В сердечных делах Майлза было видно насквозь, и даже отчетливее, чем за игрой в карты. Если он впускал кого-то в свое сердце, то уже не отпускал, держал мертвой хваткой и не признавался в этом, сколько ни выпытывай.
Когда Шарлин закончила со столами, Жанин невольно улыбнулась. Еще год-другой, подумала она, и Шарлин превратится в толстожопую матрону из тех, что, завернувшись в простыню, пересматривают свои старые видео. В прошедшие выходные Жанин отметила, что студенты, вернувшиеся в колледж на осенний семестр, много реже заигрывают с ней и теперь выказывают куда больший интерес к своим спутницам, вместо того чтобы заглядывать в декольте Шарлин. А через год даже поставщики, толкая к заднему входу тележки, забитые консервами, и шутливо предлагающие Шарлин отойти с ними на минутку в закуток, где стоит бак с питьевой водой, перестанут видеть в ней “горячую штучку”. И только Майлз будет по-прежнему любить ее – не столько Шарлин, впрочем, сколько женщину, которой она была, пока не износилась, женщину, которая в его воображении ничуть не изменилась, вопреки картинке на сетчатке его собственных глаз.
Ну вот, подумала Жанин, себя же и вогнала в депрессию. Ведь, по правде говоря, ей нравилась Шарлин с четырьмя провальными браками за плечами, причинившими ей немало боли, и ни разу за те годы, что Жанин и Майлз были женаты, она не поощрила влюбленность Майлза – точно так же, как не поощряла студентов в “Гриле”. Их притягивало ее тело, и с этим Шарлин ничего не могла поделать. Пусть Жанин и лестно было сознавать, что в битве со своим телом она выигрывает, тогда как Шарлин несет потери, но Жанин была достаточно умна, чтобы понимать, каков будет финал: проиграют обе. В соревновании за любовь и поклонение мужчин вроде Уолта и Майлза сменятся участницы, и флаг перейдет в руки другой девушке, девчушке на самом деле, которая, глядя на Шарлин и Жанин, не поверит, что они когда-либо занимались этим видом спорта. Печальная гребаная правда заключалась в том, что какая ты ни на есть, но тебе никогда, никогда не получить все, что ты хотела.
Вооружившись этой мудростью, Жанин тихонько опустила руку под стройку и просунула ее в передний карман брюк Матёрого Лиса; тот лукаво улыбнулся и не спеша ответил на зов. Уолту стукнуло пятьдесят, что слегка беспокоило Жанин. Она слишком поздно приобщилась к науке оргазма, а с ее везением Уолт может завязать с сексом раньше, чем ей хотелось бы. Вот и сейчас он отозвался не слишком бурно, хотя и не совсем вяло.
На другом конце зала за столом сидела компания молодых девушек из Академии парикмахерского искусства графства Декстер. Они приходили почти каждый вечер незадолго до закрытия, плюхались за самый дальний стол, болтали, шептались и ели пироги. Разглядывая этих девушек, Жанин прикидывала, получится ли из них еще одна Шарлин или новая Жанин. Некоторые были почти хорошенькими, если вообразить их без навороченных причесок и лишних фунтов, уже пригибавших к земле этих двадцатилеток. Нет, может, дни Жанин, как и дни Шарлин, сочтены, но по крайней мере пока на горизонте не просматривается серьезных соперниц, а значит, Жанин правит бал – единолично.
Жанин улыбалась, когда дверь подсобки распахнулась и ее дочь объявила с порога, что готова ехать домой. Уолт, чтоб его, очевидно, позабыл о нежной руке в его переднем кармане и буквально слетел с табурета, едва не вывихнув Жанин запястье.
– А вот и она! – завопил он, не обращая внимания на свою удрученную невесту. – Наша маленькая красавица.
Глава 4
В художественном классе пять длинных прямоугольных столов, все с цветовой маркировкой, и каждый рассчитан на семь-восемь учеников; Тик посадили за Синий стол. Миссис Роудриг, учительница рисования, – женщина крупная, с грудью, выпирающей, как полка, при этом кажется, что сама ничего подобного за собой не замечает. Когда она входит в класс и кто-нибудь из мальчишек произносит чересчур громко: “Груууды!” – по ее виду не скажешь, что она увязывает свое появление с этим довольно банальным комментарием. Миссис Роудриг примерно одних лет с отцом Тик, но выглядит старше – наверное, потому, что ее прическа ассоциируется у Тик исключительно с пожилыми женщинами.
Как преподаватель миссис Роудриг более всего гордится своими организаторскими навыками. “Вас сорок человек, – объявила она классу в первый день занятий, – и поэтому наша общая организованность крайне важна на протяжении всего урока”. Обычно классам не дают разрастаться до таких размеров, но для рисования сделали исключение – молча признав, полагает Тик, что искусство никто не считает настоящим предметом, это вам не история или математика. Миссис Роудриг даже не на полной ставке, днем она преподает в старшей школе, по утрам в средней, и ее педагогические стратегии не меняются в зависимости от возраста учеников.
В цветовой маркировке, придуманной миссис Роудриг, Тик более всего занимает тот факт, что сами столы стального серого цвета и отличить с порога Синий от Красного можно, только прочитав таблички, приклеенные скотчем к бортикам с аккуратно выведенными черными чернилами надписями: СИНИЙ, ЗЕЛЕНЫЙ, КРАСНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ, КОРИЧНЕВЫЙ. Уже на второй день таблички упаковали в пластиковые пакетики, чтобы их не испачкали и не помяли. Искусство, доложила миссис Роудриг ученикам, это теория и практика, требующие порядка. Неряшливого искусства попросту не существует. Художники, заявила учительница, сначала должны понять, где они и что их окружает, и в классе миссис Роудриг первым делом заучивали свой цвет – Синий, Зеленый и так далее. “Синим” полагалось запомнить, где находится их стол, хотя почему стол обозначен цветом, а не, к примеру, цифрой, оставалось загадкой.
Как бы то ни было, за Синим столом Тик сидит рядом с Кэндис Берк, которой очень нравится модная девчачья одежда – мешковатые джинсы, облегающие футболки и розовые “адидасы”. В придачу к белым теням для глаз и толстенному слою туши. Сегодня на Кэндис ее любимая футболка с единорогом. То ли у нее их две одинаковых, то ли она стирает ее сразу, как приходит домой. В первый день она явилась в “единороге” и сегодня, в четверг, опять в ней же.
– О боже, о господи! – восклицает Кэндис, глядя на работу Тик. – Ты почти закончила. А я еще даже не начинала. Поможешь мне, а? Какой у меня был самый удивительный сон?
– Я ничего не знаю о твоих снах, – резонно отвечает Тик.
Кэндис дергает плечиком, как бы давая понять, что и она не знает, что снится Тик, но вдаваться в эту проблему ей явно недосуг.
– Слушай, как ты оказалась здесь, среди дебилов? – вот что ее действительно интересует.
Каждый день Кэндис задает этот вопрос и получает ответ, но либо тут же его забывает, либо не верит тому, что слышит. Ее настойчивость вызывает в памяти Тик сцену из одного фильма, когда мужчину допрашивали часами, задавая самые разные вопросы, но один из них повторяли снова и снова. Отвечал он всегда одинаково, но дознаватели, видимо, ему не верили, потому что опять возвращались к тому же вопросу. В конце концов они его убили – с отчаяния, надо полагать. Ведь никогда не узнаешь, правду говорит человек или врет.
Кэндис, не скрываясь, орудует канцелярским ножом, который она украла в первый день занятий. Оседлав стул, – так иногда сидят пожилые мужчины в “Имперском гриле” – она вырезает на деревянной спинке имя своего бойфренда Бобби. От непосредственной близости к опасному на вид инструменту, как и от применения, ему найденному, Тик становится не по себе, особенно когда Кэндис, закончив вырезать, взмахивает лезвием драматического эффекта ради. Тик так и ждет, что сейчас она приставит ей нож к горлу и прошипит: “Зачем ты на самом деле явилась сюда к дебилам? Кто тебя послал? Скажи правду, а не то я…”
В действительности же Кэндис пытается уразуметь, почему Тик, которая занимается по углубленной программе, оказалась за одним столом с ней и прочими “дятлами” – ребятами, осваивающими лишь азы обязательных предметов, вроде биологии, вдобавок к тем, что гарантированно повышают средний балл аттестата, вроде рисования. Одна из причин, по которой Кэндис подружилась с ней, подозревает Тик, состоит в том, что Кэндис нравится знакомить чужаков с “миром дятлов”, населенном теми, кто не в силах справиться с грамматикой или решить задачку и не понимает, зачем им это вообще надо. Большинство из них мальчики, и они совсем не против, когда их называют “дятлами”, приравнивая к птицам, способным выдолбить что и кого угодно.
Сама Кэндис предпочитает термин “дебилы”. Вдобавок, поведала она Тик, это любимое словцо ее матери, и мать им широко пользуется в общении с Кэндис, например: “Что опять, дебилка?”, или “Ты чему-нибудь научилась сегодня в школе, дебилка?”, или “Эй, дебилка, ты случаем не брала мои чертовы ключи от машины?”, или “Клянусь на хер Богом, дебилка, если я снова застукаю тебя у шкафчика с выпивкой, я сдам тебя в Церковь Голгофы, к чертовым протестантам, будешь пить кровь агнца, и посмотрим, как тебе это понравится, но я тебе наперед скажу, не понравится, так что держись подальше от моей гребаной водки”. Тик сделала вывод, что в понимании Кэндис этим словом родители выражают свою любовь к детям, которым, по мнению окружающих, не светит, так уж вышло, пристойное будущее.
Тем не менее Тик хотелось бы обрушиться с критикой на ярлык “дебилы”, прежде чем объяснить, почему она оказалась среди его носителей. Но Кэндис, похоже, ни в чем подобном не нуждается, и Тик опять отвечает почти шепотом и опять сознавая, что правда в данном случае годится для исчерпывающего ответа:
– Я люблю рисовать.
Тик едва не лишилась рисования, поскольку оно не втискивалось в ее расписание, совпадая по времени либо с занятиями для успевающих учеников по обязательным предметам, химии или алгебре, либо с переменой на ланч. Тик была готова ходить на рисование, если ей позволят утолять голод после шестого урока, но эту идею воспринимали в штыки, пока отец Тик не переговорил с директором, мистером Мейером. Основным аргументом директора было то, что столовая закрывается сразу после пятой перемены, и если даже Тик принесет с собой сэндвич и нальет минералки из автомата, перекусывать ей придется в полном одиночестве в огромной пустой столовой, дверь в которую запрут, когда она туда войдет, и потребуют от нее никого не впускать, поскольку дежурного тоже не будет.
Когда мистер Мейер спросил ее, согласна ли она на такие условия, Тик подивилась, что с ней нередко случалось, этим взрослым: в каком же странном мире они обитают. Они что, поголовно страдают некоей коллективной амнезией? Стоило лишь разок взглянуть на мистера Мейера, и ты уже знаешь: он был толстым парнишкой, объектом всеобщих насмешек, и школьный ланч был для него пыткой. Либо он естественным путем оседал в компании “прокаженных”, либо ел в одиночестве за столом, рассчитанным на шестнадцать человек, являя собой лакомую мишень для ребят, теснившихся за столами “крутых”, – статус, определявшийся в первый же день занятий теми, кто считал себя вправе сидеть за такими столами, и этот расклад был ясен каждому, в цветовой маркировке никто не нуждался. Стоило лишь разок взглянуть на мистера Мейера, и тебе уже ясно: с первого до последнего дня в старшей школе о его затылок шмякалась самая разнообразная еда, и вот, надо же, теперь он беспокоился, как бы Тик не упустила один из важных аспектов добротного среднего образования, именуемый “социализацией”. Вероятно, однажды за ланчем, решила Тик, чем-то очень тяжелым запулили в его остроконечную башку, что напрочь отшибло ему память.
Следовательно, он и представить не мог, как обрадовалась Тик перспективе ланча в пустынной столовой. Она была совсем не против жевать сэндвич после шестого урока. В школе желудок у нее сводило не только и не столько от голода, и теперь ей хотя бы не придется испытывать унижения, не найдя себе места в столовой, где она чувствует себя изгоем. Летом она порвала с Заком Минти, а значит, за столом, оккупированным его тусовкой, Тик больше не привечали. И ей хватило сообразительности не предпринимать попыток влиться в элитную банду популярных девочек. Куда лучше, полагала Тик, сидеть одной в безлюдной столовой, чем в переполненной до отказа.
– Ты в курсе, что Крейг собирался подарить мне на день рождения “Антологию Битлз”? – переключается Кэндис на другую тему. – До того, когда я его бросила, конечно.
Тик пытается ее игнорировать. Им дали задание нарисовать свой самый удивительный сон, у Тик это сон, в котором она сжимает змею в кулаке. Рисунок получается довольно удачным. Сперва змея походила на угря, но сейчас она уже менее плоская и более змеистая, разве что не такая страшная, как во сне, когда, сколь бы крепко Тик ни сжимала ее пальцами, змея не прекращала извиваться, желая взглянуть на Тик. Во сне ей ничего не грозило, пока она держала змею за загривок, у самой головы, но змея норовила вырваться. В тот момент, когда змея изловчилась и посмотрела на Тик, девочка проснулась в ужасе. Сон, полагает Тик, кое-чему ее научил: то, что способно навредить тебе, для начала хорошенько тебя рассмотрит.
– Ты меня слушаешь? – осведомляется Кэндис.
– Кто такой Крейг? – спрашивает Тик, смутно догадываясь, что должна бы знать, о ком речь; Кэндис наверняка рассказывала об этом парне, и не единожды. Выручает лишь то, что Кэндис всегда не прочь повторить ту или иную историю о своих бойфрендах.
– Этого парня я бросила ради Бобби, – поясняет она, предпочитая разговаривать, а не корпеть над наброском, чтобы затем перенести его на большой лист бумаги и раскрасить. Кэндис, похоже, совершенно не волнует, что она сильно отстает с выполнением задания. Самое интересное, миссис Роудриг это, похоже, тоже не волнует. Всю неделю Тик ждала, когда же учительница подойдет к Синему столу, увидит, что Кэндис практически ничего не сделала, и сурово отчитает ее, но до сих пор миссис Роудриг ни разу не подошла к ним, словно заранее прикинула: Синий стол сулит проблемы, поэтому лучше его не замечать.
Многие учителя, по опыту знает Тик, не испытывают большого желания сталкиваться с проблемами. К примеру, их никогда нет поблизости, когда кто-нибудь продает или покупает наркотики. Тайна пропавшего канцелярского ножа – причем о краже в тот же день объявили по школьному радио во время классного часа – была бы раскрыта в один миг, если бы миссис Роудриг обратила наконец внимание на Синий стол, за которым Кэндис в открытую вырезала пресловутым лезвием имя Бобби. Неужто миссис Роудриг, размышляет Тик, боится этого ножа не меньше самой Тик? Страх, часто иррациональный и как бы парализующий, – эту разновидность испуга, хочется думать Тик, она со временем перерастет. Взрослые по большей части вроде бы не переживают ничего подобного. Даже дядя Дэвид, которому в результате автокатастрофы едва не отрезали руку по локоть, с видимой беззаботностью садится за руль. Нет, взрослые в основном похожи на ее отца, чей страх, если он его вообще испытывает, трансформируется в грусть. Правда, с матерью дела обстоят иначе. Порой Тик замечает панический блеск в глазах Жанин, когда та думает, что на нее никто не смотрит, но потом мать натужно сглатывает и усилием воли подавляет нахлынувший ужас. Тик бы с радостью научилась этому трюку, потому что страх – ее почти постоянный спутник.
– Так дожидаться мне моего бойфренда, – допытывается Кэндис, – или вернуться к Крейгу на недельку-другую?
Бобби, про которого Кэндис не может решить, дожидаться его или нет, сидит за решеткой. Его арестовали в школе в Фэрхейвене, и, по словам Кэндис, “ни за что”. На чем основано это утверждение, Тик не совсем понятно. Кэндис, кажется, искренне верит, что копы пришли за ним, потому что он взял у своей матери доллар, а вернул только семьдесят пять центов. Предполагается, что его скоро освободят, как раз к каникулам. Тик не знает, всегда ли Кэндис говорит ей правду. Например, она не уверена, действительно ли парень в тюрьме. И существует ли он в принципе. Или другой парень, Крэйг, правда ли, что он пообещал Кэндис “Антологию Битлз”? Непонятности такого сорта мешают всерьез что-либо обсуждать.
Если верить Кэндис, у нее невероятно драматичная личная жизнь, и прекрасно, по мнению Тик, но только бы ее подружке, когда она исчерпает тему собственных увлечений, не захотелось порасспрашивать Тик о ее личной жизни, в которой драма отсутствует напрочь. Да и сама личная жизнь отсутствует напрочь. На Мартас-Винъярде Тик познакомилась со скромным мальчиком из Индианы, он навещал друзей вместе с матерью, коротавшей таким образом время в ожидании оформления развода с отцом мальчика; если бы Тик украла канцелярский нож и принялась вырезать мужское имя на спинке стула, она вырезала бы “Донни”. Когда он рассказывал о своем отце, переезжавшем в Калифорнию, глаза его наполнились слезами. Отец переезжал как раз на той неделе, и Донни отправили на Винъярд, по секрету сообщил он Тик, чтобы он не видел, как его папа покидает их дом. Донни сказал также, что предпочел бы жить с ним, и неважно, что в разводе виноват именно отец, влюбившийся в другую женщину.
Тик сказала, что с ней произошло примерно то же самое: когда родители разъехались, никто не спросил ее, с кем она хочет остаться. Конечно, в ее случае никто в Калифорнию не засобирался, и, хотя официально Тик живет с матерью, с отцом она проводит не меньше времени. Донни долго не мог поверить, что отец и мать Тик по-прежнему живут в трех кварталах друг от друга; его отец выбрал Сан-Диего в качестве нового местожительства, потому что более удаленной точки от Индианаполиса в пределах материковых Штатов не сыскать. Наверное, ее родителям, пояснила Тик, просто не хватает денег, чтобы удалиться друг от друга на столь большое расстояние.
Этот разговор по душам происходил на пляже в последний их вечер вместе, и Донни держал Тик за руку, пока они смотрели, как оранжевое солнце тонет в океане. Они даже не отважились поцеловаться, и следующим утром, прощаясь в присутствии отца Тик и матери Донни и не зная, как себя вести в таком окружении, они лишь пожали друг другу руки, их пальцы были ледяными от огорчения.
В любом случае эта история не для Кэндис, даже если бы Тик захотелось пооткровенничать. Но ей кажется, что встреча с Донни – и, в частности, тот факт, что она постоянно вспоминает, как хорошо было сидеть на теплом песке в сгущавшихся сумерках и просто держаться за руки с мальчиком, который ей нравился, – еще одно доказательство заторможенного развития ее эмоций и чувств. Понятно, сейчас она жалеет, что они не набрались храбрости и не поцеловались, но тогда им обоим было хорошо, а больше ничего и не требовалось. От взаимопонимания, возникшего между ними, хотя и на почве общей беды, поначалу дух захватывало, потом они потихоньку свыклись с этим, но Тик сомневалась, что новая подружка поймет ее переживания. Кэндис уже не раз намекала, что с Бобби они “поигрались, но не всерьез”. Тик более-менее представляет, что значит “поиграться”, и, если она права, отношения, чей пик пришелся на “подержаться за руки”, Кэндис не впечатлят.
– Понимаешь, Крейг не такой уж плохой, и он любит меня, и вообще… И он правда хочет купить мне “Антологию Битлз”. Ну и что же мне теперь делать? – мучается сомнениями Кэндис.
Тик не успевает ответить, ее перебивает Джастин, парень с другого конца стола.
– Что, Кэндис? – говорит он, словно она к нему обращалась. – Ты и правда положила глаз на Джона?
Джон Восс, он тоже сидит за Синим столом и всегда ведет себя так, будто вокруг никого нет. Из всех ребят в Имперской старшей школе он кажется Тик самым непознаваемым, и по этой причине она его слегка побаивается. Дело даже не в его странной одежде из секонд-хэнда и не в клочковатой стрижке, словно он сам орудовал ножницами. Его молчание – вот что главное. За всю неделю он не произнес ни слова. Если бы не Джастин, которому нравится изображать, будто он озвучивает мысли этого коматозника, все бы уже давно перестали его замечать. Джон Восс тщательно и чрезвычайно детально рисует нечто в форме яйца, и это тоже озадачивает и пугает Тик. Кому снятся яйца? Наблюдая за тем, как продвигается его работа, Тик вспоминает о тестах на проверку умственных способностей – единственная аналогия, что приходит ей в голову. В данном случае тест выглядел бы так: Джон для Джастина как…….. для Кэндис. Правильный ответ: Тик.
– Джон говорит, что тебе, Кэндис, стоит зайти к нему домой после школы. Говорит, у него есть что тебе показать.
– Заткнись, ты, говнюк! – орет Кэндис, отчего Тик вздрагивает. Она понимает: испуг в голосе Кэндис вызван попыткой Джастина наделить ее романтическими отношениями с мальчиком, пребывающим в самом низу школьной социальной иерархии. Поскольку рейтинг самой Кэндис немногим выше, чем у Джона, она обязана пресекать любые поползновения принизить ее. – Простите, миссис Роудриг, – извиняется Кэндис, когда все сидящие за Красным, Зеленым, Желтым и Коричневым столами оборачиваются на нее, – но Джастин все время достает меня.
Миссис Роудриг, расправив плечи, сердито взирает на Синий стол, будто все его обитатели в равной степени ответственны за выходку Кэндис. Ее недовольство и гнев распространяются и на Тик, и на Джона Восса, который по-прежнему не отрывает глаз от своего яйца.
– Надеюсь, – с нажимом произносит учительница, – Синий стол более не потревожит нас ни ссорами, ни криками.
– Я же сказала “простите”, – достаточно громко откликается Кэндис, закатывая глаза, – мол, даже учительница не может требовать от нее большего.
– Если вам необходим пример достойного поведения, – продолжает миссис Роудриг, предлагая свое видение проблемы и решение оной, – к вашим услугам Зеленый стол, ваши ближайшие соседи.
Зеленый стол сегодня, отмечает Тик, понес существенные потери. Обычно за ним сидит восемь учеников, но сейчас только четверо; из них двое уткнулись в учебники алгебры, готовясь к контрольной на следующем уроке, а один крепко спит, положив голову на стол. Не знай Тик, что спрашивать бесполезно, она подняла бы руку и попросила миссис Роудриг объяснить, в чем именно им следует подражать Зеленому столу. Даже Кэндис, старательно вырезая украденным ножом имя бойфренда-арестанта, увековечивая свою привязанность к малолетнему преступнику и нанося урон школьной собственности, ближе к достижению целей, заданных курсом рисования.
– И все-таки почему ты порвала с Заком Минти? – спрашивает Кэндис, когда внимание миссис Роудриг снова целиком поглощено творческими поисками ее любимчиков за Красным столом.
– Не только я, он тоже со мной порвал, – отвечает Тик скорее уклончиво, чем правдиво. Когда она объявила Заку, что больше не хочет с ним встречаться, он сказал “ну и ладно”, он тоже не хочет с ней больше встречаться. Типа, кем она себя возомнила? Спустя день он позвонил ей сообщить, что нашел себе новую подружку, а точнее, девочку, по всем признакам ненавидевшую Тик, хотя она с ней еще ни разу словом не перемолвилась.
– По-моему, тебе нужно к нему вернуться, – говорит Кэндис с таким видом, словно она ничегошеньки не знает об этих отношениях. – Наверняка он все еще тебя любит.
Тик сглатывает, пытается сосредоточиться на змее и вдруг видит, что с рисунком что-то не так, но пока не понимает, что именно. Да, змея уже менее походит на угря, что хорошо, но с пропорциями явная беда: нижняя часть змеиного тела словно нарисована в одном масштабе, а верхняя, включая голову, – в другом. Не удастся ли оправдать это законами перспективы? Огрехи в живописи, размышляет Тик, часто принимают за художественный прием.
– Сомневаюсь. – И на сей раз Тик говорит чистую, неприукрашенную правду.
И еще кое-что не дает ей покоя: до отъезда на Винъярд она не знала, как ей быть с Заком. Одно дело летом и совсем другое и куда более тяжкое – остаться без друзей на весь учебный год, потому что на одиночку в школе пялятся все кому не лень. Зак – невелика потеря. Во всяком случае, теперь ей не надо было каждый день угадывать, в каком он настроении, будет ли он с ней мил или груб, с его-то поведением, непредсказуемым, как порывы ветра. Словом, в том, чтобы остаться без парня, она не видела ничего страшного, хотя и сомневалась, что найдет ему замену в обозримом будущем. Ее расстраивало другое: потеряв Зака, она потеряла и его друзей, все его окружение. Когда они были вместе, его друзья были ее друзьями, но стоило им расстаться, как Тик открылась истина: они – его друзья, все до единого. Не то чтобы она им не нравилась. Кое-кому, догадывалась Тик, она нравилась даже больше, чем Зак, другие были бы рады занять нейтральную позицию, но школьными правилами таковая не предусматривалась. А враждовать с Заком не хотел никто. Сразу же после их разрыва Тик начали названивать его друзья, уговаривая вернуться к Заку и намекая, что иначе в их компанию ее больше не пустят. Некоторые мальчики казались чуть ли не напуганными ее бесшабашностью – сами они никогда бы не осмелились уйти от Зака. Одна из девочек договорилась до того, что Зак вроде бы и сам не прочь порвать с новой подружкой, если Тик вернется, – возможно, наверное, хотя кто его знает.
До Винъярда Тик всерьез подумывала вернуться к Заку, но теперь она ясно понимает, что не может это сделать. Встретив мальчика, которому она реально нравилась, она предпочтет остаться без друзей – по крайней мере, на какое-то время. Печалит ее только цена, заплаченная за приобретенный опыт. Неужели впервые ощутив, что ты по-настоящему нравишься кому-то, кто не приходится тебе ни отцом ни матерью, вкусив этой нежности и новизны, ты тут же становишься изгоем, лишенным всякого дружеского общения?
– По-моему, к Хитер у него нет никаких чувств, – гнет свое Кэндис. – Посмотрела бы ты, как он с ней обращается.
– Я знаю, как он с ней обращается, – отвечает Тик, разглядывая критически свою змею. Язык, вот что ей нужно, решает она. – Со мной он так же обращался.
– Он изменился. – Кэндис поворачивается на стуле лицом к Тик. Закончив вырезать, она собирает вещи в предвкушении звонка с урока. Ее внезапный интерес к личной жизни Тик подтверждает худшие опасения последней: Кэндис набивается к ней в подруги не просто так, ее подослал Зак прощупать почву – не склонна ли Тик помириться с ним. С начала учебного года Тик, к ее великому облегчению, почти не видела Зака, потому что каждый день после уроков он отправлялся на футбольную тренировку. Если бы не футбол, он бы мучил ее непрестанно. Вдобавок Зак запорол столько предметов в прошлом году, что теперь его не допустили на занятия по углубленной программе. Иначе на химии и американской литературе он сидел бы прямо за Тик и она бы весь день чувствовала на себе его мрачный, обиженный, злобный взгляд.
Уверившись в истинных побуждениях Кэндис, Тик вскипает и, не успев хорошенько взвесить свои слова, говорит:
– Я тоже изменилась. Главным образом, по отношению к Заку. Он мне больше не нравится.
Реакция Кэндис – оглушительный вопль, громче Тик в жизни не слышала. Джон Восс на другом конце стола наконец-то поднимает голову от своего яичного рисунка. Что-то металлическое стукается об пол рядом с сабо Тик, и Кэндис с криком “о боже, о господи, о боже, боже мой” поднимает руку, залитую кровью, которая хлещет из раны, тянущейся от ногтя большого пальца почти до ладони. Кровь повсюду – на руках Кэндис, на затейливых буквах, что она вырезала на спинке стула, а одна розовая капелька упала на змею Тик. При виде всей этой крови Тик чувствует, что ее левая рука начинает подрагивать, как всегда бывает перед уколом во врачебном кабинете и на фильмах ужасов, когда кого-нибудь ранят острым орудием.
Кэндис, непрерывно вопя, обхватывает большой палец ладонью другой руки и резко нагибается, выпрямляется и опять нагибается, словно заводная птичка, пьющая из несуществующей лужи. Кровь растекается по ее футболке с единорогом, и “храбрецы” за Зеленым столом, вскочив, перемещаются к дальней стенке.
Левая рука Тик болит все сильнее, настолько, что начинает кружиться голова и все вокруг выглядит слегка размытым – так в телефильмах показывают чей-нибудь сон. Тик наклоняется вперед, прижимается лбом к прохладному металлическому столу и слушает, как визжит Кэндис, пока не раздается словно откуда-то издалека другой голос и рядом с кроссовками Кэндис не возникает другая пара ног. Тик опознает ступни миссис Роудриг и в тот же миг слышит, как учительница орет:
– Детка, убери руку, дай мне взглянуть. – И затем: – Кто это сделал?
Кэндис вопит: “Мне так жаль, о господи, так жаль”. Плохо соображающая Тик думает, что Кэндис обращается к ней, извиняясь за то, что действовала по поручению Зака Минти. “Все нормально”, – говорит Тик, либо лишь хочет сказать, ведь она не в силах отлепить голову от стола, не то что заговорить. Впрочем, именно так она бы и ответила, потому что она из тех людей, кто легко прощает, кому невыносима мысль о человеке, которому долго отказывают в прощении, как бы он ни умолял, так что слова “все нормально”, произнесенные или нет, звенят в ее ушах вместе с лихорадочным биением пульса. Когда боль в левой руке становится невыносимой и кажется, что рука вот-вот лопнет, боль достигает пика и все вокруг меркнет. Тик, обливаясь потом и трясясь всем телом, представляет, как для того, чтобы вернуться в нормальное состояние, ей придется пройти обратный путь целиком по территории боли, и она не готова вытерпеть этот ужас. Лучше уж отключиться.
Когда же Тик снова открывает глаза, то понимает, что некоторое время крепко сжимала веки. Ее лоб по-прежнему на прохладном крае стола, и все, что она видит, – свои ноги на полу. Хотя нет, не только. Между ее правой ступней и рюкзаком валяется окровавленный канцелярский нож. Вопли Кэндис прекратились, а ее розовых “адидасов” след простыл. Миссис Роудриг – вроде бы она куда-то выходила и опять вернулась – уговаривает Тик поднять голову, и на сей раз Тик удается это сделать. С еще большим удивлением она обнаруживает, что классная комната опустела, все ребята топчутся в коридоре, глазея на нее. Она смотрит на настенные часы – десяти минут как не бывало. Миссис Роудриг водит большим пальцем по металлическим краям стула, на котором сидела Кэндис, – очевидно, с намерением отыскать зазубрину, способную разрезать палец девочки до кости. Директор, мистер Мейер, проталкивается сквозь толпу учеников, подходит к Тик и кладет ей ладонь на лоб.
– Я бы не подходила к ней слишком близко, – роняет миссис Роудриг. – Такое впечатление, что ее сейчас вырвет.
Мистер Мейер вздрагивает, хотя Тик не до конца ясно, что именно его так потрясло – перспектива быть обрызганным блевотиной или грубость учительницы.
– Со мной все в порядке, не беспокойтесь, – говорит Тик на тот случай, если верна ее первая догадка. – Что произошло?
– Ты потеряла сознание, ангел, – отвечает мистер Мейер, и Тик впервые чувствует к нему симпатию. – Когда кругом столько… – Он умолкает – вероятно, из опасения, что слово “кровь” способно вызвать тот же эффект, что и вид крови. – Хочешь, я позвоню твоим маме и папе? – Он опять спохватывается, очевидно вспомнив, что родители Тик живут раздельно.
Тик, шевеля пальцами левой руки, повторяет, что с ней все будет хорошо. Такое ощущение, будто их колют тысячью иголок, но боль прошла, а значит, Тик не придется из нее выбираться, не придется снова входить в тот темный туннель, и Тик переводит дух.
Наказав ей оставаться на месте, мистер Мейер отводит в сторонку миссис Роудриг. До Тик доносятся обрывки их беседы: по словам Кэндис, объясняет миссис Роудриг, она обо что-то порезала палец. Теперь уже мистер Мейер изучает спинку стула, переворачивает его и проводит пальцем по металлическим поверхностям, но не слишком старательно, словно не уверен, хочется ли ему докапываться до правды. Тик лезет под стол якобы за своими вещами, подбирает канцелярский нож и тихонько сует его в открытое отделение рюкзака.
Когда она встает и надевает рюкзак, мистер Мейер заботливо берет ее под локоть и ведет к открытой двери. В коридоре мелькает Зак Минти, на Тик накатывает тошнота, колени на секунду подгибаются, и мистер Мейер обхватывает ее за талию. Обычно Тик терпеть не может, когда к ней прикасаются, особенно взрослые, но сейчас она благодарна директору.
– Вам нужно к медсестре, юная леди, – говорит мистер Мейер, и они направляются к медкабинету.
Внезапно Тик вспоминает, что на этой неделе они с Кэндис дежурят, то есть убирают класс после занятия; миссис Роудриг четко дала понять: уборка – наиважнейший элемент творческого процесса. Тик оборачивается и видит миссис Роудриг, стоящую у Синего стола; надо полагать, в отсутствие художников Синий не представляет для нее опасности. Учительница смотрит на змею Тик – с безграничным отвращением.
Глава 5
“Пончик” в Эмпайр Фоллз был одним из любимейших ресторанчиков Макса Роби благодаря никотиновой политике заведения, сводившейся к “валяй, закуривай, а там поглядим”. Любопытно, думал Майлз, что его отец будет делать через год, когда во всем общепите штата Мэн введут официальный запрет на курение. Пока же у входа в “Пончик” стоял автомат с сигаретами, а размеры помещения, куда не без труда втиснули всего восемь столиков и полдюжины табуретов у стойки, не позволяли соорудить отсек для некурящих, и это обстоятельство радовало старика даже больше, чем возможность подымить. Макс был “атмосферным” человеком, и, по мнению Майлза, отцу доставляло особое удовольствие вынуждать других дышать воздухом, сотворенным лично Максом Роби. И курение было лишь одной из составляющих этого феномена. Макс всегда охотно нарушал границы приватности. Ему нравилось встать поближе к собеседнику, а когда он ел, то еда распространялась вокруг воздушно-капельным путем. Ныне, в свои семьдесят, Макс сделался сластеной. Он бы жевал шоколад, да зубы не позволяли, половина вывалилась, другая шаталась, и Макс пристрастился к сладким пончикам. К тому времени, когда он приканчивал первый пончик, у Майлза, обычно заказывавшего только кофе, вся грудь была обсыпана сахарной пудрой.
Много лет назад Майлз спросил свою мать, что привлекло ее в мужчине, наделенном столь отвратительными привычками, и она ответила: отец не всегда был такой, и тем более в молодости. Майлз любил свою мать и хотел бы поверить ей на слово, но это было непросто. Всю свою жизнь Грейс, полюбив кого-то, в упор не замечала недостатки этого человека, хотя, возможно, она научилась смотреть на Макса невидящим взглядом лишь для того, чтобы сохранить брак. Однако, когда Майлз задал свой вопрос, мать уже явно стыдилась человека, выбранного ею в мужья. “Сейчас в это трудно поверить, – сказала она сыну, – но тогда никто не умел так заразительно улыбаться, как твой отец”.
Про заразительность Майлзу было все понятно. Как и большинство детей, Майлз с братом приносили из школы самые разные болезни – ветрянку, свинку, корь, обычные простуды и грипп. Дэвид обнаружил особую восприимчивость к эпидемиям и болел дольше Майлза, но тяжело мальчики никогда не заболевали, кроме тех случаев, когда их отец притаскивал домой какую-нибудь заразу и наделял ею сыновей. Вот тогда они валились с ног, как боксеры после нокаута, – все, кроме Макса. В дыхательной системе Макса убойность любого вируса резко возрастала, а затем отец посредством взрывного чиха выталкивал вирус в атмосферу. Прикрывать рот Макс считал абсолютным идиотизмом. Это все равно что прикрывать задницу ладонью, когда пердишь, уверял он. Толку столько же.
Макс тем временем прикурил новую сигарету от предыдущей, прежде чем раздавить окурок в пепельнице, которую он умудрился заполнить наполовину за двадцать минут. Майлз уставился на рот отца, пытаясь вообразить два ряда белых зубов и заразительную улыбку, но никак не получалось. Одна из величайших неразгаданных тайн вселенной, далеко не впервые подумал Майлз, – что такого привлекательного находят женщины в некоторых мужчинах. К примеру, женщины во всем мире мечтают о сексе с Миком Джаггером или, по крайней мере, мечтали когда-то. Другие же не находили ничего отталкивающего в Максе Роби. Майлз не мог не восхищаться способностью женщин игнорировать сигналы, подаваемые их пятью чувствами. Если, конечно, дело именно в этом. А не в том, что просто время от времени их безотчетно тянет к разного рода гротеску.
За окном опять моросило, как и днем ранее, достаточно сильно, чтобы о покраске церкви и речи не было. Полчаса назад Майлз, возвращаясь в ресторан, увидел отца, сидевшего на скамейке перед “Имперскими башнями”. Макс беседовал с пожилой женщиной, недоумевавшей, судя по выражению лица, чем она заслужила его внимание, и гадавшей, как не совершить ту же оплошность впредь. “Не тормози”, – произнес Майлз вслух, уже нажимая на педаль и сигналя. Ни одно доброе дело, припомнил он, когда Макс вскочил со скамейки и направился к нему по газону с только что высаженной травой, не останется безнаказанным.
И это тоже, добавил Майлз про себя, глядя на отца, усевшегося напротив.
– У тебя крошки в бороде, папа, – сказал он. – Ты не заметил?
Макс брился редко и никогда не гладил свою одежду, которую просто запихивал в машину общественной прачечной в их “башенном” жилом комплексе, и там она болталась, пока кто-нибудь из соседей не вынимал постиранное и не возвращал Максу. В результате все, что носил Макс, было покрыто диковатым узором из складок и морщин.
– Ну и что? – спросил старик, глубоко затягиваясь и затем выдыхая в сторону как бы из уважения к некурящему Майлзу. Будто воздух вокруг них уже не был синим от дыма. Будто Майлз и Дэвид с младенчества не дышали табачным дымом в пропорции, эквивалентной пачке в день.
– Ты похож на идиота, вот что, – ответил Майлз. – Глянешь на тебя и подумаешь, что ты такой же старый маразматик, как отец Том.
Впрочем, по сравнению с Максом отец Том выглядел истинным джентльменом.
Макс глубоко задумался, но затем решил, что все это чушь. Однако упоминание старого священника напомнило ему кое о чем:
– Ты должен взять меня в помощники на покраску церкви. – Этот вопрос Майлз считал закрытым, Макс – широко отверстым. – Я сорок лет красил дома, знаешь ли. Я собираюсь во Флориду на Кис. Как я доберусь туда без денег, сам посуди.
– По-моему, помогать мне красить – не очень хорошая идея, папа. В прошлом месяце ты рухнул с табурета в баре. Не хочу, чтобы ты рухнул с лестницы.
– Это к делу не относится, – возразил отец. – Тогда я был пьян.
– Точно, – сказал Майлз. – В том же состоянии ты и с лестницы упадешь.
Отец согласно кивнул, и не знай его Майлз как облупленного, решил бы, что Макс уступил. Но когда старик снова выдохнул дым, головы он уже не отвернул.
– Будь у меня немного баксов в кармане, я бы у тебя не просил.
Официантка на ходу подлила им кофе и тут же удалилась; очевидно, задерживаться у столика, где сидел Макс Роби, она решительно отказывалась.
– Ты слышал, что я сказал? – поинтересовался отец.
– Слышал, папа. – Майлз добавил в кофе подсластителя из пакетика. – Но ты постоянно забываешь, что я крашу Святую Кэт бесплатно.
– Но это еще не значит, – пожал плечами Макс, – что ты не можешь платить мне.
– Значит, папа. Очень даже значит.
Последнее, чего хотелось Майлзу, это в паре с отцом красить церковь. Стоило Максу увидеть отца Марка, как он начинал приставать к нему с разговорами о прижимистости католиков; Ватикан купается в деньгах, рассуждал Макс, и все священники, поскольку они работают на Ватикан, могли бы выписывать чеки не глядя. Почему церковь, заначив столько миллионов, не способна заплатить двум бедным малярам в Эмпайр Фоллз, штат Мэн, требовал он объяснений от отца Марка. Но вопрос, скорее, был риторическим. Выждав секунды две, он сам объяснял отцу Марку, как церковь хитро устраивает свои финансовые делишки. Каждый день, утверждал Макс, вы берете деньги у людей, которые по неведению или глупости отдают их вам, а потом эти деньги вы кладете в банк на краю света, где никто из Эмпайр Фоллз, штат Мэн, не станет их искать и уж тем более не найдет. Если попросить вас вернуть хотя бы часть, – скажем, чтобы покрасить вашу чертову церковь, – вы ответите, что денег у вас нет и вы такие же бедные, как и просители, и что вы передали эти деньги епископу, а он кардиналу, а тот папе. “В моей следующей жизни, – подытоживал Макс, – знаете, кем я хочу быть? Папой. И буду поступать так же, как и он сейчас. Приберу к рукам эти проклятые деньги”. Майлз оставался безмолвным зрителем этих сцен, потому что вмешиваться ему совершенно не хотелось.
– Если б ты заплатил мне за работу, – продолжил Макс, прибегая к риторике куда более утонченной, чем можно было ожидать от человека с едой в бороде, – я бы не чувствовал себя настолько никчемным. Ведь нет такого закона, который предписывает пожилым людям быть ни на что не годными. Заплати мне, и я себя хоть немного, но зауважаю.
Настал черед Майлза кивать и улыбаться в знак согласия:
– Самоуважение, папа? Этот поезд давно ушел, и не ты ли махал ему вслед.
Макс осклабился, затем медленно помешал кофе, вынул ложку и нацелил ее на сына, парочка кофейных капель осела на груди Майлза.
– Ты пытаешься меня обидеть, – тоном бывалого человека сказал отец, – но у тебя не получится.
– Кроме того, папа, – Майлз потер влажной салфеткой кофейные пятна на одежде, – когда тебе захочется инъекции самоуважения, ты в любой момент можешь прийти в наш ресторан и помыть посуду.
– Так вот какие у тебя представления о человеческом достоинстве? Запереть старика в комнатенке без окон, чтобы он там часами мыл посуду за минимальную оплату? Половина которой отойдет госчиновникам?
Что рано или поздно Максу придется сделать, когда он совсем обнищает. Майлз надеялся, что до этого дойдет не скоро, поскольку отец был работником безответственным и вздорным. По мнению Макса, тарелка, вынутая из “Хобарт”, чиста по определению, и неважно, что к ней присох яичный желток. Но даже больше, чем клаустрофобная подсобка, Макса возмущало категорическое нежелание Майлза платить ему вчерную. Отец рассуждал так: если можно выкрасить целый дом и получить деньги в конверте – как он и получал всю трудовую жизнь, – то за стопку помытых тарелок точно не следует ни перед кем отчитываться. Макс считал, что Грейс нарочно воспитала сына этическим привередой – в пику мужу. Если бы он предвидел, что мальчик вырастет столь морально негибким, он бы лично занялся становлением ребенка, но, увы, Макс ничего не замечал, а потом уже было поздно. Слава богу, второй сын, Дэвид, лучше понимает своего отца.
– Я бы нанялся к тебе в ресторан, если бы время от времени я мог работать за стойкой, – сказал Макс. – Обожаю готовить бургеры, ты же знаешь. И мне нравится общаться с людьми.
– Сперва тебя пришлось бы пропустить через “Хобарт”, – ответил Майлз, – отполоскать твою бороду от крошек. Как ты не понимаешь, люди приходят в “Имперский гриль” поесть, а ты – ходячий ингибитор аппетита.
– В мои семьсят, – продолжил отец как ни в чем не бывало, – по лесенкам я лазаю ловчее шимпанзе.
И это снова был намек на покраску церкви. Старик ловок, признавал Майлз, и физически, и в обращении со словами. Майлз давно прекратил попытки загнать его в угол.
Однако настойчивость, с каковой Макс рвался потрудиться для прихода, вызывала недоумение. Тридцать лет назад, когда отец Том нанял другого работника на покраску Св. Екатерины, Макс поклялся, что отныне его ноги не будет в приходе. Правда, до того он лет десять не заглядывал в церковь, предоставив жене и сыну (Дэвид тогда еще не родился) посещать мессы. Будучи главой семьи, полагал Макс, он тоже в этом участвует, пусть и не напрямую. Работник же, нанятый отцом Томом, был чертовым пресвитерианином, никоим образом не связанным с их приходом. Пусть Макс и не был практикующим католиком, но его законная супруга практиковала эту веру с утра до ночи, как было заведено в семье ее родителей. И помимо прочего, Макс произвел на свет еще одного маленького католика, чего нельзя ему не зачесть.
До сих пор Макс был верен своей клятве, и почему, спрашивал себя Майлз, он вдруг передумал. Его желание помочь с покраской церкви – своего рода завуалированное раскаяние? Майлз не припоминал, чтобы его отец когда-либо и в чем-либо раскаивался, хотя поводов имелось предостаточно. Для начала Макс не стремился быть хорошим отцом, а еще менее – хорошим мужем. Если начистоту, то и маляром он был не самым добросовестным. Он не любил зачищать поверхности, а краску клал густо и небрежно. Работе он предпочитал посиделки в баре и, чтобы поскорее перейти от первого к последнему, работал быстро, даже когда ситуация требовала особой тщательности. Окна он красил закрытыми и не протирал стекло, когда случайно касался его кистью.
У любого другого человека его возраста желание покрасить церковь могло сойти за предлог провести побольше времени с сыном, которому он прежде уделял мало внимания, но вряд ли это верно в случае Макса: общение с сыновьями никогда не доставляло ему видимого удовольствия, при этом он был готов обласкать кого угодно, лишь бы ему купили пончик, а он смог бы сэкономить для приобретения очередной пачки сигарет. Нет, единственное более-менее разумное объяснение, найденное Майлзом, заключалось в том, что старость играючи выворачивает человека наизнанку. Отец Том, например, раньше всегда отправлял младших священников исповедовать паству, ныне же, одряхлев духом и телом, он умоляет отца Марка разрешить ему выслушать хотя бы одного-двух. По субботам стоит молодому священнику утратить бдительность, как тут же выясняется, что старый священник пропал, и надо со всех ног мчаться через лужайку, отделяющую ректорский дом от церкви, к сумрачной исповедальне, где старик уже терпеливо предвкушает откровения своих прихожан; на старости лет ему стали интересны их проделки и умыслы, и он щедро делился услышанным. Именно от отца Тома Майлз узнал, что его жена закрутила с Уолтом Комо.
– Я тебе еще кое-что скажу. На верхушке лестницы я не заскулю от страха, как девчонка.
– Мы с тобой похожи, папа, – парировал Майлз. – Обидеть меня у тебя тоже не получится.
– Я и не собирался, – ответил старик, демонстрируя столь прямодушную неискренность, что по-своему это было даже трогательно. – Когда ты стал таким трусишкой? Бояться высоты? Уму непостижимо! Мне семьсят, и я по-прежнему лазаю как обезьяна. А тебе сколько?
– Сорок два.
– Сорок два. – Макс вдавил окурок в пепельницу, словно поставил точку – по крайней мере, в вопросе возраста сына. – Сорок два – и боишься забраться на стремянку. Я падал с высоты двух этажей, черт подери, но я не боюсь.
– Допивай кофе, папа, – сказал Майлз. – Я должен вернуться в ресторан.
– Я упал с лесов на Дивижн-стрит, со второго херова этажа, – и приземлился на задницу в розовый куст. Тебе бы так. Но это не значит, что с тех пор я боюсь лазить по лестницам.
За окном на парковку въезжала патрульная машина с Джимми Минти за рулем. Майлз ощутил, как полицейский автомобиль задел передним бампером стену заведения, отчего пластиковые столы и пепельницы задребезжали. Джимми – в форме на сей раз – не вышел из машины, но продолжал сидеть, шевеля губами, будто разговаривал с кем-то невидимым. Лишь когда он потянулся вперед, чтобы положить микрофон, Майлз сообразил, что он просто разговаривал по рации. Трижды за два дня их пути пересеклись. Совпадение? Что ж, может быть.
– Я бы помог тебе соорудить леса, – говорил отец. – Тогда ты будешь знать, что стоишь на чем-то крепком и устойчивом.
– Я умею возводить леса, папа.
– Надеюсь, – сказал Макс. – Ведь именно я тебя этому научил, но ты, похоже, забыл об этом.
– Не забыл.
– Я взял тебя в помощники, если помнишь. Узнай об этом твоя мать, ее удар бы хватил, но я все равно разрешил тебе красить вместе со мной. А теперь, когда я прошу денег на дорожные расходы, ты предлагаешь мне ехать автостопом.
– Ничего подобного я не предлагал…
– Мне нужно отлить, – сердито перебил отец и вылез из-за стола, словно не кофе, а их беседа спровоцировала эту досадную потребность облегчиться.
Едва за Максом закрылась дверь в туалет, как Джимми Минти плюхнулся на его место, положив сверкающую черную фуражку на стол. Его рыжие волосы на висках слегка поседели, отметил Майлз. Официантка поставила перед новым клиентом чашку кофе.
– Будь добр, Джимми, – сказала она, – не врезайся в стену каждый раз, когда паркуешься. Ты пугаешь людей до смерти. Они пьют кофе, говорят или думают о своем, и вдруг ты чуть ли не въезжаешь к ним за столик. Стена-то вроде видна невооруженным глазом. Главное, вовремя остановиться перед ней.
– Вам нужно поставить здесь парочку бетонных заграждений, – улыбнулся Минти. – Спорим, Ширли, я здесь не один, кто стукается об эту стену.
– Нет, – призналась Ширли. – Но ты единственный, кто в нее ломится.
Когда она отошла, полицейский небрежно пожал плечами:
– Привет, Майлз. Это не твоя “джетта” там стоит? Ох, зря ты не потратился на антикоррозийное покрытие. Во что бы тебе это обошлось – пару сотен?
Любой разговор Минти практически с ходу сворачивал на тему денег. Ему особенно нравилось тыкать Майлзу в нос каким-нибудь недочетом в его имуществе – например, ржавчиной на “джетте”, расплодившейся в изобилии. Майлз давно подозревал, что для Джимми Минти он своего рода линейка, по которой Джимми измеряет свое собственное благополучие. Самое поразительное, размышлял Майлз, что началось это еще в их детстве на Лонг-стрит и длится до сих пор. Джимми Минти всегда тщательно осматривал вещички Майлза, допытываясь, что сколько стоит и где было куплено. Если они получали одинаковые рождественские подарки, Джимми с удовольствием объяснял, почему его подарок лучше, – потому что выбирали с умом и заплатили дешевле, ведь его отец знает, где нужно покупать, – даже если игрушка, о которой шла речь, была явной дешевой подделкой. Перечислив преимущества своего подарка, Джимми часто предлагал поменяться на некоторое время и не раз возвращал игрушку сломанной.
Тридцать лет прошло, но Майлз до сих пор помнил облегчение, которое он испытал, когда мать перевела его из городской школы в учебное заведение при церкви Сердца Христова, куда Джимми – его семья не была католической – ходу не было. Постепенно, хотя и оставаясь соседями, мальчики отдалились друг от друга, и когда обстоятельства их снова свели в старшей школе, у каждого была своя жизнь и свои друзья. Разумеется, у Джимми и жизнь, и друзья, по его словам, были лучше. После школы он отслужил в армии, пока Майлз учился в колледже, а к тому времени, когда Майлз вернулся в Эмпайр Фоллз, Джимми, женившись, осел в Фэрхейвене. Впрочем, родителей он навещал, а когда Майлз и Жанин поженились, Джимми предпринимал попытки возобновить старую дружбу, чего Майлзу совершенно не хотелось, поскольку повзрослевший Джимми Минти по-прежнему взирал на все глазами оценщика, только теперь он сравнивал жен. Последние лет десять они редко виделись, разве что на дороге в движущихся автомобилях либо если Джимми не терпелось похвастаться в “Имперском гриле” новой игрушкой для взрослых. Последний раз – год назад – он заказал стейк и торчал за стойкой, потягивая кофе, пока Майлз не удосужился заметить красный “камаро”, поставленный прямо перед входом в ресторан. И всякий раз Джимми уверял Майлза, что у него все распрекрасно, несмотря на то что ему не довелось поучиться в колледже. Если он не будет совать нос куда не просят, то почему бы ему не стать следующим шефом полиции в Эмпайр Фоллз. Впрочем, его сын Зак – он точно станет.
– Это был твой отец? – поинтересовался Джимми, кивнув в сторону мужского туалета.
– Ты же знаешь ответ. Ты сидел вон там, – Майлз кивком указал на патрульную машину за окном, – и смотрел прямо на нас.
– Свет слепил глаза, – сказал Джимми. – Мало ли кто это мог быть.
– Выходит, ты чертовски догадливый.
– Извини за вчерашнее. – Джимми, надо полагать, имел в виду молодого полицейского, придравшегося к Майлзу на Лонг-стрит. – Новичок безусый. Пока не шибко усвоил, что к чему. Хорошо, что я случился рядом. Ты что, нагрубил ему?
– И близко ничего подобного не было.
Минти пожал плечами:
– Ну все равно ты его чем-то достал. Хорошо, что я вовремя появился.
Вновь упомянув о том, как Майлзу повезло, Джимми определенно давал ему второй шанс выразить свою благодарность и был явно разочарован, когда Майлз не воспользовался предоставленной возможностью. Джимми мужественно решил, что он это переживет.
– Сердце кровью обливается, да? – сказал он. – За наш старый квартал.
– За город в целом, если уж на то пошло, – попробовал Майлз направить разговор в более общее и спокойное русло.
Судя по изумлению на лице Джимми Минти и даже обиде, такого сорта обвинение, вынесенное Эмпайр Фоллз, он счел неправомерно огульным.
– А мне здесь нравится, – заявил он. – Нравится, и все тут, и ничего с этим не поделаешь. Говорят, есть места и получше, ну не знаю. – Джимми сделал паузу на то случай, если Майлзу вздумается перечислить навскидку места куда более приятные. – Но Лонг-стрит… это совсем другое дело. Меня вызывают туда через день. Кто жену бьет, кто наркотиками торгует.
– Жен бивали и раньше, – напомнил Майлз, зная, что родной отец Джимми, Уильям, предпочитал решать супружеские разногласия именно таким способом.
Джимми сделал вид, будто не расслышал.
– Тут такие дела. – Он понизил голос: – Дом, напротив которого ты стоял, – крупнейший наркопритон в городе. Мы отслеживаем тех, кто туда наведывается. Сдается, офицер Поллард решил, что ты приехал разжиться наркотой или баблом.
– Неплохо бы разъяснить парню, – Майлз не смог удержаться от смеха, – что ему больше повезет с уликами, если он дождется, когда подозреваемый выйдет из этого дома, а не набрасываться на него по пути туда.
– Я ему так и сказал. Но согласись, твоя “джетта” смахивает на тачку для перевозки наркотиков.
– Разве? Чем же?
– Не обижайся, – качнул головой Минти, – но хозяин такого автомобиля не станет переживать, если его конфискуют.
– Я буду переживать. Это моя единственная машина.
На лице Джимми Минти было написано “ага, я его уделал!”.
– Блин, кажется, я тебя расстроил.
– Ничуть, – улыбнулся Майлз.
Его собеседник озадаченно прикидывал, как такое может быть, и наконец сказал:
– Хочешь, я открою тебе тайну? (Честным ответом на этот вопрос было “нет”, поэтому Майлз промолчал.) Что ты там делал вчера? Я занимаюсь тем же самым – иногда.
– То есть?
– Сам понимаешь. Просто заезжаешь туда, сидишь в машине и пытаешься разобраться со всем этим.
– Разобраться с чем? – Майлз искренне заинтересовался.
– С жизнью, наверное, – пожал плечами Минти. – Почему все произошло так, а не по-другому. Сдается, многие были ошарашены, когда я надел форму копа.
– Только не я, Джимми.
Минти прищурился, глядя на Майлза. Не хотят ли его оскорбить?
– Мой отец и вообще, – продолжил он, – вот что я имел в виду. Правда же, он немного поколачивал мою маму. Ты ведь на это намекал, да? И наша морозилка была забита мясом, когда охотничий сезон уже давно закончился. Короче, всякая такая хрень. Но все равно я по нему скучаю. Отец у тебя один, так я на это смотрю, хотя сейчас, оглядываясь назад, вижу, что он, бывало, хватал через край. И однако из меня получился коп, чудноґ это или нет. Наверное, сам Бог к этому руку приложил.
– Не исключено.
Джимми удовлетворенно кивнул:
– А взять, к примеру, тебя. Если бы твоя мать тогда не заболела, ты бы никогда сюда не вернулся, я прав? (Майлз допустил и такую возможность.) Вот я о том и говорю. Иногда приезжаю в наш старый район и просто сижу там. – Джимми помолчал. – И всегда думаю о твоей маме. Ужасно так умирать.
– Мы можем сменить тему? – спросил Майлз.
– Да запросто. – Джимми Минти выпрямился и тряхнул головой. – Не знаю, что на меня нашло. Вчера увидел тебя там и давай вспоминать, как мы с тобой дружили. И воду над дамбой… Как дела у твоей умненькой дочурки?
– Хорошо, – ответил Майлз. – Она стала повеселее. – Окончание фразы “с тех пор как прекратила встречаться с твоим сыном” Майлз опустил.
Если Джимми Минти и почувствовал, что чего-то не хватает, виду он не подал.
– Хочешь узнать еще одну тайну? По мне, так мой Зак все еще чутоґк неравнодушен к ней, – медленно, весомо произнес Минти, словно приглашая Майлза откликнуться с восторгом либо с раздражением. – Понятно, с подростками никогда не знаешь. Я говорил ему – будь с ней поласковей. Мой девиз: обращайся с людьми так, как хочешь, чтобы с тобой обращались. Иначе далеко не уедешь. Но в их возрасте что им ни говори, все мимо.
Услыхав, как открывается дверь мужского туалета, Майлз улыбнулся. Присутствие Макса Роби редко украшало компанию, но сейчас был именно такой редкий случай.
– Я постоянно твержу ему, что если он не задумается об отметках, его ни в один колледж не примут, но куда там, у него свои соображения, все они себе на уме. Не то чтобы я его не понимал. Он смотрит на меня, а я отлично обхожусь без колледжа – да что там, лучше чем отлично, – и он смекает: какого черта. – Джимми Минти опять выдержал паузу. – Чего наши дети не понимают, так это того, что мы хотим, чтобы у них все сложилось не просто хорошо, но лучше, чем у нас. Я прав?
Возвращение Макса избавило Майлза от необходимости поддакнуть.
– Джимми Минти, – произнес Макс, усаживаясь на банкетку и вынуждая полицейского подвинуться ближе к окну. Макс глядел на Джимми с якобы неподдельным изумлением: – Господи, каким же дурачком ты был в детстве.
– Ты бы полегче, пап, – посоветовал Майлз, – он теперь всегда при оружии.
– Надеюсь, он поумнел с тех пор. – Макс протянул полицейскому пятерню: – Как поживаешь, Джимми, черт тебя дери?
Минти взирал на протянутую руку, будто сомневаясь, вымыл ли Макс ее, побывав в туалете, но тем не менее пожал:
– Здрасьте, мистер Роби.
Обращаясь к сыну, пока они с Джимми жали друг другу руки, Макс спросил:
– Помнишь, каким он был дурачком? Господи, на него было жалко смотреть. По-моему, я в жизни не встречал такого бестолкового ребенка.
Минти определенно хотелось выдернуть руку, но он не знал, как это половчее сделать, и Майлз скроил недоуменную физиономию: мол, он понятия не имеет, почему его отец так себя ведет.
– Прямо слезы на глаза наворачивались, – добавил Макс и выпустил наконец руку Минти.
Минти молчал, взвешивая все за и против, прежде чем поинтересоваться, чем же он заслужил столь низкий рейтинг.
– Полагаю, это должно стать уроком нам всем, – глубокомысленно заметил Макс. – Никогда не ставьте крест на ребенке. Ибо даже те, кому в день свадьбы шнурки завязывают, способны удивить нас и устроиться на чрезвычайно выгодную работу.
Макс объяснял суть урока с благостной миной, словно воздавал хвалу; полицейский же хмурил лоб, не зная, как к этому отнестись. Он был почти уверен, что его оскорбляют, но хотелось бы убедиться окончательно.
Майлзу, разумеется, часто приходилось наблюдать, как отец улыбается, радостно смеется и хлопает мужчин по плечу, ежесекундно издеваясь над ними, пока им ничего не остается, как двинуть ему кулаком. Лишь самые смышленые ставили его на место сразу. Макс всегда старался дать понять, что шутит он с самыми благими намерениями, и этот контекст сковывал людей. Майлз также знал, что отцовские насмешки часто срабатывали вхолостую, что и произошло с Джимми Минти.
– Мой сын, что сидит напротив, – продолжил Макс, – вечно был первый в классе. Сплошь пятерки с первого года до последнего. Можно было голову дать на отсечение, что он далеко пойдет.
Вздохнув, Майлз приготовился к неизбежной трепке. Унижая Минти, Макс смотрел на Майлза. Теперь же, взявшись за сына, он развернулся корпусом к предыдущему объекту своего ехидства.
– Нет ничего труднее, чем предугадать, что вырастет из твоего ребенка, – говорил Макс тоном человека, что провел многие годы, размышляя над этой проблемой. – Я бы на что угодно поспорил, что мой вырастет добросердечным парнем. Если его отец окажется на мели, ему потребуется помощь и он попросит сына подыскать ему работу, тот мигом откликнется. Но увы.
– Не пора ли нам уходить, папа?
– Нет, я разговариваю с Джимми Минти. Иди, если хочешь.
Майлз поймал взгляд официантки и знаком попросил счет.
– Может, Джимми и не был таким же одаренным, как ты, но уверяю тебя, он понимает, о чем я говорю.
Хотя Макс благоразумно употребил прошедшее время при повторном упоминании об интеллектуальной ограниченности Минти, морщины на лбу полицейского стали еще глубже.
– Видишь ли, Джимми, я попросил моего сына взять меня в помощники на покраску нашей старой церкви, мне надо подзаработать, чтобы уехать на Кис, но он почему-то не пожелал меня нанять. А ведь я по-прежнему лазаю по лестницам как обезьяна.
Положив пятидолларовую купюру на стол, Майлз поднялся:
– Ты уверен, что не хочешь, чтобы я подбросил тебя домой, папа? Я не стану за тобой возвращаться. И не трать попусту время, названивая в ресторан.
– Я и не собирался тебе звонить, – горделиво ответил отец. – К тому же Джимми Минти может меня подвезти на патрульной машине.
– Вообще-то это против правил, – сказал Минти. Он выглядел попавшим в ловушку, а когда Майлз поднялся, в глазах Минти мелькнула паника. Он оставался вдвоем с Максом, и он знал, что о них могут подумать окружающие: двое мужчин сидят на банкетке, тесно прижавшись друг к другу, и у одного из них крошки в бороде.
– О, конечно, – понимающе кивнул Макс и небрежно махнул Майлзу на прощанье; сам он производил впечатление человека, устроившегося на банкетке надолго. – Правила есть правила. Пусть они и дурацкие, а люди, нанятые исполнять их, еще дурнее, но что поделаешь? Закон есть закон. И нет такого закона, по которому родной сын не обязан помогать отцу в нужде, вот что я хочу сказать. Как и нет закона, который заставил бы его помочь.
Выйдя на улицу, Майлз сел в машину и включил зажигание в твердой решимости игнорировать стук в окно пончиковой. Отец, поставив на своем, теперь вносил поправки, поскольку доехать куда-нибудь ему все же было необходимо. В придачу он не успел раскрутить Майлза на “займ”. Сидя в “джетте” и притворяясь, будто не слышит отчаянного стука, Майлз подумал, что, вероятно, он понимает ход отцовский мысли лучше, чем сам Макс. А значит, нужно дать задний ход, вырулить с парковки и рвануть прочь. Преподать старику урок. Но благодарность Максу за то, что он от души поизмывался над Джимми Минти, пересилила, и, отбросив притворство, Майлз обернулся к окну. И мигом развеселился, ибо сцена в обрамлении оконного переплета дорогого стоила. Для того чтобы постучать по стеклу, Максу пришлось потянуться вперед, и его влажная пахучая подмышка оказалась на одном уровне с физиономией полицейского. Да, он был благодарен отцу за то, что он таков, каков есть, в полном согласии с проповедями Минти.
Плоской подошвой Майлз нащупал рядом с педалями под потертым ковриком металлическую неровность – очевидно, ржавчина добралась до ходовой части. Минти был прав на сей счет: надо было раскошелиться на антикоррозийное покрытие. Глядя, как двое мужчин выбираются из-за столика, Майлз сообразил, что Джимми Минти наврал про свет из окна заведения, бивший ему в глаза. Происходившее по ту сторону стекла виделось ясным и четким, как на картинах Эдварда Хоппера, и Джимми отлично мог все разглядеть. Глупая ложь. Мелкая и практически бессмысленная, и Майлз предположил, что это не столько вранье, сколько образ жизни, стратегия выживания в этом мире, и у него появилась еще одна причина – словно ему мало было – усомниться в правдивости всего, что говорил Минти за столом. Пока Минти расплачивался у кассы, а Макс покупал сигареты в автомате, у Майлза во рту возникло неприятное ощущение. К слишком большой дозе кофе примешался желудочный сок. Либо это привкус злости вперемешку со страхом. Майлз медленно сглотнул, норовя загнать поглубже то, чем бы это ни было.
Из ресторана они вышли вместе, и Майлз увидел, что оба разжились зубочистками.
– Ты молодец, Джимми, – донесся до Майлза голос отца. – Скажу тебе как на духу: по-моему, лучше иметь в сыновьях полного идиота, чем неблагодарного зазнайку.
Минти не сел в свой патрульный джип, но подошел к “джетте” и знаком попросил Майлза опустить стекло.
– Давай пройдемся немного, – предложил он конфиденциальным тоном.
– Мне пора вернуться в ресторан, – ответил Майлз.
– Это займет минуту, две.
– Да ладно тебе, – сказал Макс. – Я подожду тебя в машине. А ты иди посекретничай с Джимми Минти.
Майлз последовал за полицейским к его джипу. Минти жевал зубочистку, словно раздумывал, с чего начать.
– Не надо бы мне, но мы с тобой столько лет друг друга знаем… Я хотел сказать об этом в ресторане, но тут появился твой старик, и я не стал, чтобы его не волновать.
– Ты о чем, Джимми?
– Тут такое дело… По городу сейчас ходит много наркоты. Скажи брату, чтобы был поосторожнее.
Майлз мгновенно ощетинился, и задела его не столько предполагаемая виновность Дэвида, сколько подразумеваемая близость между ним и Минти.
– С чего вдруг Дэвиду осторожничать?
– Эй, я понимаю. Он – твой брат. Я просто говорю.
– Нет, Джимми. Что ты хочешь сказать?
– Я просто… ничего. Забудь. Я просто говорю. Умный поймет. – Он задумчиво перебросил зубочистку в другой уголок рта. У Майлза руки чесались выхватить зубочистку и запечатать Джимми пасть, проткнув этой тонкой палочкой обе губы. – И я все думаю, как бы переживала твоя мама…
Не бить же вооруженного копа средь бела дня в самом центре Имперской авеню. Майлз развернулся на каблуках и зашагал к “джетте”. Его внезапный демарш застиг врасплох отца, шарившего в бардачке. Это зрелище произвело непредвиденный эффект: Майлз двинул обратно к Минти, все еще стоявшему рядом с патрульной машиной.
– Послушай, – сказал он, – ты ничего не знаешь о моей матери, так? Поэтому прекрати упоминать о ней.
– Эй…
– Нет, заткнись и слушай, Джимми. – Ярость душила Майлза, кровь приливала к щекам. Выходит, тот привкус во рту появился не от страха, а от нарастающего гнева. – Ты… ничего… о ней… не… знаешь. Повтори так, чтобы я был уверен, что ты понял.
Джимми Минти побледнел.
– Эй, ладно. Я реально мало что о ней знал.
– Прекрасно. – Ярость Майлза поутихла, и до него дошло, что он перегнул палку. – Здорово.
– Не следовало тебе говорить мне “заткнись”, – сказал Минти. – По крайней мере, не на людях. Эта форма обязывает людей к уважительному отношению.
– Верно, – признал Майлз, краснея от стыда, но не желая раскаиваться: его гнев был справедливым. – Все верно, извини. Просто не делай вид, будто ты был хорошо знаком с моей матерью.
– Эй, я всегда считал ее потрясающей женщиной. Только это я и имел в виду… – Минти осекся, вероятно заметив, что Майлз опять свирепеет. – Я лишь говорю, что твоему брату надо быть поаккуратнее. Все в курсе, что он выращивает марихуану там у себя…
– Видишь? – сказал Майлз. – Вот в чем твоя ошибка. Не все в курсе. Я, например, нет. – Это было правдой. Наверняка Майлз не знал.
– Что ты так раздухарился, Майлз? Я пытаюсь по старой дружбе предупредить тебя и твоего брата…
– Нет, – перебил Майлз, он вдруг совершенно успокоился. – Я тебе не верю. Понятия не имею, зачем ты это говоришь, Джимми. И почему в последнее время я повсюду на тебя натыкаюсь. И почему мое имя всплыло в твоем разговоре с миссис Уайтинг в судебном здании… (Минти моргнул и отвел глаза.) Но я точно знаю, что ты заботишься не о моем благополучии. В этом у меня сомнений нет. Так что отныне, если хочешь оказать мне услугу по старой дружбе, держись подальше от меня и моей семьи. К твоему сыну это тоже относится. В Эмпайр Фоллз полно девушек. Он может выбрать любую, я не против. Только одна ему не достанется, и зовут ее Тик.
Хитрая улыбка начала расползаться по лицу Минти, и Майлз зашагал прочь из опасения поддаться соблазну стереть ухмылку с физиономии полицейского.
– За что ты меня так не любишь, Майлз? – сказал Минти ему вслед. – Я никогда этого не понимал.
Не оборачиваясь, Майлз ответил:
– Назовем это особенностями моего характера.
Сидя за рулем, Майлз, прежде чем повернуть ключ зажигания, выждал, пока патрульная машина Минти не исчезнет за углом.
– Господи, каким же дурнем он был, просто загляденье, – с нежностью припомнил Макс.
– Он не был тупицей, папа. Он был пронырливым, подлым, завистливым и опасным. Таким и остался.
– Чего ты на меня злишься? – спросил отец. – Злись на Джимми. Я тут ни при чем, я лишь никчемный старик.
Майлз включил заднюю передачу.
– Ты нашел то, что искал в бардачке?
– Я позаимствовал десять долларов, – смиренно сказал отец. – Хотел тебе сказать, но ты не дал мне шанса.
– Конечно.
– Я хотел, – настаивал Макс – возможно, искренне. Случалось, он говорил правду, когда это было ему выгодно. – Если бы ты нанял меня, я бы не сидел без гроша в кармане. А сумей я подзаработать, ты бы избавился от меня на всю зиму.
Выруливая с парковки, Майлз крутил головой, высматривая, не мчится ли кто по Имперской авеню. Когда они с матерью отправлялись пешком в центр города на субботний утренний спектакль в театре “Бижу”, тротуары были запружены людьми, а проезжая часть забита автомобилями, и пешеходы поворачивались боком, чтобы дать друг другу пройти. На светофорах они переходили улицу, петляя между машинами, сгрудившимися по обе стороны зебры. Ныне Майлз ехал по пустынной Имперской авеню по направлению к старой рубашечной фабрике (БЕЗ ПРОПУСКА НЕ ВХОДИТЬ), где работала его мать, чтобы им было чем платить за аренду маленького домика на Лонг-стрит, в темной спальне которого на втором этаже Грейс, когда рак вернулся в последний раз, кричала в агонии так громко, что соседям было слышно. Разумеется, Джимми Минти слышал ее крики. Они донеслись и до скромного католического колледжа в Портленде, где учился Майлз, и он заторопился домой, хотя мать умоляла его этого не делать.
Глядя на безлюдную улицу, Майлз невольно склонялся к мысли, что все жители города могли слышать ее жуткие крики. Его брат, тогда еще совсем юнец, прятался на дне пивной бутылки, отец – на Флориде-Кис. И сейчас Майлзу нетрудно поверить, что ее крики спровоцировали массовый исход, длившийся вот уже два десятилетия, паническое бегство прочь от ее боли опустошило город.
– Высади меня у “Каллахана”, – попросил Макс.
Майлз выдержал паузу, затем уставился на отца.
– Ты имеешь в виду вон тот “Каллахан”? – спросил он, указывая на краснокирпичный бар на противоположной стороне улицы, заведение, принадлежавшее его теще.
– Точно.
– И ради этого ты заставил меня сделать крюк?
– Может, я хотел подольше побыть с моим сыном. Или это запрещено законом? – Майлз вздохнул. У старика определенно не было совести. – А с какой стати у тебя тут справочник по недвижимости на Мартас-Винъярде? – полюбопытствовал отец, тыча пальцем в бардачок.
– Это запрещено законом?
– С тебя станет переехать на какой-нибудь остров, – не унимался Макс, – и бросить меня здесь без работы. А если я захочу тебя повидать, мне придется добираться вплавь.
– Я никуда не уезжаю, папа. Ты же сам сказал, – напомнил Майлз, – далеко мне не уйти. Я провел там неделю в отпуске.
– Мог бы взять меня с собой. Я бы не отказался от отпуска. Но тебе и в голову не пришло, верно?
Майлз остановился рядом с “Каллаханом”. Когда отец начал вылезать из машины, Майлз сказал:
– Папа, у тебя до сих пор еда в бороде.
– Ну и что? – буркнул отец, захлопывая дверцу перед возможностью начать новую жизнь.
Глава 6
– Похоже, миссис Роудриг не нравится моя змея, – сообщила отцу Тик.
Было это в четверг, в середине сентября, а по четвергам Тик с Майлзом всегда ужинали вместе, поскольку Жанин до восьми вечера исполняла обязанности администратора в фитнес-клубе, Тик же отказывалась садиться за стол вдвоем с Матёрым Лисом. Вдобавок в “Имперском гриле” четверги были объявлены китайскими. На сей раз Дэвид приготовил нечто особенное под названием “дважды сваренная лапша с гребешками в соусе хойсин”. Его брат, глядя на эту авантюрную стряпню, улыбался и вспоминал старого Роджера Сперри, чьими фирменными блюдами всегда были жаренная во фритюре треска с соусом тартар, картофельное пюре с говяжьей подливкой, а на десерт яблочное пюре с так называемыми домашними булочками. Насчет макарон у Роджера имелась своя теория, которую он, впрочем, не часто применял на практике, – держать макароны в кипящей воде, пока они точно не сварятся, чтобы не варить второй раз. А кроме того, настаивал Роджер, какого черта было сражаться в окопах мировой войны, если, вернувшись домой, ты принимаешься потчевать клиентов хойсином, то есть не пойми чем. Так поступают те, кто проиграл войну. (Роджер не делал различий между японцами, в вооруженном конфликте с которыми он участвовал, и китайцами, не воевавшими ни на чьей стороне.)
“Международные вечера” поначалу вызывали у Майлза большие сомнения; идея принадлежала его брату и являлась частью плана по привлечению клиентов со стороны – в конце концов, надо же было что-то делать, если они хотят, чтобы ресторан выжил в условиях местной экономики. Пятничные и субботние вечера не сразу принесли прибыль, но Дэвид верно предсказывал: недорогая этническая еда рано или поздно привлечет студентов и молодых преподавателей, а потертую, прожженную сигаретами стойку и шаткие столики “Гриля” эта публика сочтет “честными”, или “ретро”, или еще чем-нибудь этаким. В этот лишь второй китайский четверг – придуманный в дополнение к итальянским пятницам и мексиканским субботам – Майлз радовался почти полному ресторану; многие пришли впервые, видимо не желая упускать шанс выяснить, улучшает ли вкус лапши повторная варка. В короткое затишье Дэвид поднял голову от плиты, оперся на кулинарную лопатку и, поймав взгляд Майлза, выгнул бровь. Недурно? Майлз кивнул. Недурно.
В самом деле, этим вечером все было более чем “недурно”. Конечно, первая неделя по возвращении с Винъярда выдалась тяжелой, но этого следовало ожидать. Каждый год Майлз покидал остров с неизбывным ощущением, что ни он лично, ни его жизнь не состоялись. Остров ли навевал такое настроение? Возможно. Хотя скорее это было как-то связано с Питером и Дон: сами того не желая, они напоминали ему, кем он хотел стать, когда все трое учились в колледже. Впрочем, не факт, что их тоже не мучили подобные сожаления. В студенческую пору Питер мечтал стать драматургом, Дон – поэтом. По их рассказам о том, чем они занимаются на телевидении, легко было предположить, что теперь они спрашивают себя, стоило ли отказываться от достижения первоначальных высоких целей. И может быть, им, как и Майлзу, хотелось верить, что в некоей параллельной вселенной у каждого имеется двойник, проживающий за них ту жизнь, о какой человек мечтал в юности.
Но подобные фантазии были чистым самообманом. Начать с того, что Майлз даже не был уверен, сам ли он выдумал эту альтернативную жизнь или своровал у матери, пропитавшись ее надеждами и желаниями. Еще в детстве, оторвавшись от книги, Майлз замечал, что мать исподволь наблюдает за ним. “Мой маленький ученый”, – говорила она. Позднее, в колледже, ему представлялась крайне заманчивой жизнь его преподавателей, щедро сдобренная книгами и мыслями, достойными обсуждения, и, возможно, рассуждал он, мать права: жизнь интеллектуала и есть его истинное призвание. Одно он знал наверняка: он никогда не мечтал зарабатывать на жизнь, угощая других преподавателей дважды сваренной лапшой.
Держа поднос на согнутой руке, Шарлин ловко раздавала и собирала тарелки, и с такого расстояния она виделась той девушкой, в которую Майлз по уши втрескался в старшей школе, – девушкой настолько женственной в свои восемнадцать, что пятнадцатилетний Майлз рядом с ней чувствовал себя десятилеткой. Глядя на нее сейчас, Майлз поостерегся бы утверждать, что стал невольной жертвой обстоятельств. Да, его привлекала интеллектуальная жизнь, и, несомненно, упования матери сформировали его представление о самом себе, но когда она заболела и Майлз, бросив учебу, вернулся в Эмпайр Фоллз, чтобы управлять “Грилем” с подачи миссис Уайтинг, побуждения его не были полностью альтруистическими. Он искренне хотел быть рядом с матерью, а поведение брата уже тогда вызывало тревогу. Но он также думал о Шарлин, прикидывая, что три года разницы в возрасте не имеют существенного значения, когда ему двадцать один, а ей двадцать четыре. Пусть и на предложение миссис Уайтинг, сделанное по телефону, он ответил, что ему нужно хорошенько все обдумать, решение было принято в ту же секунду, когда он положил трубку. Тем летом первый муж Шарлин сбежал в неизвестном направлении, и Майлз понадеялся, а вдруг… мало ли что. И был потрясен, когда, вернувшись в Эмпайр Фоллз, узнал, что Шарлин уже обручилась с мужем номер два.
Нет, он не был жертвой. А если начистоту, представься ему шанс переписать сценарий жизни, он вряд ли бы им воспользовался. По крайней мере, не этим вечером в ресторане, который однажды перейдет в его собственность, не сидя за одним столиком с дочерью, чья жизнь не будет связана с Эмпайр Фоллз, к чему он приложит все усилия. Мать думала то же самое о его взрослой жизни, и это немного смущало, но в данный момент он не мог не чувствовать себя на коне. Впервые за десять лет дела в ресторане двинулись в гору. Дэвид вроде бы изгнал наиболее злостных из своих демонов. Тик, казалось, привыкала к мысли о разводе родителей. Майлзу было чем утешаться, и хотя на прочность сложившейся ситуации рассчитывать не следовало, по вечерам, подобным нынешнему, жизнь виделась Майлзу почти… почти удовлетворительной.
– Но проблема не в этом, – говорила Тик, используя вилку как дирижерскую палочку, чтобы выделить нюансы своего отношения к учительнице рисования. Майлз, косясь на вилку, был благодарен дочери за то, что, в отличие от дедушки Макса, она, иллюстрируя свои идеи жестами, не швырялась едой. – Что, если бы змея ей понравилась? Так было бы еще хуже. Потому что, если бы ей понравилось, я бы решила, что моя змея совсем не удалась.
Майлз постарался подавить улыбку, но тщетно. Проницательность, с каковой его дочь судила о взрослых, нередко поражала. В данном случае Тик отлично понимала, чего стоит вердикт дуры. С Дорис Роудриг – Дорис Флинн в те годы – Майлз учился в старшей школе и знал, что мозги ее склеились намертво еще в средней католической школе. Ее жизненная философия не менялась с тех пор, как ей исполнилось двенадцать, и в дальнейшем, что бы ни происходило вокруг, Дорис лишь утверждалась в сознании своей правоты. По настоянию департамента школьного образования ей пришлось окончить летние курсы в колледже Фармингтона, иначе она потеряла бы работу, но повышение квалификации ничуть не поколебало ее самобытного мировоззрения, не испорченного, как она гордо заявляла, университетской заумью.
В Билле Роудриге, местном страховщике, она обрела идеального спутника жизни и бесконечно терпеливого в придачу: ее претензии на превосходство, недоступные пониманию окружающих, кажется, нисколько не утомляли супруга. Майлза не раз выбирали в родительский комитет, и, будучи знаком со многими из учителей Тик, он из принципа не отзывался о них плохо, сколь бы невежественными и узколобыми они ни были, однако для Дорис ему не раз хотелось сделать исключение. За последние пять лет она конфликтовала с Майлзом по различным поводам – составление учебной программы, выбор книг для школьной библиотеки, найм преподавателей, – но с того дня, когда на общем собрании он попросил ее коротко рассказть, чем Эндрю Уайет отличается от Джексона Поллока, а затем, воспользовавшись ее смятением, предложил объяснить, почему история искусств не включена в ее курс, Дорис Роудриг намеренно избегала его. По словам Тик, она и ее избегает: посадила за стол вместе с наиболее равнодушными к искусству учениками и притворилась, будто этого стола не существует.
– Не забывай, – напомнил дочери Майлз, – она настроена не против тебя, но против меня. Может, она думает, что я добиваюсь ее увольнения.
– А ты добиваешься?
– Учителей нельзя уволить, если только они не растлевают учеников, – ответил Майлз. – Дорис вроде никого не растлевает, если не ошибаюсь? (Но Тик опять сосредоточилась на своей тарелке, вдумчиво перемещая ингредиенты блюда, словно ей хотелось придать пище более артистический вид.) Она высказала какие-то конкретные претензии к твоей змее?
– В том-то и проблема, – оживилась Тик и снова взмахнула вилкой как дирижерской палочкой. С недавних пор все ее высказывания начинались оборотами со словом “проблема”: у нас проблема, вот в чем проблема, проблема не в этом. – Она помалкивает. Но, по-моему, ей больше всего не нравится, что моя змея напоминает настоящую змею.
– Допустим, – согласился Майлз. Ему пришло в голову и другое допущение, более фрейдистское, однако он счел, что его дочери-подростку рановато беспокоиться о подавленной сексуальности.
– Что интересно, – продолжила Тик, – чем лучше я нарисую змею, тем больше она будет походить на то, что учительница терпеть не может, и тем более низкую оценку я получу. И как следствие, – это выражение было еще одним из списка новых риторических приемов Тик, – если я хочу хорошую отметку, я должна постараться нарисовать змею плохо.
– Либо вовсе не рисовать змею, – почувствовал себя обязанным вставить Майлз.
– Но задание было нарисовать свой самый удивительный сон, а это и есть мой самый удивительный сон.
– Понимаю, – сказал Майлз. – Однако ты не доверяешь суждению учительницы о достоинствах твоей змеи, так?
– Так.
– И как следствие, – ухмыльнулся Майлз, – можно предположить, что и само задание представляется тебе не слишком разумным, согласна? Нарисуй ей ангела. Миссис Роудриг возрадуется, обнаружив, что тебе снятся ангелы. – Он знал, о чем говорил. Дорис Роудриг, никогда не видевшая смысла в разделении церкви и государства, всячески приветствовала религиозную тематику в работах учеников.
– Но мне снятся змеи.
– Твои сны – не ее ума дело, – ответил Майлз, слегка удивляясь нарастающей злости при мысли о том, что развитие его дочки, да и других способных ребят, доверяют людям масштаба Дорис Роудриг.
– Знаешь, в чем твоя реальная проблема? – сказала Шарлин, несколько раз проходившая мимо их столика и, очевидно, услышавшая достаточно, чтобы вставить свое веское слово.
Шарлин не зря всю свою жизнь трудилась официанткой в маленьком городке. Она вмешивалась в разговоры посетителей с уверенностью как в себе, так и в том, что она имеет на это полное право. Минувшей весной у Дэвида и Майлза возникли опасения в связи с их новой вечерней клиентурой и, в частности, университетскими профессорами, вряд ли привыкшими к тому, что официантка склонна прояснять ход их мысли. И будут ли они оставлять чаевые женщине, которую их способность рассуждать логически, мягко говоря, не впечатляет? Шарлин наскоро обдумала эти предостережения и отвергла их. Во-первых, сказала она, если послушать их разговоры, окажется, что многим профессорам сильно не повредит толмач со стороны. А во-вторых, несмотря на их ухоженные бородки, отглаженные хлопковые брюки и твидовые пиджаки, преподаватели колледжа отсчитывают чаевые по тому же принципу, что и простые смертные мужчины, – ориентируясь на размер лифчика. Короче, у Шарлин с ними полный порядок, но все равно спасибо, что предупредили.
– Твоя реальная проблема, – объявила она Тик, – в том, что ты витаешь в облаках, когда нужно уписывать за обе щеки. Не посвятить ли нам твоего папу в твой маленький секрет?
– Проблема не в этом… – начала Тик, направив зубцы вилки на Шарлин, которая неожиданно выхватила вилку и направила ее на Тик; та откинулась назад в притворном ужасе.
– И не надо заговаривать мне зубы: “проблема в том, сем…”
– Что за секрет? – спросил Майлз.
Отдав вилку Тик, Шарлин уткнула руки в бока и воззрилась на него как на любимое домашнее животное, собаку, например, сумевшую найти путь к ее сердцу, хотя у нее имеются и другие, более прикольные псы:
– Весь этот разговор затеян с целью отвлечь твое внимание от очевидного факта: Тик не ест свой ужин. Опять.
В придачу к присвоенному праву вмешиваться в беседы клиентов многопрофильная официантка Шарлин не упускала случая напомнить посетителям: непростительно выбрасывать хорошую еду, когда другие люди едва не голодают. Она была особенно бдительна в отношении Тик, вес которой на медосмотре прошлой весной признали ниже нормы. Не только пищевые привычки Тик вызывали нарекания Шарлин. Она годами выговаривала Майлзу за то, что он постоянно кусочничает и подъедает, вместо того чтобы сесть и нормально заправиться. Изо дня в день он совершает классическую ошибку ресторатора, съедая свои огрехи – лишнюю порцию картошки, недо- или пережаренный бургер, – и не когда он голоден, но по стечению обстоятельств. Сегодня, например, слопал целую тарелку биска[3], приготовленного Дэвидом, просто чтобы освободить кастрюлю. По мнению Шарлин, если бы Майлз заставил себя сбрасывать в отходы каждый ломтик жареной картошки, упавший на стойку, он бы весил не больше своего худощавого и мускулистого брата.
– Нехорошо раскрывать чужие тайны, – насупилась Тик. – Я так никогда не делаю.
– Потому что ты не хочешь неприятностей, – парировала Шарлин.
– Она в целом неплохо управилась, – робко сказал Майлз, указывая на тарелку Тик. Верно, Тик разровняла еду, искусно вычленив пространство в центре тарелки, как бы давая понять: там, где прежде была еда, теперь пустота. Тем не менее, на глаз Майлза, по крайней мере треть порции, поданной Дэвидом, исчезла.
– Нет, Майлз, – возразила Шарлин, – это ты неплохо управился. Ты умял биск, а последние минут пятнадцать таскал кусочки из тарелки Тик. И не говори, что это не так, потому что я за тобой следила.
Ладно, Майлз и вправду изредка подцеплял вилкой кусочки из порции своей дочери – удивляясь всякий раз, до чего же вкусными получаются у Дэвида его “блюда дня”.
– Но, Шарлин, что я могу поделать, если я не голодна. – Тик отодвинула от себя тарелку, поскольку продолжать фокусничать уже не имело смысла. – Человек же не виноват в том, что он не голоден.
Шарлин придвинула тарелку обратно к Тик:
– Нет, виноват. И мы даже знаем, кто этот человек. Кейт Мосс – вчерашний день, детка. Кушай.
Когда она удалилась, Тик улыбнулась отцу полупристыженно, проткнула вилкой крошечный гребешок, политый хойсином, и откусила половинку.
– У Шарлин тоже есть секреты? – с надеждой спросил Майлз.
Ему было приятно услыхать, что она за ним следила, в этом он усмотрел намек на возможность – пусть пока и весьма отдаленную – трансформации их давней дружбы во взаимное чувство. У Шарлин на данный момент никого не было, а развод Майлза вскоре станет официальным, так что шансы у него сохранялись. И ведь многие годы Шарлин утверждала, что Майлз – мужчина именно того типа, в которого она бы влюбилась, будь у нее побольше мозгов. Хороший человек, прямой и честный, и при минимальном поощрении он будет любить ее до конца своих дней. И это тоже свидетельствовало в его пользу.
К несчастью, Шарлин также признавалась, что даже после четырех неудачных браков ее неудержимо влечет к плохим парням из тех, у кого внутри все наперекосяк и кто дает деру, стоит возникнуть малейшим трудностям. У них мощные авто, и водят они бесшабашно, что ей особенно нравилось. Нельзя предугадать, как все сложится, сойдись она с человеком вроде Майлза, но Шарлин подозревала, что спустя некоторое время она остервенеет, и даже пуще, чем Жанин, хотя, казалось бы, куда уж пуще. “Я просто не смогла бы идти по жизни на твоей скорости, Майлз, – сказала она ему однажды. – Тебе когда-нибудь хотелось вдавить педаль в пол и просто посмотреть, что из этого выйдет?” А значит, скорее всего, шансов у него немного.
– У всех есть секреты, папочка, кроме тебя, – говорила Тик.
Поразмыслив, Майлз спросил:
– С чего ты взяла, что у меня вообще нет секретов?
– Не то чтобы у тебя их нет, – не сразу ответила Тик, вилкой она больше не размахивала. – Просто все тут же о них узнают.
– По-моему, ты повторяешь то, что говорит твоя мать.
– Я повторяю то, что все о тебе говорят. Потому что это правда. Я же больше похожа на маму, – сумрачно добавила она, словно не слишком этим гордилась. Когда они с Жанин подали на развод, Тик принялась каталогизировать свои различия и сходства с каждым из родителей, словно полагая, что такая генетическая дорожная карта поможет ориентироваться в пространстве ее будущего. – Я стану хорошо хранить секреты. Если изменю мужу, никто об этом не узнает.
Майлз открыл рот, потом закрыл и, наверное, в стотысячный раз задался вопросом: существует ли на свете еще одна такая же шестнадцатилетняя девочка?
– Тик, – произнес он наконец.
– Я не говорю, что буду изменять ему, – пояснила она. – Я только сказала, что сумею сохранить это в тайне.
Ответить Майлз не успел: над входом звякнул колокольчик, и в дверном проеме, легка на помине, материализовалась Жанин. И с разгону зашагала по переполненному залу прямиком к ним. Тик, даже не оборачиваясь, поняла, что явилась ее мать, и подвинулась к окну, освобождая для нее место.
– Мы не ждали тебя так рано. По меньшей мере, не раньше чем через час, – сказал Майлз, когда Жанин, усевшись на банкетку, стягивала через голову свитер, под которым обнаружился купальник для аэробики.
– Ну да, и, однако, я здесь, – ответила Жанин. – И не пялься на мою грудь, Майлз. Пока мы были женаты двадцать лет, она тебя ни разу не заинтересовала.
Майлз почувствовал, что краснеет, потому что он действительно пялился на ее грудь.
– Это неправда, – смущенно произнес он. На самом деле и сейчас интерес у него вызвала не столько ее грудь, сколько то, как вызывающе смотрелась эта часть тела под тугим купальником, – впрочем, в присутствии дочери развивать эту тему он не стал.
– Я только что закончила в клубе, – пояснила Жанин. – Мне жарко, я в поту, а душ принять не удалось. Ты готова ехать домой? – спросила она у Тик.
– Наверное, – ответила Тик.
– “Наверное”, – передразнила Жанин. – А кто-нибудь знает наверняка? К кому мы можем обратиться за точным ответом?
– Я должна забрать рюкзак, – сказала Тик. – Тебе обязательно на всех набрасываться, да?
– Да, крошка, обязательно. – Жанин встала, пропуская Тик. – Поймешь, когда тебе стукнет сорок.
– Тебе сорок один, – напомнила Тик. – В январе будет сорок два.
Майлз смотрел вслед дочери, направлявшейся в подсобку, обуреваемый, как обычно в последнее время, жуткой смесью непримиримых эмоций: стыдом за неудавшийся брак, злостью на Жанин за то, какую роль она в этом сыграла, злостью на себя и свое поведение и благодарностью за то, что они достаточно долго оставались преданы плохой идее завести ребенка. Любопытно, испытывает ли Жанин нечто подобное или же ей удалось свести свои переживания к простым сожалениям? Повернувшись к Жанин, Майлз увидел, как она стащила гребешок из тарелки дочери.
– Черт, – сказала она, смекнув, что ее застукали. – Черт, это вкусно.
– Заказать тебе? – предложил Майлз. – Поешь немного, тебе не повредит.
– Ошибаешься, Майлз. Повредит, и еще как. Я не собираюсь больше толстеть, никогда… Сделай мне одолжение, – обратилась она к Шарлин, проходившей мимо, и всучила ей тарелку, – убери это отсюда, ладно? – Затем снова повернулась к Майлзу: – Знаешь, как называют таких, как ты? Подстрекатель. (Этот же термин годится и для Жанин, подумал Майлз, ее родная дочь уже так о ней отзывалась.) Ты больше не будешь закармливать меня, дружище. Отныне я распоряжаюсь моим телом целиком и полностью.
– Хорошо, – ответил Майлз. – Рад за тебя.
Если Жанин и уловила сарказм, она не отреагировала. Ее злость вдруг выветрилась, и, когда появилась Тик с рюкзаком, Жанин сказала:
– Будь добра, подожди меня в машине. Я хочу переговорить с твоим отцом, это ненадолго.
Тик наклонилась и поцеловала Майлза в щеку:
– До завтра, папочка. У тебя будет время проверить мое эссе?
– Для тебя время всегда найдется, – ответил Майлз. – Хотя это было не очень красиво – дурачить меня за ужином, притворяясь, будто ты ешь.
– Знаю, – легко раскаялась Тик. – Но тебя так просто обмануть.
Когда она вышла за дверь и не могла их слышать, Майлз развернулся к Жанин:
– Ты с ней чересчур строга в последнее время.
Стоило ему это произнести, как он понял, что совершил ошибку. По Майлзу, одно из величайших таинств брака заключалось в том, что, высказав нечто вроде бы вполне разумное, ты внезапно понимаешь, что сказал не то. Он столько лет говорил Жанин не то, что сделался крайне осторожным, тестируя в уме заготовленные фразы, прежде чем произнести их вслух, и все равно часто промахивался. Конечно, всегда можно предположить, что в их браке правильного способа высказаться в принципе не существовало, и выбирать приходилось не между “тем” и “не тем”, но между “не тем”, “совсем не тем” и “несусветной чушью”. Промахи разной степени тяжести были просто запрограммированы либо возникали в силу того обстоятельства, что говорил эти неправильности Майлз.
– Ну кто-то же должен! – мигом разъярилась Жанин, и соски под купальником из твердых сделались острыми. – Ведь с отцом и дядей ей все сходит с рук. – Майлз приготовился возразить, но его жена – ему следовало бы это предвидеть – еще не закончила: – И Уолт не лучше. Чем хуже она с ним обращается, тем больше он к ней подлизывается.
– Жанин, она еще ребенок. – И добавил про себя: “Наш”.
Его будущая бывшая схватила чистую ложку, приставила к своему виску и покрутила.
– Ты ошибаешься, Майлз. Во-первых, она уже не ребенок. Если мне не веришь, просто посмотри на нее. Теми же глазами, какими смотришь на других людей. Во-вторых, и что с того? Я никогда не была ребенком, и ты тоже. Стоило мне научиться ходить, как я уже меняла себе подгузники. А Тик жила как в сказке, и ты это знаешь.
– Но разве мы не этого хотели? Я думал, мы оба стремились создать ей такую жизнь.
– Всему есть предел, Майлз.
Он представил, что сейчас видит Тик, наблюдая за ними из машины: сдвинув головы, чтобы их не подслушали, они опять орут друг на друга. Нет, последний год в жизни их дочери выдался каким угодно, но только не сказочным. А возможно, и другие годы тоже были не такими уж расчудесными.
– Жанин, – Майлз внезапно ощутил страшную усталость, – мы могли бы не ссориться?
– Не-а. Двадцать лет мы только этим и занимались, если ты забыл. А кроме того, всякий раз, когда в этой чертовой школе возникает проблема, они звонят не кому-нибудь и не тебе, они звонят мне. И мне, а не тебе приходится посреди рабочего дня мчаться в школу.
– Разве я в этом виноват? Я был бы только рад звонкам из школы. Уступи мне преимущественное право на опеку…
– Да? И где бы она жила? Здесь с тобой наверху? А ты бы перетащил свои жирные фритюрницы в подвал, иначе ей негде было бы разместиться?
– Тут ты права. – Майлз постарался, чтобы в его голосе не прозвучала горечь. – В итоге без жилья остался я. И кстати…
– Не начинай. – Жанин целилась в него ложкой. – Даже не пытайся.
– Ладно, – не стал спорить Майлз, поскольку он уже начал и теперь Жанин было не отвертеться.
Жанин не раз обещала поговорить с Уолтом о доме. Самое разумное и честное со стороны Уолта было бы выкупить долю Майлза – или то, что могло бы считаться его долей, существуй таковая официально. При разводе дом достанется Жанин, Майлзу же было предписано выплачивать половину по ипотеке до тех пор, пока дом не будет продан либо Жанин не выйдет повторно замуж. Меж собой они с Жанин договорились: продав дом, что будет непросто, они поделят вырученные деньги. Первоначальный взнос за дом уплатил Майлз, но до половины стоимости эта сумма недотягивала, и Майлз решил не вдаваться в подсчеты. Своего адвоката он проинструктировал коротко: пусть она забирает все, что хочет. По правде сказать, к смущению Майлза, делить им особо было нечего, и если бы даже он решил кое-что отспорить, это было бы мелочно по отношению к Жанин, а следовательно, и по отношению к Тик. Оно того не стоило.
Однако развод очень скоро будет оформлен, для Жанин откроется путь к вожделенному алтарю, и в голову Майлза начала закрадываться мысль: может, он зря не послушался своего адвоката? Уолт Комо, предсказывал адвокат, снимет другой дом и переедет туда с Жанин. “Вы этого хотите? Потрафить человеку, отнявшему у вас жену, чтобы жить с ней в вашем доме, спать в вашей постели и не платить при этом ни гроша?” Разумеется, ничего подобного Майлз не хотел, но тогда такой сценарий казался неправдоподобным. Кем надо быть, чтобы так себя повести? Но Майлз ни за что бы тогда не поверил и в то, что Уолт Комо сделается постоянным клиентом “Гриля”, наведываясь каждый день выпить кофе, сыграть с Хорасом в джин и дать Майлзу парочку полезных советов по ведению бизнеса. Не далее как сегодня он предложил Майлзу переименовать “Гриль” во французский “Грий”, чтобы звучало престижнее. Майлз трактовал эти потуги Уолта двояко. Первая версия: как ни странно, Уолт, искренне веривший в ценность своих идей, стремился задобрить Майлза, страшного во гневе, если его довести до крайности. Вторая версия: не рассматривал ли Уолт свои “полезные советы” как эквивалент платы за жилье? Со временем Майлз понял, что большинство людей, усвоив недлинный ряд фундаментальных предпосылок, в деловых отношениях придерживаются определенной логики. Ни один суд не предписывал Уолту оплачивать проживание в доме Майлза, вот он и не платит. И все же ему жаль человека, чью жену он увел, – впрочем, по мнению Уолта, тут все было по-честному, победил сильнейший – и, хотя он не был ничем ему обязан, Уолт неустанно искал поводы облегчить жизнь Майлзу. Более того, его решимость оказывать помощь крепла с каждым днем. Уолт явно считал, что его дармовые советы стоят нескольких тысяч долларов, и не его вина, если Майлз упорно отказывается внедрять его предложения. Здесь Уолт был бессилен: что поделаешь, если человек не понимает своего счастья? Нет, помри Майлз во сне ближайшей ночью, Уолт рассказывал бы скорбящим, всем и каждому в отдельности, как он из кожи лез, изобретая способы превратить “Имперский гриль” в процветающее заведение. Майлз был чертовски симпатичным парнем, выдал бы он напоследок, но напрочь лишенным деловой хватки. И ни одно слово в этой погребальной речи не показалось бы Матёрому Лису запредельной наглостью.
– Я говорила с ним об этом, – произнесла наконец Жанин, глядя на свое отражение в окне. – Он сказал… – Она опять замолчала, словно ей самой было трудно поверить в то, что она намеревалась сообщить. – Он сказал, что, похоже, инвестировать в здешнюю недвижимость – не самая лучшая идея на данный момент.
– Да ну, – откликнулся Майлз. – Кто бы мог подумать.
– Он говорит, что не хочет вкладывать деньги, пока не определится с дальнейшими планами.
– И когда он определится?
– Не знаю, Майлз, правда не знаю, – ответила Жанин, и от ее злости не осталось и следа. – Ты замечал, как он почесывает подбородок, когда играет в карты? Когда пытается сообразить, что у Хораса на руках? Время будто останавливается, и сам он как застывшее изображение на картине маслом.
– Жанин…
– Я хочу сказать, его не поймешь. То он твердит о расширении клуба, о новых крытых теннисных кортах, а спустя пять минут заявляет, что нам надо построить дом на озере. Он положил глаз на прибрежный участок в пол-акра, но когда я спрашиваю, где находится это место, он начинает скрытничать, словно я проболтаюсь кому-то и этот кто-то уведет участок у него из-под носа. Каждый раз, когда я пытаюсь добиться от него прямого ответа на любой вопрос, у него на лице появляется такое хитрое выражение. Ты знаешь какое, точно так же он выглядит, когда дело идет к тому, что Хорас вот-вот его обставит.
– Жанин.
Она все еще смотрела на свое отражение, словно встреться она глазами с Майлзом – и это привело бы к некоему ужасному признанию. Когда же она повернулась к нему, в глазах у нее стояли слезы, и Майлз подумал, что Жанин не все ему рассказывает. Что-то тревожит ее, но она не хочет об этом говорить.
– Что, Майлз?
– Ты колеблешься?
Промокнув уголки глаз бретелькой купальника, Жанин опять предстала задиристой, – двадцать лет Майлз не мог понять, чем ее так привлекает боевая стойка.
– Не волнуйся! – заверила она. – Я пойду до конца. Через месяц все, что от тебя потребуется, – алименты на ребенка.
– Я всегда отговаривал тебя от того, чтобы идти до конца в чем бы то ни было, – напомнил Майлз, вдруг ощутив прилив нежности к своей будущей бывшей, что случалось с ним порою, когда он ослаблял самоконтроль.
– Не о нас с Уолтом я беспокоюсь. Мы с тобой – вот в чем я никак не могу разобраться.
– Как мы умудрились все настолько испортить?
Жанин скорчила гримасу:
– Ну нет, Майлз, с этим как раз все ясно. Мы все испортили, потому что не любили друг друга. Но хотелось бы знать, что за этим стояло. Я говорила тебе, за что я тебя не любила. Что бы ты ни делал за последние двадцать лет, все меня дико бесило, и я этого не скрывала.
Майлз не сдержал улыбку. Верно, перечень его недостатков, составленный Жанин, был длинным, обстоятельным, но неустоявшимся – его регулярно подправляли.
– И вот сейчас мы практически в разводе, а я выхожу за другого, но ты до сих пор не объяснил, почему ты меня не любил. Разве это честно? Понимаешь, если ты решишь снова жениться – чего я тебе не советую, – ты, по крайней мере, будешь знать, что нужно делать иначе, так? Я же была с тобой откровенна.
– Чего ты хочешь, Жанин? Чтобы я перечислил свои супружеские разочарования? Ты закрутила с Уолтом Комо, черт возьми.
– Ага, давай попрекай меня этим. (Настал черед Майлза изучать свое отражение в стекле. Мужчина, пялившийся на него, выглядел раздраженным.) Это нечестно, и ты это знаешь. Нет, конечно, все правильно. Я закрутила с Уолтом, и ты получил козырь на руки. Но я сошлась с Уолтом, потому что ты не любил меня. Я знала, что тебе будет больно, – как же так, твоя жена, и вдруг влюбилась в Матёрого Лиса! – но не надо было притворяться, что ты любишь меня, потому что мы оба знали, это неправда.
– Ты не даешь мне и слова вставить. Если ты и дальше намерена говорить за нас обоих…
– Хочешь сказать, ты любил меня, Майлз? Хочешь, так говори. Я заткнусь и послушаю. – Он уставился на свои руки, и она сказала: – Я так и думала.
Она была права, разумеется. В подлинном смысле он не любил ее. Не любил так, как хотел любить, когда давал обеты перед Господом, родными и друзьями, и эта простая истина ранила его столь глубоко, что анализировать ее он не мог. Нет, он не любил ее и не понимал почему. Он также не понимал, что помешало бы ему ответить, знай он, в чем причина его нелюбви. Если это не любовь, то как тогда называется та нежность, что побуждает тебя оберегать другого человека? Как назвать то чувство, что грозило накрыть его с головой прямо сейчас, и его уже тянуло обнять ее и пообещать, что все будет хорошо? Если это не любовь, тогда что это?
И все же она была права. Ведь то чувство, что он испытывал к этой женщине, чья жизнь столь долго была соединена с его жизнью, ни в коем случае нельзя было перепутать с влечением, и обожанием, и ощущением, что без нее он пропадет. Настолько Майлз понимал, хотя бы потому что отчаянно пытался не замечать разницы.
– Зачем ты изводишь себя, Жанин? – спросил он. – Вы с Уолтом счастливы, а все прочее неважно.
С минуту она разглядывала его, потом сдалась.
– Ты меня уделал, – выдавила улыбку Жанин. – Наверное, мне просто хотелось услышать, что человек я не самый ужасный.
– Я никогда не говорил…
– Именно, Майлз, это я и пытаюсь до тебя донести, – перебила Жанин, вставая. – Ты никогда ничего не говорил.
– Он все твердит, что лазает как обезьяна, – говорил Майлз брату.
Они сидели наверху, в его квартирке над рестораном, времени было почти одиннадцать. Майлз, всю жизнь страдавший бессонницей, в любом случае просыпался в пять, но если вдруг он крепко засыпал, то был не в духе, когда ему приходилось вставать по будильнику, чтобы открыть ресторан. Дэвид взял из мини-холодильника бутылочку с минералкой, затем поставил ее на пол и убрал с дивана огромную коробку с туалетной бумагой, освобождая себе место. По телевизору транслировали матч с “Сокс”, игра шла на Западном побережье.
Конечно, Жанин права: для Тик здесь места не выгородишь, хотя Майлз весь вечер прикидывал в уме, что можно было бы сделать. Держать все ресторанное оборудование в подвале, пока река снова не разольется и в “Гриль” не просочится вода? Если вынести все это барахло, они бы с дочерью здесь неплохо устроились, разве что девочке в возрасте Тик требуется нечто большее, чем просто квадратные метры. Ей нужна своя комната с дверью, которую она сможет запереть или хлопнуть ею при необходимости. Кроме входной в квартире имелась лишь дверь в ванную, но и та плотно не закрывалась. Тик заслуживала большего. Конечно, потратив сколько-то сил и денег, Майлз смог бы сделать свою квартирку поуютнее, но затрапезность этого жилья над рестораном никуда бы не делась.
Тем не менее он понимал: его дочь ухватится за любую возможность переехать от матери. Ей претило жить под одной крышей с Уолтом Комо. Пусть коттеджик за книжным магазином на Мартас-Винъярде был ненамного больше его квартирки, им обоим там было бы не тесно, сумей Майлз наскрести денег на эту недвижимость.
– Все, что он делает, – обронил Дэвид, глядя на экран, – он делает как обезьяна. – Сентиментальностью по отношению к отцу Дэвид не отличался. – Но подпускать его к лестницам точно не стоит. И будь начеку – он норовит тебя разжалобить.
– Стараюсь не поддаваться. Но он знает, как на меня воздействовать. Я тоже не обрадуюсь, если на мне поставят крест, когда я состарюсь, – попытался Майлз объяснить свои наивные эмоции. Иных причин жалеть Макса Роби определенно не имелось.
– Неплохо сегодня получилось. – Дэвид тряхнул головой. Волосы у него были довольно длинные, и, отстояв восьмичасовую смену с сеткой на голове, он выглядел так, словно забыл ее снять.
– Еще как неплохо, – откликнулся Майлз, пересчитывавший выручку. – Похоже, четверги приживутся.
– По-моему, наши затраты не слишком эффективны.
– Сомневаюсь, что мы сможем добиться большего.
– Ты знаешь, каким должен быть следующий шаг?
– Да, знаю, – ответил Майлз.
К этому разговору они возвращались не раз. Бессмысленному, что было свойственно многим их разговорам, и началось это давно, еще при жизни матери. Странно. Никогда они с Дэвидом не были дружны так, как сейчас, после катастрофы, изувечившей младшего брата. Прежде, разговаривая, они распалялись, жгли друг друга словами, припоминая старые обиды, ковыряя старые раны. Разница в возрасте у них составляла почти десять лет, и жизненный опыт каждого был радикально иным. Майлз повзрослел до болезни матери, Дэвид – после. Не менее важную роль играло редкостное несходство характеров: Майлз – осторожный и вдумчивый в мать, Дэвид – энергичный и неугомонный в Макса. После автокатастрофы эти различия, казалось, уже не имели значения, но Майлза смущала мысль, не держится ли их вновь обретенная близость лишь на том, что им почти нечего сказать друг другу. Они перебрасывались фразами, связанными с их бизнесом, как мячиком: пас, принял – количество слов минимальное, усилий никаких. Часто их общение выглядело почти ритуальным. Дэвид докладывал Майлзу о том, что запер ресторан, понимая, что Майлз уже об этом знает, но ждет от него этой фразы, и, возможно, ему необходимо ее услышать, иначе их рабочий день останется как бы незавершенным.
– Не обязательно покупать лицензию на весь алкоголь, – сказал Дэвид. – Пива и вина нам хватит.