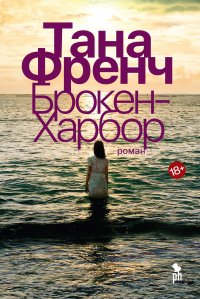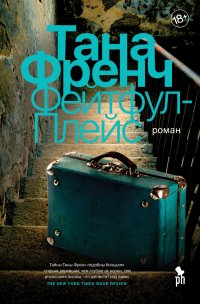Читать онлайн Искатель бесплатно
- Все книги автора: Тана Френч
The Searcher by Tana French
Copyright © 2020 by Tana French
© Шаши Мартынова, перевод, 2021
© Андрей Бондаренко, оформление, 2021
© “Фантом Пресс”, издание, 2021
1
Когда Кел выходит из дома, грачи с чем-то возятся. Их шестеро, толпятся на дальней лужайке в высокой мокрой траве среди желтых цветочков, толкаются, скачут. Что-то они там добыли себе, оно мелковатое и все еще шевелится.
Кел ставит на крыльцо мусорный мешок с обоями. Подумывает, не достать ли охотничий нож и не освободить ли зверушку от страданий, но грачи живут тут намного дольше Кела. Довольно-таки нагло с его стороны получится – эдак влезть в их дела. Он опускается на заросшую мхом ступеньку рядом с мусорным мешком.
Грачи ему нравятся. Где-то читал, что они адски умнющие: учатся узнавать человека и даже подарки ему носят. Кел тут уже три месяца пытается улещивать их объедками – оставляет их на здоровенном пне в глубине сада. Птицы посматривают, как он шастает туда-сюда по траве, с увитого плющом дуба, где обустроили себе колонию, и когда Кел отходит на безопасное расстояние, налетают и принимаются громогласно вздорить и галдеть над едой, однако циничного взгляда с Кела не сводят и, стоит ему попробовать приблизиться, сразу ретируются на дуб, а оттуда дразнятся и роняют Келу веточки на голову. Вчера после обеда он хлопотал в гостиной – обдирал заплесневелые обои, и гладенький грачик присел на открытое окно, проорал что-то очевидно оскорбительное, после чего, хохоча, упорхнул.
Та зверушка на лужайке отчаянно извивается, сотрясает высокую траву. Здоровенный папаша-грач прыгает поближе, точно и свирепо нацеливает один-единственный удар клювом, и зверушка затихает.
Может, кролик. Кел видел, как рано поутру они снуют и кормятся в росистой траве. Норы у них где-то в поле на задах, под обширными зарослями орешника и рябины. Как только пришлют разрешение на оружие, Кел собирается проверить, помнит ли дедовы наставления, как свежевать дичь, и снизойдет ли здешний широкополосный интернет с ослиным темпераментом одарить Кела рецептом рагу из кролика. Грачи столпились, клюют настойчиво, вцепляются когтями, раздергивают плоть, их все больше слетается с дерева, они теснят друг дружку в кутерьме.
Какое-то время Кел наблюдает за ними, вытягивает ноги, вращает плечом в суставе. Работая по дому, он задействует мышцы, о существовании которых забыл. Ежеутренне обнаруживает новые боли, хотя некоторые, скорее всего, от сна на полу на дешевом матрасе. Кел слишком стар и громоздок для таких ночевок, но нет смысла привозить хорошую мебель в эту пыль, сырость и плесень. Он все закупит, когда приведет дом в порядок и сообразит, где тут это всё покупают, – таким прежде занималась Донна. А у Кела пока пусть болит. Ему такая боль в удовольствие. Вместе с волдырями и грубеющими мозолями боль – крепкое, заслуженное доказательство того, что́ она такое теперь, его жизнь.
Уже надвигается прохладная сентябрьская долгота вечера, но сейчас облачно и потому никаких следов заката. Небо, испятнанное неуловимыми оттенками серого, тянется нескончаемо – как и поля, окрашенные оттенками зеленого в зависимости от использования, иссеченные разросшимися изгородями, стенками сухой кладки да кое-где узкими проселками. Далеко на севере вдоль горизонта пролегает полоса невысоких гор. Глаза Кела все еще привыкают к такому простору – после стольких лет в городских кварталах. Пейзаж – та редкая часть действительности из всех ему известных, что не подведет никогда. В интернете запад Ирландии смотрелся прекрасно; прямо из самой его сердцевины окрестности смотрятся еще краше. Воздух насыщен, как бисквит, и словно годится не только для дыхания – можно куснуть и набить полный рот или, скажем, втереть пригоршню в лицо.
Чуть погодя грачи утихомириваются – близится конец трапезы. Кел встает, вновь берется за мешок с мусором. Грачи бросают на него сметливые быстрые взгляды и, когда он входит в сад, поднимаются в воздух и тащат свои сытые брюшки к себе на дерево. Кел волочет мешок в угол к обветшалому каменному сараю, оплетенному вьюнком, по дороге останавливается глянуть, чем там ужинали грачи. Так и есть – кролик, молоденький, хоть теперь и едва узнаваемый.
Кел оставляет мусорный мешок рядом с остальными и возвращается к дому. Почти доходит, но тут грачи вдруг срываются, шебуршат в листве и кого-то костерят. Кел не оборачивается и не сбивается с шага. Цедит очень тихо сквозь зубы, закрывая за собой дверь:
– Мать вашу.
Последние полторы недели за Келом кто-то посматривает. Возможно, и дольше, но голова у него была занята своим, и Кел, как любой другой посреди этих пустошей, принимал за должное то, что он тут один. Аварийная сигнализация у него в голове отключилась – в точности как он и хотел. Но однажды вечером готовил ужин – жарил гамбургер на единственной рабочей горелке изъеденной ржавчиной плиты, в колонке “айпода” на всю катушку Стив Эрл[1], Кел время от времени лупил по воображаемым барабанам, – и вдруг в загривке начало припекать.
За четверть века в полиции Чикаго загривок у Кела натренирован что надо. Кел относится к таким сигналам серьезно. Непринужденно прошелся по кухне, потряхивая головой в такт музыке и скользя взглядом по шкафам, будто ему чего-то не хватает, а затем резко метнулся к окну: снаружи никого. Увернул горелку и устремился к двери, но в саду пусто. Под миллионом свирепых звезд и луной, на какую в самый раз выть, Кел обошел периметр; поля расстилались, белея, во все стороны, вякали совы – и ни души.
От какого-нибудь зверя шум, решил Кел, – сам-то потонул в музыке, вот только бессознательное чутье уловило. Потемки в этих краях оживленные. Сиживал Кел несколько раз на ступеньках далеко за полночь, пиво-другое, привыкал к ночной поре. Видел хлопотавших в саду ежей, лису – она замерла на пути по своим делам и пристальным взглядом бросила ему вызов. Как-то раз вдоль изгороди трусил барсук, крупнее и мускулистее, чем Кел предполагал, а потом скрылся; через минуту послышался одиночный пронзительный визг, следом зашуршало: барсук удалялся. Возиться тут мог кто угодно.
В ту ночь, прежде чем лечь, Кел поставил на подоконник у себя в спальне две кружки и две тарелки, а дверь в комнату подпер старым бюро. После чего обозвал себя недоумком и все убрал.
Пару дней спустя обдирал обои – окно нараспашку, чтоб пыль наружу, – и тут грачи метнулись тучей со своего дерева, вереща на что-то внизу. Шустрый след шороха, устремившийся прочь за изгородь, показался не ежиным и не лисьим – слишком уж заметен и шумен, даже барсук мелковат для такого. Добрался туда Кел опять с опозданием.
Возможно, местным детям скучно и они следят за новеньким. Делать в этих краях особо нечего: не деревня, а фитюлька, ближайшее сельцо – в пятнадцати милях. Даже просто допуская что-то еще, Кел сам себе кажется дураком. Март, его ближайший сосед дальше по дороге, и дверь-то не запирает – только на ночь. Услыхав это, Кел вскинул бровь, скуластое же лицо Марта сморщилось, и он хохотал, пока не захрипел.
– Ты глянь на это, – вымолвил он, показывая на дом Кела. – Что у тебя воровать? И кому? Я, что ль, полезу утром стирку твою пощупать, освежить себе вкус на моду?
Кел тоже рассмеялся и ответил, что Марту бы это не помешало, на что Март уведомил Кела, что гардероб у него мировецкий, а вот планов на кадреж никаких, и взялся объяснять почему.
Но кое-что все же не дает ему покоя. Так, пустяки, однако потрескивает у Кела на кромке легавого чутья. Кто-то перегазовывает в три часа ночи вдали на глухих проселках – утробные бурливые рыки. Пацанчики, сгрудившиеся в дальнем углу паба, чересчур юные и одетые не по-здешнему, болтают чересчур громко и чересчур быстро, да и выговор у них несообразный; Кел входит – и они головами р-раз, глазеют на секунду дольше нужного. Кел старательно не говорил никому, чем он в прошлом занимался, но и одного того, что ты чужак, может быть достаточно – смотря как повернется.
Дурила, говорит себе Кел, включая горелку под сковородой и глядя в кухонное окно на тускнеющие зеленые поля; пес Марта трусит подле овец, а те мирно бредут к своему загону. Слишком много лет на дежурствах в дурных районах – тут и селяне покажутся бандюгами.
Скучающие дети, десять к одному. Но все равно Кел уже приглушает музыку, чтоб ничего не упустить, подумывает, не поставить ли сигнализацию, – и это его бесит. Годы напролет Донна бросалась к ручке громкости: “Кел, у соседей младенец пытается уснуть! Кел, миссис Скапански после операции, считаешь, надо рвать ей барабанные перепонки? Кел, что соседи подумают? Что мы дикари?” Своей земли ему хотелось отчасти для того, чтобы врубать Стива Эрла на такую громкость, какая сшибает белок с деревьев, а забраться в жопу мира – в том числе и затем, чтоб не надо было устанавливать сигнализацию. Кажется, он, к примеру, и яйца себе устроить поудобней не может, не озираясь, а уж такое у себя в кухне любому должно быть позволено. Дети там или нет, пора кончать с этим.
Дома он бы решил эту задачу парочкой старых добрых скрытых камер, грузивших отснятое прямиком в облако. Здесь, даже если вай-фай справился бы, что сомнительно, от самой затеи нести запись в ближайший участок Кела не перло. Неизвестно, что может начаться – соседская вражда, или, может, тот, кто подглядывает, окажется легавому двоюродным, или еще невесть что.
Подумывает насчет натяжной проволоки. Они вообще-то незаконны, но Кел вполне уверен, что ничего особенного: тот же Март уже дважды предлагал ему купить у него нелицензированный дробовик – дескать, лежит без дела, – и все садятся за руль по дороге из паба. Беда, опять-таки, в том, что Кел понятия не имеет, какую кашу может заварить.
Или какую уже заварил. Слушая Марта, Кел начинает догадываться, как тут все запутано и до чего пристально стоит следить за тем, куда ногу ставишь. Нори́н, которая держит лавку на коротенькой двойной линии построек, считающейся деревней Арднакелти, не заказывает печенье, которое нравится Марту, из-за причудливой эпопеи 80-х, связанной с ее дядьями, отцом Марта и пользованием пастбищами; с обитающим за горками фермером, кого не упоминают по имени, Март не разговаривает, потому что тот купил щенка, которого зачал пес Марта, хотя вроде б не должен был. Есть и другие похожие истории, хотя Кел не все их слышал внятно, поскольку Март свои рассказы ведет обширными петлями, а Кел к тому ж не до конца разбирает местный говор. Келу он нравится – насыщенный, как здешний воздух, игольчато-острый, напоминает холодную речную воду или горный ветер, – но куски сказанного пролетают мимо, он отвлекается, прислушиваясь к ритмам, и упускает еще больше. Впрочем, разобрал он достаточно, чтобы понять: есть риск сесть на чей-то табурет в пабе или оплошно срезать, гуляючи, не по тому участку земли, и могут быть последствия.
Приехав сюда, Кел был готов к тому, что чужака встретят в штыки. Ладно, пусть так, лишь бы не подпалили жилье, – не нужны ему ни напарники по гольфу, ни званые ужины. Но все обернулось иначе. Люди отнеслись по-соседски. В день приезда, когда Кел взялся таскать вещи в дом и из дома, прибрел Март и оперся о калитку, принялся выспрашивать, что да как, а кончилось дело тем, что приволок старый мини-холодильник и посоветовал хороший строительный магазин. Норин объяснила, кто кому какой двоюродный, как подключиться к местному водоснабжению и – погодя, когда Кел ее раз-другой насмешил, – начала предлагать, в шутку лишь наполовину, свести Кела со своей овдовевшей сестрой. Старики, безвылазно, судя по всему, обитающие в пабе, перешли от кивков к замечаниям о погоде и далее к пылким объяснениям спорта под названием хёрлинг, который, по мнению Кела, похож на то, что получится, если оставить скорость, ловкость и свирепость хоккея на льду, но вычесть лед и почти всю защитную экипировку. До прошлой недели он предполагал, что его тут приняли если и не с распростертыми объятиями, то хотя бы как умеренно занимательное природное явление – как, скажем, морского котика, поселившегося в реке. Очевидно, он навсегда останется пришлым, но ему уже начало казаться, что это пустяки. Теперь все не так однозначно.
Так вот, четыре дня назад Кел поехал в город и купил здоровенный мешок садовой почвы. Он отдает себе отчет, до чего это несуразно – докупать себе землю после того, как он потратил бо́льшую часть своих сбережений на десять акров этой самой земли, но почва в его владениях груба и комковата, вся сплошь травяные корни и острые камешки. А для его дела земля нужна мелкая, влажная, однородная. На другой день он встал до рассвета и насыпал слой этой земли у стен дома, под каждым окном. Чтобы добраться до приличной поверхности, пришлось выполоть сорняки, вьюнки и счистить камешки. Воздух пробирал холодом до самого дна легких. Постепенно поля вокруг посветлели; проснулись и взялись препираться грачи. Когда небо озарилось и смутно донесся повелительный свист Марта, адресованный его пастушьей собаке, Кел смял мешок из-под почвы, сунул в мусор и ушел в дом готовить завтрак.
Назавтра утром – ничего; на следующее утро – ничего. Наверное, в прошлый раз подобрался к ним ближе, чем ему показалось, – видать, напугал. Кел продолжил заниматься своими делами и взгляд на окна и изгороди не бросал.
Сегодня утром – следы, на земле под окном гостиной. Судя по отпечаткам рифления, кроссовки, но следы слишком затоптанные и внахлест, чтобы разобрать размер и количество ног.
Сковородка разогрета. Кел бросает на нее четыре кусочка бекона – мясистее и вкуснее того, к какому привык, – и, когда жир начинает шкворчать, разбивает два яйца. Подходит к “айподу”, пристроенному на том же деревянном столе, оставленном хозяевами, за которым ест: вся нынешняя Келова мебель сводится к этому столу, брошенному деревянному бюро с пробитой боковиной, двум колченогим пластиковым стульям и громоздкому зеленому креслу, которое выкинул двоюродный брат Марта, – включает Джонни Кэша[2], не слишком громко.
Первое, что могло бы кого-то взбесить, – сама покупка этого дома. Кел выбрал его на интернет-сайте, поскольку к дому прилагалось сколько-то земли, а рядом хорошая рыбалка, крыша с виду крепкая – и ему хотелось заглянуть в те бумаги, что виднелись в старом бюро. Давненько не случалось с Келом такой охоты пуще неволи – тем более есть повод ввязываться. Агенты по недвижимости просили тридцать пять килоевро. Кел предложил тридцать – наличными. Чуть руку не откусили.
Ему тогда не пришло в голову, что это место может быть лакомым для кого-то еще. Приземистое, серое, неприметное строение 1930-х годов, пятьсот с чем-то квадратных футов[3], крыто шифером, окна створчатые, и только здоровенные угловые камни и обширный каменный же очаг придавали дому некоторую изысканность. Судя по фотоснимкам на сайте, дом забросили много лет или даже десятилетий назад: краска опадала громадными лоскутами и крапинами, комнаты завалены перевернутой темно-бурой мебелью и гниющими занавесками в цветочек, перед входной дверью проросли молодые деревца, у разбитого окна стелются вьюнки. Но с тех пор Кел достаточно разобрался, что к чему, и понял, что это место и впрямь могло быть кому-то желанно, даже если причины не очевидны с ходу, и этот кто-то, считавший, будто имеет право на дом, возможно, относится к этому серьезно.
Кел выкладывает поджаренное на пару толстых хлебных ломтей, добавляет кетчуп, достает из мини-холодильника пиво и несет еду на стол. Донна ввалила бы ему за то, как он теперь питается, – маловато клетчатки и свежих овощей, – но факт остается фактом: с тех пор как пробавляется со сковородки и из микроволновки, Кел сбросил чуток фунтов – а может, и не чуток. Он это чувствует, причем не только по поясу на штанах, но и в своих движениях: у всего, что он делает, появилась удивительная новая легкость. Поначалу настораживало, будто сила тяжести его отпустила, но он привыкает.
Физические нагрузки – вот в чем все дело. Чуть ли не ежедневно Кел час или два гуляет, без всякой отчетливой цели, просто следует чутью, осваивает новые края. Многие дни сверху льет, ну и ладно, у Кела просторная вощеная куртка, а дождь тут такой, под каким ему никогда прежде не доводилось бывать, – тонкая нежная дымка, она словно неподвижно висит в воздухе. Капюшон Кел обычно не накидывает, чтобы ощущать эту дымку лицом. Он не только видит дальше привычного, но и слышит: время от времени блеет овца, или ревет корова, или покрикивает фермер – все это долетает будто за несколько миль, разбавленное и смягченное расстоянием. Иногда Кел замечает фермеров, те занимаются своими делами в полях или трюхают по узкому проселку на тракторе, и когда они проезжают мимо, Кел приветственно вскидывает руку, вжимаясь в буйную живую изгородь. Ему попадаются крепко сбитые женщины, тягающие несусветные тяжести по захламленным дворам ферм, краснощекие малыши таращатся на него через заборы, посасывая батончики, а поджарые псы заходятся громовым лаем. Бывает, с дикой высоты над ним подаст голос птица или вдруг фазан взовьется вихрем из подлеска, стоит подойти поближе. Кел возвращается домой с ощущением, что, все побросав и приехав сюда, сделал верный выбор.
Между прогулками привлечь внимание Кела, в общем, нечему, и потому он с утра до ночи преимущественно возится по дому. Появившись здесь, он первым делом обмел толстый кокон из паутины, пыли, дохлых жуков и всякого другого, что здесь прилежно заполняло собою каждый дюйм. Затем вставил новые стекла в окна, заменил унитаз и ванну – и то и другое кто-то с глубокой неприязнью к сантехнике хорошенько расколотил кувалдой, – чтоб уже перестать срать в дыру в полу и мыться из ведерка. Кел не слесарь, но всегда был рукастым, да и на Ютьюбе есть видеоинструкции, когда интернет не подгаживает; все удалось.
Далее он некоторое время повозился со скарбом, каким были завалены комнаты, – не спеша, уделяя внимание каждому предмету. Кто б ни жил тут до него, к религии эти люди относились серьезно, иначе откуда изображения святой Бернадетты, Девы Марии с досадливым ликом, а также некоего Падре Пио[4], все в дешевых рамках – и все желтеют по углам, брошенные менее рьяными наследниками. Любили здесь и сгущенку – пять банок нашлось в кухонном шкафу, пятнадцать лет как просроченные. Остались от хозяев фарфоровые чашки с розовым рисунком, ржавые сковородки, скрученные в рулоны клеенчатые скатерки, статуэтка ребенка в красной мантии и в короне, голова приклеена, а еще коробка с двумя старомодными мужскими штиблетами, заношенными до трещин и начищенными до блеска, все еще заметного. Кел с некоторым удивлением не обнаружил никаких следов подростков – никаких пустых пивных банок, сигаретных бычков или использованных презервативов, никаких граффити. Прикинул, что для сопляков это место слишком глухое. В свое время ему это показалось преимуществом. Теперь Кел в этом сомневается. Хотелось бы иметь в списке эту вероятность – что это подростки наведываются на свое старое тусовочное место.
Бумаги в бюро оказались не очень интересными: статьи, вырезанные из газет и журналов, сложенные ровными прямоугольниками. Кел попытался определить некую объединяющую нить в этих статьях, но без толку: речь в них шла, среди прочего, об истории бойскаутов, о том, как растить душистый горошек, о мелодиях для вистла[5], об ирландских миротворческих силах в Ливане, а также приводился рецепт чего-то под названием “валлийский гренок”. Кел их сберег – как то, что в некотором смысле привело его сюда. Почти все остальное выкинул, включая занавески, что теперь казалось ему не лучшим решением. Подумывал, не извлечь ли их из груды мусорных мешков, что копились за сараем, но какое-нибудь животное уже наверняка либо погрызло их, либо обоссало.
Кел заменил желоба и водостоки, влез на крышу, чтобы изгнать из печной трубы упрямую поросль с желтыми цветочками, ошкурил и надраил старые дубовые половицы и вот взялся за стены. У последнего обитателя были поразительно непривычные вкусы в обустройстве дома – или несколько ведер дешевой краски. Спальня Кела когда-то была глубокого, насыщенного цвета индиго, пока сырость не испятнала всё потеками плесени и бледными кляксами голой штукатурки. Спальня поменьше – светло-мятная зелень. Столовая часть гостиной – ржавого красно-бурого, намазанного поверх многих слоев отлипавших обоев. Неясно, что происходило в кухонной части, ее вроде бы собирались отделать плиткой, но отвлеклись, а в уборной и этих усилий не приложили: крошечная пристройка на задах дома, стены оштукатурены, голые половицы кое-как прикрыты остатками зеленого ковра, как будто обустраивали это помещение инопланетяне, наслышанные о том, что есть такая штука – уборная, но без подробностей. Келу – шести футов четырех дюймов ростом – приходилось втискиваться в ванну, едва ли не складываясь коленями к подбородку. Когда выложит всё здесь кафелем – поставит душ, но это подождет. Надо успеть с покраской, пока не испортилась погода и можно держать окна открытыми. Уже случались дни, и не один-два подряд, когда небо делалось плотно-серым, от земли поднимался холод, а ветер катился прямиком сотни миль и сквозь дом Кела, словно нет никакого дома, – предупреждал, что придет зима. Ничего и близко к сугробам и минусовым температурам чикагской зимы – это Кел знает из интернета, – но тем не менее нечто состоятельное само по себе, нечто стальное, неуловимое, не без каверзы.
За едой Кел оглядывает плоды дневных трудов. За годы обои кое-где вросли в стены, а потому отдирать их – дело небыстрое, но уже полкомнаты очищено до голой штукатурки; стена вокруг бугристой каменной арки камина – все еще потертого красно-бурого цвета. Кел обнаруживает в себе нечто неожиданное, ему все это нравится как есть. Оно кое-что подразумевает. Кел не художник, но будь он им, ему б захотелось ненадолго оставить все вот так, написать картину-другую с натуры.
Посреди трапезы он все еще размышляет о красной стенке, и тут загривок у него вновь начинает жечь. На сей раз Кел улавливает причину: слышна краткая неуклюжая возня, едва ли не сразу притихшая, будто кто-то споткнулся в зарослях за окном, но сумел удержаться на ногах.
Кел лениво и щедро откусывает от сэндвича, запивает долгим глотком пива, утирает пену с усов. Затем кривится, срыгивая, подается вперед, чтобы поставить тарелку. Поднимается со стула, щелкает шеей и направляется к сортиру, попутно возясь с пряжкой ремня.
Окно в уборной открывается гладко и бесшумно, будто его обработали смазкой, – так и есть, обработали. Кел еще и потренировался влезать на бачок и выбираться в окно, и удается ему это куда ловчее, чем можно ожидать от человека его габаритов, что не отменяет факта: одна из причин, почему он ушел из дежурных полицейских, – в том, что с него хватит лазать черт-те где в погоне за балбесами, творящими всякую дурацкую хрень, и планов возвращаться к этому занятию у Кела нет. Он приземляется снаружи, сердце ускоряется до привычного охотничьего темпа, задница чиркает по оконной раме, досада нарастает.
Ничего лучше обрезка трубы в кустах, оставшегося после возни с туалетом, у него нет. Но, даже взявшись за трубу, он чувствует себя с пустыми руками, слишком легким – без ствола-то. Минуту стоит, замерев, дает глазам привыкнуть, прислушивается, однако ночь пронизана мелкими звуками, и какой из них больше относится к делу, не выбрать никак. Стемнело; взошла луна, острый ломтик, вдогонку ей – драные облака, от луны свет бледный, ненадежный и слишком много теней. Кел перехватывает трубу половчее и трогается с места, выдерживая старый выученный компромисс между скоростью и беззвучностью, к углу дома.
Под окном гостиной таится комок более густой тьмы, неподвижен, голова аккурат на той высоте, чтоб заглянуть через подоконник. Кел внимательно присматривается, изо всех сил, но в траве вокруг все чисто – вроде всего один. Во всплеске света от окна Кел видит стрижку под машинку и красное пятно.
Кел роняет трубу и бросается. Намерен зафиксировать полностью, повалить человека, а дальше разбираться, но ступня попадает на камень. За ту секунду, которую Кел ловит руками равновесие, человек подскакивает вверх и прочь. Кел кидается почти в полную темноту, хватает руку и дергает изо всех сил.
Человек летит на Кела слишком легко, а рука слишком тонкая, пальцы туго смыкаются вокруг нее. Ребенок. Это осознание ослабляет Келу хватку. Малявка выдирается, как камышовый кот, сопит с присвистом и впивается зубами Келу в руку.
Кел ревет. Малявка выпрастывается на волю и улепетывает по саду ракетой, ноги в траве почти беззвучны. Кел бросается следом, но ребенок в несколько секунд исчезает в путанице теней у придорожной изгороди, и когда Кел оказывается рядом, беглеца уже нет. Кел протискивается сквозь изгородь, высматривает на дороге, стиснутой до блеклой ленты лунными тенями от кустов, обступающих ее. Ни души. Кидает несколько камешков по зарослям, спугнуть ребенка, – ничего.
Вряд ли у мальца было подкрепление, он бы крикнул – позвал на помощь или предупредил бы, – но на всякий случай Кел обегает сад кругом. Грачи спят, не потревоженные. Новые отпечатки на земле под окном в гостиной – то же рифление, что и в прошлый раз; больше нигде. Кел отступает в густую тень сарая и ждет долго, пытается заглушить свое сопение, но ни в каких изгородях никакого шороха, никакая тень не крадется по полям. Всего один – и тот ребенок. И не возвращается – по крайней мере, сегодня.
Вернувшись в дом, Кел осматривает руку. Малявка тяпнул его будь здоров: три зуба прокусили кожу, в одном месте кровит. Кела уже разок кусали – при исполнении, что обернулось вихрем бумажек, собеседований, анализов крови, юридической возни, таблеток и судебных разбирательств, тянувшихся месяцами, пока Келу не надоело следить, что там к чему и зачем, и он просто показывал руку или ставил подпись, когда просили. Сейчас он находит аптечку, некоторое время вымачивает руку в антисептике, после чего заклеивает пластырем.
Еда остыла. Он заряжает ее в микроволновку, возвращается с ней к столу. Джонни Кэш все еще играет, оплакивая утраченную Роуз и сыночка[6] глубокой надломленной трелью, будто и сам уже отлетевший дух.
Келу не так, как он предполагал. Дети, шпионящие за новеньким, – как раз на это он и надеялся, лучший расклад из возможных. Кел прикидывал, что проорет некие смутные угрозы им вслед, когда они будут удирать, вопя, хохоча и выкрикивая гадости через плечо, а затем покачает головой и уйдет в дом, говнясь, словно какой-нибудь старый хрыч, насчет современных детишек, и дело с концом. Может, время от времени они станут возвращаться, но Келу это, в общем, нипочем. Он бы продолжил заниматься ремонтом, слушать громкую музыку и обустраивать себе яйца в штанах в свое, черт бы драл, удовольствие, а легавое чутье свое отправил бы на покой, где ему самое место.
Да вот только чует он, что дело тут не с концом, а легавому чутью на покой не уйти. Дети, если им по приколу лезть на рожон, заявляются ватагой, и они наглые, накрученные своей же дерзостью, как кофеином. Кел думает о том, как тихо сидел тот малой под окном, о его безмолвии, когда Кел его схватил, о змеиной свирепости, с какой малолетка его тяпнул. Этот малой не развлекался. У малого тут была цель. Он еще вернется.
Кел доедает, моет посуду. Приколачивает кусок холстины к окну в уборной, быстро споласкивается. Затем укладывается на матрас в темноте, руки под голову, смотрит в окно на испятнанную облаками россыпь звезд и слушает, как где-то в полях дерутся лисы.
2
Развалина бюро, когда Кел выволакивает его наружу и хорошенько осматривает, оказывается древнее, чем казалось, и лучшего качества: мореный дуб, изысканные завитки вырезаны на бортике над крышкой и вдоль нижней кромки выдвижных ящиков, а под крышкой – десяток гнезд для бумаг. Кел сперва затолкал бюро в маленькую спальню, поскольку планировал заняться им не сразу, но, похоже, сегодня оно может пригодиться. Он притаскивает бюро в дальний конец сада – на тщательно прикинутом расстоянии и от изгороди, и от грачиного дерева, – сюда же приносит стол, чтоб получился верстак, и ящик с инструментами. Большинство их – от деда. Потертые, щербатые, заляпанные краской, но все равно служат лучше, чем фуфло, какое покупаешь в нынешних хозяйственных.
Главный урон, нанесенный бюро, – здоровенная щепастая брешь в боковине, будто тот, кто отправился в уборную с кувалдой, вмазал попутно и по бюро. Кел оставляет эту дыру на потом, когда рука заживет. Начать собирается с бегунков на ящиках. Двух попросту нет, а другие два погнуты и расщеплены так, что ящик не ходит – или ходит, но с боем. Кел вытаскивает оба ящика, кладет бюро на спину и принимается обводить остатки бегунков карандашом по контуру.
Погода на стороне Кела: приятный солнечный день с легчайшим ветром, птички на изгородях, пчелы в полевых цветах – в такие дни человеку вполне естественно хочется поработать на свежем воздухе. Разгар утра в школьный день, но, если судить по другим случаям, Кел считает, что время тратит совсем не обязательно попусту. Даже если ничего не случится сразу же, у него тут уйма дел вплоть до конца уроков. Насвистывает сквозь зубы дедовы народные песни и выпевает слово-другое, когда они вспоминаются.
Заслышав шелест шагов в траве, сильно поодаль, Кел продолжает насвистывать и голову от бюро не поднимает. Впрочем, через минуту слышит зверский треск в изгороди, и под локоть ему суется мокрый нос: Коджак[7], потрепанная черно-белая овчарка Марта. Кел выпрямляется, машет соседу.
– Как здоров на сто годов? – интересуется Март через боковой забор. Коджак вприпрыжку удаляется – проверить, не появилось ли чего новенького в Келовой изгороди с прошлого раза.
– Неплохо, – отвечает Кел. – Как сам?
– Как огурец-молодец, – говорит Март. Коренаст, примерно пять футов семь дюймов, жилист и морщинист; у него пушистые седины, нос, за жизнь сломанный разок-другой, и обширная коллекция головных уборов. Сегодня он в плоской твидовой кепке, вид у нее такой, будто ее пожевало какое-нибудь сельскохозяйственное животное. – Чего тебе с этой хренью?
– Починить вот хочу, – отвечает Кел. Пытается отбить второй бегунок, но тот держится крепко, это бюро сработали на славу невесть как давно.
– Трата времени, – говорит ему Март. – Глянь на каком-нибудь сайте с объявленьями. Полдесятка найдешь за так.
– Мне одного хватит, – говорит Кел. – И вот – есть.
Март явно собирается оспорить этот довод, но решает в пользу более благодарной темы.
– Хорошо выглядишь, – говорит он, озирая Кела с головы до пят. Март с самого начала был склонен одобрять Кела. Ему нравится беседовать, и за шестьдесят один год в этих краях он высосал сок из всех местных. Кел, с точки зрения Марта, – чисто Рождество.
– Спасибо, – говорит Кел. – Ты тоже.
– Я серьезно, друг ты мой ситный. Очень стройный. Пузо-то с тебя слезает. – Кел, терпеливо раскачивая бегунок ящика взад-вперед, не отвечает, и Март продолжает: – Знаешь, с чего оно так?
– Вот с этого, – говорит Кел, кивая на дом. – Не сижу на заднице за столом день-деньской.
Март энергично качает головой.
– Вообще нет. Я тебе скажу с чего. Это всё с мяса, которое ты йишь. С сосисок да со шкварок, какие у Норин берешь. Они здешние – такие свежие, что аж прыгают с тарелки и на тебя фырчат. С них тебе сплошная польза.
– Ты мне нравишься больше, чем мой прежний врач, – замечает Кел.
– Слухай меня. Американское-то мясо, какое ты йил дома, – в нем гормонов дохрена. Ими накачивают скотину, чтоб жирнела. И как ты думаешь, как с этого дела людям? – Ждет ответа.
– Вряд ли хорошо, – отвечает Кел.
– Тебя с них раздувает, как шарик, – и титьки, как у Долли Партон. Сдуреть какая хрень. Е-Эс все их позапретил тут. Вот откуда ты весу-то вообще набрал. А теперь йишь годное ирландское мясо, и все с тебя слезает. Будешь у нас по виду как Джин Келли[8], глазом моргнуть не успеешь.
Март, очевидно, уловил, что у Кела сегодня что-то на уме, и решительно намеревается отговорить его – то ли из чувства соседского долга, то ли потому, что ему нравятся трудные задачки.
– Ты б двинул это на рынок, – говорит Кел. – Мартов Чудо-диет-бекон. Ешь больше – худей крепче.
Март хмыкает, явно довольный.
– Видал, ты вчера в город катался, – бросает он мимоходом. Прищуривается в сад, высматривает Коджака – тот не на шутку сосредоточивается на одном кусте, старается запихнуть в него себя едва ли не целиком.
– Ага, – говорит Кел, выпрямляясь. Известно, к чему Март клонит. – Погоди-ка. – Уходит в дом, возвращается с упаковкой печенья. – Сразу только всё не ешь, – говорит.
– Джентльмен ты, – говорит счастливый Март, принимая печенье через забор. – Сам-то их пробовал?
Печенье Марта – причудливые сооружения из розового пухлого зефира, повидла и кокоса, какими, по мнению Кела, хорошо подкупать пятилетку со здоровенным бантом в волосах, чтоб прекратила истерику.
– Пока нет.
– Ты макай их, друг ситный. В чаек. Зефир размокает, а повидла тает на языке. Лепота.
Март сует печенье в карман своей зеленой вощеной куртки. Заплатить за гостинец не предлагает. Сперва Март представил доставку печенья как одноразовую акцию, одолжение, какое украсит день бедному старому фермеру, да и Кел со своего новехонького соседа горсть мелочи требовать не собирался. Далее Март решил считать это давней традицией. Веселый взгляд искоса на Кела, когда тот протягивает печенье, сообщает, что Март проверяет соседа на вшивость.
– Я больше по кофе, – говорит Кел. – А это не то же самое.
– Норин не скажи про это, вот что, – предупреждает Март. – Ей только дай чем-нибудь меня обделить. Любит она думать, что ейная взяла.
– Кстати, о Норин, – говорит Кел. – Если собираешься в ту сторону, можешь мне ветчины прихватить? Я забыл.
Март протяжно присвистывает.
– Ты, что ль, к Норин в черные списки лезешь? Плохо дело, братец. Глянь, как оно теперь со мною. Что б ты ни натворил, дуй туда с букетом и извиняйся.
Штука в том, что Кел хочет сегодня побыть дома.
– Не, – говорит. – Она все пытается свести меня со своей сестрой.
Брови Марта взлетают ввысь.
– С какой сестрой?
– С Хеленой – кажется, так она сказала.
– Батюшки светы, друг ситный, езжай давай. Я-то думал, ты про Фионнуалу, да Норин, видать, глаз на тебя положила. У Лены голова на плечах будь здоров. Муж ейный-то был прижимистый, что гусья жопка, да и реку мог выхлебать досуха, господи упокой его душу, так что планочку она не задирает. Не сбесится, если ты в грязных сапожищах в дом войдешь или пернешь в койке.
– Похоже, мой тип женщины, – говорит Кел. – Если б я себе искал.
– И справная она дюжая девка к тому ж, не из этих тощих молодых, какую не разглядишь, коли боком повернуть. На женщине мясцо должно быть. Ай, ну-ка, – наставляет палец на Кела, тот посмеивается, – похабный умишко твой, вот что. Я не насчет кувыркаться толкую. Я насчет кувыркаться сказал разве что?
Кел качает головой, все еще смеясь.
– Не сказал. Скажу я вот что… – Март укладывает локти на верхнюю планку забора, устраивается поудобнее, чтоб растолковать дальнейшее. – Скажу я тебе вот что: если хочешь бабу в дом, нужно брать такую, чтоб сколько-то места в нем занимала. Ни к чему девка кожа да кости, с мышьим голосочком, да сама ни слова за весь день ни нынче, ни завтра. Такая – деньги на ветер. Заходишь в дом, надо, чтоб женщину видать было – и слыхать. Знать, что она тута, а то чего заводить-то ее вообще?
– Нечего, – широко улыбаясь, соглашается Кел. – Лена, значит, горластая, а?
– Про нее всегда знаешь, что она тута. Катись давай и сам забирай свою ветчину – да попроси Норин устроить свиданку. Сполоснись как следует, вуки[9] с морды сбрей, надень сорочку модную. Вези в город в ресторан – в паб не води, чтоб на нее там эти греховодники зенки не пялили.
– Вот ты ее и вези, – говорит Кел.
Март фыркает.
– Я женат не был ни разу.
– То-то и оно, – говорит Кел. – Куда это годится, если я заберу себе шумных женщин больше положенного.
Март рьяно качает головой.
– Ой не-не-не. Эк через жопу ты все понимаешь. Лет тебе сколько? Сорок пять?
– Сорок восемь.
– В свои-то смотришься хорошо. Мясные гормоны, те молодости дают.
– Спасибо.
– Как ни поверни, все едино. Когда мужику к сорока, он либо имеет привычку женатым быть, либо нет. У баб свое на уме, а я ни к чьему на уме, кроме своего, не привычный. То ли дело ты. – Март добыл у Кела эти и другие жизненно важные данные на первой же их встрече, да с такой почти неуловимой ловкостью, что Кел сам себе показался дилетантом.
– Ты жил с братом, – возражает Кел. По части сведений Март, во всяком случае, взаимен, Кел узнал все о Мартовом брате: тому больше нравилось печенье со сливочным кремом, был он жутким фофаном, но с овцами помогал что надо, сломал Марту нос, врезав ему гаечным ключом в какой-то перепалке из-за пульта от телика; помер от инсульта четыре года назад.
– У него на уме не было ничего, – говорит Март с видом человека, выигравшего в споре очко. – Непроходимый был как гамно свинячье. Незачем мне в доме баба себе на уме. Ей, может, канделябру подавай, или пуделя, или чтоб я упражнения по ёге делал.
– Мог бы глупую завести, – предлагает Кел.
Фукнув, Март отмахивается.
– Такого мне и с братом хватило. А ты Лопуха Ганнона знаешь? Вон с той фермы? – Показывает за поля на длинное приземистое здание под красной крышей.
– Ага, – отвечает Кел, строя догадки. Один из стариков в пабе – коротышка с оттопыренными ушами, по ним его и запоминаешь сходу.
– У Лопуха третья хозяйка ужо. И с виду не скажешь, мужичок пустячок, шиш да маненько, но верь слову. Одна евойная померла, вторая от него сбежала, но оба раза Лопух себе новую добывал, не успевал год пройти. Вот как я себе новую псину завел бы, если б Коджак сдох, или новый телик, если б мой накрылся, так Лопух берет и заводит себе новую хозяйку. Потому как привычка у него – чтоб себе на уме у него кто-то был. Коли нету женщины, он не знает, что ему на ужин съесть или что по телику глянуть. И раз нету женщины, не разберешь ты, в какой цвет тебе хоромы красить в именье вон этом.
– Белым собираюсь, – говорит Кел.
– А еще каким?
– Еще белым.
– Вишь, про что я тебе толкую? – торжествует Март. – По концовке не выйдет оно у тебя так. Ты привык, чтоб кто-то со своим на уме у тебя рядом был. Пойдешь искать.
– Могу привлечь спеца по отделке, – говорит Кел. – Хипстера модного, пусть красит в шартрезовый и пюсовый.
– Ты такого где тут найти собираешься?
– Выпишу из Дублина. Рабочая виза ему сюда понадобится?
– Сделаешь, как Лопух, – уведомляет его Март. – Собираешься или нет. Я просто стараюсь, чтоб оно у тебя задалось и какая-нибудь тощая фифка в тебя не вцепилась и жизнь тебе не испоганила.
Кел не в силах разобрать, Март то ли и впрямь во все это верит, то ли гонит на ходу, надеясь на спор. Спорить Март любит не меньше своего печенья. Иногда Кел ему потакает, из добрососедских соображений, но сегодня у него есть кое-какие предметные вопросы, а следом он хотел бы, чтоб Март убрался с горизонта.
– Может, через пару-другую месяцев, – говорит. – Ни с какой женщиной я прямо сейчас ничего заводить не буду. Пока не обустрою все тут так, чтоб показать не стыдно.
Март нацеливает на дом свой прищур и кивает, соглашаясь с резонностью сказанного.
– Но ты не тяни чересчур, вот что. Лене тут есть из кого выбрать.
– Он уже какое-то время разваливается, – говорит Кел. – Чтоб его собрать в кучу, времечка понадобится сколько-то. Ты в курсе, сколько примерно он простоял пустым?
– Лет пятнадцать, наверно. Может, двадцать.
– С виду больше, – говорит Кел. – Кто в нем жил?
– Майре О’Шэй, – отвечает Март. – Вот она-то себе другого мужика не завела, после того как Подж помер, да с женщинами оно по-другому. Они заводят себе привычку замуж ходить, как и мужики – жениться, но женщинам передых нужен в промежутках. Майре овдовела всего за год до того, как сама померла, не успела дух перевести. Помри Подж лет на десять пораньше…
– Детям не понадобилось это место?
– Уехали они, как есть. Двое в Австралии, один в Канаде. Плохого про твое владенье не скажу, но к такому сломя голову на родину не бегут.
Коджак утратил интерес к кустам и прибежал к Келу, виляя хвостом. Кел чешет его за ухом.
– А чего они его только-только продали? Ссорились, что с ним делать?
– Как я слыхал, поначалу они за него держались, потому что цены шли вверх. Хорошая земля пропадала, потому что дурни эти думали, будто на ней миллионерами станут. А потом… – лицо у Марта перекашивает от злорадства, – все ж рухнуло, и остались они с этим вот на руках, потому что пенса ломаного никто не давал.
– Ха, – говорит Кел. Такое могло запросто обозлить кого-нибудь, как ни крути. – А кто-то хотел купить?
– Брат хотел, – проворно отвечает Март. – Идиёт. У нас и так забот полон рот был. Насмотрелся “Далласа”[10] парень. Вообразил себя крутым скотоводом.
– Ты вроде говорил, что своего у него на уме не водилось, – замечает Кел.
– Так оно и не водилось – это ж блажь. Я ее искоренил напрочь. Свое на уме, которое женское, не искоренишь. Искорени в одном месте – в другом отрастят. Себя не упомнишь с ними.
Коджак льнет к ноге Кела, блаженно жмурится, толкается Келу в ладонь, когда тот забывает чесать. Кел собрался завести собаку – только подождать, пока не приведет дом в какой-никакой порядок, но, может, стоит и пораньше.
– А родственников у О’Шэев в округе не осталось? – спрашивает. – Я тут нашел то-сё, им может понадобиться.
– Если б понадобилось, – логично замечает Март, – они б двадцать лет назад это забрали. Что за то-сё?
– Бумаги, – расплывчато отвечает Кел. – Фотокарточки. Подумал, может, спрошу, пока не выбросил.
Март лыбится.
– Есть тут Поджева племянница Анни, в паре миль по дороге отсюда, за Манискалли. Если тебе охота волочь это ей, я тебя отвезу – чисто глянуть, как у Анни лицо вытянется. Мамаша ейная и Подж на дух друг дружку не выносили.
– Пожалуй, ну его, – говорит Кел. – Может, дети у нее есть, кому хотелось бы что-то на память о двоюродном деде?
– Все разъехались, как есть. В Дублин или в Англию. Растопи теми бумажками печку. Или продай в интернете – еще какому-нибудь янки, падкому на старинку.
Кел не уверен, подначка это или нет. С Мартом не всегда разберешь, и в этом, понятно, отчасти и состоит потеха.
– Может, так и сделаю, – говорит. – Не моя ж старинка все равно. Семья у меня не ирландская, насколько мне известно.
– У вас там у всех есть ирландское, – говорит Март с непоколебимой уверенностью. – Так или иначе.
– Значит, придержу это дело, раз так, – говорит Кел, напоследок погладив Коджака и повернувшись к своему ящику с инструментами.
Вряд ли Анни засылает сюда детишек, чтоб приглядывали за фамильным домом. Келу очень не помешали бы наводки, что это может быть за ребенок, – он-то думал, что вполне разобрался во всех своих ближайших соседях, но ни о каких детях ему не известно, – однако если пришлый мужик средних лет берется расспрашивать о местных малолетних пацанах, тут недалеко и до взбучки и кирпича-другого в окна, а Келу хватает и того, что и так уже происходит. Роется в ящике, ищет стамеску.
– Удачи тебе с этой хренью, – скривившись и отлипая от забора, говорит Март. Целая жизнь в сельскохозяйственных трудах перемолола Мартовы суставы в труху: у него беда с коленом, с плечом и со всем прочим в промежутке. – Заберу у тебя дрова на растопку, когда наиграешься.
– Ветчина, – напоминает ему Кел.
– Тебе самому придется разбираться с Норин рано или поздно. Не спрячешься тут в надежде, что она забудет. Говорю тебе, братец, – ежели женщине что на ум взбредет, оно оттуда не денется.
– Будешь мне свидетелем на свадьбе, – говорит Кел, поддевая стамеской бегунок.
– Ветчина та в нарезке по два евро пятьдесят, – сообщает Март.
– Ха, – отзывается Кел. – Столько ж и печенье.
Март сипит от смеха, хлопает ладонью по забору, тот пружинит и опасно трещит. Затем сосед высвистывает Коджака, и они удаляются.
Кел возвращается к бюро, качает головой, ухмыляется. Иногда он подозревает, что Март изображает из себя вахлака-балагура – то ли прикола ради, то ли чтоб приспособить Кела к посылкам за печеньем и за чем еще там может быть у него на уме. “Железно, – сказала б Донна в те времена, когда им еще нравилось придумывать, чем бы развеселить друг дружку, – железно, когда не при тебе, он расхаживает в смокинге и разговаривает, как королева английская. Ну или в «йизи» свои влезает и зажигает под Канье”[11]. О Донне Кел думает не постоянно, не то что поначалу – не один месяц подряд он упорно вкалывал, слушал музыку на полную громкость и орал футбольные кричалки как псих, когда б ни приходила она ему на ум, но в итоге все удалось. Правда, она все еще всплывает время от времени, когда Кел натыкается на такое, от чего она могла б улыбнуться. Доннина улыбка ему всегда нравилась – быстрая, полная, такая, что все черточки на лице взлетали вверх.
Наблюдая, как проходят через это его приятели, Кел предполагал, что если надраться, возникнет позыв звонить ей, а потому некоторое время воздерживался от выпивки, однако оказалось, что все не так. Пиво-другое-третье – и Донна будто в миллионе миль отсюда, в каком-то другом измерении, куда никакие телефоны не дозвонятся. Слабину Кел дает, как раз когда Донна застает его врасплох – вот как сейчас, невинным осенним утром, расцветая у него в уме так свежо и живо, что Кел едва ль не улавливает ее запах. И не вспомнить, почему нельзя достать телефон: “Эй, детка, ты послушай…” Возможно, лучше б стереть ее номер, но вдруг понадобится созвониться насчет Алиссы, да и памятен тот номер наизусть.
Бегунок наконец отрывается, и Кел вытаскивает плоскогубцами старые ржавые гвозди. Измеряет бегунок, записывает на нем цифры. Когда впервые оказался в строительном магазине – выбрал пару деревях разного размера, потому что есть же ящик с инструментами и потому что поди знай. Длинный сосновый брусок в самый раз по ширине для нового бегунка, толстоват, но не слишком. Кел прижимает его к столу и принимается обстругивать.
Дома план был бы такой: сцапать пацана вторично, только держать покрепче, закатить ему нотацию насчет вторжения в частные владения, нападения и оскорбления действием, малолетних правонарушителей и того, что случается с детьми, которые выебываются с легавыми, и, может, добавить подзатыльник да выкинуть со своей собственности. Но тут он не легаш, и Келу все крепче кажется, что он не ведает, чем дело может кончиться, а потому былые прихваты совсем не вариант. Как бы ни поступил он, надо, чтоб вышло толково и осторожно, и не переусердствовать.
Достругивает деревяшку до нужной толщины, рисует по линейке две линии, пропиливает вдоль каждой на четверть дюйма. Что-то в нем прикидывало, помнит ли он все еще, как этими инструментами пользоваться, но помнят руки: инструменты ложатся в ладонь так, будто они все еще теплы с тех пор, как он брался за них в предыдущий раз, и в дерево входят гладко. Приятно. Кел вновь насвистывает, не заботясь о мелодии, просто бросает милые трели и переливы птицам.
День разогревается так, что Келу приходится остановиться и снять фуфайку. Принимается не спеша вырезать полоску дерева между двумя пропиленными направляющими. Торопиться некуда. Малявке, кто б ни был, что-то надо. Кел дает ему возможность явиться и взять это.
Первый шум, поодаль за изгородью, доносится смазанным из-за Келова посвиста и шороха стамески, а потому Кел не уверен. Головы не поднимает. Берется за рулетку, проверяет направляющую – хватит ли по длине. Обходит стол, чтоб взять пилу, и тут слышит опять: резкий шелест ветвей, кто-то пригибается или увертывается.
Кел бросает взгляд на изгородь, наклоняется за пилой.
– Если хочешь глядеть, – говорит, – так вылезай да посмотри как следует. Иди сюда, поможешь мне с этим делом заодно.
Тишина за изгородью полная. Келу слышен ее гул.
Отпиливает бегунок, сдувает опилки, сравнивает со старым. После чего легко бросает его к изгороди, а следом кусок наждачной бумаги.
– Вот, – говорит он зарослям. – Ошкурь.
Берет стамеску и молоток, продолжает вырезать канавку. Тишина длится долго, и Кел думает, что упустил. Затем слышит треск – кто-то медленно и осторожно протискивается по кустам.
Кел продолжает работать. Засекает уголком глаза вспышку красного. Проходит немало времени, и доносится шорох наждака – неуклюжий, неумелый, с паузами между движениями.
– Шедевра никто не ждет, – говорит Кел. – Внутрь бюро пойдет, никто не увидит. Лишь бы занозы не торчали. Вдоль волокна шкурь, не поперек.
Пауза. Вновь шуршит наждак.
– Это мы бегунки делаем для ящиков. Знаешь, что это такое?
Поднимает взгляд. Так и есть, вчерашний детеныш, стоит в траве в дюжине футов от Кела, пялится на него, все мышцы наизготовку, чтоб удрать, если понадобится. Серенький ежик волос – стрижка под машинку, не по размеру большое линялое красное худи, ветхие джинсы. Лет двенадцать пацану.
Качает головой – один быстрый дерг.
– Это деталь, которая держит ящик на месте. Чтоб удобно выдвигать и задвигать. Тут вот канавка, по ней ходит вот эта штука на ящике. – Кел спокойно и плавно подается к бюро, показывает. Малой следит взглядом за каждым движением Кела. – Старые поломались. – Снова берется за стамеску. – Проще всего было б фрезой или циркуляркой, – говорит, – но под рукой нету. Повезло еще, что мой дед любил плотничать. Показал мне, как это делается вручную, когда я был примерно как ты. Плотничать пробовал?
Глядит еще раз. Малой повторно дергает головой. Жилистый, такие шустры и на вид, и на деле, но сильнее, и то и другое Кел уже понял по вчерашнему вечеру. С лица обычный: немного осталось еще детской мягкости, черты ни грубые, ни изящные, ни смазлив, ни уродлив; выделяются только упрямый подбородок да серые глаза, вперенные в Кела, будто проверяют его по цэрэушному компьютеру.
– Ну, – говорит Кел, – теперь вот попробовал. У нынешних-то ящиков бегунки металлические, а это старое бюро. Насколько старое, точно сказать не могу, я не спец. Было б здорово, если б это у нас оказалась штука, подходящая для “Антикварной ярмарки”[12], но, скорее всего, это просто старое барахло. А мне вот приглянулось. Хочу прикинуть, удастся ли починить и пользоваться.
Разговаривает как с бродячей собакой у себя во дворе, спокойно, ровно, о словах не очень-то задумываясь. Малой шкурит все быстрее и увереннее, осваивается.
Кел измеряет направляющую и отпиливает второй бегунок.
– Хватит уже небось, – говорит. – Дай-ка гляну.
– Это же для ящика, – говорит малой, – надо чтоб прям гладко было. А то застрянет.
Голос ясный и чистый, еще не ломался, выговор почти такой же густой, как у Марта. И малой не балбес.
– Верно, – соглашается Кел. – Давай тогда, не спеши.
Усаживается так, чтоб уголком глаза видеть пацана, пока вырезает. Тот относится к делу серьезно, проверяет все поверхности и кромки осторожным пальцем, проходится по ним еще, еще и еще, пока не остается доволен. Наконец вскидывает взгляд и бросает Келу бегунок.
Кел ловит.
– Молодец, – говорит, проверяя большим пальцем. – Глянь. – Прикладывает разом к шипу на боку ящика, двигает туда-сюда. Малой тянет шею посмотреть, но не приближается. – Как по маслу, – говорит Кел. – Потом навощим для пущей гладкости, но вряд ли понадобится. Давай второй. – Тянется за вторым бегунком, взгляд пацана упирается в пластырь у Кела на руке. – Ага, – говорит он. Поднимает руку, чтоб малой разглядел как следует. – Если воспалится, я на тебя обозлюсь не на шутку.
Глаза у пацана распахиваются, мышцы напрягаются. Того и гляди даст деру, ноги едва касаются травы.
– Ты за мной следил неплохо, – говорит Кел. – Есть на то причины?
Миг спустя малой качает головой. По-прежнему готов сбежать, глаза уставлены на Кела – уловить первую же попытку схватить.
– Что-то хочешь разузнать? Потому что если да, сейчас самое время спросить по-честному, прямиком, по-мужски.
Пацан опять мотает головой.
– Я тебя чем-то не устраиваю?
И вновь мотает головой – еще ожесточеннее.
– Ограбить меня хочешь? Птушта если да, то это зря. Плюс – если только эта фигня и впрямь не проканает для “Антикварной ярмарки” – воровать у меня нечего.
Мотает головой.
– Тебя кто-то подослал?
Изумленная гримаса, словно Кел сказал что-то дикое.
– Не-а.
– Ты все время так? Следишь за людьми?
– Нет!
– Что ж тогда?
Миг спустя малявка пожимает плечами.
Кел ждет, но ему ничего не сообщают.
– Лады, – говорит он наконец. – Не очень-то мне и важно зачем. Но херню эту мы прекращаем. Дальше, если охота на меня глядеть, гляди вот так. Лицом к лицу. Предупреждаю первый и последний раз. Понял?
Малой произносит:
– Ага.
– Хорошо, – говорит Кел. – Имя есть?
Малой самую чуточку расслабляется – понимает, что удирать не придется.
– Трей.
– Трей, – повторяет Кел. – Я Кел. – Малой кивает разок, словно подтверждая, что уже осведомлен. – Ты всегда такой общительный?
Малявка пожимает плечами.
– Пойду заправлюсь кофе, – говорит Кел. – И печеньем или еще чем. Печенье хочешь?
Если малого натаскивали бояться чужих, это оплошный шаг, но Келу не кажется, что пацана вообще на что бы то ни было натаскивали. И действительно – малой кивает.
– Ты его заслужил, – говорит Кел. – Сейчас вернусь. А ты пока дошкурь. – Бросает Трею второй бегунок и уходит по саду, не оборачиваясь.
В доме наливает себе большую кружку растворимого кофе, отыскивает упаковку печенья с шоколадной крошкой. Может, с его помощью удастся разговорить Трея, хотя Кел в этом сомневается. Не раскусишь этого пацана. То ли врет – в чем-то одном или больше, – то ли нет. Считывает в нем Кел лишь безотлагательность, такую насыщенную, что в воздухе вокруг малого звенит, как от жара, поднимающегося над шоссе.
Когда Кел возвращается в сад, Коджак вынюхивает поросль у сарая, а на забор опирается Март с ветчинной нарезкой в руке.
– Ишь ты поди ж ты, – говорит он, оглядывая бюро, – еще живо. Придется мне с дровами обождать.
Полуошкуренный бегунок и клок наждачки лежат в траве. Малого по имени Трей и след простыл, словно его тут и не было.
3
Несколько дней о Трее нет ни слуху ни духу. Келу не кажется, что дело разрешилось. Малой показался ему зверушкой дикой более прочих, а диким зверушкам требуется некоторое время, чтобы поразмыслить над нежданной встречей, прежде чем решиться на следующий шаг.
Льет день и ночь, слегка, но неумолимо, поэтому Кел заносит бюро в дом и вновь подступается к обоям. Этот дождь ему нравится. Нет в нем нахрапа, его постоянный ритм и запахи, какие он приносит с собой в окна, смягчают убогость дома, придают ему уют. Кел научился видеть, как меняется под дождем пейзаж, как зеленый делается насыщеннее, как поднимаются полевые цветы. Дождь ощущается союзником, а не докукой, как в городе.
Кел более-менее уверен, что малой не станет поганить ему дом, когда Кела в нем нет, – уверен настолько, что когда в субботу вечером дождь наконец стихает, отправляется в деревенский паб. Идти до него две мили – достаточно, чтобы в плохую погоду Кел сидел дома. Март и старичье в пабе находят потешным это его настойчивое желание ходить пешком – до того потешным, что едут рядом с ним в машине, поощряя криками или по-пастушьему его понукая. Келу кажется, что его громкий, ворчливый, престарелый красный “мицубиси-паджеро” слишком заметен и привлечет внимание любого скучающего легавого, болтающегося по округе, а дурное это дело – попадаться на вождении в нетрезвом виде, когда ему еще не выдали лицензию на оружие: в ней же могут и отказать, если узнают о его неумеренных привычках.
– Да и не должны они тебе ружье выписать, по-любому, – сообщил ему бармен Барти, когда Кел упомянул при нем об этом.
– Это еще почему?
– Ты ж американец. Вы у себя там все свихнулись на оружии. Палите из него за любой чих. Пристрелить можете кого-нибудь просто за то, что человек последнюю упаковку “Твинков”[13] купил в лавке. Нам всем остальным тут опасно станет.
– Много ты понимаешь в “Твинках”! – возразил Март из угла, где он устроился за пинтой с двумя приятелями. Как сосед Кела Март считает, что это его ответственность – вступаться, когда Келу достается подколка-другая. – Где твое детство, а где “Твинки”.
– Я, что ли, два года в Нью-Йорке на кранах не отработал? Йил я “Твинки”. Дрянь ебучая.
– И что, подстрелил тебя кто?
– Не подстрелил. Ума им хватило.
– А зря, – встрял один приятель Марта. – Тогда, может, бармен у нас был бы такой, кто путную шапку на пинту справить умеет.
– Нет тебе сюда ходу больше, – сказал ему Барти. – И поглядел бы я, как бы у него получилось.
– Ну и вот, – торжествующе сказал Март. – Да и нет у Норин “Твинков” уж всяко. Так что пущай будет у мужика ружье – и налей ему пинту уже.
Паб, именуемый “Шон Ог”[14] кособокими кельтскими буквами над дверью, находится в том же обшарпанном бежевом здании, что и лавка. Днем люди забредают и туда и туда – купить сигарет и пойти с ними в паб или завалиться с пинтой в лавку, опереться о прилавок и потрепаться с Норин, однако вечером дверь между лавкой и пабом заперта, если только Барти не понадобится хлеб да ветчина, чтоб слепить кому-нибудь сэндвич. Паб маленький, с низким потолком, на полу красный линолеум, там и сям куски потрепанного ковра, разложенные, судя по всему, от балды, разноперая смесь видавших виды барных стульев, треснутых зеленых пластиковых банкеток вокруг шатких деревянных столов, разнообразная дребедень на пивные темы, настенная плашка с резиновой рыбой, поющей “Переживу”[15], и заросшая паутиной рыбацкая сеть, приделанная к потолку. Тот, кто вешал эту сеть, художественно разместил в ней несколько стеклянных шаров – для полной красоты. За годы завсегдатаи добавили к этому многочисленные бирдекели, резиновый сапог и фигурку Супермена без одной руки.
По понятиям самого паба, у “Шона Ога” сегодня оживленно. Март и пара его приятелей сидят в углу, дуются в карты с двумя невзрачными молодыми ребятами в добытых где-то спортивных костюмах. Впервые увидев у Марта и его корешей картишки, Кел предположил покер, но играют они во что-то под названием “пятьдесят пять” – с прытью и ражем, непропорциональными мелким кучкам монет на столе. Судя по всему, игра лучше всего идет, когда игроков четверо или пятеро, и когда больше никого нет, они пытаются привлечь Кела; Кел, понимая, что не ему тягаться, воздерживается. Молодые ребята продуют свои заработки – если они есть, что Келу видится маловероятным.
Параллельная компания мужиков спорит у бара. Третья группа – в другом углу, слушает, как кто-то играет на вистле, мелодия быстрая, прихотливая, все хлопают себя в такт по коленкам. На скамейке сама по себе сидит женщина по имени Дейрдре, держится обеими руками за стакан, уставившись в пустоту. Кел в Дейрдре не очень врубается, хотя в общем и целом смекает. Ей за сорок, невзрачная тетка в тоскливых платьях и с неприятно смутным взглядом больших скорбных глаз. Время от времени кто-нибудь из старичья покупает ей двойной виски, они сидят рядком и пьют, не говоря друг дружке ни слова, а потом вместе уходят – все так же безмолвно. Вызнавать подробности у Кела нет никакого намерения.
Он усаживается у бара, заказывает Барти пинту “Смитика”[16] и сколько-то слушает музыку. С именами он тут пока не совсем разобрался, хотя почти все лица ухватил, а также некую суть в личностях и отношениях. Что простительно, если учесть, что клиентура паба – переменчивая толпа чисто выбритых белых мужиков за сорок, одетых в более-менее одинаковые ноские брюки, утепленные жилеты и древние свитеры, и выглядят эти люди как родня; но, если сказать по правде, после двадцати пяти лет ведения сложной умственной базы данных по всем, на кого натыкался по службе, Кел упивается праздным удовольствием не заморачиваться и не запоминать, кто у нас тут Сынуля – который хохочет громко или у кого ухо драное. Кел хорошо соображает, от кого держаться подальше, а к кому поближе, в зависимости от того, охота ли ему поболтать – и о чем именно, и этого, как он понимает, более чем достаточно.
Сегодня вечером он собирается послушать музыку. Вистл впервые услышал, когда сюда перебрался. Вряд ли такой звук ему бы понравился, скажем, на школьном концерте или в полицейском баре посреди Чикаго, но тут он уместен – ладно сочетается с теплой, откровенной потрепанностью паба, и Кел пронзительно осознает безмолвные просторы, расстилающиеся во все стороны за этими четырьмя стенами. Когда тощий, как кузнечик, старичок-музыкант несколько раз в месяц достает свою дудочку, Кел усаживается на пару стульев подальше от трепачей и слушает.
Это означает, что на спор, происходящий у барной стойки, Кел обращает внимание к середине второй пинты. Улавливает он его, потому что спор этот вроде как необычный. В основном дискуссии тут потасканные – такие тянутся годами или даже десятилетиям, время от времени возникая, когда нет ничего свежего для обсуждения. Касаются они в основном методов ведения сельского хозяйства, сравнительной пользы разных местных и национальных политиков, надо ль заменить стенку на западной стороне Строукстаунской дороги на забор, а также милый ли современный шик или выпендреж – зимний сад Томми Мойнихана. Всем уже известно, кто какого мнения обо всем, – кроме Марта, поскольку он склонен регулярно менять свои воззрения, чтоб все оставалось интересным, – и публика ждет вклада Кела в беседу, чтоб ее как-то взбодрить.
У текущего же спора тон другой, громче и вздорнее, словно он не отрепетирован.
– Ни от какой собаки так не бывает, – упрямо твердит мужик в конце барной стойки. Мелкий, круглый, с маленькой круглой головой, насаженной сверху, вечный мальчик для битья; обычно его это не раздражает, но в этот раз лицо у него пунцовое от пыла и ярости. – Ты хоть видал те надрезы? Не зубами оно сделано!
– Ну и кто ж тогда? – спрашивает здоровенная лысая махина рядом с Келом. – Феечки, что ль?
– Отыбись. Говорю просто, что не зверь это.
– Только не, блить, пришельцы опять, – встревает третий, поднимая взгляд от пинты. Тощая угрюмая дылда, кепка натянута чуть ли не на нос. От него Кел слышал в сумме примерно пять фраз.
– Нечего тут подначивать, – приказывает ему коротышка. – Ты так говоришь, потому что не осведомлен. Обращай ты внимание на то, что происходит прямо у тебя над тупой башкой…
– Мне б ворона в глаз сракнула.
– Вот его спросим, – говорит здоровяк, показывая большим пальцем на Кела. – Нейтральную сторону.
– Ага, конечно, много он понимает в этом?
Здоровяк – Кел почти уверен, что его зовут Сена́н, и последнее слово, как правило, за ним – этой репликой пренебрегает.
– Подь сюды, – говорит он, повертывая свою тушу на барном стуле лицом к Келу. – Слушай. Позавчера ночью кто-то убы́л Боббину овцу. Забрал глотку, язык, глаза и жопу, остальное оставил.
– Не забрал, а отчикал, – поправляет Бобби.
Сенан и в этот раз пренебрегает.
– Что скажешь, кто такое сделал, а?
– Я не спец, – говорит Кел.
– Я не прошу экспертного научного мнения. Здравого смысла прошу. Кто такое сделал?
– Будь я игрок, – говорит Кел, – я б поставил на животное.
– Какое? – требует ответа Бобби. – У нас тут ни койотов, ни пум. Лиса взрослую овцу не тронет. Бродячая собака порвет в клочья.
Кел жмет плечами.
– Может, собака вырвала глотку, а потом ее спугнули. Остальное – птицы.
Повисает мгновенная пауза, Сенан вскидывает бровь. Все считали Кела городским мальчонкой, что правда лишь отчасти. Производят переоценку.
– Вот, пожалуйста, – говорит Сенан Бобби. – А ты с пришельцами своими срамишь нас на весь белый свет. Он же с этим в Америку вернется, и они там себе станут думать, что мы дикари стоеросовые, верим всему на свете.
– У них в Америке тоже есть пришельцы, – оборонительно говорит Бобби. – У них больше всех, это точно.
– Нету никаких, ебте, пришельцев.
– Полдесятка людей видали те огни прошлой весной. Это, по-твоему, что было? Феечки?
– Потин[17] Малахи Дуайера это был. Пара глотков этого дела, так и я огни увижу. Как-то раз ночью шел от Малахи домой и видел, как дорогу мне перешла белая лошадь в шляпе-котелке.
– Она овцу тебе сгубила?
– Да меня самого чуть не. Я подскочил так, что кувырком в канаву слетел.
Келу на его табурете удобно, он попивает пиво и ценит происходящее. Эти ребята напоминают ему деда и его приятелей по крылечку, те точно так же наслаждались обществом друг друга, развешивая друг другу лапшу по ушам, а еще они напоминают Келу полицейский участок – до того, как сквозь напускное просочится зыбучий слой нешуточного злобства, или, может, как раз перед тем, как Кел начнет его замечать.
– Мой дед и трое его приятелей разок видали НЛО, – говорит он, просто чтоб немножко подкормить беседу. – Были на охоте вечером, уже после заката, и тут прилетел здоровенный черный треугольник с зелеными огнями по углам и повисел над ними недолго. Ни звука не подал. Дед говорил, что они там чуть не обделались.
– Ах ты ж господи, – с отвращением говорит Сенан. – И ты туда же. Есть тут вообще кто-то хоть чуток при уме?
– Вот! – торжествующе говорит Бобби. – Слыхал? А ты пар пускаешь, что там янки про нас подумает.
– Окстись, а. Он тебе потрафить хочет.
– Дед божился, – лыбясь, говорит Кел.
– Дед твой с самогонщиками не водился, а?
– Одного-другого знавал.
– Я б сказал, хорошо он их знавал. Прикинь сам, – говорит Сенан, вновь поворачиваясь к Бобби и показывая на него стаканом. Этот спор того и гляди войдет в постоянный репертуар. – Допустим, есть они, пришельцы. Допустим, решают они выделить время и технику, чтоб прилететь на Землю за все эти световые годы с Марса или откуда там еще. Они б себе нашли хоть стадо всяких зебр, чтоб экспериментировать на них, или справных ладных носорогов, или податься в Австралию и взять там ораву кенгурей, и коал, и херни несусветной – для потехи-то. Но они-то… – тут он возвышает голос, заглушая возражающего Бобби, – они-то, а, прилетают черт-те откуда и выбирают твою овцу. Они там, на Марсе, совсем ку-ку, что ли? Головушкой мягонькие?
Бобби вновь надувается.
– Все нормально у меня с овцами. Они лучше, блить, коал. Лучше твоих паршивых колченогих…
Кел перестает обращать внимание. За столом у Марта качество разговора поменялось.
– Я поставил двадцатку, – говорит один из молодых ребят, и Кел узнаёт этот тон. Обиженный тон человека, собирающегося настаивать, даже если вечер из-за этого у всех сложится значительно сквернее необходимого, что он понятия не имеет, как эта трубка для крэка оказалась в кармане его штанов.
– Хорош, – говорит кто-то из приятелей Марта. – Двадцать пять ты ставил.
– Ты меня жухлом назвал?
Парню двадцать с чем-то, для фермера он слишком мягок и слишком бледен; пухлый, сальная темная челочка, над губой нечто, стремящееся рано или поздно стать усами. Кел замечал его и раньше пару раз – в дальнем углу, в компашке с другим молодняком из тех, кто пялится на секунду дольше нужного. Ни разу не потолковав с ним, Кел довольно уверенно мог бы перечислить немало разных фактов о нем.
– Никем я тебя не назову, если ты этот банк вернешь, – говорит приятель Марта.
– Не верну, бля. Все чин чином.
За спиной у Кела спор затих; затих и вистл. Осознание того, что он не вооружен, догоняет Кела яркой вспышкой адреналина. Этот парень из тех, кто способен таскать при себе “глок”, лишь бы самому себе казаться крутым гангстером, при этом понятия не имея, как пользоваться оружием. Секунда требуется на то, чтобы вспомнить, что здесь такое маловероятно.
– Ты слышал, как я сказал “двадцать”, – говорит пухляк своему дружку. – Давай, подтверди.
Дружок – тощий, большеногий, с торчащими зубами, из-за которых у него отвисает челюсть, а общий вид такой, будто он тут последний, кто понимает, что вообще произошло.
– Да я не расслышал, – говорит он, моргая. – Это ж всего пара фунтов[18], Дони.
– Жухлом меня никому звать нельзя, – произносит Дони. Взгляд у него делается бычий, и Келу это не нравится.
– А я буду, – сообщает ему Март. – Жухло. И сам знаешь, что ты даже хуже, ты, блить, жухло бездарное. И у младенчика вышло б лучше.
Дони отшвыривает свой табурет от стола, раскидывает руки, подзывает Марта.
– Урою. Давай.
Дейрдре испускает прочувствованный визг. Кел понятия не имеет, что предпринять, и от этого теряется еще больше. Дома он бы сейчас встал, после чего Дони либо угомонился бы, либо удалился – так или иначе. Здесь это вроде как не вариант – не потому что при Келе ни пушки, ни бляхи, а потому что он не знает, как в этих краях обходятся и есть ли у него право хоть что-то тут предпринимать. Его вновь охватывает ощущение легкости, словно он угнездился на краешке своего табурета, как птица. Ловит себя на мысли: пусть Дони попрет на Марта, и тогда станет ясно, что делать.
– Дони, – говорит Барти из-за стойки, показывая на парня посудной тряпкой, – пшел отсюда.
– Я ж ничего. Этот хрен меня назвал…
– Пшел.
Дони складывает руки на груди и плюхается на свое место, отвесив нижнюю губу, упрямо вперяется в пространство.
– Ой да бля, – с отвращением произносит Барти. Швыряет тряпку и выходит из-за бара. – Подсоби-ка, – попутно говорит он Келу.
Барти на несколько лет моложе Кела, однако, в общем, не мельче. Они подхватывают Дони с боков и выводят его через весь бар, обходя табуреты и столы, к дверям. Большинство стариков ухмыляется; у Дейрдре рот нараспашку. Дони обмякает и делается балластом, ноги волокутся по линолеуму.
– Встань как мужчина, – велит ему Барти, возясь с дверью.
– У меня там полная пинта, – взбешенно говорит Дони. – Ай! – Это Барти полуслучайно задевает плечом Дони о дверной косяк.
На обочине Барти тащит Дони, чтоб придать ему разгона, после чего мощно пихает вперед и отпускает. Дони, спотыкаясь, летит через дорогу, размахивает руками. Спортивные штаны сползают, он, путаясь в них, падает.
Барти и Кел смотрят, переводя дух, пока Дони встает и подтягивает штаны. На нем тесные белые трусы.
– В следующий раз скажи маме, чтоб купила тебе подштанники как у больших пацанов, – выкрикивает Барти.
– Я тебя сожгу нахер, – без особой убежденности орет Дони.
– Иди домой и погоняй лысого, Дони, – отвечает Барти. – Ни на что ты больше не годен.
Дони озирается и видит брошенную сигаретную пачку, швыряет ее в Барти. Недолет шесть футов. Дони плюет в сторону Барти и топает прочь по дороге.
Уличных фонарей никаких, в домах у дороги всего пара огоньков; половина домов пусты. Несколько секунд – и Дони исчезает из виду. Шаги слышно дольше, эхо отлетает от построек во тьму.
– Спасибо, – говорит Барти. – В одиночку я б спину посадил. Жирный мудилка.
Из паба выходит тощий и стоит на ступеньке – силуэт в желтом свете, чешет спину.
– Где Дони? – спрашивает.
– Ушел домой, – отвечает Барти. – И ты тоже иди, Джей-Пи. На сегодня тебе тут хватит.
Джей-Пи осмысляет.
– У меня его куртка, – говорит он.
– Тогда отнеси ему. Давай.
Джей-Пи послушно ковыляет в потемки.
– Часто этот парень бузит? – спрашивает Кел.
– Дони Макграт, – отвечает Барти и плюет на обочину. – Филон сраный.
Кел понятия не имеет, что это значит, хотя тон предполагает что-то вроде разгильдяя.
– Я его тут уже видел.
– Время от времени. Молодые ребятки в основном в город ездят, ищут, с кем бы покувыркаться, но когда у них на это нет денег, приходят сюда. Но все равно он теперь сколько-то не полезет. А потом приплывет со своими дружками как ни в чем не бывало.
– Он что, и впрямь может попробовать тебя поджечь?
Барти фыркает.
– Есусе, нет. У Дони кишка тоньше вошьей. А это будет слишком тяжкий труд.
– Считаешь, безобидный?
– Да он, бля, просто бесполезный, – отрезает Барти. За спиной у него опять вступает вистл, точный и бойкий. Кел выкидывает Дони из головы и возвращается в паб.
Происшествие, кажется, вообще никого толком не обеспокоило. Март и его приятели перегруппировались и начали новый кон в “пятьдесят пять”; спор у барной стойки переключился на достоинства сборной по хёрлингу этого года. Барти выдает Келу бесплатную пинту. Дейрдре допивает свое, обводит паб долгим обреченным взглядом и, когда никто ей в глаза не смотрит, выплывает вон.
Но Кел все равно остается побыть еще – растягивает перепавшую дармовщинку, пока Март с приятелями не доигрывают и не начинают собираться. Как раз Март-то и назвал Дони жухлом. Когда Март предлагает подбросить Кела домой – что случается всякий раз, исключительно ради удовольствия поддразнить, когда тот отказывается, – Кел соглашается.
Март умеренно пьян – достаточно, чтобы уронить ключи на коврик под рулем, а потому вылезает из машины и возится в поисках.
– Не волнуйся, – говорит он с ухмылкой, замечая, какое у Кела лицо, и хлопая ладонью по борту машины – синей развалюхи-“шкоды”, обляпанной грязью и крепко смердящей мокрой псиной. – Эта хрень знает дорогу от паба до дома, даже если я усну за рулем. Ей доводилось.
– Здорово, – говорит Кел, поднимая ключи и вручая их Марту. – Мне полегчало.
– Что с рукой? – спрашивает Март, старательно забираясь в кабину.
Рука у Кела заживает нормально, однако пластырь он не отлепляет, чтоб никто не заметил укуса.
– Ножовкой зацепил, – отвечает.
– То-то и оно, – говорит Март. – В следующий раз послушаешь меня и пойдешь на те сайты в интернете. – Заводит машину, она кашляет, содрогается и устремляется вперед по дороге с пугающей прытью. – Что там нес этот обормот Сенан? Что-то насчет Боббиной овцы?
– Ага. Бобби считает, это пришельцы. Сенан с ним не согласен.
Март сипит смехом.
– Я б сказал, ты думаешь, у Бобби чердак не на месте, а?
– Не-а. Я ему втер про то, как мой дед видал НЛО.
– Это ты его осчастливил, раз так, – говорит Март, сворачивая с основной дороги и с мерзким скрежетом переключая передачу. – Бобби не псих. Беда у него только в том, что он слишком много работает на земле. Работа мировецкая, но если человек не полный пень, уму его неймется. Мы, все остальные, в основном с этим справляемся – семья там, картишки, выпивка или еще что. А Бобби холостяк, для выпивки голова у него слабовата, да и в карты у него получается так паршиво, что мы его играть не берем. И вот когда уму-то неймется, Бобби, никуда не денешься, топает в холмы и там ловит НЛО. Ребята хотят купить ему гармонику, еще чем-нибудь его занять, но сам я хоть весь день бы слушал его про пришельцев этих.
Кел осмысляет сказанное. Пришельцы кажутся ему более удачным лекарством от неугомонного ума, чем кое-какие прочие средства из Мартова списка. То, как Март ведет автомобиль, поддерживает предположение Кела.
– Так ты не считаешь, что его овцу пришельцы убили? – спрашивает он, просто чтоб подзудить Марта.
– Едрить, иди ты нахер.
– Он говорит, нет в этих краях такого, кто так мог бы.
– Бобби не всё в этих краях знает, – отвечает Март.
Кел ждет, но Март свою мысль не развивает. Машина скачет на ухабах. Фары освещают узкую полосу грунтовки и плещущие ветви по обеим сторонам; внезапно вспыхивает пара светящихся глаз, низко над дорогой, – и нет их.
– Приехали, – сообщает Март, ударяя по тормозам у ворот к Келу. – Цел-невредим. Говорил же тебе.
– Можешь высадить меня возле себя, – предлагает Кел. – Чисто на случай, если у тебя там делегация встречающих.
Март секунду таращится на него, а затем хохочет так надсадно, что складывается пополам от кашля, лупит ладонью по рулю.
– Бляха-муха, – говорит он, придя в себя. – У меня свой рыцарь в сияющих доспехах завелся, проводит до дома. Ты ж, к богу в рай, не о фуфеле этом Дони Макграте беспокоишься? А еще называется с большого злого города.
– У нас такие пацанчики в городе тоже водятся, – говорит Кел. – И там они мне тоже не нравятся.
– Дони ни с того боку, ни с этого не подойдет ко мне, – заявляет Март. Последний смех все еще морщит ему лицо, но в голосе слышна фальшивая нота, от которой Кел торопеет. – Ума ему хватит.
– Уважь меня, – говорит Кел.
Март хихикает, качает головой и вновь заводит машину.
– Ладно, раз так, – говорит он. – Главное, прощального поцелуя не жди.
– Мечтай, – отзывается Кел.
– Прибереги для Лены, – отбривает Март и хохочет всю дорогу.
В жилище Марта – длинном белом доме с мелкими окошками, изрядно вдали от дороги, посреди некошеной травы – над крыльцом горит лампочка, а когда Март открывает дверь, Коджак выходит встретить хозяина. Кел вскидывает руку и ждет, пока Март не приподнимет твидовую кепку в дверях, пока внутри не зажжется свет. Дальше ничего не происходит, и Кел отправляется домой. Даже если Дони Макграт проявит не свойственную ему предприимчивость, Коджак – хорошая поддержка. Однако из-за чего-то в общей картине – Март в дверях, непринужденный средь полей и громадной тьмы, где гуляет ветер, рядом Коджак виляет хвостом – Кел чувствует себя немножечко нелепо, хоть и не по-плохому.
Его калитка примерно в четверти мили от Мартовой. Небо ясное, луны достаточно, чтоб не терять дорогу без фонарика, хотя раз-другой наползают тени деревьев, Кел путается и чувствует, как одной ногой погружается в глубокую траву вдоль обочины. Высматривает то, что появлялось перед машиной, но оно либо убежало, либо насторожилось. Горы на горизонте – будто кто-то достал карманный ножик и вырезал опрятные контуры густого звездами неба, оставив пустую черноту. Там и тут разбросаны желтые прямоугольники окон, крошечные, отважные.
Келу здешние ночи нравятся. Чикагские были слишком людными и беспокойными, вечно где-нибудь громкая вечеринка, а еще где-то ссора все шумнее, и хнычет, хнычет без умолку ребенок, и Кел слишком много знал о том, что происходит в потайных уголках и способно выплеснуться в любую минуту, требуя его внимания. Здесь же он располагает уютным знанием, что происходящее в ночи не его ума дело. В основном оно самодостаточно: мелкие дикие охоты, баталии и свидания, где от рода людского ничего не требуется, лишь бы не лезли. И даже если под этой великой мешаниной звезд происходит такое, что требует легавого, Кел тут ни при чем. Это вотчина местных ребят из сельца, и они, надо полагать, тоже предпочли бы, чтоб он не лез. Это Келу по плечу – более того, он этим упивается. Малой по имени Трей, вернув ночи эту необходимость бдеть и внимать, показал Келу яснее некуда, до чего же он по всему этому не скучает. Келу приходит в голову, что, возможно, в нем есть нераскрытый доселе талант не будить лихо, пока оно тихо.
Его жилище так же безмятежно, как Мартово. Кел открывает пиво, извлеченное из мини-холодильника, и усаживается с ним на заднем крылечке. Рано или поздно выстроит себе дворовую веранду и добудет в придачу мощное кресло, но пока хватит и ступенек. Куртку не снимает – воздух покусывает, сообщая тем самым, что осень тут уже не на шутку, игры кончились.
Где-то над землями Марта слышен клич совы. Кел некоторое время всматривается и улавливает намек на нее – между деревьями лениво плывет всего лишь штрих тени погуще. Кел размышляет, мог бы он, сложись все иначе, жить вот так: починять то-сё, сиживать на крыльце с пивом, смотреть на сов – и пусть остальной мир хлопочет как хочет. Не вполне смекает, как сам к этому относится. Ему не по себе, и он не до конца понимает, как именно.
Чтоб отделаться от внезапного непокоя, насевшего на него, словно комариная тучка, Кел вытаскивает из кармана телефон и звонит Алиссе. Он звонит ей каждые выходные. Трубку она обычно снимает. А когда не снимает, пишет в Вотсапп, часа в три-четыре ночи по времени Кела: “Прости, пропустила, была занята! Созвонимся!”
В этот раз отвечает.
– Привет, пап. Как дела?
Голос быстрый, нечеткий по краям, как будто она держит трубку подбородком, занимаясь попутно чем-то еще.
– Привет, – говорит Кел. – Занята?
– Нет, все в порядке. Прибираю тут кое-что.
Кел прислушивается, пытается разобрать, что именно, однако доносятся лишь случайные шорохи и стуки. Пытается представить ее. Высокая, спортивная, лицо – чудесный сплав его и Донны: синие глаза Кела и его ровные брови, подвижные, устремленные вверх черты Донны; Кел обожает это лицо. Беда в том, что он до сих пор представляет себе, как она бегает в обрезанных джинсах и просторной толстовке, волосы собраны в гладкий каштановый хвостик, и понятия не имеет, соотносится ли это сейчас с действительностью хоть как-то. Последний раз они виделись на Рождество. Может, она остриглась коротко, выкрасилась в блондинку, накупила костюмов, набрала двадцать фунтов и носит зверский макияж.
– Как ты? – спрашивает он. – Грипп прошел?
– Обычная простуда. Прошла.
– Как на работе?
Алисса работает в некоммерческой структуре в Сиэтле, что-то связанное с подростками из групп риска. Кел пропустил, что там к чему, когда она впервые рассказала ему, что нанимается на эту работу, – нанималась она много куда, а Кела почти целиком занимали его собственная работа и Донна, – а теперь уж поздно было расспрашивать.
– Работа хорошо. Мы добыли грант – большое облегчение, будем, значит, пахать дальше еще сколько-то.
– Как там тот малой, о котором ты беспокоилась? Шон, Дешон?
– Шон. В смысле, он продолжает заходить, это главное. Я все еще думаю, что дела у него дома паршивые, прям очень паршивые, но как ни спрошу – он весь замирает. В общем…
Умолкает. Кел с радостью придумал бы что-нибудь полезное, но почти все его методы добавлять людям разговорчивости выработаны для случаев, имеющих с этим мало общего.
– Дай время, – говорит он в конце концов. – У тебя получится.
– Лады, – говорит Алисса чуть погодя. Голос у нее кажется вдруг очень усталым. – Надеюсь.
– Как там Бен? – спрашивает Кел.
Бен – Алиссин парень, еще с колледжа. Парнишка вроде годный, немножко слишком рьяный и болтливый, когда дело касается его мнений об обществе и о том, чем все должны заниматься, чтоб его усовершенствовать, но Кел не сомневается: так или иначе он и сам мог достать кого угодно в свои двадцать пять.
– Нормально. Дуреет на той работе, но на следующей неделе у него собеседование, так что скрестим пальцы.
Сейчас Бен работает в “Старбаксе” или что-то в этом роде.
– Пожелай ему от меня удачи, – говорит Кел. Он всегда улавливал, что Бен от него не в восторге. Поначалу было плевать, но сейчас кажется, что нужно попытаться это как-то исправить.
– Передам. Спасибо.
– От мамы слышно что-нибудь?
– Ага, у нее все хорошо. А у тебя как? Как дом?
– Дело движется, – отвечает Кел. Знает, что Алисса не хочет обсуждать с ним Донну, но иногда не может удержаться. – Потихоньку – но времени у меня навалом.
– Я получила фотки. Туалет смотрится отлично.
– Ну уж, не настолько. Но теперь по крайней мере не выглядит так, будто я в нем от зомби отбивался.
Это Алиссу смешит. Даже малюткой она смеялась здорово – громко, богато, просторно. У Кела перехватывает дух.
– Тебе надо сюда в гости, – говорит. – Тут красиво. Тебе понравится.
– Ага, эт-точно. Надо. С работы только сорваться, ну ты понимаешь.
– Ну, – говорит Кел. Через секунду: – В любом случае, думаю, лучше подождать, пока я не приведу тут все в порядок. Ну или пока не обзаведусь мебелью.
– Точно, – говорит Алисса. Не разобрать, воображает ли он облегчение у нее в голосе. – Сообщай.
– Ага. Скоро.
Гаснет вдали за полями крошечное освещенное окошко. Сова все еще кличет, невозмутимо, неуклонно. Келу хочется сказать еще что-то, подержать дочь на телефоне подольше, но ничего не придумывается.
– Ты бы поспал, – говорит Алисса. – Который у тебя там час?
Когда Кел завершает звонок, в нем та же пустота, какая возникает последнее время всякий раз после разговора с Алиссой, – ощущение, что, несмотря на состоявшийся звонок, они вообще не поговорили: вышел сплошной воздух и перекати-поле, ничего осязаемого. Пока была малюткой, она трусила рядом с ним, держала за руку и рассказывала все на свете, хорошее и плохое, все выливалось прямиком из ее сердца на язык. Когда это поменялось, Кел не помнит.
Облако непокоя не развеялось. Кел берет себе еще пива, выносит на ступеньки. Вот бы Алисса прислала ему фотки своей квартиры. Он разок попросил, она пообещала, но с тех пор ничего. Кел надеется, что у нее просто руки не дошли, а не потому что Алисса живет в какой-то дыре.
В зарослях в глубине сада потрескивает ветка.
– Малой, – устало произносит Кел, возвышая голос, чтоб долетело по-над травой. – Не сегодня. Иди домой.
Чуть погодя из изгороди осторожно выступает лиса, замирает, глядя на Кела; из пасти у нее свисает нечто мелкое и вялое, лисьи непроницаемые глаза посверкивают в лунном свете. Затем лиса пренебрегает Келом как чем-то несущественным и убегает по своим делам.
4
Малой возвращается через два дня. Поскольку день после дождливого начала развиднелся, Кел и бюро вновь в саду. С бегунками от ящиков разобрались в прошлый раз, теперь Кел берется за отсеки для бумаг, под откидной крышкой. Деревяшки, из которых они сработаны, вставлены в пазы причудливым зигзагом; несколько сломано. Кел укладывает бюро задней стенкой на холстину, фотографирует всю конструкцию телефоном, после чего осторожно извлекает поломанные фрагменты, сколупывая старый клей скальпелем, и замеряет их, чтобы подготовить замену.
Доделывает первый, вычищает последний паз, чтоб деревяшка вошла как родная, и тут слышит треск сучьев. На этот раз никаких игр затевать не приходится. Малой протискивается сквозь изгородь, останавливается, смотрит, руки в карманах худи.
– Доброе утро, – говорит Кел.
Малой кивает.
– На, держи, – говорит Кел, протягивая деревяшку и протягивает кусок наждачки.
Малой подходит, забирает из рук, не помедлив. Похоже, с их последней встречи Кел у него переместился из категории “Опасное неизвестное” в “Безопасное известное” на основании некоего таинственного рассуждения, как это бывает у собак. От прогулок по мокрой траве джинсы у пацана сырые до икр.
– Эта часть будет на виду, – говорит Кел, – поэтому тут будем чуть привередливее. Когда с этой шкуркой закончишь, я тебе другую дам, помельче.
Трей осматривает деревяшку у себя в руках, затем – разломанный исходник на бюро. Кел показывает на брешь среди отсеков.
– Вот сюда.
– Не тот цвет.
– Затемним в тон. Потом.
Трей кивает. Садится на корточки в траву в нескольких футах от холстины и берется за работу.
Кел принимается вычерчивать карандашом следующую деревяшку, усевшись так, чтобы поглядывать на пацана. Худи явно выдали донашивать, из дыры в кроссовке торчит большой палец. Малой нищ. Но дело не только в этом. Кел видал предостаточно детей беднее этого, но за ними рьяно ухаживали, а вот чистая ли шея и заштопаны ли вытертые штаны на коленках у этого пацана, никто не проверяет. Вроде кормят его более-менее – но мало что сверх того.
Оставшиеся капли дождя отстукивают в изгороди; в траве скачут и клюют мелкие птахи. Кел пилит, измеряет, вырезает пазы и канавки и выдает Трею наждачку помельче, когда пацан заканчивает с крупной. Кел чувствует, что малой поглядывает на него, – так же, как сам он поглядывает на малого, оценивает. Обычно Кел посвистывает тихонько себе под нос время от времени, но в этот раз молчит. Сегодня очередь пацана.
Похоже, малого на это он назначил оплошно: Трею молчать легко. Дощечку он выделывает, пока полностью не удовлетворяется, несет ее Келу, протягивает.
– Хорошо, – говорит Кел. – Давай еще одну. Эту навощу здесь и здесь, видишь? И вставлю на место.
Трей нависает минуту-другую, смотрит, как Кел втирает воск в пазы, после чего возвращается на свое место и вновь принимается шкурить. Впрочем, ритм меняется, он теперь быстрее, небрежнее. Первая дощечка – чтоб утвердить себя. Теперь дело в шляпе, и на уме у пацана еще что-то, ищет выхода.
Кел не обращает внимания. Опускается на колени перед бюро, пристраивает полочку и принимается осторожно по ней постукивать, чтоб вошла в пазы.
Трей у него за спиной произносит:
– Говорят, вы легавый.
Кел чуть по пальцу себе не попадает. Эти сведения о своей персоне он тщательно скрывает, отталкиваясь от своего опыта общения с людьми на родине деда, в лесах Северной Каролины, где легавый, да вдобавок пришлый, – не на пользу репутации. Кел понятия не имеет, как это смогли тут выяснить.
– Кто говорит?
Трей жмет плечами, шкурит.
– В другой раз, может, не слушай.
– Вы легавый?
– Я похож, по-твоему?
Трей осматривает его, щурясь против света. Кел не отводит взгляд. Знает, что ответ “нет”. Для этого он и растил бороду, и волосы отпустил, чтобы не выглядеть как легавый и не чувствовать себя им. “Больше как снежный человек”, – сказала б Донна, улыбаясь и накручивая прядь его волос на палец, чтоб подергать.
– Не-а, – говорит Трей.
– Ну и вот.
– Но вы все равно легавый.
Кел уже решил: незачем придуриваться, если люди все равно знают. Обдумывает сделку: ты мне расскажешь, где это услышал, а я отвечу на твои вопросы, но решает, что не прокатит. Малой любопытен, но стучать на своих не станет. Со сделками придется чуток обождать.
– Был, – говорит. – Больше нет.
– Почему?
– Ушел на пенсию.
Трей оглядывает его.
– Вы не такой уж старый.
– Спасибо.
Малой не улыбается. Судя по всему, сарказм не по его части.
– Почему уволились-то?
Кел возвращается к бюро.
– Все стало говенней. Ну или вроде того.
Запоздало спохватывается насчет бранных слов, но пацана вроде не только не шокирует, но даже не ошарашивает. Он просто ждет.
– Люди с ума посходили. Кажется, будто вообще все сбесились.
– Насчет чего?
Кел осмысляет вопрос, постукивая по углу полочки.
– Черные сбесились из-за того, что с ними обходятся как с фуфлом. Паршивые легавые сбесились, потому что внезапно их призвали к ответу за их херовое поведение. Хорошие легавые сбесились, потому что теперь они гады, хотя ничего такого не делали.
– А вы были хороший легавый или паршивый?
– Стремился быть хорошим, – говорит Кел. – Но так любой скажет.
Трей кивает.
– А вы сбесились?
– Я устал, – говорит Кел. – Сил нет, как устал. – И это правда. Каждое утро просыпаешься будто с гриппом, зная, что предстоит топать мили и мили по горам.
– И уволились.
– Ага.
Малой пробегает пальцами по деревяшке, проверяет, вновь шкурит.
– А чего сюда приехали?
– А чего б нет?
– Сюда никто не переезжает, – говорит Трей, словно объясняя тупице очевидное. – Только отсюда.
Кел загоняет полочку еще на четверть дюйма; входит туго, это хорошо.
– Меня замучила говенная погода. У вас тут, ребята, ни снега, ни жары – таких, какие для нас считаются, уж всяко. И хватит с меня больших городов. Тут дешево. И рыбалка хорошая.
Трей наблюдает, серые немигающие глаза, в них скепсис.
– Говорят, вас уволили за то, что кого-то подстрелили. Типа по работе. И вас собирались арестовать. А вы сбежали.
Такого Кел не ожидал.
– Это кто ж такое сказал?
Жмет плечами.
Кел осмысляет, как быть дальше.
– Ни в кого я не стрелял, – говорит он в конце концов – и не кривит душой.
– Никогда?
– Никогда. Слишком много телик смотришь.
Трей не сводит с него глаз. Малявка вообще редковато смаргивает. Кел начинает опасаться за здоровье его роговицы.
– Не веришь – пробей меня в Гугле. Если б что-то такое случилось, в интернете полно было б.
– У меня нет компьютера.
– Телефон?
Уголок рта у Трея кривится: не-а.
Кел вытаскивает телефон из кармана, снимает блокировку, бросает на траву перед Треем.
– Вот. Келвин Джон Хупер. Связь хреновая, хотя в конце концов даст погуглить.
Трей к телефону не прикасается.
– Что?
– Это, может, не настоящее ваше имя.
– Иисусе, малой, – произносит Кел. Забирает телефон, сует обратно в карман. – Хочешь верь, хочешь нет. Дошкуришь или как?
Трей продолжает шкурить, но по его движениям Кел понимает, что разговор не окончен. И действительно – через минуту пацан спрашивает:
– Вы годный были вообще?
– Вполне. Дело свое знал.
– Вы были сыщиком?
– Ага. Последнее время.
– А каким?
– Имущественные преступления. По большей части грабежи. – Улавливает по виду Трея, что это его разочаровывает. – И задержание беглецов, иногда. Выслеживал людей, которые пытались от нас прятаться.
Стремительный взгляд. Судя по всему, акции Кела вновь поперли вверх.
– Как?
– Да всяко. Разговоры с родней, дружками, подругами, приятелями, кто у них там есть. Слежка за домами, за теми местами, где тусуются. Проверка, где пользовались своими банковскими карточками. Бывает и прослушка телефонов. По-разному.
Трей все еще смотрит на него пристально. Руки у него замерли.
Келу кажется, что он, возможно, нащупал причину, зачем малой сюда ходит.
– Хочешь стать сыщиком?
Трей смотрит на него как на тупицу. Келу по кайфу этот взгляд – таким награждают в классе слабоумного ребенка, который опять тянется за резиновым печеньем.
– Я?
– Нет, твоя прабабушка. Ты, ты.
Трей спрашивает:
– Сколько времени?
Кел смотрит на часы.
– Почти час. – Малой продолжает на него смотреть, Кел спрашивает: – Проголодался?
Трей кивает.
– Давай гляну, что у меня есть, – говорит Кел, откладывая молоток и вставая. Колени трещат. Сорок восемь, думает он, еще не тот возраст, чтоб собственный организм тебе всякие звуки издавал. – Аллергия есть на что-нибудь?
Малой смотрит на него непонимающе, будто Кел заговорил по-испански, и пожимает плечами.
– Бутерброды с арахисовым маслом ешь?
Кивок.
– Хорошо, – говорит Кел. – Других разносолов нету. Дошкуривай пока что.
Он отчасти ожидает, что пацана, когда он вернется с едой, уже не будет, но тот на месте. Вскидывает взгляд и протягивает Келу деревяшку на проверку.
– Вроде ничего, – говорит Кел. Подает малявке тарелку, вытаскивает из-под мышки пакет с апельсиновым соком, а из карманов худи – кру́жки. Может, растущему ребенку надо б молока, но кофе Кел пьет черный, и молока в доме нету.
Они сидят на земле и едят молча. Небо – плотная прохладная синева; с деревьев начинает опадать желтая листва, легко лежит на траве. Над фермой Лопуха Ганнона немыслимыми текучими геометриями пролетает туча птиц.
Трей откусывает смачно, по-волчьи, с увлеченностью, от которой Кел радуется, что сделал пацану два бутерброда. Когда с едой покончено, сок Трей хлещет, не прерываясь на вдох.
– Еще хочешь? – спрашивает Кел.
Трей качает головой.
– Мне пора, – говорит. Ставит кружку, утирает рот рукавом. – Можно я завтра еще приду?
Кел отвечает:
– А тебе в школу не надо?
– Не-а.
– Надо. Тебе сколько?
– Шестнадцать.
– Херня.
Малой быстро оценивает Кела.
– Тринадцать, – говорит.
– Тогда точно надо.
Трей жмет плечами.
– Ну и лады, – говорит Кел, и до него вдруг доходит. – Не мое дело. Хочешь прогуливать школу – на здоровье.
Поднимает взгляд и замечает, что Трей улыбается – почти, самую малость. Такое с малым впервые за все время и поражает не меньше, чем первая улыбка младенца, – так в ком-нибудь, за кем ничего подобного не подозревал, проглядывает новая личность.
– Что? – спрашивает Кел.
– Легавому не положено так говорить.
– Я ж тебе сказал. Я больше не легавый. Мне за то, чтоб тебя гонять, не приплачивают.
– Но, – возражает Трей, и улыбка исчезает, – можно мне приходить? Я помогу с этим. И затемнить потом. Все помогу.
Кел смотрит на него. В малом опять проглядывает эта нужда – едва скрываемая, плечи вперед, лицо напряжено.
– Зачем?
Через миг Трей отвечает:
– Птушта. Хочу научиться.
– Платить я тебе не буду. – Карманные деньги малому явно не помешают, но даже если б у Кела водились лишние, оказаться тем пришлым, кто раздает наличку пацанам, он не хочет.
– Плевать.
Кел осмысляет возможные последствия. Смекает, что если откажет, Трей опять станет приходить тайком. Келу он больше нравится в прямой видимости – по крайней мере, пока не разберется, чего же малому надо.
– Почему нет, – говорит. – Помощь мне не помешает.
Трей выдыхает и кивает.
– Ладно, – говорит, вставая. – До завтра.
Отряхивает джинсы и устремляется к дороге длинными, пружинистыми прыжками лесного дикаря. По дороге мимо грачиного дерева кидает в ветки камень – жестким крученым броском, хорошо поставленной рукой – и, запрокинув голову, наблюдает, как грачи взрываются во все стороны и клянут его на все лады.
Помыв посуду после обеда, Кел отправляется в деревню. Норин знает все и тарахтит без умолку; Кел смекает: вот в чем истинные причины, почему они с Мартом не ладят, – Марту нравится монополия и в том и в другом. Если задать Норин нужное направление, она, может, подкинет мысль, откуда Трей такой взялся.
Лавка Норин вмещает много чего в малом пространстве. Полки от пола до потолка забиты всем необходимым для жизни: чайные пакетики, яйца, шоколадные батончики, билеты мгновенной лотереи, жидкое мыло, консервированная фасоль, батарейки, повидло, фольга, кетчуп, растопка, обезболивающие, сардины и еще куча всякого вроде золотого сиропа и “Ангельской услады”[19], в чем Кел не разбирается, но намерен попробовать, если поймет, что с этим делать. Здесь есть небольшой холодильник для молока и мяса, корзина с унылыми на вид фруктами – и лестница, чтобы Норин, росточком пять футов один дюйм, могла копаться на верхних полках. В лавке пахнет всем этим, но фундамент здешних запахов – неискоренимый антисептик прямиком из 1950-х.
Когда Кел толкает дверь под радушный звонок колокольчика, Норин, стоя на лестнице, сметает пыль с банок и подпевает какому-то сентиментальному юнцу по радио, стремящемуся изобразить некую кадриль. Норин предпочитает блузки со взрывными цветками, у нее короткие каштановые волосы в таких тугих кудрях, что смотрится это как шлем.
– Вытирай ноги, я только что пол вымыла, – приказывает она. Затем, углядев, что это Кел: – А, это вы у нас тут! Надеялась я, что вы сегодня заглянете. Есть сыр, какой вы любите. Придержала кусок, поскольку Бобби Фини он тоже нравится, он бы весь у меня скупил и вам ничего не оставил. Он его ест, как шоколадки, парниша этот. Инфаркт себе заработает со дня на день.
Кел послушно вытирает ноги. Норин спускается с лестницы – для округлой женщины довольно ловко.
– Идите-ка сюда, – говорит она, помахивая на Кела тряпкой, – у меня для вас сюрприз имеется. Хочу вас познакомить кое с кем. – Кричит в подсобку: – Лена! Выходи!
Через миг доносится женский голос, хриплый, уверенный:
– Я чай завариваю.
– Оставь чай, иди сюда. И принеси тот сыр из холодильника, который в черной упаковке. Мне, что ли, тебя привести?
Пауза, в которой, как Келу кажется, он улавливает вздох отчаяния. В подсобке движение, из нее появляется женщина с чеддером.
– Вот! – торжествующе говорит Норин. – Это моя сестра Лена. Лена, это Кел Хупер, который переехал в дом О’Шэев.
Лена не похожа на ту, кого Кел ожидал увидеть. По рассказам Марта он представлял себе мясистую, румяную тетку шести футов роста, ревет, как корова, грозно помахивает сковородкой. Лена высокая, все так, и мясо у нее на костях водится, однако все в ней такое, что Кел представляет, как она бредет по холмам, а не как лупит кого-нибудь по башке. На пару лет моложе Кела, густой светлый хвост на затылке, широкие скулы, голубые глаза. На ней старые джинсы и свободный синий свитер.
– Рад, – говорит Кел, протягивая руку.
– Кел, любитель чеддера, – произносит Лена. Рукопожатие крепкое. – Наслышана о вас.
Быстро ехидно улыбается Келу, вручает сыр. Кел улыбается в ответ.
– Да и я о вас.
– Уж конечно, еще бы. Как справляетесь у О’Шэев? Без продыху?
– Справляюсь, – говорит Кел. – Но понимаю, почему тот дом никому не был нужен.
– Тут не шибко много народу рвется дома покупать. В основном молодежь уезжает в город как можно быстрее. Остаются, только если работают на семейной ферме или им нравится в этих краях.
Норин сложила руки под грудью и глядит на них с материнским одобрением, от которого у Кела все начинает зудеть. Лена – руки в карманах джинсов, одним бедром опирается о стойку, – ей вроде как все нипочем. Есть в ней ненатужный покой, взгляд ее прям, не смотреть ей в глаза трудно. Март был прав хотя бы в этом: ее присутствие замечаешь.
– А вы, значит, остались? – спрашивает Кел. – В сельском хозяйстве?
Лена качает головой.
– Была. Продала ферму, когда муж помер, оставила только дом. Хватит с меня.
– Вам, значит, нравится в этих краях.
– Нравится, ага. Город мне б не подошел. Весь день да всю ночь слушать чужой шум.
– Кел жил в Чикаго, раньше-то, – вставляет Норин.
– Я знаю, – говорит Лена, весело дернув бровью. – А вы что ж тут делаете?
Что-то в Келе хочет, чтобы он расплатился за сыр и убрался, пока Норин не вызвала священника – женить их не сходя с места. При этом явился он сюда сегодня с определенной целью – помимо того, что у него закончилось то-сё. Усложняется все еще и тем, что Кел не помнит, когда последний раз был в одном помещении с женщиной, потолковать с которой был бы не прочь, и он не уверен, очко это в пользу того, чтобы остаться или чтобы проваливать к чертям из Доджа[20].
– Видать, и мне в этих краях нравится, – говорит.
Лене явно все еще весело.
– Многим так кажется, пока на постоянку не переберутся. Перезимуйте тут, тогда и потолкуем.
– Ну, – возражает Кел, – я не то чтобы неженка. Доводилось и в лесной глуши жить, когда пацаном был. Считал, что там же сразу и осяду, но, похоже, задержался в городе дольше, чем думал.
– Что ж вас достает? Дел мало? Или мало тех, с кем этими делами заниматься?
– Не-а, – говорит Кел, улыбаясь чуточку застенчиво. – Ни с тем ни с другим у меня проблем нет. Но, надо признать, по ночам я слегка дерганый – никого ж рядом нету, кто б заметил, если вдруг какие неприятности возникнут.
Лена хохочет. Смех у нее хороший – откровенный, гортанный. Норин фыркает.
– Ой, да господь с вами. Вы ж привыкли к вооруженным грабежам да перестрелкам. – Испытующий взгляд сообщает Келу, что Норин осведомлена о его работе, хотя кто б сомневался. – У нас тут ничего такого не бывает.
– Ну, я и не прикидывал, что бывает, – говорит Кел. – Я имел в виду детишек, кому скучно и они ищут, чем бы развлечься. Нас таких была банда, мы хулиганили по соседям – подставляли помойные ведра с водой кому-нибудь под дверь, стучали и убегали или брали здоровенный мешок из-под чипсов, наполняли его пеной для бритья, подсовывали открытый край под дверь и топали по мешку. Такая вот дурь. – Лена опять хохочет. – Я подумал, пришлому может перепасть такое вот обращение. Но, видимо, как вы и сказали, молодежь тут не задерживается. Похоже, я единственный моложе полтинника на мили вокруг. Не считая присутствующих.
Норин вцепляется в это.
– Вы только послушайте его – делает тут из нас предбанник Господень! В округе полно молодежи. У меня самой четверо, но они проказничать не пойдут, знают: пусть только попробуют – устрою им красные задницы. У Сенана с Анджелой тоже четверо, и у Мойниханов парнишка, и у О’Конноров трое, и все мировецкие молодые люди, никаких с ними хлопот…
– И у Шилы Редди шестеро, – говорит Лена. – В основном все дома. Хватит вам столько?
Норин поджимает губы.
– Если у вас какие хлопоты и были, – сообщает она Келу, – они от этой шатии.
– Да? – говорит Кел. Пробегает взглядом по полкам, берет себе банку с кукурузой. – Бедовые они?
– Шила нищая, – говорит Лена. – Вот и все.
– Выучить ребенка манерам не стоит ничего, – обрезает Норин, – или отправить его в школу. И каждый раз, когда ребятня эта здесь появляется, чего-то недосчитаешься. Шила говорит, я не могу это доказать, но я-то знаю, что у меня в лавке есть, а… – Тут она вспоминает о Келе – тот мирно изучает шоколадные батончики – и осекается. – Шиле бы голову свою привести в порядок, – говорит.
– Шила справляется как может с тем, что ей выпало, – говорит Лена. – Как и все мы тут. – Обращается к Келу: – Мы с ней дружбанились, еще в школе. Мы тогда были бешеные. Вылезали из окон по ночам, шли в поля бухать с пацанами. Гоняли попутками в город на дискотеки.
– Похоже, как раз такими подростками, каких я опасаюсь, вы и были.
Это смешит Лену еще раз.
– Ой, нет. Мы никогда не вредили никому, кроме себя.
– Шила себе навредила, это да, – вставляет Норин. – Вы гляньте, что она из тех безобразий огребла. Джонни Редди да шестерых один в один таких же, как он.
– Джонни тогда был что надо, – говорит Лена, дернув уголком рта. – Я с ним сама пару раз обжималась.
Норин цыкает зубом.
– Тебе зато хватило ума замуж за него не ходить.
Кел останавливается на батончике “Мятный хруст”, кладет его на стойку.
– А Редди далеко от меня живут? Или мне держать ухо востро? – спрашивает.
– Все зависит… – говорит Лена. – Вы вообще паникер?
– Все зависит. Насколько близко неприятности?
– У вас всё шик. Редди от вас в нескольких милях, на горках.
– Вроде хорошо, – говорит Кел. – А Джонни – фермер или как?
– Да кто ж его знает, что там Джонни, – говорит Лена. – Уехал в Лондон год-два назад.
– Бросил Шилу на мели, – вставляет Норин со смесью осуждения и удовлетворения. – У какого-то его дружка возникла деловая затея, миллионерами б их сделала, как он говорил. Но я губу не раскатываю – надеюсь, что и Шила тоже.
– Джонни по части затей всегда был мастак, – говорит Лена. – Да не очень мастак их воплощать. Расслабьтесь. Да для любого из его детей напустить в пакет из-под чипсов пены для бритья – уже за гранью того, что они способны учинить.
– Рад слышать, – говорит Кел. У него есть подозрение, что по крайней мере один отпрыск Джонни Редди мог уродиться не в отца.
– Так, Кел, – говорит Норин, внезапно озаренная мыслью, и наставляет на Кела тряпку. – Вы разве не упоминали при мне в тот раз, что подумываете насчет собаки? Это ж лучше всего вас успокоит, верно? Слушайте, Ленина собака того и гляди ощенится, и щенков предстоит пристраивать. Сходите с ней да гляньте.
– Она еще не ощенилась, – говорит Лена. – Никакого смысла глазеть на ее пузо.
– Посмотрит, какая она вообще из себя. Давайте-ка.
– Ой, нет, – мило отпирается Лена. – Хочу выпить чаю. – Не успевает Норин открыть рот повторно, Лена кивает Келу со словами: – Приятно познакомиться. – После чего исчезает в подсобке.
– Оставайтесь выпить с нами чаю, – приказывает Келу Норин.
– Признателен, – говорит Кел, – но мне б домой. Я без машины, а там, похоже, к дождю.
Норин обиженно фыркает, включает радио погромче и вновь берется стирать пыль, но по ее случайному взгляду в его сторону Кел понимает, что так просто она не сдастся. Хватает продукты поспешно и более-менее случайно, лишь бы Норин не успела затеять еще что-нибудь. В последнюю минуту, когда Норин уже вручную пробивает чек на шумной старой кассе, Кел добавляет пакет молока.
5
Трей и впрямь возвращается и назавтра, и в последующие дни. Иногда появляется посреди утра, иногда после обеда, отчего у Кела возникает утешительное впечатление, будто Трей время от времени посещает школу, хотя Кел отдает себе отчет, что, возможно, Трей так приходит сознательно. Малой болтается рядом часок-другой, в основном ради еды. А затем – отзываясь на некий таинственный внутренний будильник, а может, ему просто делается скучно – говорит: “Мине пора” – и уходит, топая по саду, руки глубоко в карманах худи, не оборачивается.
В первый дождливый день Кел Трея не ждет. Обдирает обои, напевает обрывки строчек под Отиса Реддинга[21], и тут в свете возникает тень, а когда Кел поворачивает голову, Трей уже у окна, торчит там в своей позорной вощеной куртке на два размера меньше нужного. Кел мимолетно сомневается, приглашать ли в дом, но дождь капает у пацана с капюшона и с кончика носа, и Келу ясно, что выбора у него, в общем, нет. Вешает куртку Трея на стул, чтоб обсохла, и выдает ему скребок.
В солнечные дни они возвращаются к бюро, но по мере того, как истощается сентябрь, солнечные дни делаются все скуднее. Все чаще по крыше хлещет дождь, а ветер набивает к основаниям стен и живых изгородей мокрые листья. Белки запасаются как полоумные. Март объявляет, что это к сволочной зиме, и делится драматическими рассказами о годах, когда здешние места отреза́ло от остального мира на целые недели и люди замерзали в домах, но Кела это не очень-то впечатляет.
– Я привык к Чикаго, – напоминает он Марту. – Мы не зовем погоду морозной, пока у нас ресницы не смерзаются.
– Тут другой холод, – уведомляет Март. – Коварный. Не чуешь, как подбирается, пока не сцапает.
Мнение Марта насчет Редди совпадает с мнением Норин, но изложено цветистее. Шила Бради была милой девушкой из приличной семьи, ноги что надо; собиралась в Голуэй учиться на медсестру, да только не успела – влюбилась в Джонни Редди. Этот мог трещать до морковкина заговения и больше трех месяцев кряду ни на одной работе сроду не задерживался – не угодишь ему; “никакой он работник” – так отозвался о нем Март с презрением такой глубины, какое Кел и его отдел приберегали для тех, кто грабит старушек. У Шилы и Джонни народилось шестеро детишек, жили они на пособие в развалюхе-домике у родни в горках, – Март растолковывает родство, подробно, однако Кел теряет нить на третьей или четвертой воде на киселе, – и вот теперь Джонни сдриснул, родственники Шилы поумирали или переехали, и семья, считай, – то, что в этих краях заместо швали трейлерной. Март согласен с Норин и Леной: дети вряд ли воздерживаются от мелкого воровства, но в той же мере маловероятна их способность влезать во что бы то ни было круче.
– Батюшки светы, – говорит Март, веселясь, когда Кел выдает ему свою речь обеспокоенной городской цацы, – у тебя чересчур много свободного времени. Заведи себе женщину, я тебе о чем толкую. Вот тогда и будет о чем переживать.
На самом деле Кел более-менее отметает вероятность, что малой собирается его ограбить, – если учесть, что Трей подходит к этому бестолковее некуда, а Кел понимает, что Трей вовсе не бестолков. Раз он теперь знает кое-что о возможной семье Трея, складываются другие сценарии, более вероятные: ребенка дразнят, и ему нужна защита; ребенка обижают так или иначе, и ему необходимо рассказать кому-то; мать ребенка пьет или на наркотиках, или ее бьет дружок, и ребенку нужно поделиться; ребенок хочет, чтобы Кел отыскал беглого папашу; ребенок пытается устроить себе алиби в чем-то таком, чем ему не следовало бы заниматься. Келу кажется, что местные, предубежденные против разгильдяйства Джонни Редди, возможно, недооценивают склонности его сына по этой части. И пусть у Кела есть все причины считать, что дети способны иногда стать выше своей говенной семьи, есть у него и все причины считать, что в большинстве случаев так не случается.
Кел прощупывает почву вокруг Джонни Редди, дает Трею лазейку, если ее малой и выискивает, но Трей отсекает это сразу же.
– Ага, это может сгодиться, – говорит Кел, осматривая первую попытку Трея вырезать паз. – Рукастый ты. Отцу помогаешь с таким вот?
– Не, – отвечает Трей. Вынимает полку и с одного конца паза еще пару раз постукивает, прищуривается, низко склонившись над деревяшкой. Ему нравится, когда все сделано как следует. Келу что-то, может, и сойдет, а вот Трей покачает головой и еще пару-тройку раз пройдется, прежде чем удовлетворится.
– И чем же вы тогда с ним занимаетесь?
– Ничем. Он уехал.
– Куда?
– В Лондон. Звонит нам иногда.
Это, в общем, подтверждает, что Трей – из Редди, если только Лондон не пункт назначения всех местных никчемных папаш.
– У меня отец тоже уезжал часто, – говорит Кел. Стремится наладить связь, но Трея это, похоже, не трогает. – Скучаешь?
Трей жмет плечами. Кел уже разбирается в этих пожатиях плечами, их много, и они богаты оттенками. Это вот означает, что тема закрыта за отсутствием интереса к ней.
У Кела, таким образом, остается два варианта: либо Трей делает что-то плохое, либо что-то плохое делают с Треем. Пока Келу не удается придумать, как заговорить хоть о том, хоть о другом. Он отдает себе отчет: если напортачит, Трея потом ищи свищи. Если бедокурит сам Трей – это пожалуйста, но на ребенка, которого обижают, свежеобретенный Келом талант не будить лихо не распространяется. И поэтому с Треем он обращается так же, как в самом начале, – занимается своими делами и позволяет малявке подобраться поближе, когда время придет.
Время приходит недели через две. Дождливое утро, прохладное и тихое, с легким ветерком, что забредает в открытое окно и пахнет пастбищем. Кел с Треем закончили шлифовать стены в гостиной, загрунтовали углы и делают перерыв, перед тем как приступить к основной задаче. Сидят за столом, жуют печенье с шоколадом, вклад Трея, – теперь бывают дни, когда он заявляется с печеньем, а раз был даже яблочный пирог. Кел знает наверняка, откуда все это берется, и его слегка покусывает совесть, когда он все же ест это, однако считает, что будет спокойнее, если не вдаваться в этот вопрос.
Трей методично и сосредоточенно поглощает печенье. Кел пытается размять узел на шее. Все из-за матраса, нытье и боль в мышцах уже затихли. Тело почти привыкло к работе, и Келу это нравится – так же, как нравилось ему, что мышцы ноют. Поначалу он предполагал, что слишком стар и не привыкнет совсем, но тело справилось. Кел чувствует себя моложе, чем полгода назад.
– Белка, – говорит он, показывая в окно на сад. – На днях подстрелю несколько и сварю нам беличье рагу.
Трей осмысляет сказанное, смотрит, как белка утекает под изгородь.
– А как на вкус?
– Неплохо. Как дичь. Крепче курятины.
– Белка укусила мою сестру, – говорит Трей. – За палец. Можно и съйисть.
– Когда мне было лет десять, – говорит Кел, – я жил у дедушки, и мы с тремя приятелями ходили с ночевкой в лес за дедовым домом. В первый раз дедушка сказал нам, чтоб мы поосторожней, потому что водится в этом лесу зверь под названием белкошак. Гибрид белки и кота, но крупнее и белки, и кота – и свирепее. У него здоровенные когти и клыки и рыжий мех, и он вцепляется либо в глотку тебе, если сидишь, либо в яйца, если стоишь. О том, что он изготовился нападать, узнаёшь по таким странным звукам. Типа рычания вперемешку со стрекотом.
Кел показывает, как это. Трей слушает и наблюдает, выскребая зубами начинку печенья. Кел взял привычку рассказывать Трею все подряд, что на ум взбредет, – просто компанейски, не обращая особого внимания, есть какой-то отклик или нет.
– В лес мы все равно пошли, – говорит, – но в палатке навалили большую гору камней, на всякий случай. Поздно ночью, как раз когда устроились в спальниках, снаружи послышался звук. – Повторяет. – Чуть не обосрались. Вылезли из спальников, набрали камней и давай кидаться. Несколько раз хорошо так попали, и тут слышим – дедушка кричит, что хватит. Кто-то угодил ему прямо в лицо, губу рассек.
– Это был он, – говорит Трей. – Он и шумел.
– Ну да. Не бывает никаких белкошаков.
– И чё сделал? Отлупил?
– Не. Ржал как конь, кровь стер, принес нам здоровенный мешок зефирок.
Трей усваивает сказанное.
– Чего это он? Зачем прикидывался?
– Думаю, хотел посмотреть, как мы поступим, – говорит Кел, – в сложной ситуации. Он же отпустил нас одних. А на следующий день начал учить меня стрелять из ружья. Сказал, раз я собираюсь сражаться с тем, что меня пугает, надо это уметь, и уж лучше я буду точно знать, во что стреляю, прежде чем жать на курок.
Трей осмысляет.
– А меня научите?
– У меня пока нет оружия. Как добуду, тогда может быть.
Видимо, это его устраивает: Трей кивает и доедает печенье.
– Бобби Фини говорит, видал в горах пришельцев, – произносит, выхватив эту мысль из какой-то череды их. – В школе болтали.
– Ты собираешься стрелять по пришельцам?
Трей делает лицо “совсем без мозгов”.
– Нет никаких пришельцев.
– Ты что же, считаешь, Бобби придумал их, чтоб дурить голову людям, как мой дедушка?
– Не.
Кел улыбается, попивает кофе.
– Что же он тогда видел?
Трей пожимает плечом – одним, это означает, что не хочет рассуждать об этом.
– Вы не верите в пришельцев, – говорит он, вглядываясь в Кела.
– Может, и нет, – отзывается Кел. – Я придерживаюсь широких взглядов, и кто знает, может, где-то пришельцы и есть, но сам я никогда не видел ничего такого, чтобы решить, будто они прилетали.
– У вас братья или сестры есть? – требовательно спрашивает Трей ни с того ни с сего. Искусство болтовни пацан пока не освоил. Любой его вопрос звучит как на допросе.
– Трое, – отвечает Кел. – Две сестры, один брат. А у тебя?
– Три сестры. Два брата.
– Много детей-то, – говорит Кел. – Дом у вас большой?
Трей насмешливо фыркает уголком рта.
– Не.
– Ты среди них который по счету? Старший? Младший?
– Третий. А вы?
– Старший.
– Вы с остальными дружите?
Из всех вопросов, какие Трей успел задать до сих пор, этот самый личный. Кел отваживается глянуть на пацана, но тот сосредоточенно разбирает на части следующее печенье. У него свежая стрижка под машинку, но выглядит так, будто стриг себя он сам, ближе к затылку виден недостриженный клок.
– Вполне, – отвечает Кел. На самом деле они не родные, с каждым он виделся от силы пару раз, и где-нибудь братьев-сестер у него, вероятно, даже больше, но все эти сведения не кажутся сейчас полезными. – А ты?
– Кое с кем, – отвечает Трей. Резко закидывает печенье в рот и встает: перерыв, надо полагать, окончен.
– Пей молоко, – говорит Кел.
– Не люблю молоко.
– Я купил. Пей.
Трей заглатывает молоко, морщится и ставит кружку на стол, будто тяпнул стопку.
– Лады, – развеселившись, говорит Кел. – За дело. Погоди.
Отправляется в спальню, возвращается со старой клетчатой рубашкой, кидает ее Трею.
– На.
Трей ловит, смотрит на нее непонимающе.
– Зачем?
– Придешь домой весь в краске – мама не обрадуется.
– Она не заметит.
– А если заметит, узнает, что ты не был в школе.
– Ей плевать.
– Решай сам, – говорит Кел. Принимается отколупывать отверткой крышку от банки с грунтовкой.
Трей разглядывает рубаху, крутит ее в руках так и сяк. Затем надевает. Повертывается к Келу, вскидывает руки и лыбится: манжеты болтаются, полы доходят до колен, а по ширине поместилось бы три Трея.
– Хорошо смотришься, – говорит Кел, улыбаясь в ответ. – Подай вон те.
Показывает на лотки для краски и валики в углу. Купил он два комплекта; достались дешево, да и Кел решил, что даже если малой перестанет приходить, все равно пригодятся. Трей явно впервые видит такие приспособления. Рассматривает их и вперяет в Кела вопросительный взгляд, хмурится.
– Смотри, – говорит Кел. Наливает грунтовку, макает в нее валик, отжимает избыток жидкости о насечки, затем быстро прокатывает валиком по стене. – Понял?
Трей кивает и повторяет за ним точь-в-точь, даже отряхивает валик, как показали, под небольшим углом, чтобы не капало.
– Хорошо, – говорит Кел. – Помногу не набирай. Сделаем в несколько слоев – слишком густо не надо. Я начну отсюда и пойду по верху, а ты по низу вот оттуда. На середине встретимся.
Теперь уже вместе им работается легко, они знают ритмы друг друга и как не путаться друг у друга под ногами. Дождь редеет. С небесной вышины доносятся крики гусей, птицы строятся наизготовку перед дальней дорогой; далеко внизу, в траве под окном, прыгают и бросаются на червей мелкие птички. Минут через двадцать работы Трей произносит совершенно ни с того ни с сего:
– У меня брат пропал.
Келу удается замереть лишь на долю секунды, прежде чем его валик вновь приходит в движение. По самому тону Трея он бы понял, даже если б не расслышал слов: Трей здесь поэтому.
– Да? – говорит Кел. – Когда?
– В марте. – Трей все еще катает валиком по стенке, прилежно, на Кела не смотрит. – Двадцать первого.
– Так, – произносит Кел. – Сколько ему?
– Девятнадцать. Звать Брендан.
Кел прощупывает путь, на цыпочках.
– А полиция что?
– Им не говорили.
– Как так?
– Мамка не захотела. Сказала, что он уехал, что он уже вырос и ему можно.
– Но ты так не считаешь.
Трей прекращает грунтовать, наконец смотрит на Кела, и на лице у пацана чудовищное, туго скрученное горе. Долго качает головой.
– Так что же, по-твоему, случилось?
Трей говорит, понизив голос:
– Я думаю, забрали его.
– Похитили типа?
Кивок.
– Так, – осторожно выговаривает Кел. – Есть догадки – кто?
Трей сейчас каждой своей клеточкой сосредоточен на Келе. Говорит:
– Вы б могли выяснить.
Миг тишины.
– Малой, – бережно говорит Кел, – скорее всего, мамка твоя права. Из того, что все говорят мне, люди в основном уезжают отсюда, как только вырастают.
– Он бы мне сказал.
– Твой брат еще подросток. Они вот такую тупую херню устраивают. Я знаю, это больно, если вы крепко дружили, но рано или поздно он подрастет и поймет, что говенно поступил. И тогда выйдет с тобой на связь.
Упрямый подбородок каменеет.
– Он не сбежал.
– Есть причины для такой уверенности?
– Точно знаю. Не сбежал он.
– Если ты о нем беспокоишься, – говорит Кел, – тебе надо в полицию. Понимаю, что мама не хочет, но ты и сам можешь. Принять заявление от несовершеннолетнего они имеют право. Заставить твоего брата вернуться домой, пока он сам не будет готов, им никак, но повозиться, чтоб ты из головы мог выбросить, – вполне.
Трей смотрит на него так, будто не верит, что кто-то настолько недалекий все еще дышит.
– Что? – уточняет Кел.
– Гарды[22] ничего не будут делать.
– Будут-будут. Это их работа.
– От них, бля, никакого толку. Вы давайте. Вы расследуйте. Сами увидите: он не сбежал.
– Я не могу расследовать, малой, – говорит Кел еще мягче. – Я больше не легавый.
– Все равно давайте. – Трей возвышает голос. – Делайте вот это все, что вы сказали, – когда ищут людей. Поговорите с его дружками. Последите за домами.
– Я мог все это, потому что у меня был жетон. А теперь нету, и никто не станет отвечать мне на вопросы. Начну следить за чьим-нибудь домом – сам же и окажусь под арестом.
Трей его даже не слышит. Стискивает валик в кулаке, подняв высоко, как оружие.
– Прослушайте их телефоны. Проверьте его банковские карточки.
– Малой. Даже если я был легавым, был я им не здесь. У меня нет здесь друганов, кого можно попросить об одолжении.
– Тогда сами давайте.
– Как по-твоему, похоже на то, что у меня тут есть возможности…
– Тогда еще что-нибудь давайте. Что-нибудь.
– Я на пенсии, малой, – все еще бережно, однако решительно произносит Кел. Не хочет оставлять малому надежду. – Ничего не могу тут поделать, даже если б хотел.
Трей швыряет свой валик через всю комнату. Срывает с себя старую Келову рубаху, пуговицы летят во все стороны, и сует ее поглубже в банку с грунтовкой. Замахивается и вмазывает капающей рубахой в отсеки бюро, вкладывает в бросок весь свой вес. Бюро опрокидывается. Трей выбегает.
Бюро изгваздано. Кел поднимает его и стирает крупные плюхи грунтовки той же рубашкой – все равно ее в утиль, с таким никакая прачечная не справится. Затем мочит тряпку и смывает оставшееся. К счастью, грунтовка на водной основе, но затекла в половину стыков полочек, тряпкой туда не добраться. Кел подступается с зубной щеткой, себе под нос обзывая Трея мелким гаденышем.
Вообще-то по-настоящему разозлиться не удается. Сперва отец пацана, следом его старший брат – немудрено, что малой хочет такого ответа, какой вернет кого-то одного домой и не будет подразумевать, что Трея намеренно бросили без оглядки. Келу просто жаль, что малой не раскололся раньше, не надо было ему так долго лелеять надежды втихую.
Кел не столько злится, как сам сейчас понял, сколько ему не по себе. Это чувство Келу не нравится – не нравится и то, что он прекрасно и сознает его, и понимает: это чувство знакомо ему, как голод или жажда. Кел никогда не бросал дел незакрытыми. В основном это было полезно, из Кела получился упертый, терпеливый работяга, доводивший расследования до конца, когда едва ль не все прочие давно сдались, но временами было в этом и слабое место – нескончаемая долбежка там, где никогда не проломится, утомляет и мучает человека, не более того. Кел трет дерево сильнее и пытается восстановить бездумную свободу того, что его не касается, прогуливает Трей или нет. Кел напоминает себе, что он это дело в работу не брал – и что это вообще никакое не дело. Но ему по-прежнему не по себе, и ощущение никуда не девается.
В голове у него Донна говорит: “Господи, Кел, что, опять?” Лицо ее на этот раз не улыбчиво – оно усталое, все черты, чужие этому лицу, вытянуты книзу.
Тщедушный молодой грач, хлопая крыльями, опустился на подоконник и задумчиво рассматривает комнату, уделяя особое внимание пачке печенья и ящику с инструментами. С грачами Кел наконец достиг некоторого успеха, они теперь усаживаются на пень умять его объедки, а сам он наблюдает за ними с заднего крыльца, пусть и пырятся они на него нагло, и шуточки сальные насчет его мамы попутно отпускают. Впрочем, сейчас Келу не до них.
– Ступай своей дорогой, – говорит он молодому грачу. Тот исторгает нечто похожее на вульгарное фырканье и не трогается с места.
Кел машет рукой и на грача, и на бюро. Внезапно и мощно ему хочется вон из дома. Успокоить мысли способно, как ему кажется, лишь одно – поймать себе ужин, но ему неохота сидеть на речном берегу весь день и мочить зад ради призрачной вероятности поймать окунька-другого, а чертову лицензию на оружие ему все еще не выдали. В целом, принимая во внимание некоторых его знакомых, у кого оружие есть, а также то, что у Дони Макграта не было возможности выхватить в пабе “глок”, Кел понимает логику ограничений в этих местах, но сегодня они его бесят. Жениться или купить дом он мог бы шустрее, а и то и другое, по мнению Кела, – предприятия значительно более чреватые опасностями, чем владение охотничьим ружьем.
Он решает отправиться в город и разузнать у парня в участке, нет ли каких новостей по той лицензии. Попутно можно заскочить в прачечную, заодно купить себе новую зубную щетку, а также обогреватель, чтоб Мартов коварный холод до Кела не добрался. Выходит из дома, прихватив мусорный мешок с грязной одеждой, дверь запирает.
Дождь вновь окреп, долгие завесы его плещут по лобовому стеклу. Кел ловит себя на том, что высматривает Трея. Несколько миль вверх в горки, как сказала Лена, по такой погоде – прогулка долгая. Но на дороге пусто, лишь попадаются изредка у низких каменных стенок сбившиеся в кучу коровы да рассеяны точками по полям овцы, пасутся себе невозмутимо. Ветви клонятся низко, хлещут бока “паджеро”. Горы под тяжкой пелериной дождя пригашены и призрачны.
Городок Килкарроу старый и уютный, ряды кремовых домиков расходятся от рыночной площади, а с холма открывается вид на поля и вьющуюся реку. Пара тысяч жителей, что, если учесть прилегающие деревни, вместе дает достаточно оживления для магазина хозтоваров и автоматической прачечной. Кел сдает одежду и, накинув капюшон от дождя, отправляется в полицейский участок.
Участок расположен в здании, похожем на крупный сарай, зажатый между двумя домами, выкрашен в белый и опрятно отделан синим. Открыт по нескольку часов в кое-какие дни. В дальней комнате несколько человек по радио обсуждают друг с другом дорожные выбоины. За столом в передней комнате некто в мундире читает местную газетку-маломерку и с подлинной самоотдачей чешет под мышкой.
– День добрый, – говорит Кел, утирая дождь с бороды. – Погодка будь здоров.
– Ой да, мировецки приятный день, – любезно отзывается мундир, откладывая газетку и откидываясь на стуле. На несколько лет моложе Кела, круглолицый, пузо на этапе становления, в целом смотрится отчищенным до блеска целиком и полностью. Кто-то заштопал надорванный карман его рубашки меленькими, прилежными стежками. – Чем могу служить?
– Я подавался на оружейную лицензию пару месяцев назад. Вот оказался в городе, решил проверить, нет ли каких новостей насчет этого.
– В течение трех месяцев после подачи вам должно прийти письмо так или иначе, – сообщает мундир. – Если не придет, значит, вам отказали, официально. Но, само собой, иногда они запаздывают. Даже если вестей никаких, вполне может быть, что все шик. Я б накинул сверху месячишко, прежде чем переживать. Ну или два.
Кел видал этого парня и раньше – в разных воплощениях. Такой сидит в захолустье не потому что бестолочь, или бузотер, или несостоявшийся сыщик и мается от прокисших амбиций, а потому что он тут всем доволен. Ему нравится, что дни у него складываются без спешки и сюрпризов, лица кругом знакомые, а ум, когда пора отправляться к жене и детишкам, безоблачен. Он – тот легавый, каким Кел – в некотором смысле или, возможно, в большинстве их, – к своему сожалению, решил не быть.
– Ну, вряд ли я вправе жаловаться, – говорит Кел. – Когда я еще служил, всю писанину клали в самый низ стопки – и с концами. Не станешь же возиться с чьим-то там собачьим паспортом, если есть настоящая полицейская работа.
Мундир сосредоточивается.
– Вы служили? – переспрашивает он, чтобы убедиться, что все понял правильно. – В смысле, в органах правопорядка?
– Двадцать пять лет. Полиция Чикаго. – Кел широко улыбается и протягивает руку. – Кел Хупер. Рад знакомству.
– Гарда Деннис О’Малли, – говорит мундир, отвечая на рукопожатие. Кел делал ставку на то, что этот мундир не из тех, кто усмотрит в этом попытку мериться хуями, и ставка сыграла: у О’Малли вид искренне восторженный. – Чикаго, а? У вас там небось движни хватает.
– Движни-то хватает – а еще больше писанины, – говорит Кел. – Как везде. У вас тут хорошее место, похоже.
– Я б ни на что не променял, – отзывается О’Малли. По его выговору Кел вычисляет, что О’Малли не из этих краев, но те края от этих отличаются мало: густой, вальяжный ритм – не городской. – Не всякому подойдет, это да, но мне годится.
– Какого сорта дела у вас тут случаются?
– В основном автотранспортное, – поясняет О’Малли. – Ух и горазды же они, падлы, гонять здесь. И пьяными за руль садиться. Трое парняг улетели в канаву – ехали домой из паба, в субботу ночью, у Гортина. Ни один до больницы не дожил.
– Слыхал, да, – говорит Кел. Муж подруги двоюродной сестры Норин – из тех бедолаг. – Сил нет как печально.
– Но это примерно худшее из того, что у нас тут случается, ладно. Других нарушений немного. Мазут воруют время от времени. – В ответ на непонимающий взгляд Кела: – Топочный мазут, из цистерн. И сельхозинвентарь. И наркотиков у нас тут чуток – они, понятно, нынче всюду. Ни в какое сравненье с тем, как у вас там в Чикаго, я б сказал. – Одаряет Кела застенчивой улыбкой.
– У нас навалом ДТП, – говорит Кел, – и наркоты. Сельхозинвентаря воруют мало, правда. – И следом, не успев даже толком собраться это произнести: – В основном я работал по части розыска пропавших людей. Вряд ли у вас тут такого много.
О’Малли смеется.
– Есусе, нет. Я тут двенадцать лет, пропало два человека. Один парень всплыл в реке через несколько дней. Вторая – мала́я, поссорилась с мамашей и удрала в Дублин к двоюродной.
– Ну, теперь понятно, отчего вы это место ни на что не променяете, – говорит Кел. – Но я вроде слыхал, что какой-то парень пропал этой весной. Неверно слыхал?
От этого О’Малли ошарашенно выпрямляется.
– Кто же это будет?
– Брендан какой-то. Редди?
– Редди, которые из Арднакелти?
– Ага.
– А, эти, – говорит О’Малли, вновь расслабляясь в кресле. – Сколько там Брендану?
– Девятнадцать.
– Так и немудрено тогда. И, честно вам сказать, скатертью дорожка.
– Бедовые?
– Ой нет. Шалопуты просто. Бытовуха случалась, но сам-то подался в Англию пару лет тому, и безобразия кончились. Я их знаю, потому что ребятня в школу не ходит. Учительница не хочет защиту детей вызванивать, звонит мне. Я туда еду и толкую с мамашей, нагоняю страху божьего на ребятню насчет интернатов для малолетних. На месяц-другой берутся за ум, а потом снова-здорово.
– Знаю таких, – говорит Кел. Незачем даже спрашивать, почему учительница не звонит в службу защиты прав ребенка ни по какому поводу, пока у детей кости целы, или почему не звонит туда сам О’Малли. Никому не надо, чтоб власти заслали сюда городских пацанов в костюмах – все станет только хуже. Свою рубашку тут носят как можно ближе к телу. – Мамка загнать их в школу не в силах? Или не желает?
О’Малли жмет плечами.
– Она чуток… ну понимаете. Не малахольная или что там, ну. Просто мало на что годная.
– Хм. По-вашему, значит, Брендан не пропал? – спрашивает Кел.
О’Малли фыркает.
– Боже, нет. Молодой парень же. Обрыдло жить в горках с мамашей, сбежал покантоваться на полу у какого-нибудь приятеля в Голуэе или Атлоне, где можно по дискотекам ходить и молоденьких клеить. Все естественно, конечно. А кто сказал, что он пропал?
– Ну, – произносит Кел, задумчиво чеша загривок, – какой-то мужик в пабе болтал, что парень подевался. Я небось понял криво. Видимо, слишком долго искал пропавших, везде они мне теперь мерещатся.
– Тут нету, – жизнерадостно говорит О’Малли. – Надоест Брендану себя обстирывать – вернется. Если только не найдет себе молоденькую, чтоб ему стирала.
– Нам всем такая не помешала б, – отзывается Кел с ухмылкой. – Ну, я не собирался то ружье для самообороны использовать, но приятно знать, что и не понадобится.
– Ой батюшки, нет. Погодите-ка минутку, – говорит О’Малли, выбираясь из кресла, – надо глянуть в систему насчет этого разрешения. Какое ружье берете?
– Депозит внес за славное “хенри”, двадцать второго. Нравятся мне старомодные.
– Красотка, – говорит О’Малли. – У меня самого “винчестер”. Не очень-то умею с ним, но крысищу у себя в саду на той неделе сбил. Здоровенная такая – и наглая как танк. Я себя прям Рембой почувствовал, как есть. Погодите тут покамест.
Бредет в дальнюю комнату. Кел оглядывает теплую маленькую приемную, читает потрепанные плакаты на стенах: “РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ СПАСАЮТ ЖИЗНИ”, “МАРШ ЗА ПРОФИЛАКТИКУ САМОУБИЙСТВ”, “ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ НА ФЕРМЕ” – и слушает, как О’Малли подпевает джинглу в рекламе какого-то хлеба. Здесь пахнет чаем и картофельными чипсами.
– Так, – торжествующе говорит О’Малли, возвращаясь, – в системе отмечено, что разрешение есть, да и с чего б ему не быть. Со дня на день придет письмо. Можете сходить с ним на почту и пошлину оплатить там.
– Очень признателен, – говорит Кел. – И рад знакомству.
– Взаимно. Загляните как-нибудь ближе к закрытию, ясное дело, вдарим с вами по пинте, отпразднуем ваш приезд на Дикий Запад.
– Почту за честь, – отзывается Кел. Дождь все еще льет. Кел набрасывает капюшон и выбирается под дождь, пока О’Малли не пришло в голову оставить гостя на чашку чая.
Пока одежда стирается, Кел отыскивает паб, берет себе сэндвич с ветчиной и сыром и пинту “Смитика”. Этот паб совсем не того сорта, что “Шон Ог”, – просторный, ярко освещенный, здесь пахнет горячей вкусной едой, деревянная мебель блестит, за стойкой обширный выбор кранов. В углу обедает и хохочет компания женщин за тридцать.
Сэндвич хорош, хорошо и пиво, но Кел не получает от них должного удовольствия. Его болтовня с О’Малли не только не угомонила мысли – она разбередила их еще пуще. Не то чтоб Кел хоть на минуту поверил, что Брендана Редди похитили неизвестные личности. О’Малли, во всяком случае, подтвердил то, что Кел смекал с самого начала: у Брендана были все причины сбежать, а причин задерживаться тут – не очень много.
Не дает покоя ему то, что Трей был прав в одном: от гард – по крайней мере, для выполнения задачи Трея – ни хрена пользы. Как только О’Малли услышал имя Редди, пиши пропало. И так же со всеми остальными. Кел размышляет о тех размытых дождем холмах и о мало на что годной матери. Ребенку в этом возрасте нельзя совсем без прибежища оставаться.
Досаждает ему непокой. Кел приканчивает пинту быстрее, чем сам того хотел, и устремляется обратно под дождь.
Покупает в хозяйственном масляный обогреватель и новую банку грунтовки, а также всякие другие припасы, в том числе новую зубную щетку в супермаркете. Молоко не прихватывает. Уверен, что малой больше не явится.
6
Следующее утро – сплошная нежная дымка, мечтательная и невинная, вся из себя такая, будто вчерашнего дня не случилось. Сразу после завтрака Кел собирает рыбацкие снасти и отправляется к реке, что в паре миль отсюда. В том маловероятном случае, если Трей все же вернется, пустой дом ему будет дополнительным ударом по сусалам, но Кел считает, что оно правильно. Пусть уж лучше малой расстроится, чем нагородит себе полную голову пустых надежд.
Рыбачит Кел в этой реке всего второй раз. Укладываясь спать, он каждый вечер собирается назавтра пойти на рыбалку, но дом вечно предлагает ему больше радушия: домом надо заниматься, Келу неймется увидеть, что получится, а рыба может и подождать. Сегодня это радушие попросту назойливо. Кел желает, чтобы дом оказался где-то далеко, и сидеть к нему лучше спиной.
Поначалу кажется, что река – то, что Келу надо. Достаточно узкая – могучие старые деревья смыкаются над нею – и довольно бурная, вода в ней бурлит и пенится; берега окроплены рыжим золотом опавших листьев. Кел отыскивает незаросший участок под большим мшистым буком и не спеша выбирает наживку. Среди ветвей скачут и огрызаются друг на дружку птицы, не обращая на Кела никакого внимания, а запах воды так крепок, что Кел ощущает его всей кожей.
Тем не менее через пару часов романтика выветривается. В прошлый раз Кел наловил себе окуней на ужин за полчаса, не больше. В этот раз он видит рыбу, видит, как она прицельно выхватывает с поверхности всякую живность, но ни одна не проявила к его наживке никакого интереса – даже не пригубила. И Кел начинает понимать на собственном опыте, о каком коварном холоде вел речь Март: то, что казалось приятным прохладным деньком, просочилось через Келов зад и выстудило его до костей и наружу. Из богатого перегноя под слоями мокрых листьев рядом он выкапывает немного червей. Рыбе наплевать и на них.
Тот день, когда он собрался учить Алиссу ловить рыбу, выдался таким же. Ей тогда было, может, лет десять; они отправились в долгий отпуск в избушке – Донна нашла это место, название которого Кел сейчас не может ухватить памятью. Они с Алиссой просидели у озера три часа, и не клевало ничего, кроме мальков, но Алисса пообещала маме, что принесет в дом ужин, и без этого уходить не собиралась. В конце концов Кел глянул в ее красное, несчастное, упрямое личико и сказал, что у него есть план. Они сгоняли в магазин и купили пакет с замороженным рыбным филе, нацепили его Алиссе на удочку и вернулись в дом с воплями: “Крупную поймали!” Донна глянула на улов и сказала, что рыба еще живая и ее надо оставить домашним питомцем. Все трое хихикали как полоумные. Когда Донна вывалила филе в плошку с водой и назвала его Бертом, Алисса хохотала так, что не устояла на ногах.
Пусть хоть одна клятая рыба потягается с ним хорошенько, а затем он соорудит из нее добрый ужин, и тогда все, что там болтается у него в голове, уляжется по местам – так думает Кел. Рыбе же его душевные нужды без всякого интереса, она продолжает играть с его крючком в пятнашки.
Через полдня совершенно по нулям Кел начинает думать, что репутация реки – разводка комиссии по туризму[23], а окуневый ужин в прошлый раз – чистое везение. Собирает снасти и направляется к дому, не торопясь там оказаться. Если вдруг Трей все же решит заявиться и попытать удачу еще разок, со всей этой затеей придется завязать, не откусив попутно малому башку.
На полдороге к дому он натыкается на Лену – та ходко шагает ему навстречу, при ней собака, шуршит по кустам впереди.
– День добрый, – говорит она, подзывая собаку щелчком пальцев. На ней просторная бурая шерстяная куртка и синяя вязаная шапочка, натянутая поглубже, видно лишь несколько прядей светлых волос. – Рыба есть?
– Навалом, – отвечает Кел. – И вся умней меня.
Лена хохочет.
– Эта речка с характером. Попытайте счастья завтра – не будете знать, куда девать.
– Может, так и сделаю, – говорит Кел. – Это собака-мамаша?
– А, не. Та ощенилась на прошлой неделе только, сидит дома со щенками. Эта – ее сестра.
Собака – умного вида молодой рыже-черный бигль – дрожит и фыркает от пылкого желания познакомиться с Келом.
– Можно поздороваться? – спрашивает Кел.
– Валяйте. Этой все б любиться, а не драться.
Кел протягивает руку. Собака обнюхивает каждый дюйм, до какого в силах дотянуться, виляет всей своей задней половиной.
– Хорошая собака, – говорит Кел и чешет ей шею. – Как там мамаша с детьми?
– Шик. Пять щенков. Сперва думала, первый не выживет, а он теперь пухлый, как плюшка, и всех остальных распихивает, чтоб добраться куда ему надо. Желаете взглянуть, если примериваетесь?
Лена засекает ту одну секунду, нужную Келу, чтобы собраться с мыслями на этот счет.
– На Норин не обращайте внимания, – забавляясь, говорит она. – На щенков зайти глянуть можно, и я не сочту это предложением руки и сердца. Клянусь как на духу.
– Ну, я не сомневаюсь, – отзывается смущенный Кел. – Просто задумался, не отложить ли на потом, когда у меня всего этого не будет в руках. Я ж не знаю, далеко ли отсюда вы живете.
– Мили полторы вон туда. Дело ваше.
Желание, чтобы Лена бросила потешаться, диктует Келу ответ лишь отчасти.
– Наверно, справлюсь. Признателен за приглашение.
Лена кивает и поворачивает назад, после чего они устремляются по узкой грунтовке, а живые изгороди из покрытого желтыми цветами дрока помахивают им с обеих сторон. Кел машинально сбавляет ход – привык к Донне, пять футов четыре дюйма на каблуках, – но осознает, что это незачем: Лена вполне поспевает в ногу с ним. У нее долгий свободный шаг деревенской женщины, походка легкая, словно она могла бы гулять так весь день.
– Как с домом справляетесь?
– Неплохо, – отвечает Кел. – Начал красить. Мой сосед Март устраивает мне разносы за то, что я выбрал старый добрый белый, но Март, похоже, не лучший источник советов по интерьеру.
Что-то в нем ждет от Лены советов по цветовой схеме – похоже, Мартова болтовня застряла в голове. Но Лена говорит другое.
– Март Лавин, – и рот ее кривится ехидно, – не стоит этого мужика слушать. Нелли, – резко одергивает она собаку – та выволакивает из канавы что-то темное и раскисшее, – фу. – Собака неохотно выпускает добычу и убегает поискать что-нибудь еще. – А земля? – продолжает Лена. – Что с ней планируете?
Как ни смешно, Март постоянно задает новому соседу ровно этот же вопрос, не пытаясь скрыть, что разведывает долгосрочные планы Кела. Сам Кел представляет свои планы смутновато. Сейчас ему не удается вообразить время, когда захочется посвящать себя чему-то помимо ремонта дома, ловли окуней и стоматологической истории Клоды Мойнихан в изложении Норин. Он признает, что такое время может рано или поздно настать. Вот когда оно настанет, рассуждает Кел, возможно, он отправится послоняться по Европе, пока не слишком состарился, а затем, когда уймет зуд в ногах, вернется сюда. Больше ему нигде быть не нужно.
– Ну, – говорит он, – я еще толком не решил. У меня на земле этот лесок, хочу оставить его как есть, там половина орешник, а фундуком я способен питаться с утра до ночи. Пару яблонь, может, посадил бы, чтоб было что-то сладкое в придачу к орехам через сколько-то лет. А еще собирался участок под огород справить.
– О боже, – произносит Лена, – вы ж не из этих, которые автономные, а?
Кел лыбится.
– Не-а. Просто засиделся в конторе, хочу побыть на свежем воздухе.
– Слава богу.
– У вас тут этих, которые автономные, много?
– Случаются. У людей фантазии насчет того, чтоб вернуться к земле, они считают, что здесь самое оно. На вид тут так, надо думать. – Кивает на горы впереди, сутулые, охряные, укрытые там и сям лохмотьями тумана. – По большей части никто из них один конец лопаты от другого не отличит. На полгода их тут хватает.
– Меня устраивает ограничивать охоту и собирательство преимущественно лавкой вашей сестры, – говорит Кел. – Надо признать, Норин меня чуточку пугает, но не настолько, чтоб я растил себе собственный бекон.
– Норин что надо, – говорит Лена. – Хотела б я сказать, не обращайте внимания – и она от вас отстанет, но она не отстанет. Норин неспособна ничего видеть так, чтоб не пытаться извлечь из этого прок. Просто пропускайте мимо ушей.
– Она тут не на ту лошадь ставит, – говорит Кел. – От меня сейчас никому никакого проку.
– Да и ничего страшного. И не давайте Норин переубедить себя.
Идут молча, но молчание это не тяготит. В дроке попадается ежевика; крепко сбитые косматые пони в поле объедают кусты, время от времени Лена срывает ягодку и кладет в рот. Кел следует ее примеру. Ягоды темные, спелые, но все же с терпким привкусом.
– Обдеру их на днях да заделаю варенья, – говорит Лена. – Если выдастся день, когда я решу заморочиться.
Сворачивает с дороги на длинную грунтовую тропу. Поля по обе стороны – пастбища, там высокая трава и крепкий коровий дух. Какой-то дядька осматривает корове ногу, вскидывает голову на Ленин оклик, машет ей, кричит что-то в ответ, Кел не улавливает.
– Киаран Малони, – говорит Лена. – Выкупил у меня землю. – Кел представляет ее в этих полях, в резиновых сапогах и заляпанных грязью штанах, и как она запросто окорачивает разыгравшегося жеребенка.
Ее дом – длинное одноэтажное здание, свежепокрашенное, на окнах ящики с геранью. Лена не приглашает Кела внутрь, а ведет в обход дома к низкой постройке из грубого камня.
– Пыталась оставить ее щениться в доме, – говорит, – но куда там. Пожелала в хлеву. В конце концов я решила, что беды не будет. Стены тут толстые, холод не проберется, а замерзнет – дорогу знает.
– Вы этим с мужем занимались – скотиной?
– Было дело, ага. Молочной. Хотя тут не держали, не. Это старый хлев, ему век-другой. В основном мы тут хранили корм.
В хлеву сумрачно, освещен он только мелкими высокими оконцами, и Лена права насчет стен – здесь теплее, чем Кел предполагал. Собака лежит в последнем стойле. Они присаживаются на корточки, Нелли остается на почтительном расстоянии; заглядывают внутрь.
Собака-мать – рыжая с белым, свернулась в просторном деревянном ящике вокруг пищащей кучи-малы щенят, елозящих друг по дружке, чтобы подобраться поближе.
– Славный помет, – замечает Кел.
– А вон тот заморыш, о котором я обмолвилась, – говорит Лена, протягивает руку и выхватывает толстого щенка в черных, рыжих и белых пятнах. – А теперь гляньте, как вымахал.
Кел тянется, чтоб взять щенка, но собака-мать приподнимается, из груди ее прет тихий рык. Остальные щенки потревожены, яростно пищат.
– Дайте ей минуту, – говорит Лена. – Она не так хорошо воспитана, как Нелли. Я ее всего несколько недель как взяла, не было времени научить манерам. Как увидит, что сестра ее не против вас, так и мировецки все будет.
Кел оставляет в покое щенков и принимается возиться с Нелли, а та впитывает это с радостью, лижется и виляет хвостом. И действительно: собака-мать укладывается обратно среди щенков, а когда Кел поворачивается к ней, позволяет ему взять заморыша у Лены – всего лишь приподнимает губу.
Глаза у щенка крепко закрыты, голова болтается на шее. Он глодает Келу кончик пальца крошечными беззубыми деснами, ищет молоко. У него рыжая морда и черные ушки, по носу белый сполох, на рыжей спине черное пятно в форме драного флага. Кел гладит мягкие вислые уши.
– Давно мне такого не перепадало, – говорит он.
– Хорошо с ними, это да, – говорит Лена. – Мне-то щенки ни к чему были – да и две собаки, если уж на то пошло. Хотела одну, вот и взяла Нелли из приюта – их обеих оставили на обочине. Те, кто взял Дейзи, не удосужились ее стерилизовать, а когда она забеременела, вернули в приют. Приют позвонил мне. Сперва я отказалась, но потом подумала – а чего нет-то? – Сует руку в ящик, пощекотать щенку лоб пальцем; щенок слепо тычется ей в ладонь. – Принимаешь, что само в руки идет, наверно.
– Обычно не кажется, что есть выбор, – соглашается Кел.
– И конечно, щенки эти – дикая смесь. Одному богу известно, кто их возьмет.
Келу нравится, как она держится с ним рядом – не подается к нему как женщина, которая его хочет или хочет, чтобы он ее хотел, без равновесия, так, будто ему с минуты на минуту предстоит ее ловить, а стоит на ногах крепко, плечом к плечу с ним, как напарник. В хлеву пахнет кормом для скота, сладко и орехово, пол усыпан золотой соломенной пылью. Речной холод постепенно тает у Кела в костях.
– Что-то от ретривера есть, похоже, – говорит он. – А вон тот в конце вроде как на терьера смахивает, судя по ушам.
– Чистокровная дворняга, я б сказала. Никак тут не узнаешь, сгодятся ли они для охоты. А караульные собаки из биглей никакие. Хомяк и тот свирепее.
– А голос они подать могут в случае чего?
– Если кто-то на вашей земле, знать они вам дадут, это да. Всё замечают – и хотят вам об этом доложить. Но худшее, на что способны, – зализать чужака в клочья.
– Я б не стал просить своего пса выполнять за меня грязную работу, – говорит Кел. – Но хотел бы, чтоб меня, если что, предупредили.
– Вы с ними ладите, – говорит Лена. – Если хотите, можете одного взять.
Кел до этой минуты не отдавал себе отчета, что его оценивают.
– Недельку-другую подумаю, – говорит. – Если можно.
Лена обращает к нему лицо, ей опять забавно.
– Напугала я вас? Разговорами об этих залетных, которые через одну зиму собирают манатки?
– Дело не в этом, – отвечает Кел, слегка опешив.
– Я вам говорила, почти всем хватает полгода. Вы здесь уже сколько? Четыре месяца? Не волнуйтесь, никакого рекорда вы не поставите, если смотаете отсюда удочки.
– Просто хочу точно знать, что поступлю с собакой по-честному, – говорит Кел. – Это ж ответственность.
Лена кивает.
– Правильно, – говорит. Чуть вскидывает бровь; не разобрать, верит ему или нет. – Сообщите, когда решите, вот что. Какой-то вам приглянулся тут? Вы первый, кому предлагаю, у вас право выбора.
– Ну, – говорит Кел, проводя пальцем заморышу по спинке, – мне вот этот с виду нравится. Уже доказал, что он не из слабаков.
– Скажу остальным желающим, что этот на выданье, – говорит Лена, – если кто спросит. Захотите зайти глянуть, как он растет, – сперва звякните, чтоб я была дома, дам вам номер. В некоторые дни я на работе.
– Где работаете?
– На конюшне, по ту сторону от Бойла. Веду бухгалтерию, но иногда и с лошадьми помогаю.
– Они у вас тоже водились? Вместе со скотиной?
– Своих не было. Пускали к себе чужих на постой.
– У вас тут, судя по всему, серьезное предприятие было, – замечает Кел. Заморыш перевернулся у него в ладони на спинку; Кел щекочет ему брюшко. – Все, похоже, сильно изменилось.
Стремительно возникшей улыбки он от нее не ждал.
– Вы забрали себе в голову, что я горемычная одинокая вдовушка, сокрушенная от утраты фермы, где она со своим мужем с ног сбивались в трудах-то. Верно?
– Вроде того, – признает Кел, улыбаясь в ответ. Он всегда тяготел к женщинам, опережающим его на шаг, хотя понятно теперь, куда это его завело.
– Нисколечко, – добродушно говорит Лена. – Да я с радостью от этой дряни отделалась. С ног-то мы сбивались, это точно, и Шон вечно тревожился, что обанкротимся, а чтоб тревоги эти свои облегчить, запил. И эти вот три беды вместе устроили ему инфаркт.
– Норин говорила, что он помер. Соболезную вашей утрате.
– Почти три года уже. Привыкаю потихонечку. – Лена чешет собаку-мать за ухом, собака блаженно щурится. – Но на ферму я затаила зло. Едва дождалась, чтоб сбыть ее с рук.
Кел хмыкает. Замечает, что Лена разговаривает с человеком, которого едва знает, довольно свободно и что большинство людей среди его знакомых, склонных к этому, либо психи, либо стремятся с какими-то своими целями усыпить его бдительность, но вот Лены он не опасается. Отдает себе отчет, что каким бы откровенным разговор ни казался, однако едва ли не все, что она рассказывает о себе, так разрозненно, что едва уловимо.
– Ваш муж ферму не отдал бы, а?
– Ни за что. Шону была нужна свобода. У него в голове не помещалось, как так – батрачить. А мне… – она показывает поворотом головы на все, что вокруг, – вот это – свобода. Не батрачить. Выхожу с работы – и я вольная птица. Не вытаскивают меня из постели в три часа ночи, потому что отёл пошел неудачно. Лошади мне нравятся, но еще больше они мне нравятся, когда от них в конце дня можно уйти.
– По мне, так это совершенно осмысленно, – говорит Кел. – И вот так просто все разрешилось?
Она пожимает плечами.
– Более-менее. Сестры Шона начали давить: семейная ферма, мол, продала, он еще остыть в земле не успел, – в этом духе. Хотели, чтоб я их сыновей сюда работать пустила, а потом оставила им, когда помру. Я решила, что лучше мне жить без них, чем с этим местом у себя на горбу. Они мне все равно никогда особо не нравились.
Кел смеется, мгновение спустя Лена ему вторит.
– Считают, что я сучка черствая, – говорит она. – Может, и правы. Но в некоторых смыслах я сейчас счастливее, чем когда бы то ни было. – Кивает на заморыша, тот перекатился на правый бок и пищит вполне яростно, аж мать насторожилась. – Вы гляньте-ка на этого парня. Куда он это складывать собирается, ума не приложу, но хочет еще.
– Дам-ка я вам всем заниматься своими делами, – говорит Кел, бережно укладывая щенка в ящик, где кроха протискивается между братьями и сестрами к еде. – Я сообщу насчет этого малыша.
Лена не приглашает его на чай и не провожает к дороге. Кивает на прощанье у дверей и заходит в дом, даже не махнув рукой напоследок, Нелли скачет рядом. Но Кел, покидая это место, ощущает в себе больше радости, чем за весь день до этого.
Это настроение держится, пока он не оказывается дома, где обнаруживает, что кто-то спустил ему все четыре колеса.
– Малой! – орет он, надсаживаясь. – Вылазь!
Но в саду тихо, если не считать насмешек грачей.
– Малой! А ну!
Ничто не шелохнется.
Кел чертыхается, выуживает из багажника пускач со встроенным насосом. Пока возится с этой чертовой штукой, подключает и приводит в норму первое колесо, успокаивается и до него кое-что доходит. Чтобы выпустить из колес воздух, и быстрее, и легче просто порезать их. Если Трей взял на себя вот этот труд, значит, причинить настоящий ущерб не стремился. Он стремился высказаться. Кел не вполне понимает, в чем это высказывание состоит. “Я собираюсь доставать тебя, пока ты не сделаешь то, что мне нужно” или, может, “Ты мудак”, но по части общения Трей и в целом не очень силен.
Кел берется за второе колесо – и тут появляются Март с Коджаком.
– Что ты тут затеял со своим призовым пони? – спрашивает Март, кивая на “паджеро”. Увидев на днях, как Кел полирует машину, Март считает, что отношение Кела к проселочному рыдвану уж слишком трепетное и городское. – Ленты ему в гриву вплетаешь?
– Более-менее, – отзывается Кел, почесывая Коджаку башку, пока тот проверяет улики, оставленные на Келе собаками Лены. – Подкачиваю шины.
К счастью, у Марта ум занят кое-чем поважнее, ему не до колес Кела, сплющенных, как ведьмина титька.
– Тут парнишка повесился, – уведомляет он Кела. – Дарра Флаэрти, из-за речки. Отец вышел утром на дойку и обнаружил его на дереве.
– Ужас какой, – говорит Кел. – Мои соболезнования семье.
– Передам. Двадцать годков всего.
– В этом возрасте они это и творят. – На секунду Кел вспоминает напряженное лицо Трея: “Он не сбежал”. Вновь принимается прикручивать шланг насоса к колесному клапану.
– Я все последнее время знал, что с парнем не то, – говорит Март. – Видал его в городе на мессе аж три раза этим летом. Сказал его отцу, чтоб приглядывал, но нельзя ж с них глаз не спускать день и ночь.
– А почему б ему в церковь не ходить? – спрашивает Кел.
– Церковь, – сообщает Март, вытаскивая кисет из кармана куртки и извлекая оттуда маленькую самокрутку, – она для женщин. В основном для старых дев, они-то да, любят сыр-бор устраивать вокруг того, кому второе чтение делать, или насчет цветов на алтарь. И для мамок она, которые ребятню приводят, чтоб не выросли безбожниками, да и для старичья – эти всем показывают, что еще покамест не померли. Если к мессе начинает ходить молодой парень, дело дрянь. Что-то неладно – либо в жизни у него, либо в голове.
– Ты сам к мессе ходишь, – замечает Кел. – Ты ж его там увидел.
– Хожу, – признает Март, – от случая к случаю. У Фолана треп классный, следом, – и воскресный ужин. Нравится мне иногда, чтоб ужин готовил кто-то другой. И если надо купить или продать скотину, иду к мессе как миленький. Многие сделки заключаются у Фолана после полуденной мессы.
– А я-то решил, что ты просто набожный парень, типа, – ухмыляясь, говорит Кел.
Март смеется, пока не начинает давиться дымом.
– Да куда там, к чему мне эта суета, в мои-то годы. Какие мне, деду старому, грехи? У меня даже широкополосного интернета нету.
– Есть же в этих краях хоть какие-то доступные грехи, – говорит Кел. – А как же потин Малахи Как-его-там?
– Никакой не грех это, – заявляет Март. – Есть то, что против закона, а есть – что против церкви. Иногда оно и впрямь одно и то же, а иногда – нет. Вам, что ли, не втолковали это в вашей-то церкви?
– Может, и втолковывали, – говорит Кел. Мыслями он не целиком и полностью с Мартом. Келу было б веселее, понимай он отчетливей и то, на что Трей способен, и каковы его границы. У Кела есть ощущение, что и то и другое гибко и определяется в основном обстоятельствами и потребностями. – Давненько уж я не из тех, кто в церковь ходит.
– Мы, думаю, твоим требованиям не соответствуем. У вас там во всех церквях играют со змеями[24] да в экстазах бьются. Такого мы тебе тут предложить не можем.
– Клятый святой Патрик, – говорит Кел. – Изгнал весь наш инструментарий.
– Не мог он предвидеть наплыв янки. Вас тогда вообще не изобрели.
– А теперь смотри, – говорит Кел, поглядывая на датчик давления, – мы повсюду.
– Да и пожалуйста. Святой-то Патрик и сам был пришлым, ну? С вами у нас жизнь интересней. – Март затаптывает окурок сапогом. – Скажи-ка вот что: как там дела с той развалиной, с бюро?
Кел резко вскидывает взгляд от манометра. Всего на секунду ему кажется, что он уловил в голосе Марта намек на то, что вопрос-то лукавый. С некоторых участков Мартовой земли открывается прекрасный вид на задний двор Кела.
Март наклоняет голову, невинный, как дитя.
– Нормалёк, – говорит Кел. – Состарить, а потом лаком покрыть – и будет в полном боевом.
– Орел, – говорит Март. – Если когда понадобится пара фунтов, всегда сможешь обустроиться плотником, мастерскую вон в сарае у себя оборудуешь, найдешь подмастерье, чтоб пособлял. Хорошего только выбери. – Далее, в ответ на повторный взгляд Кела: – Я вроде видел, как ты в город ехал вчера после обеда?
Кел приносит Марту печенье и точит с ним лясы, пока Марту это не прискучивает и он не высвистывает Коджака и не уходит вдаль по полю. Шины вновь на ходу – во всяком случае, на какое-то время. Кел убирает пускач и идет в дом. Хотя б дому ущерба никакого, насколько можно судить.
Кажется, что сэндвичи, которые он брал с собой на реку, были давным-давно, однако готовить Келу не хочется. Вчерашний непокой перерос в откровенную тревогу, резкую и зудящую, – такую и к ногтю-то не прижмешь особо, куда там унять совсем.
В Сиэтле еще рано, но заставить себя ждать он не может. Выбирается на задний двор, где прием не такой паршивый, и звонит Алиссе.
Она отвечает, но голос у нее невнятный и напряженный.
– Папа? Все в порядке?
– Ага. Извини. Минутку улучил, решил, позвоню-ка я прям сейчас. Не хотел пугать.
– А. Да нет, ничего.
– Как сама? Все путем?
– Ага, все хорошо. Слушай, пап, я на работе, и…
– Конечно, – говорит Кел, – без проблем. Ты точно путем? Тот грипп не вернулся?
– Нет, все хорошо. Просто дел завал. Потом созвонимся, ага?
Кел отключается с тревогой, та делается все больше и неугомоннее, рыщет у него в мыслях, набирая прыть. Стаканчик-другой “Джима Бима” ему б не повредил, да только никак себя не заставить. Не удается стряхнуть чувство, что на него надвигается некое бедствие, кто-то в опасности, и Келу, чтобы не упустить возможность исправить что-то, необходимо держать при себе весь свой рассудок. Напоминает себе: чья-то там опасность – не его ума дело, но мысль эта не приживается.
Он поспорить готов, что малой за ним наблюдает откуда-нибудь, но Март сейчас у себя на поле, возится с овцами, услышит, если Кел крикнет. Кел обходит сад по периметру, прочесывает поле на задворках и огибает лесок, но ничего, кроме пары кроличьих нор, не находит. Вновь и вновь проигрывая в голове телефонный разговор, слышит, что с каждым разом голос Алиссы звучит как-то не так – он вымотанный, разбитый.
Не успев взять в толк, что он действительно собирается это проделать, Кел звонит Донне.
Трубку не снимают долго. Кел уже готов сбросить звонок, но тут она отвечает.
– Кел, – произносит она. – В чем дело?
Кел едва не отключается. Ее голос совершенно, полностью бесстрастный; он не понимает, как ответить этому голосу, исходящему от Донны. Но если сбросит звонок, почувствует себя напрочь балбесом и потому говорит:
– Привет. Напрягать тебя не буду. Хотел спросить кое о чем.
– Лады. Давай.
Кел не понимает ни где она, ни чем занята, фоновый шум напоминает ветер, но, вполне возможно, это просто связь такая. Пытается сообразить, который час в Чикаго – видимо, полдень?
– Вы с Алиссой последнее время виделись?
Небольшая пауза. С тех пор как они расстались, каждый их с Донной разговор насыщен такими паузами: она оценивает, соответствует ли ее ответ на его вопрос новым правилам, которые она единолично установила для их отношений. Правила эти до сведения Кела она не довела, а потому он понятия не имеет, в чем они заключаются, но, невзирая на это, иногда ловит себя на том, что, словно эдакий малолетний поганец, сознательно пытается их нарушить.
Судя по всему, такой вопрос правилами допускается. Донна отвечает:
– Я у них гостила пару недель в июле.
– Ты с ней разговариваешь?
– Ага. Раз в несколько дней.
– С ней все нормально, как тебе показалось?
Пауза тянется в этот раз чуть дольше.
– А что?
Кел ощущает, как в нем поднимается озлобление. Но он не пускает его в свой тон.
– По голосу мне не показалось, что все хорошо. Не могу сказать, почему именно, то ли переутомилась на работе, то ли еще почему, но я заволновался. Она, что ли, приболела? Этот малый, Бен, – он с ней нормально обращается?
– А меня ты чего спрашиваешь? – Донна изо всех сил борется за свой бесстрастный голос, но в этой борьбе уступает, что дает Келу крошечное, но удовлетворение. – Я не нанималась быть у вас с ней посредником. Хочешь знать, как там Алисса, – спрашивай ее сам.
– Я спросил. Говорит, все в порядке.
– Ну и вот.
– Она… Ладно тебе, Донна, ну чего ты. Ей опять не по себе? Что-то случилось?
– Ты ее спрашивал?
– Нет.
– Ну так спроси.
Тяжесть пропитывает Келу кости – такая знакомая, что он от нее устает. Столько у них с Донной было подобных ссор в тот год, когда она ушла, – нескончаемых, ведших в никуда, не имевших никакого внятного направления, как те сны, в каких бежишь изо всех сил, а ноги у тебя при этом едва двигаются.
– Ты бы мне сказала? – спрашивает он. – Если б что-то случилось?
– Черта с два. Если Алисса что-то не говорит тебе, значит, не хочет, чтоб ты знал. Это ее выбор. Да и если что-то случилось, что ты с этим поделаешь оттуда, где ты сейчас?
– Я бы прилетел. Мне прилететь?
Донна исторгает взрывной звук чистого отчаяния. Донна любила слова и употребляла их во множестве, их хватало, чтобы уравновесить недостаток их у Кела, но все равно недоставало, чтобы вместить ее чувства; ей нужны были руки, лицо и набор звуков, как у пересмешника.
– Ты невыносим, понимаешь? И вроде умный мужик, боже ты мой… Знаешь что, я пас. Не буду я больше за тебя думать. Мне пора.
– Конечно-конечно, – отвечает Кел, возвышая голос. – Передавай приветики Как-его-там… – Но она сбрасывает звонок, что, возможно, и к лучшему.
Кел стоит некоторое время у себя в поле, зажав телефон в руке. Хочет вмазать кулаком по чему-нибудь, но понимает, что ничего этим не изменит, только разобьет себе костяшки. От такого обилия здравого смысла чувствует себя старым.
В воздух просачивается вечер, над горами полосы холодного желтого, а у грачей на дубе вечернее совещание. Кел возвращается в дом и включает на “айподе” что-то из Эммилу Хэррис[25]. Надо, чтоб кто-то сейчас был с ним понежней, хоть ненадолго.
Он все же прихватывает бутылку “Джима Бима” на заднее крыльцо. Почему бы и нет. Даже если кто-то там в какой-то опасности, похоже, от Кела помощи хотят в последнюю очередь.
Не видит он причин, почему бы ему не сидеть тут и не размышлять о Донне, раз уж все равно облажался и позвонил ей. Времени на ностальгию у Кела никогда не было, но размышлять о Донне представляется иной раз важным занятием. Порой ему кажется, что Донна планомерно вымарывает у себя из памяти все хорошее, что между ними было, чтобы погрузиться в блестящую новенькую жизнь, не надрывая сердца. Если не сохранит эту память и Кел, все их хорошее исчезнет, будто и не случилось вообще.
Кел думает про то утро, когда они обнаружили, что у них будет Алисса. Яснее некуда помнит, какая Донна была в его объятиях: кожа горячей обыкновенного, словно некий мотор разгонялся на новых цилиндрах, ошеломительная сила ее тяготения и таинство внутри нее. Кел сидит на заднем крыльце, смотрит, как сереют от сумерек зеленые поля, слушает грустный и нежный голос Эммилу, выплывающий из-за двери, и пытается понять, как вообще получилось переместиться из того дня в этот.
7
Наутро Кел просыпается со все тем же нехорошим нутряным чувством. Последние пару лет на службе он с ним просыпался ежедневно – с этой плотной, скрученной в узлы уверенностью, что на него прет что-то скверное, что-то неотвратимое и неумолимое, как ураган или массовое убийство. Кел от этого делался дерганым, как салага, окружающие замечали и говнились на него за это. Когда ушла Донна, он решил, что вот она, бомба, которую он ожидал. Да вот только чувство у него в потрохах никуда не девалось – громоздкое и хмурое, как и прежде. И тогда он решил, что дело, должно быть, в его среднем возрасте и в опасностях службы, что наконец догнали его с неким новым осознанием смертности человеческой, но, даже подав заявление и уволившись, он с этим чувством не расстался. Оно лишь начало ослаблять хватку, когда он подписал бумаги на это место, и окончательно отпустило, когда прошел по некошеной траве к облупленной входной двери. И вот опять оно, словно чувству этому понадобилось некоторое время, чтобы вынюхать Кела за много миль и настигнуть.
Он справляется с этим так же, как и прежде на службе, – пытается уморить себя работой. После завтрака берется красить гостиную – ожесточенно и быстро, изо всех сил, охота ему или нет. Помогает оно как и прежде, то есть не очень-то, но он хотя бы попутно нафигачил чего-то дельного. К ужину на загрунтованные стены почти везде нанесен первый слой краски. Кел по-прежнему пуглив, как дикий конь. День ветрен, а это значит, что и внутри, и снаружи, и в печной трубе уйма звуков, и Кел дергается при каждом, хотя понимает, что это всего лишь листья и оконные рамы. А может, и малой. Кел жалеет, что мамаша малого не решила отправить его в военную школу сразу же, как только тот начал от учебы отлынивать.
Дни укорачиваются. Когда Кел шабашит, уже стемнело – это беспокойная, шквалистая тьма, из-за нее замысел выгулять остатки того чувства кажется гораздо менее привлекательным. Кел ест гамбургер и пытается укрепить в себе решимость, и тут в его входную дверь ударяется нечто. На этот раз не ветер – что-то твердое.
Кел откладывает гамбургер, тихонько выбирается через заднюю дверь и крадется вдоль стены дома. В небе лишь стружка луны, тени густы и способны скрыть даже мужика его габаритов. Откуда-то из владений Марта сюда плывет невозмутимый клич совы.
Передняя лужайка пуста, ветер мотает траву туда-сюда. Кел ждет. Через минуту что-то мелкое вылетает из изгороди и влепляется в стену. На этот раз слышны смачный хруст и плюх о камень – и тут до Кела доходит. Чертов малой закидывает его дом яйцами.
Кел возвращается в дом и замирает посреди гостиной, оценивая положение и усиленно прислушиваясь. К яйцам применим тот же вывод, что и к покрышкам: пару камней раздобыть проще, и ущерба от них больше. Малой не нападает на Кела – он его требует.
Еще одно яйцо плюхает во входную дверь. Не успев осознать это, Кел сдается. Ему по силам выстоять против этого пацана и по силам выстоять против собственных неисповедимых непокоев, но не против того и другого разом.
Кел отправляется к мойке, наполняет водой пластиковый таз для посуды и отыскивает старое кухонное полотенце. Затем выносит все это к двери и распахивает ее.
– Малой! – орет он в изгородь громко и от души. – Вылазь!
Тишина. Затем прилетает яйцо и вляпывается в стену в нескольких дюймах от Кела.
– Малой! Я передумал. Кончай с этой херней, пока я не передумал еще раз.
Вновь тишина, дольше предыдущей. И вот Трей – упаковка из-под яиц в одной руке, яйцо в другой – выступает из-за изгороди и стоит, выжидая, готовый сорваться с места или метнуть. Клин света от двери вытягивает его тень позади, удлиняет и сужает Трея – темную фигуру, сгустившуюся в снопе света на безлюдной дороге.
– Позанимаюсь я твоим братом, – говорит Кел. – Ничего не обещаю, но гляну, что можно сделать.
Трей вперяется в него с беспримесным животным подозрением.
– Чего это? – спрашивает он.
– Я же сказал. Передумал.
– Чего это?
– Не твоя забота, – отвечает Кел. – Но не потому что ты тут херней маешься, скажем так. Тебе это еще нужно или как?
Трей кивает.
– Лады, – говорит Кел. – Только ты сперва давай отмой-ка это говно. Как закончишь, заходи в дом, потолкуем. – Оставляет полотенце и лоханку с водой у порога, возвращается в дом, шваркает дверью.
Доедает остатки котлеты, слышит, как дверь открывается, внутрь рвется ветер, ищет, за что бы схватиться. В дверях стоит Трей.
– Ты всё? – спрашивает Кел.
Тот кивает.
Келу незачем проверять, качественно ли Трей прибрался.
– Лады, – говорит. – Садись.
Трей не двигается. До Кела доходит: малой боится, что его заманивают внутрь, чтобы поколотить.
– Господи, малой, – говорит Кел, – да не буду я тебя бить. Если все чисто, мы квиты.
Трей смотрит на бюро в углу.
– Ага, – говорит Кел. – Его ты испоганил прилично. Почти всё я отмыл, но кое-что в щелях осталось. Зубной щеткой пройдешься как-нибудь.
Малой все еще опаслив.
– Я б сказал, пусть дверь стоит открытой – на случай, если захочешь удрать, – говорит Кел, – но там слишком ветрено. Решай сам.
Через минуту Трей решает. Входит в комнату, закрыв за собой дверь, и сует Келу упаковку из-под яиц. Внутри осталось одно.