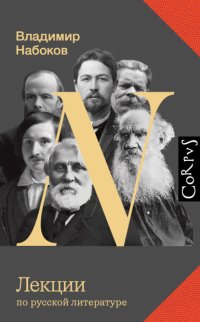Читать онлайн Приглашение на казнь бесплатно
- Все книги автора: Владимир Набоков
First published in 1936
Copyright © 1959, Vladimir Nabokov
All rights reserved
© А. Бабиков, редакторская заметка, примечания, 2021
© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Издательство CORPUS ®
От редактора
«Приглашение на казнь» – последний роман Набокова, написанный в Германии, до переезда во Францию в 1937 г. Он приступил к его сочинению в июне 1934 г., отложив работу над «Даром». Окончив черновик в середине сентября (в рукописи две даты, на первой странице – «24-VI-34», на последней – «15-IX-34»), Набоков до конца этого года правил и редактировал машинописную копию, подготовленную его женой Верой.
Мрачная действительность национал-социалистической Германии, безусловно, отразилась в замысле нового романа, однако Набоков возражал против того, чтобы в его произведении, которое он в поздние годы назвал своей «единственной поэмой в прозе», видели политический памфлет или аллегорию. В письме к матери от 10 марта 1935 г. он писал о нем так:
I’m afraid[1], твое толкование «Приглашения» совершенно неверно. Никакого не следует искать символа или иносказания. Он строго логичен и реален; он – самая простая ежедневная действительность, никаких особых объяснений не требующая[2].
Задолго до начала работы над романом Набоков сочинил драму «Дедушка» (1923), в которой на материале Французской революции изложил историю приговоренного к смерти аристократа, чудом избежавшего казни и вновь встретившего своего палача много лет спустя.
В 1935–1936 гг. «Приглашение на казнь» было опубликовано в нескольких номерах парижского журнала «Современные записки», вызвав сдержанные отзывы эмигрантских критиков. Насколько необычным этот роман с эпиграфом из вымышленного французского философа показался русскому читателю, можно судить по прямо противоположным суждениям о нем одного из самых проницательных критиков эмиграции П. М. Бицилли. В письме к редактору «Современных записок» В. В. Рудневу от 4 июня 1935 г. он отозвался о «Приглашении» следующим образом:
Насчет Сирина Вы правы: блистательно, сверхталантливо и – отвратительно. Чем? Думается, тем, что современную Weltschmerz[3], ощущение метафизич[еской] тревоги, обреченности, духовной опустошенности он обращает в материал для литературного фокусничанья[4].
11 марта 1936 г. он вновь писал Рудневу:
Прочитавши до конца «Приглашение на казнь», убедился окончательно, что Сирин – гениальный писатель, но все еще не выучившийся себя ограничивать и слишком часто увлекающийся собственной виртуозностью <…>[5]
Наконец еще месяц спустя, 7 апреля, он резюмировал:
Мне хочется для очередной книжки [журнала] дать статью о творчестве Сирина как, т[ак] сказ[ать], культурно-историческом факте. Я все больше и больше «проникаюсь» им, и сейчас многое из того, что казалось мне у него игрою, виртуозничаньем, представляется мне вполне осмысленным и внутренне оправданным его столь показательной для нашего времени интуицией жизни[6].
Отдельной книгой, с небольшими изменениями, роман вышел в издательстве «Дом Книги» (Париж) в 1938 г. Английский перевод, подготовленный Дмитрием Набоковым в сотрудничестве с автором, был издан в 1959 г. под названием «Invitation to a Beheading» (G.P. Putnam’s Sons, Нью-Йорк) с предисловием Набокова. Не вполне удовлетворенный этим названием, Набоков рассматривал и другую версию, «Welcome to the Block» (Добро пожаловать на плаху), которая осталась неиспользованной[7]-
В 1966 г. (как установил Брайан Бойд) состоялось русское переиздание романа под маркой фиктивного парижского издательства «Editions Victor», снабженное биографической справкой о Набокове, списком его произведений и предисловием американского писателя и критика Джулиана Мойнагана. Это издание, подготовленное по правилам пореформенной орфографии, как затем и «Защита Лужина», было выпущено при содействии «Радио Свобода» по правительственной программе США с целью распространения в Советском Союзе произведений запрещенных на его территории авторов.
В своем предисловии Мойнаган писал:
<…> Цинциннат признан виновным в преступлении, которое вовсе не преступление – в том, что он – личность. Он думает по-своему – к этому и сводится его гностическая или гносеологическая «гнусность». <…> режим зиждется на одном-единственном, монолитном и нечеловеческом принципе: принципе всеобщего и непременного сотрудничества и соучастия. Так, защитник сотрудничает с обвинителем, а судья с ними обоими. От осужденного, в виде предельного надругательства, спрашивается, чтобы он «соучаствовал» в собственной же гибели: плясал с тюремщиком, благодарил директора тюрьмы за превосходные условия содержания, удивлялся сноровке своего палача, и спешил, наконец, на собственную казнь, как если бы он был приятно польщен «Приглашением на…» танец.
В этом отношении «Приглашение на казнь» оказалось пророческой книгой, предвозвестив самые ужасные исторические факты нашего века. <…> На Западе – не надо забывать, что Набоков принадлежит как к русской, так и к англо-американской литературе – иные из нас видят в нем последнего по времени в славном ряду представителей центральной, межнациональной традиции современного романа. <…> От писателей этой традиции он унаследовал чрезвычайную строгость в вопросах стиля и техники; <…> удивительное самообладание, с которым он оставался верен себе, как художнику, непоколебленное и даже, может быть, усиленное превратностями современной истории <…>[8]
Как следует из письма Веры Набоковой к руководителю парижского бюро «Радио Свобода» Морриллу Коди от 9 июля 1966 г., Набоков не был доволен гранками нового русского издания из-за обилия опечаток и отступления от оригинальной авторской системы пунктуации и попросил прислать ему финальную корректуру, чтобы исправить ошибки[9]. Печатается по этому изданию с исправлением замеченных опечаток, приведением написания некоторых слов к современным нормам и с учетом текста издания 1938 г.
Приглашение на казнь
Comme un fou se croit Dieu nous nous croyons mortels.
DelalandeDiscours sur les ombres[10]
I
Сообразно с законом, Цинциннату Ц. объявили смертный приговор шепотом. Все встали, обмениваясь улыбками. Седой судья, припав к его уху, подышав, сообщив, медленно отодвинулся, как будто отлипал. Засим Цинцинната отвезли обратно в крепость. Дорога обвивалась вокруг ее скалистого подножья и уходила под ворота: змея в расселину[11]. Был спокоен: однако его поддерживали во время путешествия по длинным коридорам, ибо он неверно ставил ноги, вроде ребенка, только что научившегося ступать, или точно куда проваливался, как человек, во сне увидевший, что идет по воде, но вдруг усомнившийся: да можно ли? Тюремщик Родион долго отпирал дверь Цинциннатовой камеры, – не тот ключ, – всегдашняя возня. Дверь наконец уступила. Там, на койке, уже ждал адвокат, – сидел, погруженный по плечи в раздумье, без фрака (забытого на венском стуле в зале суда, – был жаркий, насквозь синий день), и нетерпеливо вскочил, когда ввели узника. Но Цинциннату было не до разговоров. Пускай одиночество в камере с глазком подобно ладье, дающей течь. Все равно, – он заявил, что хочет остаться один, и, поклонившись, все вышли.
Итак – подбираемся к концу. Правая, еще непочатая часть развернутого романа, которую мы, посреди лакомого чтенья, легонько ощупывали, машинально проверяя, много ли еще (и все радовала пальцы спокойная, верная толщина), вдруг, ни с того ни с сего, оказалась совсем тощей: несколько минут скорого, уже под гору чтенья – и… ужасно! Куча черешен, красно и клейко черневшая перед нами, обратилась внезапно в отдельные ягоды: вон та, со шрамом, подгнила, а эта сморщилась, ссохшись вокруг кости (самая же последняя непременно – тверденькая, недоспелая). Ужасно! Цинциннат снял шелковую безрукавку, надел халат и, притоптывая, чтобы унять дрожь, пустился ходить по камере. На столе белел чистый лист бумаги, и, выделяясь на этой белизне, лежал изумительно очиненный карандаш, длинный как жизнь любого человека, кроме Цинцинната, и с эбеновым блеском на каждой из шести граней. Просвещенный потомок указательного перста. Цинциннат написал: «И все-таки я сравнительно. Ведь этот финал я предчувствовал этот финал». Родион, стоя за дверью, с суровым шкиперским вниманием глядел в глазок. Цинциннат ощущал холодок у себя в затылке. Он вычеркнул написанное и начал тихо тушевать, причем получился зачаточный орнамент, который постепенно разросся и свернулся в бараний рог. Ужасно! Родион смотрел в голубой глазок на поднимавшийся и падавший горизонт. Кому становилось тошно? Цинциннату. Вышибло пот, все потемнело, он чувствовал коренек каждого волоска. Пробили часы – четыре или пять раз, и казематный отгул их, перегул и загулок вели себя подобающим образом. Работая лапами, спустился на нитке паук с потолка – официальный друг заключенных. Но никто в стену не стучал, так как Цинциннат был пока что единственным арестантом (на такую громадную крепость!).
Спустя некоторое время тюремщик Родион вошел и ему предложил тур вальса. Цинциннат согласился. Они закружились. Бренчали у Родиона ключи на кожаном поясе, от него пахло мужиком, табаком, чесноком, и он напевал, пыхтя в рыжую бороду, и скрипели ржавые суставы (не те годы, увы, опух, одышка). Их вынесло в коридор. Цинциннат был гораздо меньше своего кавалера.
Цинциннат был легок как лист. Ветер вальса пушил светлые концы его длинных, но жидких усов, а большие, прозрачные глаза косили, как у всех пугливых танцоров. Да, он был очень мал для взрослого мужчины. Марфинька говаривала, что его башмаки ей жмут. У сгиба коридора стоял другой стражник, без имени, под ружьем, в песьей маске с марлевой пастью. Описав около него круг, они плавно вернулись в камеру, и тут Цинциннат пожалел, что так кратко было дружеское пожатие обморока.
Опять с банальной унылостью пробили часы. Время шло в арифметической прогрессии: восемь. Уродливое окошко оказалось доступным закату; сбоку по стене пролег пламенистый параллелограмм. Камера наполнилась доверху маслом сумерек, содержавших необыкновенные пигменты. Так, спрашивается: что это справа от двери – картина ли кисти крутого колориста или другое окно, расписное, каких уже не бывает? (На самом деле это висел пергаментный лист с подробными, в две колонны, «правилами для заключенных»; загнувшийся угол, красные заглавные буквы, заставки, древний герб города – а именно: доменная печь с крыльями – и давали нужный материал вечернему отблеску.) Мебель в камере была представлена столом, стулом, койкой. Уже давно принесенный обед (харчи смертникам полагались директорские) стыл на цинковом подносе. Стемнело совсем. Вдруг разлился золотой, крепко настоянный электрический свет.
Цинциннат спустил ноги с койки. В голове, от затылка к виску, по диагонали, покатился кегельный шар, замер и поехал обратно. Между тем дверь отворилась и вошел директор тюрьмы.
Он был, как всегда, в сюртуке, держался отменно прямо, выпятив грудь, одну руку засунув за борт, а другую заложив за спину. Идеальный парик, черный как смоль, с восковым пробором, гладко облегал череп. Его без любви выбранное лицо, с жирными желтыми щеками и несколько устарелой системой морщин, было условно оживлено двумя, и только двумя, выкаченными глазами. Ровно передвигая ноги в столбчатых панталонах, он прошагал между стеной и столом, почти дошел до койки, – но, несмотря на свою сановитую плотность, преспокойно исчез, растворившись в воздухе. Через минуту, однако, дверь отворилась снова, со знакомым на этот раз скрежетанием, – и, как всегда в сюртуке, выпятив грудь, вошел он же.
– Узнав из достоверного источника, что нонче решилась ваша судьба, – начал он сдобным басом, – я почел своим долгом, сударь мой —
Цинциннат сказал:
– Любезность. Вы. Очень. (Это еще нужно расставить.)
– Вы очень любезны, – сказал, прочистив горло, какой-то добавочный Цинциннат.
– Помилуйте, – воскликнул директор, не замечая бестактности слова. – Помилуйте! Долг. Я всегда. А вот почему, смею спросить, вы не притронулись к пище?
Директор снял крышку и поднес к своему чуткому носу миску с застывшим рагу. Двумя пальцами взял картофелину и стал мощно жевать, уже выбирая бровью что-то на другом блюде.
– Не знаю, какие еще вам нужны кушанья, – проговорил он недовольно и, треща манжетами, сел за стол, чтобы удобнее было есть пудинг-кабинет.
Цинциннат сказал:
– Я хотел бы все-таки знать, долго ли теперь.
– Превосходный сабайон![12] Вы хотели бы все-таки знать, долго ли теперь. К сожалению, я сам не знаю. Меня извещают всегда в последний момент, я много раз жаловался, могу вам показать всю эту переписку, если вас интересует.
– Так что, может быть в ближайшее утро? – спросил Цинциннат.
– Если вас интересует, – сказал директор. – Да, просто очень вкусно и сытно, вот что я вам доложу. А теперь, pour la digestion[13], позвольте предложить вам папиросу. Не бойтесь, это в крайнем случае только предпоследняя, – добавил он находчиво.
– Я спрашиваю, – сказал Цинциннат, – я спрашиваю не из любопытства. Правда, трусы всегда любопытны. Но уверяю вас… Пускай не справляюсь с ознобом и так далее, – это ничего. Всадник не отвечает за дрожь коня. Я хочу знать когда – вот почему: смертный приговор возмещается точным знанием смертного часа. Роскошь большая, но заслуженная. Меня же оставляют в том неведении, которое могут выносить только живущие на воле. И еще: в голове у меня множество начатых и в разное время прерванных работ… Заниматься ими я просто не стану, если срок до казни все равно недостаточен для их стройного завершения. Вот почему —
– Ах, пожалуйста, не надо бормотать, – нервно сказал директор. – Это, во-первых, против правил, а во-вторых – говорю вам русским языком и повторяю: не знаю. Все, что могу вам сообщить, это что со дня надень ожидается приезд вашего суженого, – а он, когда приедет, да отдохнет, да свыкнется с обстановкой, еще должен будет испытать инструмент, если, однако, не привезет своего, что весьма и весьма вероятно. Табачок-то не крепковат?
– Нет, – ответил Цинциннат, рассеянно посмотрев на свою папиросу. – Но только мне кажется, что по закону – ну не вы, так управляющий городом обязан —
– Потолковали, и будет, – сказал директор, – я, собственно, здесь не для выслушивания жалоб, а для того… – Он, мигая, полез в один карман, в другой; наконец из-за пазухи вытащил линованный листок, явно вырванный из школьной тетради.
– Пепельницы тут нет, – заметил он, поводя папиросой, – что ж, давайте утопим в остатке этого соуса… Так-с. Свет, пожалуй, чуточку режет. Может быть, если… Ну да уж ничего, сойдет.
Он развернул листок и, не надевая роговых очков, а только держа их перед глазами, отчетливо начал читать:
«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры —» Я думаю, нам лучше встать, – озабоченно прервал он самого себя и поднялся со стула.
Цинциннат встал тоже.
«Узник! В этот торжественный час, когда все взоры направлены на тебя, и судьи твои ликуют, и ты готовишься к тем непроизвольным телодвижениям, которые непосредственно следуют за отсечением головы, я обращаюсь к тебе с напутственным словом. Мне выпало на долю, – и этого я не забуду никогда, – обставить твое житье в темнице всеми теми многочисленными удобствами, которые дозволяет закон. Посему я счастлив буду уделить всевозможное внимание всякому изъявлению твоей благодарности, но желательно в письменной форме и на одной стороне листа».
– Вот, – сказал директор, складывая очки. – Это все. Я вас больше не удерживаю. Известите, если что понадобится.
Он сел к столу и начал быстро писать, тем показывая, что аудиенция кончена. Цинциннат вышел.
В коридоре на стене дремала тень Родиона, сгорбившись на теневом табурете, – и лишь мельком, с краю, вспыхнуло несколько рыжих волосков. Далее, у загиба стены, другой стражник, сняв свою форменную маску, утирал рукавом лицо. Цинциннат начал спускаться по лестнице. Каменные ступени были склизки и узки, с неосязаемой спиралью призрачных перил. Дойдя донизу, он пошел опять коридорами. Дверь с надписью на зеркальный выворот: «Канцелярия» – была отпахнута; луна сверкала на чернильнице, а какая-то под столом мусорная корзинка неистово шеберстила и клокотала: должно быть, в нее свалилась мышь. Миновав еще много дверей, Цинциннат споткнулся, подпрыгнул и очутился в небольшом дворе, полном разных частей разобранной луны. Пароль в эту ночь был: молчание, – и солдат у ворот отозвался молчанием на молчание Цинцинната, пропуская его, и у всех прочих ворот было то же. Оставив за собой туманную громаду крепости, он заскользил вниз по крутому, росистому дерну, попал на пепельную тропу между скал, пересек дважды, трижды извивы главной дороги, которая, наконец стряхнув последнюю тень крепости, полилась прямее, вольнее, – и по узорному мосту через высохшую речку Цинциннат вошел в город. Поднявшись на изволок и повернув налево по Садовой, он пронесся вдоль седых цветущих кустов. Где-то мелькнуло освещенное окно; за какой-то оградой собака громыхнула цепью, но не залаяла. Ветерок делал все, что мог, чтобы освежить беглецу голую шею. Изредка наплыв благоухания говорил о близости Тамариных Садов. Как он знал эти сады! Там, когда Марфинька была невестой и боялась лягушек, майских жуков… Там, где, бывало, когда все становилось невтерпеж и можно было одному с кашей во рту из разжеванной сирени, со слезами… Зеленое, муравчатое Там, тамошние холмы, томление прудов, тамтатам далекого оркестра… Он повернул по Матюхинской мимо развалин древней фабрики, гордости города, мимо шепчущих лип, мимо празднично настроенных белых дач телеграфных служащих, вечно справляющих чьи-нибудь именины, и вышел на Телеграфную. Оттуда шла в гору узкая улочка, и опять сдержанно зашумели липы. Двое мужчин тихо беседовали во мраке сквера на подразумеваемой скамейке. «А ведь он ошибается», – сказал один. Другой отвечал неразборчиво, и оба вроде как бы вздохнули, естественно смешиваясь с шелестом листвы. Цинциннат выбежал на круглую площадку где луна сторожила знакомую статую поэта, похожую на снеговую бабу – голова кубом, слепившиеся ноги, – и, пробежав еще несколько шагов, оказался на своей улице. Справа, на стенах одинаковых домов неодинаково играл лунный рисунок веток, так что только по выражению теней, по складке на переносице между окон, Цинциннат и узнал свой дом. В верхнем этаже окно Марфиньки было темно, но открыто. Дети, должно быть, спали на горбоносом балконе: там белелось что-то. Цинциннат взбежал на крыльцо, толкнул дверь и вошел в свою освещенную камеру. Обернулся, но был уже заперт. Ужасно! На столе блестел карандаш. Паук сидел на желтой стене.
– Потушите! – крикнул Цинциннат.
Наблюдавший за ним в глазок выключил свет. Темнота и тишина начали соединяться; но вмешались часы, пробили одиннадцать, подумали и пробили еще один раз, а Цинциннат лежал навзничь и смотрел в темноту где тихо рассыпались светлые точки, постепенно исчезая. Совершилось полное слияние темноты и тишины. Вот тогда, только тогда (то есть лежа навзничь на тюремной койке, заполночь, после ужасного, ужасного, я просто не могу тебе объяснить, какого ужасного дня) Цинциннат Ц. ясно оценил свое положение.
Сначала на черном бархате, каким по ночам обложены с исподу веки, появилось, как медальон, лицо Марфиньки: кукольный румянец, блестящий лоб с детской выпуклостью, редкие брови вверх, высоко над круглыми, карими глазами. Она заморгала, поворачивая голову, и на мягкой, сливочной белизны шее была черная бархатка, а бархатная тишина платья, расширяясь книзу, сливалась с темнотой. Такой он увидел ее нынче среди публики, когда его подвели к свежепокрашенной скамье подсудимых, на которую он сесть не решился, а стоял рядом, и все-таки измарал в изумрудном руки, и журналисты жадно фотографировали отпечатки его пальцев, оставшиеся на спинке скамьи. Он видел их напряженные лбы, он видел ярко-цветные панталоны щеголей, ручные зеркала и переливчатые шали щеголих, – но лица были неясны, – одна только круглоглазая Марфинька из всех зрителей и запомнилась ему. Адвокат и прокурор, оба крашеные и очень похожие друг на друга (закон требовал, чтобы они были единоутробными братьями, но не всегда можно было подобрать, и тогда гримировались), проговорили с виртуозной скоростью те пять тысяч слов, которые полагались каждому. Они говорили вперемежку, и судья, следя за мгновенными репликами, вправо, влево мотал головой, и равномерно мотались все головы, – и только одна Марфинька, слегка повернувшись, неподвижно, как удивленное дитя, уставилась на Цинцинната, стоявшего рядом с ярко-зеленой садовой скамьей. Адвокат, сторонник классической декапитации[14], выиграл без труда против затейника прокурора, и судья синтезировал дело.
Обрывки этих речей, в которых, как пузыри воды, стремились и лопались слова «прозрачность» и «непроницаемость», теперь звучали у Цинцинната в ушах, и шум крови превращался в рукоплескания, а медальонное лицо Марфиньки все оставалось в поле его зрения и потухло только тогда, когда судья, – приблизившись вплотную, так что можно было различить на его крупном смуглом носу расширенные поры, одна из которых, на самой дуле, выпустила одинокий, но длинный волос, – произнес сырым шепотом: «С любезного разрешения публики, вам наденут красный цилиндр», – выработанная законом подставная фраза, истинное значение коей знал всякий школьник.
«А я ведь сработан так тщательно, – думал Цинциннат, плача во мраке. – Изгиб моего позвоночника высчитан так хорошо, так таинственно. Я чувствую в икрах так много туго накрученных верст, которые мог бы в жизни еще пробежать. Моя голова так удобна…»
Часы пробили неизвестно к чему относившуюся половину.
II
Утренние газеты, которые с чашкой тепловатого шоколада принес ему Родион, – местный листок «Доброе Утречко» и более серьезный орган «Голос Публики», – как всегда, кишели цветными снимками. В первой он нашел фасад своего дома: дети глядят с балкона, тесть глядит из кухонного окна, фотограф глядит из окна Марфиньки; во второй – знакомый вид из этого окна на палисадник с яблоней, отворенной калиткой и фигурой фотографа, снимающего фасад. Он нашел, кроме того, самого себя на двух снимках, изображающих его в кроткой юности.
Цинциннат родился от безвестного прохожего и детство провел в большом общежитии за Стропью (только уже на третьем десятке он познакомился мимоходом со щебечущей, щупленькой, еще такой молодой на вид Цецилией Ц., зачавшей его ночью на Прудах, когда была совсем девочкой). С ранних лет, чудом смекнув опасность, Цинциннат бдительно изощрялся в том, чтобы скрыть некоторую свою особость. Чужих лучей не пропуская, а потому в состоянии покоя производя диковинное впечатление одинокого темного препятствия в этом мире прозрачных друг для дружки душ, он научился все-таки притворяться сквозистым, для чего прибегал к сложной системе как бы оптических обманов, но стоило на мгновение забыться, не совсем так внимательно следить за собой, за поворотами хитро освещенных плоскостей души, как сразу поднималась тревога. В разгаре общих игр сверстники вдруг от него отпадали, словно почуя, что ясность его взгляда да голубизна висков – лукавый отвод и что в действительности Цинциннат непроницаем. Случалось, учитель среди наступившего молчания, в досадливом недоумении собрав и наморщив все запасы кожи около глаз, долго глядел на него и наконец спрашивал:
– Да что с тобой, Цинциннат?
Тогда Цинциннат брал себя в руки и, прижав к груди, относил в безопасное место.
С течением времени безопасных мест становилось все меньше, всюду проникало ласковое солнце публичных забот, и было так устроено окошечко в двери, что не существовало во всей камере ни одной точки, которую наблюдатель за дверью не мог бы взглядом проткнуть. Поэтому Цинциннат не сгреб пестрых газет в ком, не швырнул, – как сделал его призрак (призрак, сопровождающий каждого из нас – и тебя, и меня, и вот его, – делающий то, что в данное мгновение хотелось бы сделать, а нельзя…). Цинциннат спокойненько отложил газеты и допил шоколад. Коричневая пенка, покрывавшая шоколадную гладь, превратилась на губе в сморщенную дрянь. Затем Цинциннат надел черный халат, слишком для него длинный, черные туфли с помпонами, черную ермолку – и заходил по камере, как ходил каждое утро, с первого дня заключения.
Детство на загородных газонах. Играли в мяч, в свинью, в карамору[15], в чехарду в малину в тычь…[16] Он был легок и ловок, но с ним не любили играть. Зимою городские скаты гладко затягивались снегом, и как же славно было мчаться вниз на «стеклянных» сабуровских санках… Как быстро наступала ночь, когда с катанья возвращались домой… Какие звезды, – какая мысль и грусть наверху – а внизу ничего не знают. В морозном металлическом мраке желтым и красным светом горели съедобные окна; женщины в лисьих шубках поверх шелковых платьев перебегали через улицу из дома в дом; электрические вагонетки, возбуждая на миг сияющую вьюгу, проносились по запорошенным рельсам.
Голосок: «Аркадий Ильич, посмотрите на Цинцинната…»
Он не сердился на доносчиков, но те умножались и, мужая, становились страшны. В сущности темный для них, как будто был вырезан из кубической сажени ночи, непроницаемый Цинциннат поворачивался туда-сюда, ловя лучи, с панической поспешностью стараясь так стать, чтобы казаться светопроводным. Окружающие понимали друг друга с полуслова, – ибо не было у них таких слов, которые бы кончались как-нибудь неожиданно, на ижицу, что ли, обращаясь в пращу или птицу, с удивительными последствиями. В пыльном маленьком музее, на Втором Бульваре, куда его водили в детстве и куда он сам потом водил питомцев, были собраны редкие, прекрасные вещи, – но каждая была для всех горожан, кроме него, так же ограниченна и прозрачна, как и они сами друг для друга. То, что не названо, – не существует. К сожалению, все было названо.
«Бытие безымянное, существенность беспредметная…» – прочел Цинциннат на стене там, где дверь, отпахиваясь, прикрывала стену.
«Вечные именинники, мне вас —» – написано было в другом месте.
Левее, почерком стремительным и чистым, без единой лишней линии: «Обратите внимание, что когда они с вами говорят —» – дальше, увы, было стерто.
Рядом – корявыми детскими буквами: «Писателей буду штрафовать» – и подпись: директор тюрьмы.
Еще можно было разобрать одну ветхую и загадочную строк)?: «Смерьте до смерти, – потом будет поздно».
– Меня, во всяком случае, смерили, – сказал Цинциннат, тронувшись опять в путь и на ходу легонько постукивая костяшками руки по стенам. – Как мне, однако, не хочется умирать! Душа зарылась в подушку. Ох, не хочется! Холодно будет вылезать из теплого тела. Не хочется, погодите, дайте еще подремать.
Двенадцать, тринадцать, четырнадцать. Пятнадцать лет было Цинциннату, когда он начал работать в мастерской игрушек, куда был определен по причине малого роста. По вечерам же упивался старинными книгами под ленивый, пленительный плеск мелкой волны, в плавучей библиотеке имени д-ра Синеокова, утонувшего как раз в том месте городской речки. Бормотание цепей, плеск, оранжевые абажурчики на галерейке, плеск, липкая от луны водяная гладь, – и вдали, в черной паутине высокого моста, пробегающие огоньки. Но потом ценные волюмы[17] начали портиться от сырости, так что в конце концов пришлось речку осушить, отведя всю воду в Стропь посредством специально прорытого канала.
Работая в мастерской, он долго бился над затейливыми пустяками, занимался изготовлением мягких кукол для школьниц, – тут был и маленький волосатый Пушкин в бекеше, и похожий на крысу Гоголь в цветистом жилете, и старичок Толстой, толстоносенький, в зипуне, и множество других, например: застегнутый на все пуговки Добролюбов в очках без стекол. Искусственно пристрастись к этому мифическому девятнадцатому веку, Цинциннат уже готов был совсем углубиться в туманы древности и в них найти подложный приют, но другое отвлекло его внимание.
Там-то, на той маленькой фабрике, работала Марфинька, – полуоткрыв влажные губы, целилась ниткой в игольное ушко: «Здравствуй, Цинциннатик!» – и вот начались те упоительные блуждания в очень, очень просторных (так что даже случалось – холмы в отдалении бывали дымчаты от блаженства своего отдаления) Тамариных Садах, где в три ручья плачут без причины ивы, и тремя каскадами, с небольшой радугой над каждым, ручьи свергаются в озеро, по которому плывет лебедь рука об руку со своим отражением. Ровные поляны, рододендрон, дубовые рощи, веселые садовники в зеленых сапогах, день-деньской играющие в прятки; какой-нибудь грот, какая-нибудь идиллическая скамейка, на которой три шутника оставили три аккуратных кучки (уловка, – подделка из коричневой крашеной жести), какой-нибудь олененок, выскочивший в аллею и тут же у вас на глазах превратившийся в дрожащие пятна солнца, – вот они были каковы, эти сады! Там, там – лепет Марфиньки, ее ноги в белых чулках и бархатных туфельках, холодная грудь и розовые поцелуи со вкусом лесной земляники. Вот бы увидеть отсюда – хотя бы древесные макушки, хотя бы гряду отдаленных холмов…
Цинциннат подвязал потуже халат. Цинциннат сдвинул и потянул, пятясь, кричащий от злости стол: как неохотно, с какими содроганиями он ехал по каменному полу, его содрогания передавались пальцам Цинцинната, нёбу Цинцинната, отступавшего к окну (то есть к той стене, где высоко, высоко была за решеткой пологая впадина окна). Упала громкая ложечка, затанцевала чашка, покатился карандаш, заскользила книга по книге. Цинциннат поднял брыкающийся стул на стол. Сам наконец влез. Но, конечно, ничего не было видно, – только жаркое небо в тонко зачесанных сединах, оставшихся от облаков, не вынесших синевы. Цинциннат едва мог дотянуться до решетки, за которой покато поднимался туннель окошка с другой решеткой в конце и световым повторением ее на облупившейся стенке каменной пади. Там, сбоку, тем же чистым презрительным почерком, как одна из полустертых фраз, читанных давеча, было написано: «Ничего не видать, я пробовал тоже».
Цинциннат стоял на цыпочках, держась маленькими, совсем белыми от напряжения руками за черные железные прутья, и половина его лица была в солнечную решетку, и левый ус золотился, и в зеркальных зрачках было по крохотной золотой клетке, а внизу, сзади, из слишком больших туфель приподнимались пятки.
– Того и гляди, свалитесь, – сказал Родион, который уже с полминуты стоял подле и теперь крепко сжал ножку дрогнувшего стула. – Ничего, ничего, держу. Можете слезать.
У Родиона были васильковые глаза и, как всегда, чудная рыжая бородища. Это красивое русское лицо было обращено вверх к Цинциннату, который босой подошвой на него наступил, то есть призрак его наступил, сам же Цинциннат уже сошел со стула на стол. Родион, обняв его как младенца, бережно снял, – после чего со скрипичным звуком отодвинул стол на прежнее место и присел на него с краю, болтая той ногой, что была повыше, а другой упираясь в пол, – приняв фальшиворазвязную позу оперных гуляк в сцене погребка, а Цинциннат ковырял шнурок халата, потупясь, стараясь не плакать.
Родион баритонным басом пел, играя глазами и размахивая пустой кружкой. Эту же удалую песню певала прежде и Марфинька. Слезы брызнули из глаз Цинцинната. На какой-то предельной ноте Родион грохнул кружкой об пол и соскочил со стола. Дальше он уже пел хором, хотя был один. Вдруг поднял вверх обе руки и вышел.
Цинциннат, сидя на полу, сквозь слезы посмотрел ввысь, где отражение решетки уже переменило место. Он попробовал – в сотый раз – подвинуть стол, но, увы, ножки были от века привинчены. Он съел винную ягоду и опять зашагал по камере.
Девятнадцать, двадцать, двадцать один. В двадцать два года был переведен в детский сад учителем разряда Ф и тогда же на Марфиньке женился. Едва ли не в самый день, когда он вступил в исполнение новых своих обязанностей (состоявших в том, чтобы занимать хроменьких, горбатеньких, косеньких), был важным лицом сделан на него донос второй степени. Осторожно, в виде предположения высказывалась мысль об основной нелегальности Цинцинната. Заодно с этим меморандумом были отцами города рассмотрены и старые жалобы, поступавшие время от времени со стороны его наиболее прозорливых товарищей по работе в мастерской. Председатель воспитательного совета и некоторые другие должностные лица поочередно запирались с ним и производили над ним законом предписанные опыты. В течение нескольких суток ему не давали спать, принуждали к быстрой бессмысленной болтовне, доводимой до опушки бреда, заставляли писать письма к различным предметам и явлениям природы, разыгрывать житейские сценки, а также подражать разным животным, ремеслам и недугам. Все это он проделал, все это он выдержал – оттого что был молод, изворотлив, свеж, жаждал жить, – пожить немного с Марфинькой. Его нехотя отпустили, разрешив ему продолжать заниматься с детьми последнего разбора, которых было не жаль, – дабы посмотреть, что из этого выйдет. Он водил их гулять парами, играя на маленьком портативном музыкальном ящичке, вроде кофейной мельницы, – а по праздникам качался с ними на качелях: вся гроздь замирала, взлетая; пищала, ухая вниз. Некоторых он учил читать.
Между тем Марфинька в первый же год брака стала ему изменять: с кем попало и где попало. Обыкновенно, когда Цинциннат приходил домой, она, с какой-то сытой улыбочкой прижимая к шее пухлый подбородок, как бы журя себя, глядя исподлобья честными карими глазами, говорила низким голубиным голоском: «А Марфинька нынче опять это делала». Он несколько секунд смотрел на нее, приложив, как женщина, ладонь к щеке, и потом, беззвучно воя, уходил через все комнаты, полные ее родственников, и запирался в уборной, где топал, шумел водой, кашлял, маскируя рыдания. Иногда, оправдываясь, она ему объясняла: «Я же, ты знаешь, добренькая: это такая маленькая вещь, а мужчине такое облегчение».
Скоро она забеременела – и не от него. Разрешилась мальчиком, немедленно забеременела снова – и снова не от него – и родила девочку. Мальчик был хром и зол; тупая, тучная девочка – почти слепа. Вследствие своих дефектов оба ребенка попали к нему в сад, и странно бывало видеть ловкую, ладную, румяную Марфиньку, ведущую домой этого калеку, эту тумбочку. Цинциннат понемножку перестал следить за собой вовсе, – и однажды, на каком-то открытом собрании в городском парке, вдруг пробежала тревога, и один произнес громким голосом: «Горожане, между нами находится —» – тут последовало страшное, почти забытое слово, – и налетел ветер на акации, – и Цинциннат не нашел ничего лучше, как встать и удалиться, рассеянно срывая листики с придорожных кустов. А спустя десять дней он был взят.
– Вероятно, завтра, – сказал Цинциннат, медленно шагая по камере. – Вероятно, завтра, – сказал Цинциннат и сел на койку, уминая ладонью лоб. Закатный луч повторял уже знакомые эффекты. – Вероятно, завтра, – сказал со вздохом Цинциннат. – Слишком тихо было сегодня, а уже завтра, спозаранку —
Некоторое время все молчали: глиняный кувшин с водой на дне, поивший всех узников мира; стены, друг другу на плечи положившие руки, как четверо неслышным шепотом обсуждающих квадратную тайну; бархатный паук, похожий чем-то на Марфиньку; большие черные книги на столе…
– Какое недоразумение! – сказал Цинциннат и вдруг рассмеялся. Он встал, снял халат, ермолку, туфли. Снял полотняные штаны и рубашку. Снял, как парик, голову, снял ключицы, как ремни, снял грудную клетку, как кольчугу. Снял бедра, снял ноги, снял и бросил руки, как рукавицы, в угол. То, что оставалось от него, постепенно рассеялось, едва окрасив воздух. Цинциннат сперва просто наслаждался прохладой; затем, окунувшись совсем в свою тайную среду, он в ней вольно и весело —
Грянул железный гром засова, и Цинциннат мгновенно оброс всем тем, что сбросил, вплоть до ермолки. Тюремщик Родион принес в круглой корзиночке, выложенной виноградными листьями, дюжину палевых слив – подарок супруги директора.
Цинциннат, тебя освежило преступное твое упражнение.
Ill
Цинциннат проснулся от рокового рокота голосов, нараставшего в коридоре.
Хотя накануне он и готовился к такому пробуждению, – все равно – с сердцем, с дыханием не было сладу. Полою сердце прикрыв, чтобы оно не видело, – тише, это ничего (как говорят ребенку в минуту невероятного бедствия), – прикрыв сердце и слегка привстав, Цинциннат слушал. Было шарканье многих шагов, в различных слоях слышимости; были голоса – тоже во многих разрезах; один набегал, вопрошающий; другой, поближе, ответствовал. Спеша из глубины, кто-то пронесся и заскользил по камню, как по льду. Бас директора произнес среди гомона несколько слов – невнятных, но бессомненно повелительных. Страшнее всего было то, что сквозь эту возню пробивался детский голос, – у директора была дочка. Цинциннат различал и жалующийся тенорок своего адвоката, и бормотание Родиона… Вот опять, на бегу, кто-то задал гулкий вопрос, и кто-то гулко ответил. Кряхтение, треск, стукотня, – точно шарили палкой под лавкой. «Не нашли?» – внятно спросил директор. Пробежали шаги. Пробежали шаги. Пробежали, вернулись. Цинциннат, изнемогая, спустил ноги на пол: так и не дали свидания с Марфинькой… Начать одеваться, или придут меня наряжать? Ах, довольно, войдите…
Но его еще промучили минуты две. Вдруг дверь отворилась, и, скользя, влетел адвокат.
Он был взлохмачен, потен. Он теребил левую манжету, и глаза у него кружились.
– Запонку потерял, – воскликнул он, быстро, как пес, дыша. – Задел обо что… должно быть… когда с милой Эммочкой… шалунья всегда… за фалды… всякий раз как зайду… я, главное, слышал, как что-то… но не обратил… смотрите, цепочка, очевидно… очень дорожил… ну, ничего не поделаешь… может быть, еще… я обещал всем сторожам… а досадно…
– Глупая, сонная ошибка, – тихо сказал Цинциннат. – Я превратно истолковал суету. Это вредно для сердца.
– Да нет, спасибо, пустяки, – рассеянно пробормотал адвокат. При этом он глазами так и рыскал по углам камеры. Видно было, что его огорчала потеря дорогой вещицы. Это видно было. Потеря вещицы огорчала его. Вещица была дорогая. Он был огорчен потерей вещицы.
Цинциннат с легким стоном лег обратно в постель. Тот сел у него в ногах.
– Я к вам шел, – сказал адвокат, – такой бодрый, веселый… Но теперь меня расстроил этот пустяк, – ибо, в конце концов, это же пустяк, согласитесь, – есть вещи поважнее. Ну, как вы себя чувствуете?
– Склонным к откровенной беседе, – прикрыв глаза, отвечал Цинциннат. – Хочу поделиться с вами некоторыми своими умозаключениями. Я окружен какими-то убогими призраками, а не людьми. Меня они терзают, как могут терзать только бессмысленные видения, дурные сны, отбросы бреда, шваль кошмаров – и все то, что сходит у нас за жизнь. В теории – хотелось бы проснуться. Но проснуться я не могу без посторонней помощи, а этой помощи безумно боюсь, да и душа моя обленилась, привыкла к своим тесным пеленам. Из всех призраков, окружающих меня, вы, Роман Виссарионович, самый, кажется, убогий, но с другой стороны, – по вашему логическому положению в нашем выдуманном быту, – вы являетесь в некотором роде советником, заступником…
– К вашим услугам, – сказал адвокат, радуясь, что Цинциннат наконец разговорился.
– Вот я и хочу вас спросить: на чем основан отказ сообщить мне точный день казни? Погодите, я еще не кончил. Так называемый директор отлынивает от прямого ответа, ссылается на то, что – Погодите же! Я хочу знать, во-первых: от кого зависит назначение дня. Я хочу знать, во-вторых: как добиться толку от этого учреждения, или лица, или собрания лиц…
Адвокат, который только что порывался говорить, теперь почему-то молчал. Его крашеное лицо с синими бровями и длинной заячьей губой не выражало особого движения мысли.
– Оставьте манжету, – сказал Цинциннат, – и попробуйте сосредоточиться.
Роман Виссарионович порывисто переменил положение тела и сцепил беспокойные пальцы. Он проговорил жалобным голосом:
– Вот за этот тон…
– Меня и казнят, – сказал Цинциннат, – знаю. Дальше!
– Давайте переменим разговор, умоляю вас, – воскликнул Роман Виссарионович. – Почему вы не можете остаться хоть теперь в рамках дозволенного? Право же, это ужасно, это свыше моих сил. Я к вам зашел, просто чтобы спросить вас, нет ли у вас каких-либо законных желаний… например, – тут у него лицо оживилось, – вы, может, желали бы иметь в печатном виде речи, произнесенные на суде? В случае такового желания вы обязаны в кратчайший срок подать соответствующее прошение, которое мы оба с вами сейчас вместе и составили бы, – с подробно мотивированным указанием, сколько именно экземпляров речей требуется вам и для какой цели. У меня есть как раз свободный часок, давайте, ах, давайте этим займемся, прошу вас! Я даже специальный конверт заготовил.
– Курьеза ради… – проговорил Цинциннат, – но прежде… Неужто же и вправду нельзя добиться ответа?
– Специальный конверт, – повторил адвокат, соблазняя.
– Хорошо, дайте сюда, – сказал Цинциннат и разорвал толстый, с начинкой, конверт на завивающиеся клочки.
– Это вы напрасно, – едва не плача, вскричал адвокат. – Это очень напрасно. Вы даже не понимаете, что вы сделали. Может, там находился приказ о помиловании. Второго не достать!
Цинциннат поднял горсть клочков, попробовал составить хотя бы одно связное предложение, но все было спутано, искажено, разъято.
– Вот вы всегда так, – подвывал адвокат, держа себя за виски и шагая по камере. – Может, спасение ваше было в ваших же руках, а вы его… Ужасно! Ну что мне с вами делать? Теперь пиши пропало… А я-то – такой довольный… Так подготовлял вас…
– Можно? – растянутым в ширину голосом спросил директор, приоткрыв дверь. – Я вам не помешаю?
– Просим, Родриг Иванович, просим, – сказал адвокат, – просим, Родриг Иванович, дорогой. Только не очень-то у нас весело…
– Ну, а как нонче наш симпатичный смертник, – пошутил элегантный, представительный директор, пожимая в своих мясистых лиловых лапах маленькую холодную руку Цинцинната. – Все хорошо? Ничего не болит? Все болтаете с нашим неутомимым Романом Виссарионовичем? Да, кстати, голубчик Роман Виссарионович… могу вас порадовать, – озорница моя только что нашла на лестнице вашу запонку. La voici[18]. Это ведь французское золото, не правда ли? Весьма изящно. Комплиментов я обычно не делаю, но должен сказать…
Оба отошли в угол, делая вид, что разглядывают прелестную штучку, обсуждают ее историю, ценность, удивляются. Цинциннат воспользовался этим, чтобы достать из-под койки – и с тоненьким бисерным звуком, под конец с запинками —
– Да, большой вкус, большой вкус, – повторял директор, возвращаясь из угла под руку с адвокатом. – Вы, значит, здоровы, молодой человек, – бессмысленно обратился он к Цинциннату, влезавшему обратно в постель. – Но капризничать все-таки не следует. Публика – и все мы, как представители публики, хотим вашего блага, это, кажется, ясно. Мы даже готовы пойти навстречу вам в смысле облегчения одиночества. На днях в одной из наших литерных камер поселится новый арестант. Познакомитесь, это вас развлечет.
– На днях? – переспросил Цинциннат. – Значит, дней-то будет еще несколько?
– Нет, каков, – засмеялся директор, – все ему нужно знать. А, Роман Виссарионович?
– Ох, друг мой, и не говорите, – вздохнул адвокат.
– Да-с, – продолжал тот, потряхивая ключами, – вы должны быть покладистее, сударик. А то все: гордость, гнев, глум. Я им вечор слив этих, значит, нес, – так что же вы думаете? – не изволили кушать, погнушались. Да-с. Вот я вам про нового арестантика-то начал. Ужо накалякаетесь с ним, а то, вишь, нос повесили. Что, не так говорю, Роман Виссарионович?
– Так, Родион, так, – подтвердил адвокат с невольной улыбкой.
Родион погладил бороду и продолжал:
– Оченно жалко стало их мне, – вхожу, гляжу, – на столе-стуле стоят, к решетке рученьки-ноженьки тянут, ровно мартышка кволая. А небо-то синехонько, касаточки летают, опять же облачка, – благодать, ра-адость! Сымаю их это, как дитё малое, со стола-то, – а сам реву, – вот истинное слово – реву… Оченно, значит, меня эта жалость разобрала.
– Повести его, что ли, наверх? – нерешительно предложил адвокат.
– Это, что же, можно, – протянул Родион со степенным добродушием, – это всегда можно.
– Облачитесь в халат, – произнес Роман Виссарионович.
Цинциннат сказал:
– Я покоряюсь вам, – призраки, оборотни, пародии. Я покоряюсь вам. Но все-таки я требую, – вы слышите, требую (и другой Цинциннат истерически затопал, теряя туфли), – чтобы мне сказали, сколько мне осталось жить… и дадут ли мне свидание с женой.
– Вероятно, дадут, – ответил Роман Виссарионович, переглянувшись с Родионом. – Вы только не говорите так много. Ну-с, пошли.
– Пожалуйте, – сказал Родион и толкнул плечом отпертую дверь.
Все трое вышли: впереди – Родион, колченогий, в старых выцветших шароварах, отвисших на заду; за ним – адвокат, во фраке, с нечистою тенью на целлулоидовом воротничке и каемкой розоватой кисеи на затылке, там, где кончался черный парик; за ним, наконец, Цинциннат, теряющий туфли, запахивающий полы халата.
У загиба коридора другой стражник, безымянный, дружески отдал им честь. Бледный каменный свет сменялся областями сумрака. Шли, шли, – за излукой излука, – и несколько раз проходили мимо одного и того же узора сырости на стене, похожего на страшную ребристую лошадь. Кое-где надо было включить электричество; горьким, желтым огнем загоралась пыльная лампочка, вверху или сбоку. Стучалось, впрочем, что она была мертвая, и тогда шаркали в плотных потемках. В одном месте, где нежданно и необъяснимо падал сверху небесный луч и дымился, сиял, разбившись на щербатых плитах, дочка директора, Эммочка, в сияющем клетчатом платье и клетчатых носках, – дитя, но с мраморными икрами маленьких танцовщиц, – играла в мяч, мяч равномерно стукался об стену. Она обернулась, четвертым и пятым пальцем смазывая прочь со щеки белокурую прядь, и проводила глазами коротенькое шествие. Родион, проходя, ласково позвенел ключами; адвокат вскользь погладил ее по светящимся волосам; но она глядела на Цинцинната, который испуганно улыбнулся ей. Дойдя до следующего колена коридора, все трое оглянулись. Эммочка смотрела им вслед, слегка всплескивая блестящим красно-синим мячом.
Опять долго шли в темноте, покуда не попали в тупик, где, над свернутой кишкой брандспойта, светилась красная лампочка. Родион отпер низкую, кованую дверь; за ней круто заворачивались вверх ступени каменной лестницы. Тут несколько изменился порядок: Родион, потопав в такт на месте, пропустив вперед сперва адвоката, затем Цинцинната, мягко переступил и замкнул шествие. По крутой лестнице, с постепенным развитием которой совпадало медленное светление тумана, в котором она росла, подниматься было нелегко, а поднимались так долго, что Цинциннат от нечего делать принялся считать ступени, досчитал до трехзначной цифры, но спутался, оступившись. Воздух исподволь бледнел. Цинциннат, утомясь, лез как ребенок, начиная все с той же ноги. Еще один заворот, и вдруг налетел густой ветер, ослепительно распахнулось летнее небо, пронзительно зазвучали крики ласточек.
Наши путешественники очутились на широкой башенной террасе, откуда открывался вид на расстояние, дух захватывающее, ибо не только башня была громадна, но вообще вся крепость громадно высилась на громадной скале, коей она казалась чудовищным порождением. Далеко внизу виднелись почти отвесные виноградники, и бланжевая дорога, виясь, спускалась к безводному руслу реки, и через выгнутый мост шел кто-то крохотный в красном, и бегущая точка перед ним была, вероятно, собака.
Дальше большим полукругом расположился на солнцепеке город: разноцветные дома то шли ровными рядами, сопутствуемые круглыми деревьями, то криво сползали по скатам, наступая на собственные тени, – и можно было различить движение на Первом Бульваре и особенное мерцание в конце, где играл знаменитый фонтан. А еще дальше, по направлению к дымчатым складкам холмов, замыкавших горизонт, тянулась темная рябь дубовых рощ, там и сям сверкало озерцо, как ручное зеркало, – а другие яркие овалы воды собирались, горя в нежном тумане, вон там на западе, где начиналась жизнь излучистой Стропи. Цинциннат, приложив ладонь к щеке, в неподвижном, невыразимо-смутном и, пожалуй, даже блаженном отчаянии, глядел на блеск и туман Тамариных Садов, на сизые, тающие холмы за ними, – ах, долго не мог оторваться…
В нескольких шагах от него, на широкий каменный парапет, поросший поверху каким-то предприимчивым злаком, положил локти адвокат, его спина была запачкана в известку. Он задумчиво смотрел в пространство, левым лакированным башмаком наступя на правый и так оттягивая пальцами щеки, что выворачивались нижние веки. Родион нашел где-то метлу и молча мел плиты террасы.
– Как это все обаятельно, – обратился Цинциннат к садам, к холмам, – и было почему-то особенно приятно повторять это «обаятельно» на ветру, вроде того как дети зажимают и вновь обнажают уши, забавляясь обновлением слышимого мира. – Обаятельно! Я никогда не видал именно такими этих холмов, такими таинственными. Неужели в их складках, в их тенистых долинах нельзя было бы мне. – Нет, лучше об этом не думать.
Он обошел террасу кругом. На севере разлеглась равнина, по ней бежали тени облаков; луга сменялись нивами; за изгибом Стропи виднелись наполовину заросшие очертания аэродрома и строение, где содержался почтенный, дряхлый, с рыжими, в пестрых заплатах, крыльями, самолет, который еще иногда пускался по праздникам – главным образом для развлечения калек. Вещество устало. Сладко дремало время. Был один человек в городе, аптекарь, чей прадед, говорят, оставил запись о том, как купцы летали в Китай.
Цинциннат, обойдя террасу, опять вернулся к южному ее парапету. Его глаза совершали беззаконнейшие прогулки. Теперь мнилось ему, что он различает тот цветущий куст, ту птицу, ту уходящую под навес плюща тропинку.
– Будет с вас, – добродушно сказал директор, бросая метлу в угол и надевая опять свой сюртук. – Айда по домам.
– Да, пора, – откликнулся адвокат, посмотрев на часы.
И то же маленькое шествие двинулось в обратный путь. Впереди – директор Родриг Иванович, за ним – адвокат Роман Виссарионович, за ним – узник Цинциннат, нервно позевывающий после свежего воздуха. Сюртуку директора был сзади запачкан в известку.
Она вошла, воспользовавшись утренним явлением Родиона, – проскользнув под его руками, державшими поднос.
– Тю-тю-тю, – предостерегающе произнес он, заклиная шоколадную бурю. Мягкой ногой прикрыл за собой дверь, ворча в усы: – Вот проказница…
Эммочка между тем спряталась от него за стол, присев на корточки.
– Книжку читаете? – заметил Родион, светясь добротой. – Дело хорошее.
Цинциннат, не поднимая глаз со страницы, издал мычание, утвердительный ямб, – но глаза уже не брали строчек.
Родион, исполнив нехитрые свои обязанности, – тряпкой погнав расплясавшуюся в луче пыль и накормив паука, – удалился.
Эммочка – все еще на корточках, но чуть вольнее, чуть покачиваясь, как на рессорах, – скрестив голые пушистые руки, полуоткрыв розовый рот и моргая длинными, бледными, как бы даже седыми ресницами, смотрела поверх стола на дверь. Уже знакомое движение: быстро, первыми попавшимися пальцами, отвела льняные волосы с виска, кинув искоса взгляд на Цинцинната, который отложил книжку и ждал, что будет дальше.
– Ушел, – сказал Цинциннат.
Она встала с корточек, но, еще согбенная, смотрела на дверь. Была смущена, не знала, что предпринять. Вдруг, оскалясь, сверкнув балеринными икрами, бросилась к двери, – разумеется, запертой. От ее муарового кушака в камере ожил воздух.
Цинциннат задал ей два обычных вопроса. Она ужимчиво себя назвала и ответила, что двенадцать.
– А меня тебе жалко? – спросил Цинциннат.
На это она не ответила ничего. Подняла к лицу глиняный кувшин, стоявший в углу. Пустой, гулкий. Погукалав его глубину, а через мгновение опять метнулась, – и теперь стояла, прислонившись к стене, опираясь одними лопатками да локтями, скользя вперед напряженными ступнями в плоских туфлях – и опять выправляясь. Про себя улыбнулась, а затем хмуро, как на низкое солнце, взглянула на Цинцинната, продолжая сползать. По всему судя, – это было дикое, беспокойное дитя.
– Неужели тебе не жалко меня? – сказал Цинциннат. – Невозможно, не допускаю. Ну, поди сюда, глупая лань, и поведай мне, в какой день я умру.
Но Эммочка ничего не ответила, а съехала на пол и там смирно села, прижав подбородок к поднятым сжатым коленкам, на которые натянула подол, показывая снизу гладкие ляжки.
– Скажи мне, Эммочка, – я так прошу тебя… Ты ведь все знаешь, – я чувствую, что знаешь… Отец говорил за столом, мать говорила на кухне… Все, все говорят. Вчера в газете было аккуратное оконце, – значит, толкуют об этом, и только я один —
Она, как поднятая вихрем, вскочила с пола и, опять кинувшись к двери, застучала в нее – не ладонями, а скорее пятками рук. Ее распущенные, шелковисто-бледные волосы кончались длинными буклями.
«Будь ты взрослой, – подумал Цинциннат, – будь твоя душа хоть слегка с моей поволокой, ты, как в поэтической древности, напоила бы сторожей, выбрав ночь потемней…»
– Эммочка! – воскликнул он. – Умоляю тебя, скажи мне, я не отстану, скажи мне, когда я умру?
Грызя палец, она подошла к столу, где громоздились книги. Распахнула одну, перелистала с треском, чуть не вырывая страницы, захлопнула, взяла другую. Какая-то зыбь все бежала по ее лицу, – то морщился веснушчатый нос, то язык снутри натягивал щеку.
Лязгнула дверь: Родион, посмотревший, вероятно, в глазок, вошел, довольно сердитый.
– Брысь, барышня! Мне же за это достанется.
Она визгливо захохотала, увильнула от его ракообразной руки и бросилась к открытой двери. Там, на пороге, остановилась вдруг с очаровательной танцевальной точностью, – и, не то посылая воздушный поцелуй, не то заключая союз молчания, взглянула через плечо на Цинцинната; после чего – с той же ритмической внезапностью – сорвалась и убежала большими, высокими, упругими шагами, уже подготовлявшими полет.
Родион, бурча, бренча, тяжело за нею последовал.
– Постойте! – крикнул Цинциннат. – Я кончил все книги. Принесите мне опять каталог.
– Книги… – сердито усмехнулся Родион и с подчеркнутой звучностью запер за собой дверь.
Какая тоска. Цинциннат, какая тоска! Какая каменная тоска, Цинциннат, – и безжалостный бой часов, и жирный паук, и желтые стены, и шершавость черного шерстяного одеяла. Пенка на шоколаде. Взять в самом центре двумя пальцами и сдернуть целиком с поверхности – уже не плоский покров, а сморщенную коричневую юбочку. Он едва тепл под ней, – сладковатый, стоячий. Три гренка в черепаховых подпалинах. Кружок масла с тисненым вензелем директора. Какая тоска, Цинциннат, сколько крошек в постели.
Погоревав, поохав, похрустев всеми суставами, он встал с койки, надел ненавистный халат, пошел бродить. Снова перебрал все надписи на стенах с надеждой открыть где-нибудь новую. Как вороненок на пне, долго стоял на стуле, неподвижно глядя вверх на нищенский паек неба. Опять ходил. Опять читал уже выученные наизусть восемь правил для заключенных:
1. Безусловно воспрещается покидать здание тюрьмы.
2. Кротость узника есть украшение темницы.
3. Убедительно просят соблюдать тишину между часом и тремя ежедневно.
4. Воспрещается приводить женщин.
5. Петь, плясать и шутить со стражниками дозволяется только по общему соглашению и в известные дни.
6. Желательно, чтобы заключенный не видел вовсе, а в противном случае тотчас сам пресекал ночные сны, могущие быть по содержанию своему несовместимыми с положением и званием узника, каковы: роскошные пейзажи, прогулки со знакомыми, семейные обеды, а также половое общение с особами, в виде реальном и состоянии бодрствования не подпускающими данного лица, которое посему будет рассматриваться законом как насильник.
7. Пользуясь гостеприимством темницы, узник, в свою очередь, не должен уклоняться от участия в уборке и других работах тюремного персонала постольку, поскольку таковое участие будет предложено ему.
8. Дирекция ни в коем случае не отвечает за пропажу вещей, равно как и самого заключенного.
Тоска, тоска, Цинциннат. Опять шагай, Цинциннат, задевая халатом то стены, то стул. Тоска! На столе наваленные книги прочитаны все. И хотя он знал, что прочитаны все, Цинциннат поискал, пошарил, заглянул в толстый том… перебрал, не садясь, уже виденные страницы.
Это был том журнала, выходившего некогда, – в едва вообразимом веке. Тюремная библиотека, считавшаяся по количеству и редкости книг второй в городе, содержала несколько таких диковин. То был далекий мир, где самые простые предметы сверкали молодостью и врожденной наглостью, обусловленной тем преклонением, которым окружался труд, шедший на их выделку. То были годы всеобщей плавности; маслом смазанный металл занимался бесшумной акробатикой; ладные линии пиджачных одежд диктовались неслыханной гибкостью мускулистых тел; текучее стекло огромных окон округло загибалось на углах домов; ласточкой вольно летела дева в трико – так высоко над блестящим бассейном, что он казался не больше блюдца; в прыжке без шеста атлет навзничь лежал в воздухе, достигнув уже такой крайности напряжения, что если бы не флажные складки на трусах с лампасами, оно походило бы на ленивый покой; и без конца лилась, скользила вода; грация спадающей воды, ослепительные подробности ванных комнат, атласистая зыбь океана с двукрылой тенью на ней. Все было глянцевито, переливчато, все страстно тяготело к некоему совершенству, которое определялось одним отсутствием трения. Упиваясь всеми соблазнами круга, жизнь довертелась до такого головокружения, что земля ушла из-под ног, и, поскользнувшись, упав, ослабев от тошноты и томности… сказать ли., очутившись как бы в другом измерении… Да, вещество постарело, устало, мало что уцелело от легендарных времен, – две-три машины, два-три фонтана, – и никому не было жаль прошлого, да и само понятие «прошлого» сделалось другим.
«А может быть, – подумал Цинциннат, – я неверно толкую эти картинки. Эпохе придаю свойства ее фотографии. Это богатство теней, и потоки света, и лоск загорелого плеча, и редкостное отражение, и плавные переходы из одной стихии в другую, – все это, быть может, относится только к снимку, к особой светописи, к особым формам этого искусства, и мир на самом деле вовсе не был столь изгибист, влажен и скор, – точно так же, как наши нехитрые аппараты по-своему запечатлевают наш сегодняшний наскоро сколоченный и покрашенный мир».
«А может быть (быстро начал писать Цинциннат на клетчатом листе), я неверно толкую… Эпохе придаю… Это богатство… Потоки… Плавные переходы… И мир был вовсе… Точно так же, как наши… Но разве могут домыслы эти помочь моей тоске? Ах, моя тоска, – что мне делать с тобой, с собой? Как смеют держать от меня в тайне… Я, который должен пройти через сверхмучительное испытание, я, который для сохранения достоинства хотя бы наружного (дальше безмолвной бледности все равно не пойду, – все равно не герой…) должен во время этого испытания владеть всеми своими способностями, я, я… медленно слабею… неизвестность ужасна, – ну, скажите мне наконец… Так нет, замирай каждое утро… Между тем, знай я, сколько осталось времени, я бы кое-что… Небольшой труд… запись проверенных мыслей… Кто-нибудь когда-нибудь прочтет и станет весь как первое утро в незнакомой стране. То есть я хочу сказать, что я бы его заставил вдруг залиться слезами счастья, растаяли бы глаза, – и, когда он пройдет через это, мир будет чище, омыт, освежен. Но как мне приступить к писанию, когда не знаю, успею ли, а в том-то и мучение, что говоришь себе: вот вчера успел бы, – и опять думаешь: вот и вчера бы… И вместо нужной, ясной и точной работы, вместо мерного подготовления души к минуте утреннего вставания, когда… ведро палача, когда подадут тебе, душа, умыться… так, вместо этого, невольно предаешься банальной, безумной мечте о бегстве, – увы, о бегстве… Когда она примчалась сегодня, топая и хохоча, – то есть я хочу сказать… Нет, надобно все-таки что-нибудь запечатлеть, оставить. Я не простой… я тот, который жив среди вас… Не только мои глаза другие, и слух, и вкус, – не только обоняние, как у оленя, а осязание, как у нетопыря, – но главное: дар сочетать все это в одной точке… Нет, тайна еще не раскрыта, – даже это – только огниво, – и я не заикнулся еще о зарождении огня, о нем самом. Моя жизнь. Когда-то в детстве, на далекой школьной поездке, отбившись от прочих, – а может быть, мне это приснилось, – я попал знойным полднем в сонный городок, до того сонный, что, когда человек, дремавший на завалинке под яркой беленой стеной, наконец встал, чтобы проводить меня до околицы, его синяя тень на стене не сразу за ним последовала… о, знаю, знаю, что тут с моей стороны был недосмотр, ошибка, что вовсе тень не замешкалась, а просто, скажем, зацепилась за шероховатость стены… – но вот что я хочу выразить: между его движением и движением отставшей тени, – эта секунда, эта синкопа, – вот редкий сорт времени, в котором живу, – пауза, перебой, – когда сердце как пух… И еще я бы написал о постоянном трепете… и о том, что всегда часть моих мыслей теснится около невидимой пуповины, соединяющей мир с чем-то, – с чем, я еще не скажу… Но как мне писать об этом, когда боюсь не успеть и понапрасну разбередить… Когда она сегодня примчалась, – еще ребенок, – вот что хочу сказать, – еще ребенок, с какими-то лазейками для моей мысли, – я подумал словами древних стихов – напоила бы сторожей… спасла бы меня. Кабы вот таким ребенком осталась, а вместе повзрослела, поняла, – и вот удалось бы: горящие щеки, черная ветреная ночь, спасение, спасение… И напрасно я повторяю, что в мире нет мне приюта… Есть! Найду я! В пустыне цветущая балка! Немного снегу в тени горной скалы! А ведь это вредно – то, что делаю, – я и так слаб, а разжигаю себя, уничтожаю последние свои силы. Какая тоска, ах, какая… И мне ясно, что я еще не снял самой последней пленки со своего страха».
Он задумался. Потом бросил карандаш, встал, заходил. Донесся бой часов. Пользуясь их звоном как платформой, поднялись на поверхность шаги; платформа уплыла, шаги остались, и вот в камеру вошли: Родион с супом и господин библиотекарь с каталогом.
Это был здоровенного роста, но болезненного вида мужчина, бледный, с тенью у глаз, с плешью, окруженной темным венцом волос, с длинным станом в синей фуфайке, местами выцветшей и с кубовыми заплатами на локтях. Он держал руки в карманах узких, как смерть, штанов, сжав под мышкой большую, переплетенную в черную кожу книгу. Цинциннат уже раз имел удовольствие видеть его.
– Каталог, – сказал библиотекарь, речь которого отличалась какой-то вызывающей лаконичностью.
– Хорошо, оставьте у меня, – сказал Цинциннат, – я выберу. Если хотите подождать, присесть, – пожалуйста. А если хотите уйти…
– Уйти, – сказал библиотекарь.
– Хорошо. Тогда я потом передам каталог Родиону. Вот, можете забрать… Эти журналы древних – прекрасны, трогательны… С этим тяжелым томом я, знаете, как с грузом, пошел на дно времен. Пленительное ощущение.
– Нет, – сказал библиотекарь.
– Принесите мне еще, я выпишу, какие годы. И роман какой-нибудь, поновее. Вы уже уходите? Вы взяли все?
Оставшись один, Цинциннат принялся за суп; одновременно перелистывал каталог. Его основная часть была тщательно и красиво отпечатана; среди печатного текста было множество заглавий мелко, но четко вписано от руки красными чернилами. Неспециалисту разобраться в каталоге было трудно из-за расположения названий книг – не по алфавиту, а по числу страниц в каждой, причем тут же отмечалось, сколько (во избежание совпадений) вклеено в ту или другую книгу лишних листов. Цинциннат поэтому искал без определенной цели, а так, что приглянется. Каталог содержался в образцовой чистоте; тем более удивительно было, что на белом обороте одной из первых страниц детская рука сделала карандашом серию рисунков, смысл коих Цинциннат не сразу разгадал.
V
– Позвольте вас от души поздравить, – маслянистым басом сказал директор, входя на другое утро в камеру к Цинциннату.
Родриг Иванович казался еще наряднее, чем обычно: спина парадного сюртука была, как у кучеров, упитана ватой, широкая, плоско-жирная, парик лоснился, как новый, сдобное тесто подбородка было напудрено, точно кала, а в петлице розовел восковой цветок с крапчатой пастью. Из-за статной его фигуры, – он торжественно остановился на пороге, – выглядывали с любопытством, тоже праздничные, тоже припомаженные, служащие тюрьмы. Родион надел даже какой-то орденок.
– Я готов. Я сейчас оденусь. Я знал, что сегодня.
– Поздравляю, – повторил директор, не обращая внимания на суетливые движения Цинцинната. – Честь имею доложить, что у вас есть отныне сосед, – да, да, только что въехал. Заждались небось? Ничего, – теперь, с наперсником, с товарищем по играм и занятиям, вам не будет так скучно. Кроме того, – но это, конечно, должно остаться строго между нами, могу сообщить, что пришло вам разрешение на свидание с супругой: demain matin[19].
Цинциннат опять опустился на койку и сказал:
– Да, это хорошо. Благодарю вас, кукла, кучер, крашеная сволочь… Простите, я немножко…
Тут стены камеры начали выгибаться и вдавливаться, как отражения в поколебленной воде; директор зазыблился, койка превратилась в лодку. Цинциннат схватился за край, чтобы не свалиться, но уключина осталась у него в руке, – и, по горло среди тысячи крапчатых цветов, он поплыл, запутался и начал тонуть. Шестами, баграми, засучив рукава, принялись в него тыкать, поддевать его и вытаскивать на берег. Вытащили.
– Мы нервозны, как маленькая женщина, – сказал с улыбкой тюремный врач, он же Родриг Иванович. – Дышите свободно. Есть можете все. Ночные поты бывают? Продолжайте в том же духе, и если будете очень послушны, то, может быть, может быть, мы вам позволим одним глазком на новичка… но чур, только одним глазком…
– Как долго… это свидание… сколько мне дадут… – с трудом выговорил Цинциннат.
– Сейчас, сейчас. Не торопитесь так, не волнуйтесь. Раз обещано показать, то покажем. Наденьте туфли, пригладьте волосы. Я думаю, что… – Директор вопросительно взглянул на Родиона, тот кивнул. – Только, пожалуйста, соблюдайте абсолютную тишину, – обратился он опять к Цинциннату, – и ничего не хватайте руками. Ну, вставайте, вставайте. Вы не заслужили этого, вы, батюшка мой, ведете себя дурно, но все же разрешается вам… Теперь – ни слова, тихонько…
На цыпочках, балансируя руками, Родриг Иванович вышел, и с ним Цинциннат в своих больших шепелявых туфлях. В глубине коридора, у двери с внушительными скрепами, уже стоял, согнувшись, Родион и, отодвинув заслонку, смотрел в глазок. Не отрываясь, он сделал рукой жест, требующий еще большей тишины, и незаметно изменил его на другой – приглашающий. Директор еще выше поднялся на цыпочках, обернулся, грозно гримасничая, но Цинциннат не мог не пошаркивать немножко. Там и сям, в полутьме переходов, собирались, горбились, прикладывали козырьком ладонь, словно стараясь что-то вдали разглядеть, смутные фигуры тюремных служащих. Лаборант Родион пустил Родрига Ивановича к наставленному окуляру. Плотно скрипнув спиной, Родриг Иванович впился… Между тем, в серых потемках, смутные фигуры беззвучно перебегали, беззвучно подзывали друг друга, строились в шеренги, и уже как поршни ходили на месте их мягкие многие ноги, готовясь выступить. Директор наконец медленно отодвинулся и легонько потянул Цинцинната за рукав, приглашая его, как профессор – захожего профана, посмотреть на препарат. Цинциннат кротко припал к светлому кружку. Сперва он увидел только пузыри солнца, полоски, – а затем: койку, такую же, как у него в камере, около нее сложены были два добротных чемодана с горящими кнопками и большой продолговатый футляр, вроде как для тромбона…
– Ну что, видите что-нибудь? – прошептал директор, близко наклоняясь и благоухая, как лилии в открытом гробу.
Цинциннат кивнул, хотя еще не видел главного; передвинул взгляд левее и тогда увидел по-настоящему.
На стуле, бочком к столу, неподвижно, как сахарный, сидел безбородый толстячок лет тридцати, в старомодной, но чистой, свежевыглаженной арестантской пижамке, – весь полосатый, в полосатых носках, в новеньких сафьяновых туфлях, – являл девственную подошву, перекинув одну короткую ногу через другую и держась за голень пухлыми руками; на мизинце вспыхивал прозрачный аквамарин, светло-русые волосы на удивительно круглой голове были разделены пробором посредине, длинные ресницы бросали тень на херувимскую щеку, между малиновых губ сквозила белизна чудных, ровных зубов. Весь он был как бы подернут слегка блеском, слегка таял в снопе солнечных лучей, льющихся на него сверху. На столе ничего не было, кроме щегольских дорожных часов в кожаной раме.