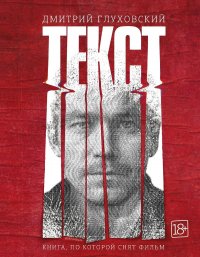
Читать онлайн Текст бесплатно
- Все книги автора: Дмитрий Глуховский
© Д.А. Глуховский, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2020
1
Окно показывало смазанные ели, белый шум ноябрьской пурги; телеграфные столбы мельтешили, как поползшие рамки кадра в черно-белом кино. Показывали в окне Россию, которая от самого Соликамска вот вся такая была: елки, снег, столбы, потом прогалина с пришибленными избами, потом вокзал с силикатными авитаминозными двухэтажками, и опять – елок миллион густо и непроходимо натыкано вдоль путей – как колючкой обвито, не продерешься. Но в этой нескончаемости и одинаковости природной застройки заоконной России и были вся ее мощь, величие и красота. Красотища, бляха!
– И что будешь делать?
– Жить буду. А ты что бы сделал?
– Убил бы его.
– Ну вот. А я его простил. Я пожить теперь хочу. Можно мне еще телефон на секунду? Мать не подходит что-то.
* * *
Ярославский вокзал шибал свежестью и тепловозной гарью. После прокисшего плацкартного пара, после прокуренного железа тамбуров, подслащенного мочой, – тут воздух был слишком огромный: кислорода чересчур, и он сразу чифирем бил в голову.
Москвы тоже было слишком, после елочных коридоров она приезжим распахивалась как космос. Укутанные люди прыгали из вагонов через ров на платформу, выгружали перехваченные липкой лентой сине-клетчатые китайские баулы, хватали их в обе руки и разгонялись по перронам в перспективу, как штурмовики на взлет по аэродромным полосам. Перспектива была дымной, и в дымке приехавшим людям брезжили дворцы, замки и высотки.
Илья больше других не спешил, в потоке не греб – давал себя нести. Нюхал московское небо, присматривался отвыкшими глазами к дали, удивлялся молча. Было ярко, как в детстве. Тусклая ноябрьская Москва резала глаза.
Приехать он в Москву приехал, но попасть еще не попал. Вокзал был еще пока территорией окружной, просоленной и засаленной России. Как бангладешское посольство является во всех смыслах территорией государства Бангладеш.
В конце платформы было сделано сито. Илья его уже издалека привычно разглядел поверх чужих голов. Серая форма, отъеденные морды, глаза рыщущие, цепкие. Наметанные. Раз, раз, раз. И даже собака служебная на цепи: полное сходство. Тут, понятно, она не для того. Тут она просто нюхает себе наркотики, взрывчатку, наверное. Но ведь она и страх может унюхать.
Илья стал смотреть в пустоту, чтобы мимо цепких глаз, чтобы не примагнититься к ним. Стал думать ни о чем, чтобы ничем не пахнуть.
– Молодой человек!
Он тут же застыл послушно. Как они его узнали? По оттенку кожи? По ссутуленной спине? По голове пригнутой? Как собака зверя узнает?
– Подойдите. Документы.
Он отдал паспорт. Листнули на прописку, цыкнули.
– Откуда возвращаетесь?
Врать или правду говорить? Не будут же они проверять. Ездил… Ездил куда-нибудь. Отдыхать. К бабке. В командировку. Как они проверят?
– Отбывал. Наказание.
– Справку об освобождении.
Сразу другим тоном с ним. Хозяйским.
Достал ему справку. Лейтенант отвернулся с ней, побурчал в рацию, послушал, что ему в ответ побурчали; Илья стоял молча, не спорил. Все у него было чисто. От звонка до звонка: в УДО отказано.
– Перевоспитался, Илья Львович? – лейтенант наконец обернулся к нему, но справку не возвращал, зачем-то складывал ее пополам.
Москва отъезжала вдаль за его спиной, кукожилась, небо ее мелело и сворачивалось; гам людей и рык машин глохли. Лейтенант своим пузом, своей пятнистой грудиной, своей харей замещал всю Москву. Илья вроде бы знал: ничего он ему не сделает. Просто нужно сейчас ему дать, позволить почувствовать власть. И его тогда отпустит, а он отпустит Илью. Он тут за этим стоит, за этим на службу пошел.
– Так точно, гражданин начальник.
– Следуешь к месту проживания?
– В Лобню.
– Адрес по прописке?
– Деповская, дом шесть.
Лейтенант сверился с паспортом, смяв без необходимости попутные страницы. Был он, наверное, такого же возраста, как и Илья, но погоны делали его старше. Хотя это Илье, а не ему, последние семь лет каждый год за три шел.
– Домой едешь. Имеешь право, – хмыкнул он. – Двести двадцать восьма-ая, – прочитал он. – Точка один. Это что? Точка один. Напомни.
– Приготовление. И сбыт. У меня только подготовка к сбыту, гражданин начальник.
Илья смотрел ему чуть пониже подбородка – есть такая особая точка, куда следует смотреть сотрудникам во время разговора. Не в глаза и не в пол.
Мусор тянул время, ему нравилось, что он может время гнуть, как проволоку.
Тут собака вдруг взлаяла на загнанного таджика с клетчатой, как у всех, сумкой.
– Ладно. На учет не забудь встать. – Лейтенант сунул Илье его справку. – И не торгуй больше.
Илья кивнул, отошел в сторону, убрал бумаги во внутренний теплый карман, где и сам отсиживался, пока допрос длился. Лейтенант уже увлекся таджиком, таджик был более перспективный.
Просеялся.
Контуженный мир помаленьку пришел в чувство, начал разговаривать.
Но теперь, подойдя к Москве поближе, Илья видел в ней везде только то, чего издалека, из поезда было не разглядеть: ментов. На вокзальной площади, у входа в метро, в павильонах и на станциях. Стаями, все с овчарочьими глазами. Хотя, может, это не в Москве было дело, а в Илье.
* * *
Забирали его из лета, выпустили в самый конец осени. И Москва, в которую его выпустили, не была похожа на ту, из которой его забирали.
Москва стояла сейчас как голое ноябрьское дерево – влажная, темная; раньше вся она была обросшая яркими вывесками, киосками для торговли чем попало – а теперь посуровела, стряхнула с себя разноцветицу, разделась до гранита.
А Илья обожал ее раньше, когда она притворялась сплошным галдящим базаром – ему казалось, что на этом базаре он сможет купить себе любое будущее. Он приезжал тогда в Москву из своей Лобни электричкой – в университет, в клубы, на концерты – и каждый раз воображал себе себя москвичом. Надо было только доучиться, найти работу в центре и снять с друзьями квартиру. В Москве земля была волшебная, удобренная гормонами роста: ткни в нее свои желания – вырастут и работа денежная, и модные друзья, и девушки самые красивые. Москва и сама была от себя пьяная, и всех своим хмелем угощала. В ней все было возможно. И от Москвы не убыло бы, если б Илья отщипнул от ее пухнущего сладкого теста свой кусочек счастья.
А сейчас она как будто ему снилась – она ведь часто снилась ему там, на зоне. Она стала строже и прилизанней, серьезней, официальнее – и выглядела от этого по-понедельничному похмельной. Он узнавал ее и не узнавал; чувствовал себя в ней чужим, туристом. Туристом из Соликамска, и еще из прошлого.
Немного постоял на площади трех вокзалов: среди других обалдевших иногородних его, приезжего из зоны, тут было не так заметно. Можно было сделать вдох и проморгаться.
Проморгался и пошел.
Он ступал по Москве осторожно, чтобы она от слишком широких взмахов и слишком уверенных шагов и в самом деле не оказалась бы сном и не рассеялась бы; чтобы не очнуться от нее в масляной серой тюремной хате, в зябкой духоте, среди шконок и тычущихся в тупик жизней, в запахе носков и вечном страхе ошибиться.
Но Москва стояла надежно. Она была взаправду и навсегда.
Его освободили. Точно освободили.
Илья купил на предпоследние деньги билет в метро и поехал под землю. Ему навстречу конвейером вынимало из недр московских людей – и тут можно было посмотреть им на лица. Люди за семь лет успели приодеться, даже таджики. Вперед и вверх они глядели решительно, многие взбирались по ступеням, не могли дотерпеть полминуты: наверху безотлагательные дела. Москвичи очень спешат жить, вспомнил Илья. А колония безвременью учит.
Из всех встречных – а там были и обнимающиеся любовно старики, и поп в телефоне, и не сдающийся возрасту панк – Илья запинался только о женщин. Так он за эти годы отвык от них. Так забыл, до чего они на людей не похожи, до чего их прекрасней!
И если вдруг одна из них отвечала Илье на его взгляд своим взглядом, то он за эту ее блесну цеплялся, и она рвала и тащила его в свой противоток – за собой, на поверхность.
Потом какая-то поморщилась, фыркнула неслышно, и Илья сразу осел, сжался: ведь они в нем могут понять недавнего арестанта. У него на лбу это написано сизым, бритвой вырезано на землистой коже. Куртка на нем сидит как роба. Женщины чуют опасность в мужчине, чуют голод и ненадежность – это в них звериное, безошибочное.
Дальше Илья за ними подглядывал исподтишка, стеснительно, чтобы больше никто его не разоблачил. Подглядывал – и в каждой искал сходство с Верой. Само собой так получалось.
Вере он решил ни за что не звонить.
Простить ей все и не звонить ей. Разговор этот ничего не даст ему, даже если она и согласится на разговор. Голос ее услышать только? Зачем? Он сам с собой уже столько раз все за нее проговаривал по ролям: и вопросы, и ответы. Уговоры, упреки. Воображаемая Вера всегда ускользала.
Настоящая Вера все ему разъяснила одним звонком, на второй уже год. Извинилась, как могла покаялась. Сказала, что не хочет врать. Что встретила человека. Что имеет право быть счастливой. Повторила это, как будто Илья с ней спорил. А он с ней при людях спорить не мог.
Не навещала его ни разу.
Поэтому он спорил с Верой воображаемой – еще пять лет. Но и воображаемую Веру не мог переубедить.
В вагоне метро он мог людей разглядывать безбоязненно, даже сидящих ровно напротив. В вагоне он никому не был нужен: все утопли в своих телефонах. Тетки крашеные крашеными ногтями, раскосые гастарбайтеры – мозолями, школьники своими пальчиками-спичками, все разгребают в экранах что-то, у всех какая-то внутри стеклышек другая, более настоящая и интересная жизнь. Раньше смартфоны были только у продвинутых, у молодых. А пока Илья сидел, сделали и басурманский интернет, и для стариков свой какой-то, и для молокососов.
У них на хате был один только телефон. Конечно, не у Ильи. Илье приходилось выторговывать себе секунды звонков и минуты во «ВКонтакте» за сигареты из маминых передач. Деньги бы отобрали сразу, а сигареты только ополовинивали, когда потрошили посылку: пошлина. И связь была дорогая. Так что и секунд маминого голоса, и минут на Вериной страничке оставалось – в обрез. Хотя Вера туда фотографий почти не выкладывала, одни ссылки на клипы какие-то, на личностные тесты, на бессмысленную дрянь. Может, понимала, что Илья из тюрьмы смотрит на нее, и не хотела, чтобы видел.
И все-таки Илья иногда выкраивал себе немного времени, чтобы на Суку посмотреть. Как там у него? Как жизнь идет. Как звания растут. Как он в Тае отдыхает. Как в Европе. Какой «Инфинити» он себе купил. Каких девушек обнимает.
Жизнь у Суки шла парадно. У Ильи горло крючьями драло, когда он Сучьи фотографии разглядывал; сердце ножом скоблило. Не мог смотреть на это – и не смотреть не мог: как человек вместо него живет.
А на остальную часть мира Илье уже трафика не хватало. В долг на зоне попадать было нельзя, там вся жизнь была только в дебет.
Ничего, привык без телефона. Хотя до посадки только о нем и мечтал, матери за год на день рождения заказывал, в универе на парту выкладывал сразу, как приходил на пару, чтобы девчонки восторгались диагональю экрана.
Это не самое еще такое, к чему там привыкать пришлось.
Вышел на «Савеловской».
Опять менты. Всюду менты.
Через Третье кольцо медленно проворачивали миллион автомобилей, фары горели днем, грязь из-под колес была взвешена в воздухе, люди выкипали из подземных переходов, Москва ворочалась и дышала. Живая. Илье хотелось трогать ее, трогать все подряд, гладить. Он семь лет хотел потрогать ее, Москву.
– Мне до Лобни.
Электрички поменялись сильно.
Он их помнил замызганными, зелеными, с исцарапанными стеклами, с изрисованными боками, с деревянными общими скамейками, пол в подсолнечной шелухе, пиво пролитое испаряется медленно, и все этим пивом пропахло. А теперь: белые новые поезда с желтыми стрелами на бортах, сиденья мягкие: каждому – свое. Пассажиры сидели чинно. Белые поезда их облагородили.
– Не хочешь со мной на Навку сходить? Ледовое шоу, – говорила одна ухайдоканная тетка другой. – Я тот раз была, феерия.
– Может, и сходила бы. Навка-то за этого выскочила, с усами, ну? Который путинский секретарь. Ничего мужчина, – отвечала та, более чем пятидесятилетняя, оштукатуренная поверх измождения. – Импозантный.
– Да ну его, – отмахивалась первая. – Навка и получше бы себе могла. Мне вот знаешь кто нравится? Лавров. Лавров хороший. Я бы с Лавровым лично. Он и порешительней твоего усатого будет.
Илья слушал и ничего не понимал. Поезд медлил. Пустые кишки урчали, под ложечкой сосало. На привокзальный чебурек он денег пожалел: цены в ларьке были московскими, а транспортные ему выдавали соликамскими. Зачем тратиться на чебурек, когда скоро мамины щи горячие?
Очень захотелось этих щей. Трехдневных. Со сметанкой. Хлеба туда сухого покрошить, как в детстве, как дед показывал. Баланду навести. Притопить корки в супе, но не до мякиша, а чтобы чуть-чуть еще хрустко было, подышать щами – и, обжигаясь, ложку в рот.
Слюна пошла.
А мать будет сидеть углом к нему за их полуметровым столиком – и реветь, небось. Столько не виделись.
Первые четыре года она ездила к нему каждые шесть месяцев: все, что могла отложить со своей зарплаты, тратила на дорогу до Соликамска, на гостинцы к свиданиям. Потом стало шкалить давление, Илья в колонии вроде как обжился – и стал отговаривать ее от этих поездок. Стали обходиться звонками, хотя мать все порывалась приехать.
А последний год разговоры часто ее слезами кончались. Хотя чего уж было плакать, когда всего ничего оставалось, в сравнении с отбытым. А что он может ей сказать, когда рядом или вертухай, или, хуже, блатной, у которого Илья свою маму на минуту откупил? Так что, как только она – в слезы, Илья сразу отбой давал. Нельзя было иначе. Понимает она это?
Ничего, сегодня пускай наплачется. Сегодня можно. Все кончилось.
* * *
– Станция Лобня!
На одном пути остановилась электричка, другой был по горизонт занят товарным составом: заиндевевшие цистерны с нефтепродуктами. Поверх инея шла роспись пальцем – «Крым наш», «Обама чмо», «14/88», «Виталик + Даша», «Мая радзiма – Мiнск» и что-то еще. Илья читал механически, пока шагал к переходу. Крым случился, когда Илья был на зоне, и случился как-то мимо него. Зэки к Крыму были равнодушны, завоевания вертухайского государства их не колыхали. Зэки – оппозиция по определению. Поэтому колониям на выборах и голоса не дают.
До дома от станции решил пройти ногами. Нужно было все это в первый раз ногами пройти. Хотелось. Да и быстрей получится, чем маршрутку ждать.
В Лобне погода была другая. Это Москва жаром дышала, растопленная машинной гарью. В Лобне воздух был прозрачней, морозней; с неба тут сыпало холодной солью, секло щеки. Тротуары не протаяли, вместо асфальта был всюду утоптанный снег. Облепленные машины месили колесами бурую смесь. Блочные дома швами наружу стояли обветренные, невеселые. Люди были настороже. Накрашенные бледные женщины чесали с решимостью куда-то, студя обтянутые колготками ноги.
Полчаса всего электричкой от Москвы, а казалось – в Соликамск приехал.
Москва за семь лет постарела, а Лобня вот не изменилась ничуть: та же, что и когда забирали Илью. Та же, что и в его детстве. И Илья в Лобне был родной.
С Ленина свернул на Чехова. Там три улицы шли обрезками, с одной стороны в Ленина упираясь, а с другой – в Промышленную: Чехова, Маяковского и Некрасова. На Чехова стояла материна школа, восьмая. Материна – и его, Ильи.
Она его, конечно, к себе устроила, хотя рядом с домом – во дворах – была другая школа, четвертая. Туда удобнее было бы, ближе: до восьмой детскими шагами полчаса. Но мамка взяла под крыло. До седьмого класса вместе до школы ходили. Потом девчонки начали смеяться, и Илья стал сбегать из дома на десять минут раньше матери, чтобы доказать взрослость и независимость. С сигаретами тогда же началось.
Напротив школьного подъезда Илья замер. Желто-белая, блочная, трехэтажная, окна трехчастные, как дети у домиков рисуют – такая же школа, как у всех остальных в стране. Ее, кажется, ни разу не ремонтировали за последние лет двадцать, хранили для Ильи в первозданном виде. Чтобы легче все вспомнить было.
Дохнул поглубже. Посмотрел на окна: во втором этаже мелкие бегали. Продленка. Времени было три дня.
Мать из школы уже ушла.
Можно было бы прямо тут ее встретить, у ограды, если б поезд пораньше прибывал. И вместе обратно до дома по снегу, обычной дорогой – по шоссе, через переезд.
Но вместе с ней бы ведь и другие училки выходили бы. Завуч, мымра. Узнали бы Илью, конечно, несмотря на землистую кожу и обритые волосы. Столько лет вдалбливали ему в голову свои буквы и цифры… Узнали бы точно.
И что тогда? Как мать своим коллегам его посадку объясняла? Как он сам ей объяснил? Ей-то пришлось поверить: не в то же верить, что сын – наркоман и наркотиками торгует. А теткам всем этим школьным… Им верить в него без надобности. В глаза – покивают, поохают, а за глаза? Опозорил он мать перед всеми? Стали бы они с ним здороваться? А Илья – с ними?
Сунул руки в карманы, нахохлился, заспешил дальше. Чтобы не увидели, в самом деле. Встретимся попозже с ними со всеми, когда придумаем, что говорить и как себя подавать. Встретимся рано или поздно. Маленький город – Лобня.
По Промышленной вдоль русских бетонных заборов он выбрался на Букинское шоссе и двинул по обочине наперекор снегу, оскальзываясь, но не падая. Брезжил сквозь снег МФЮА, Вера тут училась.
У двадцать седьмого дома остановился еще раз.
Верин.
Серая шестнадцатиэтажка с желтыми застекленными лоджиями: так люди балконы называют, когда пытаются себе у жизни еще пару квадратных метров урвать. Илья насчитал седьмой этаж. Там Вера еще, интересно? Или уехала в Москву, как собиралась? Ей сейчас двадцать семь, как и Илье. Вряд ли еще с родителями живет.
Таких обшарпанных панельных шестнадцатиэтажек, как Верина, тут было три, они стояли особняком на краю массива. Снизу к ним прилепилось похожее на самострой небольшое красное кирпичное здание: совершенно неуместный здесь театр. Поверх второго этажа шли огромные, почему-то готические буквы – «КАМЕРНАЯ СЦЕНА». Илья прощупал их взглядом. Криво улыбнулся новому смыслу старого названия.
Театр всегда тут торчал и всегда так назывался, сколько Илья себя помнил, сколько ходил к этому дому Веру провожать и встречать. Репертуар: «Ваал», «Пришел мужчина к женщине», «Пять вечеров». Скоро новогодние елки.
Поежился. Среди этих панельных-кирпичных декораций накатывало его застиранное прошлое в полном цвете. Четче вспоминалось, чем хотелось бы вспомнить.
В десятом классе, в апреле, он сюда Веру пригласил. На «Горе от ума». Родители отпустили. Весь спектакль он гладил ее по коленке, слушал, как она дышит – рвано. Слушал и плыл. Сердце колотилось. Актеры бубнили что-то неслышно.
А Вера отвела его ладонь и в искупление этого сцепилась с ним пальцами. Сладкие духи были у нее, со специей какой-то острой. Позже он узнал: эта острота в приторном коктейле – это она сама была, Вера, ее мускус. Карету мне, карету.
И потом в подъезде ее глупо поцеловал. Пахло кошками и текущим паровым отоплением: уют. На вкус ее язык оказался такой же, как и его собственный. Поцелуй ничем на книжные похож не был. Ломило внизу живота, было стыдно за это, и не было сил остановиться. Вера шептала. Когда ее крикнул в лестничный колодец с седьмого этажа отец, Илья ключом накарябал на том самом месте: «Вера + Илья». Наверное, никуда это признание с тех пор не делось. Ходит она мимо него каждый день – и плевать.
А после каникул, когда все уже очень повзрослели, она позвала его к себе в гости. Родителей не было. «Давай уроки поделаем». Диван полосатый, продавленный. Мускус. Оказывается, не духи. Светло было, и от света очень неловко. На полу стояла полная наполовину двухлитровая бутылка «Фанты». Потом они – потные, тощие – пили жадно по очереди оранжевое колючее и смотрели друг на друга, не зная, как дальше жить.
Ну и дальше. Дальше все-таки как-то еще три года. Жили-были.
Илья прищурился на ее балкон, на окна: не мелькнет силуэт? Было непроглядно. Да нет там Веры, наверное. Уехала в Москву. Пустой безглазый балкон. Стекло мутное, а за ним – велосипед, банки с соленьями, удочки отцовские.
Перешагнул через переезд, двинул дальше по Букинскому, пытаясь нарисовать себе на снежном темнеющем шоссе лето и летние их с Верой тем же маршрутом гулянья. Не рисовалось. Вместо этого назойливо, как сигаретный дым, который рукой не разогнать, висела перед глазами картина из «Рая». Той ночью. Танцпол. Сука. Все, что случилось. Висела и выедала глаза дымом, до слез. Все он правильно тогда сделал? Да. Да? А она потом? И все равно – да?
Ничего. Теперь все кончилось. Скоро семь лет забудутся. Будет обычная жизнь.
Он оставил по левую руку лобненский скверик: четыре скамейки квадратом у подножия гигантской опоры ЛЭП и кучкующиеся неподалеку березки, чахлые и калечные от соседства с высоким напряжением. Несмотря на ледяную соль, на скамейках дежурили мамочки с колясками, питали младенцев кислородом.
Свернул на Батарейную.
Прошел памятник самой Батарее, которая Лобню обороняла во время войны: постамент с древней зениткой, установленный как будто в обложенный гранитом огромный окоп. По внутренним стенам окопа – таблички с фамилиями павших героев. Один туда узенький заход с улицы, а больше окопного нутра ниоткуда не видно. Тут с Серегой курили обычно после школы, а рядом бомжи травились водкой с нечеткими этикетками. Илья с Серегой читали фамилии на табличках, искали: у кого ржачней, тот выиграл. Бомжи трудно говорили о жизни в своей параллельной вселенной. Илья запоминал слова. Потом шли к Сереге рубиться в плейстейшн, пока родаки не вернутся. А потом еще по улице ходил один, выветривал дым. Если бы мать поймала его на куреве, хана бы ему была.
От Батареи перебежал улицу – и вот уже начало Деповской. Защемило.
Двор сложен из хрущевок: бурый кирпич, белые рамы. Перекошенная карусель припорошена. Голые березы шестиэтажные.
Уже и дом показался, Илья даже окно свое нашел, торцевое. А мать видит его сейчас? Ведь бегает наверняка смотреть его, пока еда греется. Он ей помахал.
Прошел гаражами.
Помойка разрисована персонажами «Союзмультфильма»: Львенок, Черепаха, Винни-Пух, Пятачок. Поблекли, шелушатся, смеются. Над гаражами колючка натянута: там сзади – территория железнодорожного депо, в честь которого и улица. Старуха крошит замерзшим помоечным голубям хлеб и за бесплатный хлеб их воспитывает. Девчонка незнакомая выбежала в плюшевом домашнем костюме мусор вынести. Заметила Илью: пришлось бы встретиться у мусорных баков. Развернулась от греха подальше и засеменила через холод на дальнюю свалку со своими пакетами. Илья только руки в карманы поглубже засунул.
Подъезд.
Поднял палец к кнопкам домофона. Голова закружилась. Кнопки были те же, что и семь лет назад. Дверь та же была. Палец вот был другой совсем. Но подъезд – внутри – он ведь такой же? И квартира. И мама.
Нажал: ноль, один, один. Вызов. Заверещало. И заворочалось сердце. Не думал, что будет волноваться. Чего волноваться?
Он столько себе этот день представлял. Столько думал о нем. Когда приходилось в колонии терпеть – думал об этом подъезде, об этом домофоне. О возвращении. Были вещи, которые приходилось жрать – ради того, чтобы вернуться. Чтобы снова стать нормальным.
Как?
Доучиваться пойти. Мать по телефону говорила: ты не должен им позволить себя искалечить. Они у тебя отобрали столько лет, но ты все еще молодой. Мы все наладим. Один раз смог без взятки в МГУ поступить, подготовились мы с тобой как-то, сможешь и вернуться. Не филфак, не МГУ, так другое что-нибудь. Ты талантливый, у тебя ум гибкий, ты только не дай ему окостенеть, закоснеть. Не позволяй себе озвереть. У тебя защитный слой. Он все отталкивает, всю мерзость. Что бы там с тобой ни происходило, в тюрьме, не пускай внутрь. Пусть это не ты там как будто. Как будто это роль, которую ты должен играть. А настоящий ты во внутреннем кармане спрятался и пересиживаешь. Не пытайся только, ради бога, там героя играть. Делай, что сказано. А то сломают, Илюша. Сломают или совсем убьют. Систему не перебороть, а зато можно незаметным сделаться, и она про тебя забудет. Надо переждать, перетерпеть. Вернешься, и мы уж все наладим. Соседи косо смотреть будут – переедем в твою чаянную Москву. Там никто никого не знает в лицо, там у людей памяти на один день хватает. И девушку еще найдешь себе, ладно с ней, с Веркой, ведь и ее понять можно. Только живым вернись, только здоровым. Да хоть рисовать, ладно с тобой, иди уж! Двадцать семь лет – все только начинается!
Домофон молчал.
Так, еще раз. Ноль. Один. Один. Может, за продуктами вышла? Сметаны нету или хлеба. Илья растерянно оглянулся: ключа от дома у него не было. Без матери он назад попасть не мог.
Подергал за ледяную ручку.
Отступил на несколько шагов назад. Нашел свое окно на третьем. Форточка открыта черным провалом – проветривает кухню, – а в остальных стеклах небо текучим цементом отражается. Густеет. Не пора свет зажечь? У соседей вон уже загорелось.
– Ма! Мааам!
Вышла все-таки, что ли? И сколько ему теперь стоять тут? Или надо обходить все окрестные продуктовые? Нет хлеба – и черт бы с ним! Можно было дождаться его, он и сам бы сбегал. Двое суток в пути, башка чешется, живот скручен, да к тому же еще и приспичило, пока от станции шел.
– Мам! Ма-ма!!! Ты дома?!
Окна были свинцовые.
Стало вдруг страшно.
Ноль-двенадцать.
– Кто? – сипло оттуда.
Слава богу.
– Теть Ир! Это я! Илья! Горюнов! Да! Мать не открывает что-то! Вернулся! Отпустили! Все отбыл! Откроете?
Соседка сначала разглядела его в дверной глазок. Илья специально под лампочку встал, чтобы тетя Ира могла его сердцевину опознать сквозь наросшие годовые кольца.
Скрежетнул замок. Она вышла на площадку: брюки, остриженные волосы, отечное лицо, дамская сигаретка. Деповский бухгалтер.
– Илья. Илюшка. Как тебя они.
– А мама – не знаете где? Дозвониться не могу, и сейчас вот…
Тетя Ира чиркнула зажигалкой. Чиркнула еще. Запали щеки. Посмотрела на мусоропровод между этажами – мимо Илюшиных глаз.
– Позавчера она… С сердцем ей плохо стало. Куришь?
– Курю. А то я звоню… В больницу увезли, да? В какую? А телефон не взяла с собой?
Тетя Ира выдала ему тонкую белую сигарету с золотым ободком.
– «Скорая» сказала – инфаркт. Обширный.
Она втянула в себя с треском всю сигаретку. Прикурила одну от другой.
– Это… – Илья мотнул головой. Курить воздуха не хватало. – Это?.. В реанимации? Поэтому?
– И тут они ее… В общем, пытались. Но ехали долго. Хотя ехать-то тут.
Она помолчала. Не хотела вслух говорить, хотела, чтобы Илья сам все понял.
– Мы же только… Мы же с ней позавчера как раз говорили… Я когда выходил… Позвонил ей… Она говорит… В обед примерно…
– Вот, в обед. А я около пяти, наверное, к ней стучусь… В мясной шла. Думала, может, ей захватить чего. Ну и… Дверь не заперта, она на полу сидит, в одежде. Я сразу давай в «скорую» звонить!
– Ее нет больше? Теть Ир!
Илья прислонился к стене.
– Я им говорю: что же вы медленно ехали так! – Соседка повысила голос. – Ведь вас когда вызывали! А они – был другой вызов, тоже срочный, как нам разорваться? Магнитная буря, все старички в отключке. А я им: старички-то тут при чем? Вы бы постыдились! Женщине всего-то шестьдесят! И шестидесяти нету!
– А где. Куда увезли.
– Да в нашу, тут. В городскую. Поедешь? Надо ведь забрать будет. С похоронами как-то придумать. Это хлопотное дело, похороны, ты-то не знаешь, а я вот сестру старшую хоронила когда, ты не представляешь себе. Тем дай, этим дай, всем дай!
– Поеду. Не сейчас. Я… Потом.
– Ну да, ты с дороги ведь! Зайдешь, может? Голодный?
– А как я домой попаду?
– Да как… Открыто там. Кто ее знает, где у ней ключи. Зайдешь?
– Нет.
Илья повернулся к своей двери. Послушал, что там. Тетя Ира не думала уходить к себе, ей было интересно. А Илья пока не мог взяться за ручку.
– Я же с ней позавчера разговаривал.
– Ну вот так вот, знаешь, и бывает. Был человек – и нету. Она ведь на сердце-то частенько жаловалась. Но таблеточку под язык рассосет, глядишь, и отпустит. Да кто сейчас здоровый! Я и сама – вроде ничего так-то, а как погода что – голова трещать начинает.
– Я потом зайду. За «скорую»… От души.
Илья толкнул дверь. Вошел в квартиру. Включил в прихожей свет. Расстегнул куртку. Повесил на крючок. Закрыл дверь. Сунул ноги в тапки. Тапки ждали. Постоял. Надо было идти дальше.
– Мам? – сказал он шепотом. – Ма.
Сделал шаг и оказался в ее спальне. Постель смята, матрас съехал.
Фотография Ильи в рамке опрокинута, лежит Илья навзничь. Улыбается – гордый собой, прыщавый, веселый. На филфак зачислили. Все говорили – если не занести, не возьмут, но с таким ЕГЭ отказать не посмели. Мать подготовила.
Ящик в комоде выдвинут. Тот, где у нее касса. Заглянул – денег нет. Все выгребли.
Прошел в свою комнату.
Пусто. Мамы там нет, Ильи тоже.
Книги на полках стоят не тем порядком, фантастика с классикой перемешаны, как будто и в книгах заначки искали. Но на столе – рисунок его старый, карандашом иллюстрации рисовал к Кафке. К «Превращению». Карандаш тут же положен. Это он перед той ночью сидел, рисовал. Перед тем, как забрали. Семь лет тут этот листок пролежал, да и все, кроме книг, хранилось так, словно Илья просто в универе.
Осталось на кухне посмотреть. Если и на кухне нет, тогда вообще нигде нет.
В кухне было холодно. Занавеска пузырилась от сквозняка. Черствый батон на израненной цветочной клеенке, нож на все случаи, заветрившаяся «Любительская» с белым жиром, колбасная кожура сморщенным колечком. На неживой конфорке – огромная эмалированная кастрюля.
Илья поднял крышку.
Щи. Полная кастрюля щей.
В туалете стоял в темноте. Сначала не мог. Потом пошла струя – и ему показалось, льется кровь. Не сукровица, какая бывает, когда почки отобьют, а черная венозная кровь, густая и выдохшаяся. Не легчало. Посмотрел в унитаз – нет, ничего. Руки мылил дважды. Потом умылся ледяным.
Положил себе половником сваренных матерью стылых щей, как было, греть не стал. Раскрошил ножом усохшую горбушку, намешал баланды.
Включил телевизор. Шел «Камеди».
– Какой пароль? А попробуй «Шойгу»!
– О! Подходит!
– Ну конечно! Шойгу везде подходит!
Зал белозубо хохотал. Красивые молодые женщины смеялись. Загорелые ухоженные мужчины смеялись. Илья моргнул. Он ничего не понимал. Не понимал ни одной шутки.
Сунул в рот ложку холодного супа. Протолкнул в глотку. Еще одну. В глотку. Еще. Еще. Еще. За маму.
Водки нужно было купить. Водки, вот что.
2
Кто бы ни обчистил квартиру – соседи, воры или врачи «скорой» – всех материных заначек они не знали. В комоде нашли деньги, в прыщавой фотографии – нашли, а под ламинатом за кроватью даже не искали. Там было целых пять тысяч одной купюрой. Дай денег, мам?
Илья рассмотрел эту пятерку внимательно. Надолго ли ее хватит? Пока сидел, рубль ополовинился. Метро было двадцать пять, а стало полтинник. Деньги беречь нет смысла: их все равно время по песчинке из рук вымывает. Да и нет никакого завтрашнего дня, ради которого стоило бы их копить. Жизнь всегда на сегодняшнем обрывается.
Ключей нигде не было. Может, у мамы в карманах.
Странно, что дом нельзя было запереть. Он тогда как будто и не дом.
Выклянчил у соседки открывашку от подъезда, добрел до «Магнита» через улицу, загреб себе бутылку, потом добавил к ней вторую. Раскосый кассир его новую пятерку три раза через сканер прокатал, слишком уж Илья ей не соответствовал, но вслух сомневаться не стал. Деньги были подлинные, учительские.
Бутылки звенели в пакете теми самыми волшебными колокольчиками, которые у гребаной птицы-тройки на хомутах для веселья развешены. Илья шагал через Московскую к Деповской, впервые нес водку домой открыто: не надо было ни от кого прятать ее, и врать было некому.
Встретить бы Серегу случайно. Чтобы были не поминки, а за встречу. Чтобы можно было чокаясь пить. Но хорошие случайности все другим доставались. Может, Серега тоже уехал – с Московской в Москву?
Поднялся к себе. Было открыто.
Сел за стол. Из горла не стал, налил в пыльную стопку из буфета.
Поднял. Опрокинул. Ожегся. Жиром колбасным ожог заврачевал. Сразу плеснул по новой. Еще. Нужно. Необходимо. По трезвости смерть слишком непостижима. Она, как и любовь, только пьяным настоящей кажется.
Последний разговор был короткий. «Я – все, мам. Я вышел. Я выезжаю». – «Ну, слава богу, Илюша. Я тебя жду. Слава богу».
Как же это могло случиться? Почему он не успел? Зачем она так поторопилась? Всего два дня разрыва. Теперь ей не выплакаться, а ему не укорять ее за напрасные слезы. Ей не выспрашивать у него про тюремную жизнь, а ему не отмалчиваться. Ей не рисовать ему человеческое будущее, а ему не морщиться устало.
Умерла.
Умерла. Надо было приучать себя к этому.
Схватил бутылку, перекочевал в детскую, как мать его комнату звала. Он ругался на нее за это, она обещала перестать, но забывала.
Их квартира была – пятьдесят метров, как у людей. Для двоих – самое то, одному слишком свободно. Пол ламинатный, стены обойные, мебель коричневая, кухня шестиметровая, ванная кафельная, сортир уютный: обклеен резиновыми кирпичиками. Лоджия.
Окно у него выходило на депо. На его ангары, на брошенные вагончики и игрушечные локомотивчики. В детстве это была его, Ильи, собственная железная дорога. Подарок от никого. Лучший вид в городе. Его можно было созерцать часами.
В депо откуда-то приходили и тут оканчивались ржавые рельсы: это был тупик. Но Илья в этом тупике проживал, так что его перспектива была вывернута наизнанку. Депо для него являлось точкой отправления, началом пути, который по шпалам вел за горизонт.
Ну вот – съездил он теплушкой по железной дороге на другую сторону России. Отбыл семь лет в зазеркальном отражении Москвы. Вернулся домой: все-таки тупик. Конечная.
Чокнулся с депо.
Полистал без интереса свои старые книжки; раньше думал, в них правда о взрослой жизни, но правда оказалась непечатной. Выпил со Стругацкими, выпил с Платоновым, выпил с Есениным.
Мать литературу преподавала и русский.
Илья перешагнул в ее спальню. Встал на колени перед маминой кроватью. Положил лицо на ее подушку. Вдохнул. Ничего: никто не смотрит. Когда никто не смотрит, не стыдно.
Пахло кислым. Одиночеством, упрямством, подступающей старостью. Судьба мамина тут прокисла. Родила Илью в тридцать два по случаю. Про отца даже не стала ему байки сочинять, как он на них ни намекал: нет и нет, не у всех бывает. Так что мужчиной в доме был он.
В ней раньше просто было нарваться на эту сталь: будто трескаешь сочную котлету и вдруг, не рассчитав, вилку со всей дури кусаешь, до звезд в глазах. В классе она его только по фамилии звала. Горюнов, к доске. Три, Горюнов. Садись. Позоришь.
В суде она вся была из стали. Когда приговор бубнили, из стали была. И в начале срока. А потом стала крошиться: перекалили.
Мужчиной в доме.
А были у нее другие мужчины? Одно точно: к себе она не приводила никого. Вопросы его отсекала. Намеки высмеивала. Но ведь она живой человек, как же ей без любви? Неужели все ему? В Илью вся материна любовь не влезала, но было не отвертеться. И за эту любовь она с него много спрашивала.
Он попытался понять, была ли мать красивой. А вместо этого понял, что толком не может вспомнить ее лица. Испугался этого. Пошарил в комоде, отыскал фотоальбом.
И вот только тут его ледяным окатило.
Только тут он ее увидел. Только тут понял, что больше не увидит никогда. Хлебнул из горла.
Стал листать. Свежих фото не было. Все снимки в альбоме были совместные: Илья с ней в школе, Илья с ней в Коктебеле, Илья с ней на даче у подруги. Когда Илью забрали, она и фотографироваться перестала. Начались годы, которые лучше было не фотографировать.
Еще приложился.
В конце альбома шел уже просто Илья. С университетскими друзьями, потом с Верой. Где-то она нашла у него их с Верой снимки. Те, которые он успел распечатать. Потому что телефон со всем нераспечатанным у него изъяли и приобщили к делу. А что там приобщать было? Веру голую, спящую? Серегу с Саньком на крыше высотки, на самом головокружительном краю? Пьяный августовский скейтинг на ВДНХ?
Это почему?!
Почему так с ним?! Он что такого сделал, чтобы с ним – так?!
Приговор схавал, зону схавал, Верину измену схавал, прилежно рисовал вертухайскому начальству стенгазету. Но все схавать не вышло. От всего нельзя было отвернуться. А может, нужно? Нужно было, как мать сказала, до конца в этом ебаном кармашке сидеть? Приехал бы на полгода раньше!
У водки вкус пропал. Превратилась чудом в воду. Воздух и тот горше был.
Илья сидел, глядел на домашний телефон. Комната от жары таяла. Вера смотрела из маминого альбома на него весело; мама, выходит, простила ее. Не стала выпалывать Веру из его жизни.
Он взял трубку – просто послушать, есть гудок? Гудок был.
Ныл, напрашивался.
Три номера он помнил наизусть. Мамин. Верин. Серегин.
Даже не умом помнил. Большой палец сам сплясал на кнопках джигу, Илье оставалось только на него смотреть. Приложил холодную трубку к уху. Хотел оторвать ее, пока не поздно, но она вросла. Сердце колотилось.
Как будто это не Серега сидел на краю крыши, а Илья. Болтал ногами и наклонялся вперед, чтобы бездну лучше разглядеть.
– Але.
Она. Сорвался.
– Але, кто это?
Стерла его домашний номер. А может, потеряла телефон со всеми контактами. Потеряла или стерла? Все сейчас от этого зависело.
– Вера?
– Кто это?
– Вер. Это я, Илья.
– Какой Илья?
– Твой Илья. Ну… Горюнов. Меня выпустили. То есть… Я отбыл. Я вышел, Вер.
– Ты пьяный? Господи, шесть вечера же.
– При чем тут! Вер… Да. Ты в Москве? Ты уехала?
– Какая разница? Да. Почему ты спрашиваешь? Ты… Ты правда вышел?
Неправду говорят, что водка оглушает: глупит она – да, думать слаженно мешает, выстраивать разговор, беречься собеседника. Но слух от нее лучше становится. И себя лучше слышно, и другого человека – как бы он со своим трезвым умом ни прятал от тебя свои чувства за словами. Водка – рентген.
В Верином голосе слышен был страх. Страх и недовольство. Она спрашивала: ты правда вышел? И хотела, чтоб Илья ей сказал: шутка.
– Правда.
– И что ты от меня хочешь?
– Я… Я думал, мы… встретиться… Ну, повидаться? Могли бы?
– Нет. Илья, нет. Нет, извини.
– Вер… Подожди… Вера! Ну ты понимаешь… Я семь лет там… Семь. Ты – тут, а я – там, понимаешь?
– У меня своя жизнь, Илья. Своя. Давно уже.
– Ясно, что своя. У тебя. А я на зоне. И вот вернулся.
Она это уже усвоила, добавлять ничего не стала. Просто молчала. Даже и не дышала как будто.
– Он… Он хороший? Клевый он? Да?
Вера не отвечала, но и трубку не вешала. Могла повесить, могла отключить Илью с его пьяным бубнежом, но почему-то отвечала ему. Может, понимала, что должна ему этот разговор. Со всеми процентами, набежавшими за семь лет. А может, давала Илье билет в обратный конец?
– Слушай! – наконец сказала она решительно. – Ты на зоне, а я тут, да. Только не надо все это на меня вешать, ясно? И давить на меня не нужно… Я не просила тебя тогда. В клубе. Ты сам влез.
– Ты моей девушкой была! Я мог по-другому что-то сделать?! Я что, терпила?!
– Не ори на меня. Ничего бы он мне не сделал тогда. Что он мог сделать? Вокруг были другие люди. Это ты, ты не должен был соваться. И ничего бы тогда не случилось.
– Соваться?! Ты не помнишь, как ты тогда…
– Ну и что. Ну и что! Надо было думать. Я девчонкой была.
– А я – кем был?!
– Илья. Ты пьян. Проспись. Это очень старая история. Я уже три года встречаюсь с другим мужчиной. Я выхожу замуж.
Он потряс тяжелой головой. Посчитал неспешно, потер лоб; губы поползли в стороны, вверх.
– Три? То есть даже не за того, ради которого ты меня бросила?..
– А я что, должна была все твои семь лет тебя ждать?! Почему?! Потому что ты тогда один раз за меня влез? Так в кино только бывает, понял? А у меня жизнь настоящая! Она одна, понял?! Лучшие годы!
– Лучшие?
– Я не буду отчитываться! Не собираюсь!
Илья проглотил. Нет, он ведь не хотел, чтобы этот разговор так повернулся. Он не хотел обвинять ее ни в чем, он решил давно, что прощает ее. Несколько лет назад решил. По-другому нужно было… Как?
– Вера… Верочка. Я не… Я и не говорю ничего.
– Нет, ты говоришь! – Она кричала, а водка высвечивала у нее слезы. – Ты говоришь!
– Я просто… Я вот смотрел наши фотки. Я очень соскучился. Мы можем… Просто увидеться? Я в центр приехал бы. В Москву.
– Нет.
– Пожалуйста?
– Нет. Я беременна, Илья. У меня ребенок будет. Все.
Он растерялся. Взял паузу: опрокинул бутылку. Подышал. Посмотрел на Верины веснушки, на ее витые рыжие волосы-проволочки, в ее светлые глаза. Ребенок будет. Похожий на какого-нибудь коммерса московского. Да не важно, на кого. Беременность такое дело – это ему приговор.
– А у меня мать умерла.
Вера подышала. Илья сжал трубку крепко-крепко, слушал.
– Что? Тамара Павловна? Ужас какой… Я… Соболезную.
– Да. Да. Послушай… Может, просто на кофе? В «Кофехаузе» каком-нибудь, где тебе там удобно, у работы или…
– Ладно, Илья. Я больше не могу разговаривать. Давай.
– Постой!
Но трубка уже оглохла.
– Вера!
Он тут же набрал еще раз. Пошли гудки – и шли бесконечно, а потом женский голос ровно сообщил ему, что абонент недоступен. Еще набрал. Зря. Еще. Нет. Еще. На что надеялся? Что на пятый раз ответит? Что на десятый?
Вере было насрать.
– Шмара!
Илья сжал кулак и снизу неуклюже в ухо себя ударил.
Зачем он ей это сказал? Про материну смерть?
Звенело. Было больно, но из-за водки – недостаточно больно. Он ударил себя еще.
* * *
– Ну ты как?
– Сдал! Сдал я этот злоебучий синтаксис! И русский как иностранный! Русский на пять, иностранных шпионов могу смело обучать, может, на лето подработку найду! А синтаксис на четыре, но от Малахова уже звонили, говорят: где тут у вас тот самый уникальный мальчик, у которого не вскипел мозг от синтаксиса в современном русском? Веришь, Вер? Все! Я теперь свободный человек! Сессия закрыта! Айда в город сегодня?
– А что там?
– Чуваки в «Рай» идут. С потока, наши.
– Что за рай?
– Улет! На «Красном Октябре», где раньше шоколадная фабрика была. Привозят какого-то супермодного шведа, а посреди клуба, прикинь на секунду, бассейн, в котором резвится олимпийская сборная России по синхронному плаванию! Правда, женская, зато олимпийская! Масштаб, да? Поехали?
– А нас пустят? Там фейс-контроль же и все такое.
– Ну ты свой фейс в зеркале видела? Ты же будешь у них главной звездой, шведа затмишь играючи! Они молиться на тебя будут, ниц пред тобою падут! Ну а я под юбку к тебе спрячусь и тоже проползу как-нибудь.
– Я в мини вообще-то собиралась, – Вера хихикнула наконец.
– Да… Беда. Под мини я могу весь не влезть. Но попробовать нужно обязательно! Удача любит храбрых! Да не, не паникуй, там ребята проходку сделают, у меня плюс один.
«Клинского» купили на станции, чокались зеленым стеклом и смеялись сами себе. Вглядывались в синий вечер, ждали из его глубины дмитровскую электричку. Под фонарями порхали мотыльки, железнодорожный бриз гладил щеки прохладной рукой, веяло мазутом и копчеными рельсами, проходившие мимо товарняки старались попасть стуком своих колес в бит «Касты», которую они с Верой слушали на двоих через одни наушники, и хорошо было, что Вера не могла отойти от Ильи дальше, чем проводок пускал.
Очень нужно было именно в этот вечер поехать в Москву преднощной пивной электричкой, набитой такими же областными клабберами, переглядывающимися между собой незнакомцами с общим предвкушением.
Очень нужно было позволить себе это после июньской сессии, когда уже невозможно думать, когда забита оперативка и некуда запоминать, когда от мела астма, от профессорского жужжания мушино-далекого с последних парт – мигрень, а на входе к экзекуторам-экзаменаторам – тремор. Почувствовать, что этот душный предбанник пройден, и впереди – уже настоящее лето, лето-приключение, лето-путешествие, лето-любовь, самые долгие каникулы, как в школе. Нужно было нырнуть в танцующую толпу, в хмель, нахлебаться радости до тошноты, и завтракать в семь утра с гулкой и звонкой головой в каком-нибудь «Кофехаузе», и криком шептать друг другу банальные прозрения, пьяные откровения.
Нечесаные барды пели за сальные десятирублевки фальшивые баллады и неясный шансон, перекрикивая гул вагонов. Торговали люминесцентными палочками чахоточные, цыганки требовали милостыню, а Вера с Ильей целовались. Купили палочки, фехтовали, потом скрепили в браслеты и сцепились ими. Электричку все быстрей втягивало в ночную Москву, как в черную дыру, и из самой середины ее, из клуба «Рай», из-за горизонта событий, вопреки всем законам физики долетали могучие басы растущей музыки, от которых зудело тело и лихорадило сердце.
Это нужно было Илье и нужно Вере.
Он был на филфаке МГУ, а она – по названию в Московской финансово-юридической академии, но по географии – в Лобне и на Промышленной улице. Он на мечтателя учился, она на прагматика. Ей – основы бухучета и финансовой грамотности, ему – европейская литература двадцатого столетия.
Илье в сокурсницы – истомившиеся по любви шестнадцатилетки, распущенные цветы росянки, хулиганки-москвички. Они для того только за языками и литературой в филологию идут, чтобы из книжного шелка и романо-германского придыхания наткать серебристой паутины женских чар. И редкие мальчики с потока для них – первые мушки, даром что балованные: такая школа злей и вернее.
Вере в однокашники – стриженые подмосковные крепыши с челками, как у ризеншнауцеров, и с песьими повадками, будущие чиновники-кооператоры. С такими всегда знаешь, как разговор пойдет: все их реплики известны вперед, можно и не заговаривать. И роман весь наперед понятен, и замужество, и пенсия.
Ему Москва, ей тоска.
А школьная любовь – комнатная, станешь ее пересаживать из горшка во взрослую жизнь – сорняки забьют.
Вера его к Москве, конечно, ревновала; но он ей с Москвой не изменял. В двадцать лет настоящее слишком настоящее, чтобы будущее проектировать или прошлое мусолить. Но когда он себя в Москве взрослым представлял – Вера была где-то рядом, а остальное было не в фокусе. Большего от пацана требовать нельзя и не имеет смысла. А девушке такая близорукость невообразима.
И тут ребята с курса предложили Илье снять квартиру на троих в одной автобусной остановке от факультета. Это значило – с Верой теперь видеться только на выходных.
Поэтому важно было сейчас оказаться им в этом поезде, который обоих их вез бы в одном направлении. А могли одни на двоих наушники и сцепленные светящиеся браслетики удержать вместе двух людей, которых вселенская гравитация растаскивала по разным орбитам? Неизвестно.
Электричка въезжала на тот самый Савеловский.
Летняя Москва днем – микроволновка. Крутится медленно поднос Третьего, Садового, Кольцевой линии в метро, варят тебя невидимыми лучами через облака, через пыльный воздух, сквозь сто метров рыжей глины. Все время в клейкой испарине. Дождем промоют нутро, слепят в комки дорожную пыль, сваляют из тополиного снега грязную вату и снова – парить.
Но когда кончат облучать, дадут продых, разбавят воздух, закатят солнце – становится Москва лучшим городом планеты.
В тот вечер в Москву нагнали облаков: сделали попрохладней. По Вериной бледной, не умеющей загорать коже бежали мурашки, Илья скинул толстовку и спрятал в нее свою Веру. Они шли от метро к шоколадному полуострову «Октября» – и когда тесная двухэтажная Полянка вывела их на простор, захотелось зажмуриться. Кремль сиял ослепительно, подсвеченный снизу, и не было ни единого здания на набережной, которое не пыталось бы ему вторить. Облака подзаряжались земным электричеством и флюоресцировали. Москва – сама себе светило, ей звезды не нужны.
Подступы к «Октябрю» были закупорены. Машины втискивались, толкаясь, в единственный на полуострове транспортный капилляр. Те, кто спешил, спешивались. Веселая толпа брала болотные мосты, окружала клубы, шла на приступ. Переминались в очередях нимфетки в мини, пыжились их пажи. Клубный улей возбужденно гудел, истекал медом. Начинающие люди летели сюда со всех краев города, с дальних его форпостов, чтобы тут наконец разделаться понадежней со своей осточертевшей невинностью.
Прощание с ней начиналось маленьким унижением на фейс-контроле.
Долгая очередь приходила к привратнику, который мог оглядывать голоногих девочек в свое удовольствие, как будто придирчиво, а мог обидно в упор смотреть сквозь них, как евнух. Мальчикам пялился в глаза, заставлял терпеть и улыбаться: дескать, проверка на дружелюбие, нам быдла в клубе не надо. Мог, разглядев все до мурашек, сообщить: вы не попадаете. А мог, заставив терпеть, умолять, выслушивать шиканье очереди, помиловать и небрежно мотнуть головой: ладно уж. Приятного вечера. И ничего, терпели. Главное, что пропустил, а унижение сейчас быстренько заполируем. Больше того, радовались, что прошли, как сданному экзамену: честно заслужили угар.
Илья думал, пацаны с курса проведут его – но они не дождались, написали эсэмэску: встретимся внутри.
Вера нервничала.
Достал из кармана два сдутых воздушных шарика. Сказал Вере – сейчас мы закладываем важную традицию, которую будем блюсти обязательно всю жизнь. Торжественно снял с ее руки флуоресцентный браслет – и со своей. Распрямил, пропихнул внутрь шаров, надул, завязал – получились плавучие фонари.
Подошли к парапету – внизу река.
– Поцелуй меня.
Взял шарики и спустил их на воду. Они сели рядом и неспешно поплыли парочкой по темной поблескивающей реке: внутри зеленого и красного – светляки. Было красиво. Вера с Ильей их проводили.
– Вместе плывут, – сказала Вера.
– В следующем году в этот же день запускаем! – объявил Илья. – Ну ладно, в выходные.
Взял ее за руку.
Из-за дверей клуба сочились басы, и, когда распахивались створы, выплескивался захлебывающийся в музыке смех. Внутри, кажется, в розлив торговали счастьем. Хотелось нахлестаться его до потери памяти.
Выдержали очередь.
Пары, говорят, на входе отсеивали – пары меньше тратят, им спаивать друг друга бессмысленно. Нужно было притвориться одиночками, чтобы полуторачасовое путешествие из Лобни не оказалось напрасным. Но Илья не мог предать Веру и отпустить ее руку. Ну… Верней, не мог ей сказать, что так надо – и ради чего.
Простояли долгие минуты у самого входа, пританцовывая. Друзья к телефону не подходили. Громко внутри было, наверное.
– Что улыбаетесь, молодой человек? – спросил фейсконтрольщик.
– Сессию закрыл! – сказал Илья.
И «архангел», который и сам когда-то был человеком, припомнил это и пустил их обоих в «Рай». В облака сладкого дыма, в долбящую по ушам музыку, в блаженство.
Тут же нашлись и сокурсники – радостные, искренние. Хлопали по плечу, танцевали кругом. У них в руках было по коктейлю, они угощали Веру из своих трубочек. Вера соглашалась, смеялась.
– Хочешь что-нибудь? – спросил у нее Илья. – Пиво там, или…
– Не надо! – отмахнулась стеснительно Вера.
Но он все же пошел к бару. Себе решил не брать, можно в уборной из-под крана напиться, как обычно. На баре мялся, выспрашивал цены, в конце концов решился на «отвертку»: разумное качество по разумной цене. Какие-то девушки махали ему с другого конца стойки, и он только на мгновение пожалел, что влюблен.
Вера ждала его, «отвертке» обрадовалась, смешно морщилась водке, угостила друзей, Илью тоже, танцы сделались веселей. Минут через сорок наконец и вправду стал проходить спазм. Славно было оглохнуть!
Илья любовался: Вера волосы распушила, лифа под обтягивающей футболкой не было, вместо мини надела черные лосины, вышло и невинней, и порочней. Она тут была все-таки лучше почти всех.
Олимпийская сборная вышла в бассейн, крутили кульбиты под бит, из многоэтажных золотых лож сыто глядели на совершенные бедра неизвестные боги, сновали вокруг них пресмыкающиеся-официанты, смертные терлись друг о друга на танцполе, добывали огонь. Горячие, целовались по углам, постанывали в ненадежно запертых кабинках. Все говорили, никто не слышал. Клуб был чем-то обратным от земной жизни; может, и раем, а что? Эдем с зелеными лужайками, белыми шмотками и арфой – не рай, а какой-то буржуйский дом престарелых. Двадцатилетним в таком умирать беспонтово.
Заработал стробоскоп, нарезая телевизионную картинку реальности на рваные монохромные кадры хроники. Поэтому, когда все началось, поверилось не сразу. В толпе завелись люди в шапках-масках, в бронежилетах, но это могло быть частью шоу, ведь были уже пляшущие карлики с пристяжными фаллосами, была олимпийская гордость страны в лягушатнике, был боди-арт на толстухах – почему б теперь и не маскарад?
Потом эти бойцы прорвались к рубке и отняли у диджея звук.
– Работает наркоконтроль! Всем оставаться на местах!
Обалдевший стробоскоп еще попытался проморгаться, потом его выдернули из розетки, врубили слепящий верхний свет. Это было как раздеть всех догола под дулами. Этого люди наконец испугались. Схлынули с танцпола, потекли к выходам – но там их встречали. Ложи уже были пусты.
– Всем соблюдать спокойствие! Оставаться на местах!
Черные гребнем пошли через зал, выбирая и уволакивая куда-то самых отчаянных, продолжавших пляски под немыми колонками. Илья схватил Веру, потащил ее подальше от надвигающихся зубцов.
– Стоять! Куда?!
Вера взвизгнула. Застряла.
– О, глянь, какая хорошая!
В запястье ей вцепился человек. Курчавый, молодой, гладкощекий. В штатском; поэтому Илья рванул Веру на себя. Но хватка у того была бульдожья.
– Ты че?!
– Отпусти ее!
– Илья! Илья!
– Фээскаэн! Она задержана! Прошу не препятствовать!
Вера – беспомощная, потерянная – только мотала головой, глядя на Илью.
– Предъявите удостоверение! – потребовал Илья, дав петуха.
– Удостоверение тебе? – Штатский хоркнул носом; глаза у него были бешеные, навыкате.
– Да! Как положено!
– На! – Тот мельком сунул Илье под нос ксиву: младший лейтенант какой-то. – Все?! Отпустил ее живо, или я тебя тоже приму сейчас!
– А на каких основаниях?! – Илья не расцеплял пальцев.
– Ты че, ах-хуел, «основания»?! – заплетаясь, заорал лейтенант. – Я наркомана задерживаю, сейчас на освидетельствование поведем! Руки убрал!
– Неправда! – Вера разрыдалась.
– Не имеете права! Я свидетелей… Пацаны! Лех, ты где? Это незаконно! Ты к девушке моей просто пристаешь!
– Я имею право, я при исполнении, а ты препятствуешь! Сержант! Омельчук! – Курчавый кликнул черных с нашивками «ФСКН», к нему протиснулись двое. – Так, этого придержите. А ты со мной! – Он дернул Веру.
Друзья-сокурсники, которые пока еще стояли рядом, от черных как от чумных отшатнулись и канули в толпу. Вокруг оплешивело, посреди прогалины стояли только Илья с Верой – и эти.
– Не смей трогать ее! Она не наркоман! Не смей! Слышь ты, гондон! – крикнул оглохший Илья. – Да ты сам обдолбанный!
Курчавый разжал Верину ручку. Шагнул вплотную к Илье. Наклонился к его уху. Зашептал:
– Ты мне указывать тут будешь? Ты, животное? Да что ты мне сделаешь? Знаешь, где телочки у себя пакетики прячут? Вот я ее сейчас харей в пол уложу…
Он рыгнул Илье в ухо и продолжил. Илья, не дослушав, толкнул его – ладонями – от себя. Курчавый качнулся, но устоял. Кивнул Илье. Скривился.
– Омельчук! Нападение на сотрудника! Задерживаем! А вы, ладно, свободны, – махнул он всхлипывающей Вере. – Иди, че встала?!
– Иди, Вер!
И Вера пошла.
– Сопротивление при задержании! – сказал черному штатский.
Илья дернулся, но налетел один оперативник, другой, заломили ему руки, склонили, согнули его. И потащили куда-то, сжав с обеих сторон.
– Вы его зачем? – храбро чирикнул кто-то из однокурсников.
– Ты стой здесь, ща за тобой вернемся! – рыкнул на него человек с нашивкой – и тот рассеялся.
Илья все крутил головой – успела Вера потеряться? За себя не было страшно – что ему сделают? Он траву один раз на школьных каникулах пробовал, больше наркоты не касался никогда. Он чистый, к нему не прилипнет. И Вера чистая – но ее измарать курчавому куда проще. Если Вера выскользнула от них – то Илья будет держаться гордо. Твердо решил держаться с достоинством.
Его выгнали на улицу, загнали в фургон, где какие-то ошалевшие малолетки были, люди в халатах, усатый командир. Отпустили.
– Так! Выворачивай карманы! – хоркнул лейтенант. – Доставай давай, что там есть у тебя! И паспорт!
Илья пожал плечами. Сунул руку в карман – выудил ключи от дома. Кошелек. Мягкое что-то… Дробное. Достал, сощурился.
– Это…
– Так, Павел Филиппович. Глядите, что у нас.
Черный пакетик. Завернуто в него что-то. Илья еще не хотел понимать что.
– На стол кладите. Клади на стол! – приказал усатый. – Это что?
– Это не мое!
– Так, пинцетик есть у кого? И понятые нам нужны. Понятых давай, Петя, – велел лейтенанту командир.
– А вот ребята сидят, давайте их припряжем, чего далеко ходить, Павел Филиппыч? – курчавый Петя кивнул на ошалевших.
– Ну… Молодежь! Есть тут паспорта у кого? А ты присаживайся, присаживайся, не торопись, – усатый зажурчал Илье. – Куда тебе спешить…
– Это не мое!
Он уже понимал, но еще не мог поверить, протестовал, но не мог говорить, его как будто пичкали, наталкивали ему в рот густой безвкусной овсянки, заставляли глотать и еще пихали в глотку, он давился этими их словами, давился своей беспомощностью, дергался, топ в зыбучем, а они пока что быстро делали свою работу – привычную, механическую.
– Так. Раскрываем.
Расшелушили черный тонкий целлофан, а в нем – маленькие на пластиковых застежках пакетики-кармашки с мукой.
– О как. Расфасовано уже. Подготовлено к продаже, значит. Ну, считаем. Так, молодежь, при вас все! Один, два, три…
Понятые тяжко ворочали белками глаз, послушно следили за тем, как лейтенант перекладывал пинцетом пакетики с порошком на весы. Не спорили: Илье на весы накладывали, а с их весов сгружали. Каждый за себя.
– Мне подбросили! Это он подбросил! – наконец сглотнул овсянку Илья. – Что там?! Что в пакетиках?!
– А это мы сейчас у специалистов спросим.
Что там было, Илья потом узнал: жизнь его, перетертая в порошок, вот что. Статья двести двадцать восьмая, точка один. Приготовление к сбыту наркотических веществ. Кокаин.
– Так! Понятые. Расписываемся. Петр! Вещдок аккуратненько убираем. Там пальчики его, не потри случайно. Все, давай бойцов сюда.
– Это не мое! Почему меня не освидетельствуют?! У вас же вот тут врачи! Пускай анализы возьмут! Пускай кровь у меня возьмут! Я чистый!
– Потом возьмут, не переживайте так, – пообещал ему усатый. – Мы же и сами видим, что вы в норме. Но только это не имеет значения. Вы, дилеры, вы же тут на работе, при исполнении, так сказать? Вам холодный ум нужен. И чистые руки! Совсем как нам. Все, Петя, давай его, у нас там еще невпроворот! – Он своими толстыми пальцами, голосом своим толстым – взял и умял Илью в воронку мясорубки, в лоток для мяса, заправил нежно и надежно его, вырывающегося и пищащего, в спираль мясорубочного шнека, а Петя-лейтенант крутанул ручку.
Когда вели к машине, Петя тянул заломленные Илюшины руки повыше. И разговаривал сам с собой.
– Вот так тебе, паскуда. Вот так тебе, уебок. Семь лет тебе впаяют, щенку. Погреешь нары, ума наберешься. Будешь знать, как связываться. На зоне людям расскажешь, у кого какие права.
– Суд будет! На суде ничего не докажешь! Я чистый! Я никогда наркотиков не употреблял! И не делал никогда! – сам с собой разговаривал Илья.
* * *
Но судье не нужно было всего этого знать. Ей другого хватило: шести пакетиков по два грамма, черной обертки с отпечатками пальцев, показаний понятых и курчавого лейтенанта. Младшего лейтенанта Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Хазина Петра Юрьевича. Имя мама через адвокатов из дела уточнила. Адвокаты говорили: занесите, подумают. Но маме нечего было заносить.
Насчет семи лет лейтенант точно угадал.
– Сука! – кричал ему Илья шепотом через слезы, когда оглашали приговор; и когда кассационную жалобу отклонили. – Сссука-а.
Хазин на суде не появился: Илья ему больше не был интересен, служба шла дальше. Судья справилась и без него. Все делали план.
Разобрались быстро, и поехал в Соликамск.
3
Больше не лезло.
Не смог даже половины выпить. Сидел на кухне, смотрел телевизор. Телевизор не отказывался с ним разговаривать. Телевизор как сумасшедший сосед: пересекся взглядом – не заткнешь и не сбежишь. Балаболил, кривлялся, жуть наводил. Но Илья сейчас был рад этому буйству, этому чужому гною. Пускай подвывает. В тишине становилось слышно себя, так было еще хуже.
Илья хотел бы уснуть, но водка не позволяла. Водка стала для него каркасом, натянула его шкуру на себя, таращила его глаза на мельтешащий экран, двигала челюстями, набивала его чучело черствым хлебом, безвкусной бурой колбасой. Водка чего-то от него хотела, но Илья боялся даже думать чего.
Потом ноги понесли его обратно к телефону.
Набрал материн номер. Мобильный, который она взяла с собой. Прождал семь гудков, десять. Очень хотел дозвониться. Потом бросил трубку. Сказал: «Ххыыыыхххххх». Сушило глаза.
Пойти к ней? Забрать домой? Заказать хотя бы перевозку. Тут недалеко ведь. Нельзя же там оставлять ее?
Нет. Он не мог сейчас. Потом, попозже. Сейчас не было сил, чтобы во всем удостовериться. Боялся заменить память трупом.
Оставался номер, который он еще не пробовал набирать. Серегин.
Кнопки вдавливал тяжело, медленно. Кроме Сереги, звонить было больше некуда. Тут нельзя было промахнуться.
Серега ответил сразу.
– Здравствуйте, Тамар Пална.
– Серег.
– Это кто? Илья, ты? Ты вышел, что ли?
– Я вышел. Ты… Ты тут, в Лобне? Или уехал?
– Да тут я! Куда я?
– А мы… Зайдешь ко мне? Я тут… Один я. Сегодня только… Приехал.
– Ты бухаешь там? Ого. Ладно, камрад, дай у жены спрошусь. У нас мелкий температурит что-то… Но тут раз такое дело! Я перезвоню, погоди.
Пообещал – и перезвонил. И через полчаса стоял уже в прихожей.
Он странный был. Загорелый, стриженный как-то удивительно: по бокам сбрито, посреди чуб. Ко всему шла ухоженная борода; отродясь у Сереги не росло ничего на лице, а тут – борода.
Обнялись. Он пах бодрым сладким одеколоном. Борода благоухала чем-то своим, отдельным, и щекоталась.
– А Тамара Павловна где?
– Ее нет. Пошли на кухню.
Налил стопку. Серега опрокинул сразу, не стал жеманничать.
– Где ты так загорел?
– Да мы тут… На Шри-Ланку гоняли. Лето все провафлили, мелкий непривитый был, отсиделись на дачах, охренели там от русского колорита, конечно, ну и Стася заставила меня на день рождения ей Шри-Ланку устроить. Какая-то там подруга летала со своим мужем и очень там ее ого-го, так что рекомендуем и все такое. У нас деньги все равно отложены были, а сейчас как раз рубль отскочил чуток, так что норм. Оставили нашего чувачка ее родителям, он с ними, по ходу, на одной волне, и рванули вдвоем на серфе кататься. Ну и все как подруга говорила. Вторая молодость, не поверишь. Две недели как один день. То есть пока ты там, кажется, что полгода прошло, время тянется еле-еле. А когда домой прилетаешь в Шарик, выходишь распаренный и веселый, а тут под ногами реагент плещется, в лицо то ли снег, то ли дождь, кожу сразу щипать начинает, ну и родиной так характерно попахивает… И ты такой: блин блинский, может, мне вся эта Ланка приснилась вообще? Загар тут тоже держится недолго, наше-то солнце, по ходу, витамин Дэ из кожи обратно высасывает. Плесни еще, что ли?
Илья плеснул. Серега вылил в себя вторую стопку, пошарил взглядом по столу, поискал закуску, но к колбасе притрагиваться не стал.
– Потом с работой еще завал, начальство вообще не очень разделяет отпуск в ноябре, говорят – месяц подождать не мог до праздников? Ага, а на праздники там билеты на самолет уже распроданы все, и на эйрбиэнби прайс конский, тем более мы хотели посерфить спокойненько, форму восстановить, без свидетелей, а на Новый год там не океан, а борщ с австралийцами, это же не только наш Новый год, а международный. В общем, я ему такой: а не шли бы вы лесом, товарищ командир, – то есть не сказал, конечно, но громко подумал. А теперь мне говорят, план продаж у тебя за ноябрь никуда не делся, в оставшуюся неделю можешь тут у нас ночевать, если хочешь, но чтобы цифра была. И тут мелкий из сада приносит свою какую-то детсадовскую чумку, лбом можно арматурины сваривать, такой кипяток. Стася сразу мозг себе вывихнула, я на полчаса всего с работы опоздаю – и начинается: мы тут с Темой, а ты там, а мы с Темой тут, а ты там, да тебе все равно, да ты вообще не человек, ну сам можешь догадаться. Мне Тему самому жалко – парню два года, температура под тридцать девять, а он не плачет, а смеется, бредит, что ли… В общем, какая уже Шри-Ланка там, как будто и не летал никуда. Ну а ты-то… Ты как?
Серега спросил у него – а посмотрел в телевизор. Потом на хлебные крошки. Потом в окно. Ни разу он еще ему прямо в глаза не поглядел, подумал Илья. И даже просто с лица его Серега срывался, дольше секунды не мог удержаться. Скользкое, видно, стало у Ильи лицо.
– Я как? Ну, вышел.
– Сколько лет-то прошло?
– Семь.
– Да, точно. Семь.
Илья налил еще по одной. Он хотел бы, наверное, подружиться с этим Серегой, как когда-то дружил с тем. Спаяться с ним краешками. Водка как ацетон, она у человечков краешки оплавить может, и этими краешками им можно краткосрочно соединиться.
– А… – Серега уставился Илье в лоб. – А как на зоне там?
– Как. Обычно. Зона и зона.
– Ну да.
Хотел бы, но не мог.
– Слышь, – сказал он Сереге. – Дай мобилу на минуту.
– Что? А. Да. Конечно.
Он сунул руку в карман джинсов – торопливо. Достал тонкое серое зеркало.
– Седьмой, – прозвучало так, словно Серега извинялся. – Погоди… Тут код, – он занес уже палец над очерченными кружками-кнопками. Потом спохватился. – А, тут отпечатком же можно. Вот.
Отдал Илье будто нехотя. Тот пригляделся к новым иконкам.
– Вот это звонить, это сообщения, Вотсапп и так далее, а это интернет, – видя, как Илья мешкает, проскакал по кнопкам Серега.
– Да в курсе я! Че, думаешь, совсем дикий?
Илья погладил пальцем стекло – и, промахиваясь между тесно посаженных клавиш, набрал осторожно.
– Але?
– Вера! – Илья отодвинулся, стул опрокинулся и стал падать, но падать в этой кухне было некуда, и он перекошенно повис.
Илья вышагнул из кухни, громко закрыл дверь.
– Кто? Илья?!
– Знаешь, что мне этот хер тогда сказал в клубе? Что мне эта сука сказала тогда, падаль эта?! Вот что: я твоей бабе в щели во все влезу и там поищу товар, а ты постоишь и посмотришь!
– Это все не имеет значения уже.
– Не имеет! А че имеет?! Чтобы он тебя как плечевую там отжарил?! Чтобы он тебе пилоточку разломал твою?!
– Ты сделал, что сделал, Илья. – Вера говорила твердо. – Спасибо. Все равно. Я тебя не люблю давно. Я, может, тварь. Но и это значения не имеет. Я к тебе никогда не вернусь. Не звони мне больше. Ни с каких номеров. Прости.
Илья повесил трубку сам. Что-то услышал в Вере такое, от чего больше не смог требовать с нее любви. В ушах звенело. От ее «прости» ему не полегчало. А стало так: будто наркоз прошел. Прошел наркоз, а вместо руки – культя. Кончено. Не схватишься.
Повесил спокойно.
А потом развернулся и влепил телефону с размаху, так что тот слетел к чертям со своего насеста на материну кровать, провалился в подушки.
– Разливай до конца, – брякнул он Сереге. – Нá мобилу свою, не ссы.
– Вера?
– Лей, мля, рогомëт. Вера, не Вера… Не хера тут уши греть. Я что надо, сам расскажу.
– Да ладно, – Серега послушно разлил остатки: вышло с горкой. – Илюх… Тебя подставили же?
Илья очнулся.
– А ты… Ты сам-то как думаешь? Ты-то как думаешь?!
– Я? Ну, думаю… Невиновен. Но мы с тобой же последний год-полтора редко когда… Как ты в универ поступил…
– Дай барабан еще. Телефон дай на минуту, говорю.
Серега послушно пододвинул ему свое зеркальце обратно. Илья завис над иконками, неуверенно помотал их вправо-влево, потом ткнул.
– «ВКонтакте» есть у тебя?
– Да, вот… Ага. А что, вам можно там было и во «ВКонтакте» сидеть? Не знал, что у нас гуманно так…
– У всего цена, понял? А у барабана особая. За барабан только знай шелести… – Илья вник.
Телевизор работал без звука. Внутри разевала рот ведущая новостей. Было похоже на огромную рыбину в аквариуме со спущенной водой. Рыба торопилась рассказать, как хорошо живется без кислорода. Серега смотрел в рыбью харю, пытался читать вранье по губам. Посидели в тишине.
Но Серега скоро заерзал, как будто у него тоже воздух заканчивался. Ему тоже нужно было болтать.
– А помнишь, как мы с тобой в голубятню влезли на Букинском? Когда это было, в седьмом классе? Эта, которая рядом с Веркиным домом, у желдорпутей? Когда нас хозяин запалил и из окна по нам начал из духового ружья пулять? Я вот все пытаюсь вспомнить, зачем мы туда полезли. Не жарить же мы этих голубей собирались! Отпустить на волю, может? Или использовать как почтовых? Не помнишь? Прямо буквально перед глазами стоит. Мне тогда в задницу прилетело. На излете уже, даже джинсы не пробило, но синячина остался…
– На. Зырь.
На телефонном экране была открыта фотография: кудрявый темнобровый парень с гладкой румяной кожей в ярко-синем пиджаке и накрахмаленной рубашке борцовским захватом жмет к себе девицу с раздутыми губами и ресницами-опахалами. Рубашечный манжет лопается от желтых часов.
Глаз у парня был сытый и небрежный, но прищур давал понять: этот из тех, кто жрет и не добреет. Ртом он улыбался. За спиной хохотали расплывчатые люди: синие мужчины и красные женщины.
Под фотографией было подписано: «Сегодня с друзьями в “Эрвине”, потом в “Хулиган”, кто с нами?!))»
– Вот. Вот эта мразь меня закатала. Все слепил.
– За что?
– За что. Обдолбан он был, а я ему это на вид поставил. Спорить стал. Им знаешь что нравится? Чтобы им в рот смотрели. Чтобы все у них сосали взаглот. Ни за что, бля. Потому что может. Вот это тачка его. Полистай, полистай. На, гляди: тут он тоже смуглый, как ты прям. Пока им начальство давало, в Тай гонял. Ранеток порол там, небось, барсуков всяких. Бельма зырь, бельма. Не бельма, а шары. Накумаренный, стопудняк. Во житуха, а? Майор теперь. Скоро подполковник, наверное, станет.
– Им… Им можно прямо вот так в соцсети все? Я думал, ментам прикрутили это дело… – отозвался осторожно Серега.
– Смотря кому. Раньше он под своим именем тут сидел вообще… Сейчас на погоняло поменял. Но я-то старый подписчик. «Хулиган», сука. Че за «Хулиган»?
– На Рочдельской. «Трехгорная мануфактура». Такое место… Было модное прошлым летом. Там много всякого рядом, это бывшая фабрика, большая территория. Сейчас переделывают под офисы, рестораны и всякое этакое.
– Рестораны и всякое такое… – повторил за ним Илья. – А я – баланду хавай. Кому пальмы, а кому пальма, бляха. Под руку попал. На. Терпи. В кармашке. Между теми и этими. Не вылазь. Все им. На задних лапках. Секцию им. Газету эту. Потом тем обоснуй, чтобы не покоцали. Только б УДО дали. Только б пораньше. Поскорей чтоб. Может, и надо было. На лапках. Может, тогда и успел бы. А кем бы тогда приехал? Зато успел бы. А если б не уезжал… Мразь. Сука.
Он вскочил и сграбастал вторую бутылку, свернул ей головку на раз, первым ливанул себе – через край.
– Ой, слушай… – побледнел Серега. – Я это… Я не могу. Меня Стаська не поймет. Мне нужно уже. Давай, мы…
– Сиди! – Илья перевел бутылку, плеснул на стол, стал лить в Серегину рюмку.
– Нет, правда. Точно. Она еще мелкому «Панадол» купить сказала, у нас кончился. Я… Давай мы завтра с тобой. Ну или там на выходных на следующих. Как раз пацан поправится.
Илья, не отвечая, кинул в себя водки. Взял пульт, добавил громкости.
– Я… На посошок только, – Серега пригубил. – Телефон заберу?
Он выбрался в прихожую, натянул там свою курточку, сам нашарил замок.
– На связи, да? Ты ляг поспи, Илюх!
Илья сделал еще громче.
* * *
Холода не чувствовал.
Туманная темнота кислотой подточила дома, обволокла, стала переваривать. Фонари работали скупо, берегли энергию. Окна на панельных высотках кровили светом – вразброс, как будто их шилом вслепую натыкали. Неверная земля скользила. Снег иссяк, но без него ветер стал злее. Люди попрятались. На остановках только хохлились какие-то пингвины в ожидании ржавых снегоходов.
Ноги вышагивали сами, Лобню откручивало назад.
Близорукие машины гудели, замечая Илью на обочине в последний момент.
Изнутри тоже бурчала кислота.
Та же, которая в первый год ему на душе всю слизистую сожгла. Так жгла, что он ее смирением защелочил. Но и щелочь душу ела. Сказал тогда соседу в плацкарте, что простил Суку, но это было полправды. Это он как будто бы Суке сделку предлагал: ты прощен, если я могу в жизнь вернуться. В начало. А вернулся в тупик.
Один только Серега его дождался, но Серегу он сам больше видеть не мог, аж трясло. Ненавидел его за то, что стал ему чужим. За то, что тот семь лет жил вверх, пока сам Илья – вглубь. И за жалость Серегину он ненавидел его отдельно. Пора было его тоже ампутировать, пока всю кровь не заразил. Вообще все отрезать. Пусть везде будет культя.
Но Серега хотя бы свою жизнь жил, не ворованную.
Тут спрос был с другого человека. С Пети Хазина. С Суки.
С кого, как не с него? Судья человек безмозглый и бессердечный, ей когда мантию выдают, грудину полой делают. Суд так устроен, что оправдать никого нельзя: за оправдание оправдываться придется. Если до суда дошло – точно приговорят. У судей глаза искусственные, им живыми глазами на обвиняемых глядеть противопоказано. Вся защита у обвиняемого – от следователя. Если до суда дело не развалить, хана. А от судей защиты нет, так что и мстить им без смысла. Это Илья теперь знал: в колонии научили.
У станции дежурила патрульная машина, но менты грелись внутри, щадили щеки. И народу сюда стеклось со всей Лобни, из этого варева Илью было сразу не подцепить, не зачерпнуть.
На нем были сапоги, была человеческая куртка: его же, студенческих времен. Сидела она странно: была ему теперь великовата, хоть он из нее и вырос. Был он в ней похож на человека? Если не видеть, как идет, если со спины хотя бы – похож?
На платформе был лед, продырявленный реагентом, ветер толкал Илью под колеса обмороженных товарняков, пассажирские мелькали мимо, их окна склеивались в один экран, в котором шел клип средней русской жизни. Нудела в голове какая-то танцевальная музычка, Илья цыкал ей в такт.
– За что ты меня, мразь? Раскрываемость поднять? За облом оттоптаться? От скуки? Для чего?
Дмитровская электричка медлила, давала Илье время одуматься. Даже если он найдет Суку, что он скажет ему? Как заставит выслушать? Станет тот отчитываться перед ним по делу семилетней давности? Вспомнит вообще?
Вспомнит. Станет.
Только у него ответы.
Можешь ради своего моментного удовольствия забрать у человека молодость, из жизни выкромсать ради ничего самый яркий кусок – плати. Не можешь себя бугром почувствовать без того, чтобы другого в пыль стереть, – плати. Умеешь сбить машиной дурака и дальше себе мчать, не оглядываясь, – свой хребет тоже наготове держи. Думаешь, тебя твоя блядская система панцирем защитит, думаешь, гидра твоя тебя прикроет, не даст своему башку откусить. А только бывает по-всякому.
Наконец на платформе оживились: из мрака подали нужный поезд. Илья вошел в него, сощурился, начал оттаивать. На сиденьях жалась молодежь, ехала в Москву гулять. Сосали пивко, хихикали и целовались. Илья глядел на них и не узнавал себя.
Электричка застучала по рельсам, город сгинул, теперь за окном был только этот же вагон в черном цвете, и сойти с поезда стало некуда. Да Илья и не собирался сходить. Его затягивало в Москву гравитацией, он вспотел: падал в Солнце. Ему нужно было туда, нужно было что-то там сделать. Дома нельзя было оставаться, там было слишком пусто. Жизнь вся одномоментно стала порожней, в ней не за что было держаться.
Заходили в вагоны барды, пели свои серенады одиноким кряжистым теткам, очкастый умелец с акустической колонкой на спине сыграл на весь поезд на свирели что-то нездешнее. Потом занырнул шмыгающий гитарист с амбразурными глазами, приложил пальцы к струнам и принялся давить пахучий тюремный шансон. Пел слепо, а зрачками шнырял по рядам: искал своих. Илью узнал сразу, как и Илья его. Мимо всех молодых прошел, мимо пивных мужиков тоже, прямиком к нему, несмотря на студенческую куртку.
– Бывшего арестанта не огорчишь? – протянул руку, а на ней – ожог от химии, татуировку сводил.
Илья сунул ему сотку, лишь бы дальше двигал, и отвернулся. Тот зашаркал к другому пассажиру – обритому, смурному. Знал, на чьих струнах играет. Дело хлебное: полстраны сидело.
Нет, не за этим ехал. Хазинские ответы на свои вопросы Илья и сам знал.
На зоне помогли их понять: там-то таких было в избытке. Зона из таких Хазиных и составлена. Одних сачком ловят, как красноглазых слюнявых собак, и пхают внутрь кирзачом; а другие приходят туда сами, по доброй воле, потому что где еще можно уничтожать людей и получать за это паек?
А вот наказать за то, что мать умерла, больше некого было. И за то, что Вера разлюбила. Что Серега на непонятный язык перешел. За то, что Илья приехал из Соликамска в кирпичную стену харей.
И что он там сделает? Что сделает с Хазиным?
Водка перекрикивала, не давала ответить самому себе. Водка шумела в ушах, жглась в венах, давала в долг злость и упрямство. Водка орала, где можно было шептать. Ей было в Илюшиной шкурке тесно. Она его выворачивала изнанкой наружу. Снаружи шкурку он чистой сохранил, а подкладка была вся в наколках. Подкладку в тюрьме никому не сберечь.
Прибыли к Савеловскому бану, московскому КПП.
В Москве туман стоял, моросило. Москва тоже потела, нервничала.
Проскочил с толпой, поймал желтую машину. В метро пьяным ему нельзя, это он даже пьяным знал. Теперь такси в Москве стали желтые и с шашечками, как при советской власти. Все как раньше опять становилось: так ясней.
Таксист по-русски болтал довольно бойко, но у Ильи своя пластинка крутилась, отвечать он не мог. Разжился у него, правда, куревом, водка затребовала.
Москва днем казалась гордой, а ночью – несчастной.
На улицах только фонари тлели, а дома стояли черными перфокартами, как в Лобне. Померкло зарево над городом: фасады лишили электричества, рекламы осталось мало. Вообще мало стало света и много – темноты. Люди бежали, ссутулившись, словно их в спину тычками гнали. Гребли осенними ботинками по ледяному желе. А настоящая зима еще только подкатывала.
Водка надышала Илье на стекло, за стеклом все расплывалось теперь.
Одно всего здание горело – гостиница «Украина», сталинский подарочный торт с мясом и железобетоном. Но от его яркого пламени тени вокруг еще черней делались. Медленная река боролась со льдом, но от переохлаждения уже засыпала и скоро должна была околеть. Впереди половина неба была заставлена башнями Сити. За семь лет их прибавилось – беспорядочно, случайно, как будто сталагмитов наросло. Или полипов. Город их пока как-то держал.
Потом свернули с берега вбок и остановились.
– Рочдельская вот это вот, – сообщил таксист. – «Трехгорка». Тута вылазьте.
Тут то же самое было, что семь лет назад – на «Октябре»: заторы на подступах, бурление в воротах. Девчонки в колготках на тонких ножках для тепла обнимают сами себя, бегут стайками. Парни подтягиваются, допивая на ходу из горла. Отключили Москве свет, пришибли в ней взрослых, ввели строгий режим, но молодняка это все как будто и не касалось. Им надо было жить срочно, влюбляться прямо тут же, немедленно, дурманить себя и неотложно отдаваться. У них каждая секунда на счету была; и все нужно было прожечь.
Что тут раньше производили, на этой мануфактуре, неизвестно. Может, робы шили, а может, системы наведения для ракет отлаживали. А может – оба цеха бок о бок, для конспирации. Теперь по конверсии на «Трехгорке» днем делали цифры, буквы и упаковку для фантазий. А в ночную смену – угар, тщеславие и половые гормоны. Кирпичные здания разной высотности были расставлены как попало, у одних окна были выбиты, у других заколочены, третьи сияли свежевымытыми стеклами – мануфактура перестраивалась. Лоснящиеся лимузины и мятые строительные контейнеры с обломками стояли подряд.
Люди поступали в ворота и разбредались по бессветным трехгорным закоулкам. Клубы и рестораны яркими витринами и фонариками фейсконтрольщиков очищали себе от тьмы немного места, а где не было заведений – хоть глаз выколи. Люди бродили между светом и тенью, шумные, ломились и скреблись в двери, смеялись и дрались, громко флиртовали и расставались. Тут все были пьяны, не только Илья; и тут он мог ждать сколько угодно. На улице, в тени он был за своего. А внутрь ему и не надо – внутри шумно, а у него разговор.
Хорошее место «Трехгорная мануфактура».
Стоял и думал: на воле воздух очень разреженный. Места тут чересчур, плотность населения слишком низкая. На зоне вот по сто пятьдесят человек в бараке, на тюрьме по пятьдесят в хате, нары в три яруса, до чужой судьбы полметра; и у каждого вместо судьбы – открытый перелом, острыми обломками наружу. Нельзя не наткнуться на другого, нельзя не распороть себя об него, не обмазаться в мясных лохмотьях. Лезут друг другу в глаза, в нос своими потрохами вонючими, членом тычут. Некуда друг от друга деваться. Сначала жутко от этого, потом тошно до блевоты, потом привыкаешь, а потом без этого даже и пусто. На воле с чужими людьми в разных квартирах живешь, стенкой от них отделяешься, в метро каждый в своем пузыре едет. Как чай из пакетиков после чифиря – так на воле. Сидишь, кажется – только снаружи все подлинное. Выходишь – фальшак. Жизнь в зоне – морок, а ничего более настоящего нет.
Стоял и думал: а если не придет? Если баба увезет его в какое-нибудь караоке? Тогда как? Домой ехать? С чем? Какое там завтра?
Не было завтра никакого. Все кончалось сегодня.
Холода не чувствовал. Кислота грела.
* * *
Когда увидел, сам не поверил.
Ноги отмерзли уже к этому, кололись и звенели. Кирпичная стена поддерживала спину. Водка от холодного воздуха начинала отступать. Но отступать было поздно.
Хазин шел, шатаясь, кричал что-то в телефон, тащил рывками за руку сисястую бабу, баба спотыкалась на своих ходулях, истошно его материла. Та самая, с лощеной сегодняшней картинки во «ВКонтакте».
– Че ты выкаблучиваешься-то? Пошлю я ее! Сказал, что пошлю! – Петя обернулся наконец к своей женщине.
– Вот когда пошлешь, тогда и будем разговаривать! Я на вторых ролях всю жизнь не подписывалась! – визгнула та.
Она выдернула руку и закрутила бедрами, как паровоз поршнями, прочь от майора. К шлагбауму, к выходу из кирпичного лабиринта, из Петиного тупика.
– Прóглядь! – харкнул ей Хазин.
Взъерошил волосы, покрутился на месте, но тормозить ее не стал. Уставился в телефон, стал искать, может, кого еще вызвать. Натыкал кого-то; приложил трубку к уху, посмотрел на небо.
– Эу. Малыш. Не хочешь пылесосиками сегодня поработать? Да, я груженый. Нет? Ну какая дача! Подумай! Ой, ну и хер бы тогда с тобой.
Выключил этого человека зло, снова стал рыскать в мобильном. Что-то зудело у него, нужно было язву расчесать какую-то; и Илья уже знал какую.
Тут Сука полез в карман и замер.
– Опа…
Принялся судорожно себя обшаривать. Достал ключи, позвенел, еще что-то неразличимое. Потом в телефоне крутанул звонки, приставил трубку к уху.
– Да! Здравствуйте! Сидели сейчас у вас с девушкой. Бумажник не забывал? Черно-серый, в шашечку, «Луивуитон»? Нашли? Слава богу. Да, сейчас вернусь.
Пора было. Больше нельзя ждать.
– Петь! – крикнул его сипло Илья. – Петюнь!
Майор поднял голову, повел глазными дрелями по кирпичной тени – искал, откуда голос, где сверлить. Илья сделал шаг ему навстречу. Хазин прищурился, но не опознал его. Серега-то – бывший родной – его опознал еле-еле.
– Не угостишь?
– Чем тебя угостить? – Петя скривился. – Ты кто, дядь?
– На диско знакомились, – Илья сосредоточился. – Ты меня первым угощал. Супер было. Я Илья. Помнишь? Месяца полтора назад.
– Это… Это в «Квартире»? – вспомнил кого-то Хазин.
– Да… – Илья рискнул. – В сортире. Можно еще такого?
– Илья. Вроде… Да. В «Квартире», точно. Окей. Сколько возьмешь?
– Сколько есть?
– Давай-ка отойдем, что мы на публике-то…
Илья показал, куда идти, – майор последовал, как крыса за дудочкой. За углом был выщербленный подъезд – из дома выгребали труху, чтобы набить его деньгами. Сюда, в подъезд.
– Ну?
– Ну че ну… Двести за грамм. Качество как у Эскобара. «Наркос» смотришь?
– Не видел еще. – Илья опустил руку в карман, поискал – вытащил рубли.
Вот какой к Суке вопрос: он вообще помнит, что какому-то пацану семь лет назад жизнь переехал? Крутилось на языке, но все хотелось дождаться верного момента. Рядом пьяно смеялись. Могли и сюда забрести.
– Посмотри при случае. Школа колумбийской жизни! – Петя сунул руку под лацкан, к сердцу. А вынул ксиву. – Читай, уебок. Приехал ты. На телефон все пишется.
Илья убрал растерянно бумажки обратно в карман, сказал: «Да я же ничего не делал…» и из кармана сразу, снизу вверх острием, ударил Пете в мягкий подбородок маминым колбасным ножом – узким и за одинокий вечер наточенным. Петя булькнул и потек. Попытался заткнуть рукой дырку.
– Помнишь меня? – спросил у него Илья. – Я семь лет назад уже раз приехал так с тобой.
Петя попытался поспорить с Ильей. Обвинить или оправдать. Может, просто сказать, что нет, не помнит. Но голос пропал. Он хотел выйти из подъезда, а Илья не пустил, оттолкнул. Сука присел на корточки, достал из подплечной кобуры ствол, но пальцы не гнулись толком. Илья просто отобрал у него пистолет. Петя поплыл. Собрался, вспомнил про телефон. Вцепился в него, пытался отпечатком разблокировать, но палец был в крови замазан, телефон Петю не узнавал. Илья опустился рядом. Мир вибрировал, сердце клинило. Нельзя было оторваться от сучьей смерти. Было страшно от бесповоротности и сладко неясно от чего; от мести – и жутко от нее же, и от того, что сладко оказалось.
– Ну что скажешь? – спросил он у Суки.
Петя стал жать пальцами в кнопки, подбирать пароль. Верхний ряд прошел цифру за цифрой, потом нижний. Один, два, три. Семь, восемь, девять. Сипел, присвистывал, булькал – и жал как заведенный. Пальцы скользили, айфон дурил. Илья смотрел на него выпученными глазами, пока глаза не заболели. Потом отнял и телефон. У Пети закружилась голова, он шатнулся, ткнулся лбом в стену, потом в пол.
Вот тут стало реально. И дико.
Затрясло.
Захотелось провалиться.
Он выскочил из подъезда. Вернулся. Петя мелко дрожал, сучил ногами. Тут ничего было нельзя отменить.
В складке между зданиями в асфальте был приотставший чугунный блин канализации. Илья оторвал его, подтащил Петю за ноги и макушкой вниз спровадил его в черноту. Петя упал глухо, мешком; Илья вытер нож, кинул следом. Закрыл за Сукой, запер. Подумал медленно и рвано. Набрал снега в руки, стал затирать расплесканное Петей в подъезде; а с улицы расходящийся дождь смывал.
Этого было не переделать. Ничего было не переделать.
* * *
Идущие впереди машины распыляли дорожную грязь по лобовому стеклу, прямо по глазной роговице. Дворники скребли и скрипели, вырезали из грязи узкую дугу, но машины впереди тут же опять заливали эту смотровую щель бурой мутью.
– Ни хрена в этой вашей Москве не видно! – сказал таксист.
Илья сидел молча, глаза его были забиты грязью. Тер их: тщетно.
Ни от чего не легчало. Ни с кем не складывался разговор. Никто ни на один вопрос Илье не мог ответить. Сожаления не было. Страха не было. Удовлетворения не было. Снаружи был вакуум, и внутри был вакуум тоже. Безвоздушное бездушное. Домой ехал, только потому что надо было ехать куда-то. Приехать и лечь спать. Проспаться и вскрыть себе вены. Ничего в этом сложного не было, на зоне научили. Ничего в жизни сложного не было: и умирать легко, и убивать – запросто. Но ни от одного легче не станет, ни от другого.
– А знаешь, зачем пиндосам Украина? – фоном работал таксист. – Потому что у них Йеллоустон рванет не сегодня-завтра. По всем прогнозам. Они, конечно, по телику своему об этом не говорят, чтобы панику не вызывать. Но готовятся. И вот их этот Госдеп спонсирует фашистов на Майдане, чтобы те передали им своих хохлов тепленькими. Примут их, дебилов, в НАТО, введут танки и авианосцы свои, потом генным оружием их хуяк, и пизда им всем. А там – колонистов пришлют и освоят их целину. Знают, что Путин к себе их не пустит нипочем, потому что он всех их Ротшильдов на хую вертел. Про Ротшильдов-то хоть знаешь? Эй!
– Нет.
– Да ты вообще откуда вылез такой темный? Ротшильдам принадлежит американская резервная система. Которая доллары печатает. А доллар, между прочим, с 15 мая 1971 года ничем не обеспечен, кроме голой жопы. Де Голля знаешь за что убрали? Что он у американцев потребовал их доллары золотом обналичить, все, как по Бреттон-Вудскому соглашению! Посылал в Форт-Нокс самолеты с долларами, а возвращались они с американским золотом. Ну, Ротшильды быстро сообразили, что как, и убрали нашего Шарля, ибо не хуй. Не веришь? А что им де Голль! Они ведь и Наполеона убрали в свое время. Реально говорю, у кого хочешь спроси. По радио объясняли. Британская корона, думаешь, самостоятельная? Монархия ихняя по самое не могу в долгах, корону эту самую уже жидам трижды заложили. Короче, вся суть-то войны 1812 года в чем была? Что Ротшильды на Наполеона наших натравили, потому что он бизнес делать мешал. И сейчас такая же петрушка. Доллар переоценен в восемь раз, бюджетный дефицит знаешь какой у Штатов? Семнадцать триллионов – и растет. Обама, Трамп – всем на руку. Печатают бумажки, покупают на них нашу нефть, газ, лес, а мы и рады стеклянным бусам! Вот им-то война и нужна, Ротшильдам, чтобы внимание от доллара отвлечь только. По нам ударить, потому что у нас-то тут реальная экономика, понял? У кого лес-то? Углероды эти все! У нас! Вот и все, сходится как дважды два.
Мутило. Но сблевать Господь не разрешал.
Довезли Илью почти до самого дома. Пришлось почти все деньги отдать.
– Слы, а чем они тут перемазаны? Кровь, что ли?
– Поцапался там, – сказал Илья. – От души, брат.
Остановился у помойки, задрал голову. Окна их квартиры горели. Уютно. Спешил выйти на улицу, забыл потушить. Теперь казалось, что можно туда вернуться. Казалось, что мать не спит, ждет его с гулянки. С той, которая началась летом девятого года, а кончилась только вот сегодня.
Поднялся по лестнице, толкнул незапертую дверь. Вошел в ванную. Посмотрел в зеркало. Там в синей студенческой курточке сидело неизвестное насекомое, шевелило жвалами. Руки были в сохлой юшке. Куртка в бурых бороздах.
Мыть не стал: чем отмыть?
Сел в кухне, налил себе водки: анестезия. Порвал остатки колбасы пальцами. Затолкал себе в рот. Еще приложился. Хорошо повело. Может, скоро отключит. Утро вечера мудренее.
В телевизоре мычали.
Зажужжала муха о стекло. Отчаянно, еще и еще, через равные промежутки. Мерзкий звук. Илья встал, чтобы раздавить ее до зеленых кишок большим пальцем, но мухи на черном окне не было. Мухи не было, а жужжание шло. Кто-то просился, невидимый, настырно, чтобы его выпустили отсюда, из этой камерной квартирки, на волю стылую. Кто-то тут с Ильей застрял и хотел освободиться.
Илья подвигал тяжелую башку вправо и влево, потом догадался сунуть руку в карман куртки. Удивился и достал оттуда сначала черный «ПМ», а потом черный айфон. Мобильный только кончил звонить.
И тут же на испачканном бурым экране возникло: «Whatsapp: С тобой все в порядке? Беспокоюсь. Мама».
Мир скукожился.
Илья ногтем поскреб с кнопки «домой» тонкую корочку, с пьяной уверенностью набрал подсмотренный код: сначала весь верхний ряд, потом весь нижний по порядку. Попал сразу в сообщения. И большим пальцем медленно, тихо выговорил в ответ: «Привет, ма. Я соскучился».
На экран капало соленое, размачивало сухую кровь.
4
Солнце лезло в окно. Бледное, мелкое, втиралось под веки.
Илья вспомнил сразу. Сел в постели – в своей, прежней. Одетый, только сапоги стащил. Голова была тугая, наполненная какой-то густой дрянью – мазутом, что ли. Язык клеился к нёбу. Веки срослись.
Посмотрел на свои ладони. Ладони были белые. У ногтей только темные каемки. От каемок этих тошнило. Без них можно было бы убедить себя, что все приснилось. Но просыпался он не из сна про «Трехгорку», а из мазутной ямы.
В коридоре что-то будто еле пищало, дробно и невнятно. На кухне телевизор сам с собой разговаривал.
Илья осторожно, как не у себя дома, прошел туда.
Чужой телефон лежал на столе. И рядом – «макаров». На скатерти были следы от пальцев. Как в бане кипятка с камней вдохнул. Сел, потому что не устоял. Стал тереть лоб. Навалилась тоска.
Навалилось похмелье от убийства.
Вчера было разложено перед ним полароидными снимками – расплывчатыми, сбитыми. Он потасовал их отупело. Петя булькал дыркой в шее. Валился в люк. Жирная полоса на бетонном полу. Потом снова стоял живой, хитрый. Спрашивал, смотрел ли Илья кино какое-то. Потом отдавал ему свой пистолет ватными пальцами. Глаза его. Беспомощный, потерянный. Земная ось Пете в горло всажена, мир юлой. Небоскребы маяками в тумане. Не туда вывели. Все в тумане. Красные деньги. Таксист нахмуренный.
Илья налил себе воды из-под крана: шла ржавая, на вкус была – как будто зуб выбили. Распахнул окно, а то тут воздух скис.
Зачем? Что это переменит? Зачем?!
Ошибка. Ошибка!
И никак не попасть во вчера, не схватить себя вчерашнего за руку, не удержать дома. Он подобрал со стола телефон. Прочесть новости: нашли уже Суку? О таком точно должны написать. Пароль торчал в голове, не забывался.
Хотел и боялся новостей – а открылось на переписке с Петиной матерью.
Только сейчас вспомнил про то, как вчера ей писал. А что писал? Что ты ей писал, мудло?!
«Привет, ма. Я соскучился».
«Ты уверен, что все хорошо?»
«Да. Я просто напился. Завтра созвонимся».
«Хорошо. Спокойной ночи».
Метнулся обратно, посмотрел – пропущенных звонков нет. Ждала, пока он выспится. Подождите еще. Дайте с мыслями собраться! Сплю. Сплю! Сейчас!
В Яндексе поискал: Рочдельская, убийство. Трехгорная мануфактура, нападение. Каждый раз набирал – пальцы прыгали. А если сейчас выловит? Тогда что? Тогда все.
Сколько времени сейчас? Одиннадцать. Неужели дождь отстирал асфальт как следует за ночь? А подъезд? В подъезде кровь была. Илья размазал ее грязным снегом, но при дневном свете она зажжется, будет глаза печь. Сегодня суббота. Может, по субботам там не работают?
Труп. Хазин. Клуб «Хулиган». Полицейский.
Нет; пока не нашли. Или нашли, а не успели еще доложить газетчикам. Но это ничего не значит. Как только родные Суки хватятся – тут же на Илью выйдут.
Не хотелось об этом думать; но и увильнуть от этих мыслей было нельзя.
Отыщут его быстро. Видео с камер наблюдения поднимут. В Москве этих камер – сто тридцать тысяч, пока Илья сидел, всюду понатыкали. Среди вновь прибывших в колонию много было таких, кого по камерам и засекали, и обвиняли, и приговаривали. Каждый городской подъезд пялится в тебя одноглазо, лезет в жизнь, на всех трассах камеры развешаны – следят, запоминают. Раньше, говорят, они хотя бы видели плохо, а теперь прозрели. О чем вчера думал?!
Ни о чем. О том, чтобы Хазину расчет дать.
Илья глянул себе внутрь, в муть. Жалости к Суке там не было. Раскаяния в том, что убил, не было тоже. Не горчило от греха. Хотелось бы почувствовать торжество справедливости: это ведь единственный раз с ним в жизни, когда бог отвернулся и Илья успел по-своему справедливость навести. Расплата, ма? Нет, ничто там вчера не восторжествовало. Просто подонок сдох. Брезгливость к Суке у Ильи была от того, как Петя некрасиво умирал; и к себе брезгливость – от того, что он его смерть через трубочку, как клубничный коктейль из Макдака, втягивал. И злость оставалась на Суку за то, что тот не смог с Ильей переговорить по-человечески из-за своего дырявого горла.
А главное у Ильи было такое чувство: конец ему.
Никуда не деться.
Люк откроют, таксистов допросят, и все, на следующий день постучатся. Ему еще на учет в полиции вставать положено, не встанет – участковый придет. Даже если б и не Илья убил Суку, все равно бы на него повесили. Откинувшиеся с зоны – первые под подозрением, а тут еще и мотив.
Вот он – вроде дома сидит. Но это как еще один полароидный снимок. Выхваченный из темноты миг. А в следующий миг будут Илью швырять мордой в пол, мять ему лицо, ломать руки, тащить его, отечного, на тюрьму. Кончилась свобода, не успев начаться. Херово Илья ею распорядился.
Можно купить водки и ждать, пока придут. Можно самому явиться с повинной, чистосердечное написать.
Что будет? В лучшем случае – поедет обратно по железной дороге. Безвозвратно. За месть менту пожизненное дадут. Пока срок был исчислимый, можно было в себе человечка поддерживать, поддувать на него, чтобы тлел. Будет срок бессчетный – скоро потухнет. На зоне человечек очень мешает. Его для воли берегут. А не будет воли – лучше самому погасить, пока блатные его в моче не утопили.
Если и не пожизненное, а, скажем, двадцать лет… Пятнадцать! Кто тогда вместо Ильи выйдет с зоны? Куда выйдет?
Из окна пахло зимой. Опять после дождливой ночи заморозки схватили. Илья высунулся за кислородом. Снаружи были перемены: белое небо поднялось, мир раздвинулся. Стало ясно, что над Лобней есть еще другие этажи, что тут ничего не кончается. В мире дел было на сто лет вперед.
Видно стало рельсы, видно депо, и посреди депо – кирпичную водонапорную башню, про которую он дошкольником думал, что она – остаток крепости. А за ней теперь – в дневной прозрачности – возникли незнакомые новостройки в двадцать пять этажей. Нет, Лобня была не та. Не окаменела она, когда Илью забрали. Шевелилась, росла. Чужой это был город – уже. А через двадцать лет все будет вообще инопланетное.
Нельзя вернуться никуда.
Но главное – не возвращаться б на зону.
Дико, дико страшно стало ему вдруг оказаться запертым в масляном-решетчатом кирпичном ящике навсегда, страшно лишиться пространства, воздуха, вида на многоэтажки, права ехать в поезде, ходить по улицам, смотреть на человеческие лица, права видеть девушек, права еще раз оказаться дома, дух этот домашний втянуть в себя. Только щербатые хари, серые робы, беспросветная мразота вместо ума и сердца, злые хитрые правила блатной жизни, леской, паутиной через каждую секунду натянутые: только и хотят, чтобы ты случайно встрял, запутался, задергался, чтобы можно было тебя обобрать, напихать в рот тебе грязных тряпок и изнасиловать, обгадить и поржать над тобой, ухая, гнилозубо. Только так человек может справиться с унижением и уничтожением себя: передавая унижение дальше, вмазывая в дерьмо других; иначе его не отпустит.
Но за убийство легавого другая зона положена: пожизненное, особый режим. Специально придуманная так, чтобы человека до самоубийства довести – в камерах слепящий свет круглые сутки, воздуха в день полчаса, передачи раз в год, обыски постоянно, даже с сокамерниками свыкнуться не дают – перетряхивают все время, из камеры выход харей в пол, руками вверх, всегда бегом – а убить себя и никогда не позволят.
Вчера казалось, воля неуютная.
Сегодня от одной мысли о зоне жуть такая была, как будто пакетом душат.
Бежать. Сейчас на поезд прыгнуть, пока паспорт еще не внесли в розыск. Соскочить где-нибудь… Под Ярославлем или… Там в деревне потеряться. В каком-нибудь заброшенном доме. Или машиной надежней. Но дороже будет, кто его за так повезет? Надо… Надо одеться. Пока не поздно.
Снова увидел свою измазанную куртку; ее нельзя было. Что-нибудь другое, теплое… Зима. И продуктов с собой. Рюкзак… Есть у матери рюкзак?!
Но, пока рылся в шкафу, потерял веру. Прятаться не у кого. В деревнях все как на ладони, чужаков сразу видно. В городах без денег и двух дней не протянешь. А деньги на исходе уже.
Снова выглянул в окно: нет полицейских машин? Снова в интернет кинулся: Рочдельская, «Трехгорка», Хазин, убийство. Еще телефон! Могут ведь проследить по телефону? Могут, конечно. Запеленгуют в два счета. Выбросить его? Выключить, выбросить. Идиот, как о таком-то вчера не подумал?!
Вчера было все равно. А сегодня такое чувство было: что вылетел за рулем хлипкой китайской легковушки на гололеде за ограду Москвы-реки, нырнул в темную воду, электрику заклинило, двери заперты, и из решеток воздуховода хлынуло ледяное крошево. Вроде ты и живой еще, но уже и мертвый, льдом захлебнувшийся.
Не выбраться. Не сбежать.
Вдруг телефон затрясся в руках. Беззвучно; но от этого еще хлеще пришлось Илье по заголенным нервам.
МАМА.
Он пялился в экран. Хотелось сунуть телефон в мусорку или под воду, чтобы он там захлебнулся и замолчал. Подойти? Прошептать что-нибудь? На заседании. На встрече. У начальства. Суббота сегодня, какая встреча? Илья быстро-быстро попытался вспомнить Петин голос, Петино произношение. Было оно какое-то особое? Чуть вроде грассировал он, и голос у него был выше.
– Ма… – попробовал вхолостую Илья. – Я не могу сейчас.
Фальшак.
Телефон все дрожал, дрожал, как Петя вчера мелкой дрожью кончался, когда сосуды у него стали без горючего дрябнуть. И точно так же Илья стоял и смотрел, околдованный и бессильный, на это.
Прозвонил, сколько оператор позволял до автоответчика – и затих.
Илья вытер со лба клей; стал ровнять пульс. Если бы ответил – дал бы петуха. Вот что было страшно: поговорить за мертвеца с его матерью, покривляться тонким голосом. Вот тут бы не сорваться.
Прозвенел звоночек – у вас голосовое сообщение. Илья набрал номер, который было сказано. Сделал телевизор потише.
– Петюш, ты спишь еще? Набери, пожалуйста. Хотела поговорить с тобой. Папин день рождения обсудить. Ладно?
Голос у нее был совсем на материн не похож. Надтреснутый, заискивающий какой-то; стыдно было его таким слышать. Автоответчик спросил чеканно, не желает ли Илья повторить сообщение. Илья сказал, повторить. И еще. Осколки чего-то громадного, вдребезги разбитого кололись в этих ее коротких словах. У Суки с его матерью были совсем другие отношения, чем у Ильи со своей.
Илья отнял наконец телефон.
Все.
Только зачем ждать, пока за ним придут?
Илья потянулся, взял со стола пистолет.
Повертел, нашел, как обойму достать. Заряжен. Ну вот и хорошо. Оборвалась струнка в голове, зазвенела. Насрать на вас на всех. Пока.
Он разделся, пошел в душ. Включил там погорячей: вчера не мерз, а сегодня не мог согреться. Где-то наверху завыли трубы. Под ванной дежурил таракан, усы торчали. Ждал, пока Илья вышибет себе мозги, чтобы отвести его душу в ад.
Терся губкой тщательно. Двое суток поезда надо было отскрести, семь лет зоны и еще вчерашний целый день. Лилось слабо, толчками, как из вскрытой вены. Жалели там ему воды. Намекали ему. Не хотели, чтобы он чистеньким отходил.
Как там, на «макарове»? Передернул, патрон в патронник, с предохранителя снять – и все. Жесткий спуск у него, интересно? Было интересно так – отвлеченно, как будто это Ильи не очень касалось.
Стреляться все равно быстрей, чем вешаться и чем прыгать. Вешаться – пока задохнешься, и обделаешься уже, и намучаешься, и передумаешь, а рассказать об этом некому будет. А прыгать – с третьего? Ментов только смешить.
Случился раз на второй год, когда Илью на зоне в угол загнали. Он тогда ляпнул маме по телефону – мол, готов покончить с собой. Она сказала ему строго: чтоб не смел. Самоубийцы навсегда в ад идут, мы с тобой больше не встретимся. Ну и перетерпел, не смог матери ослушаться. А все равно не встретимся, ма, так и так.
Тер ребра, ползал бессмысленно взглядом по разлинованной на квадраты стене. Стало равнодушно. Решился уже, остается сделать.
Швы между кафелем были где темными от плесени, а где белыми.
Странно. Как будто мать стала отмывать, но не домыла и бросила. Может, так и было? Может, на этой ванной и перенапряглась. К его приезду убиралась, готовилась, и…
Илья застрял.
Мама.
А если он сейчас застрелится, что с ней будет? Кто ее заберет? Кто похоронит? Где? Что вообще делают с мертвыми, у которых своих живых нет? Зарывают на каком-нибудь муниципальном кладбище? Сжигают из экономии? А что вместо надгробия? Табличка на деревянной палке? Ничего?
Поддал еще горячей. Не спасло.
Нет, нельзя. Так нельзя с ней.
Вылез мокрый – полотенце забыл. Таракан отступился, спрятался до поры. Илья прошлепал в комнату, нашел у мамы чистое полотенце, обтерся. Похоронить ее сначала по-человечески, а потом что угодно.
В коридоре все еще пульсировало-пищало придавленно. Наверное, у соседей что-то, за стенкой.
Но на что хоронить, если все истрачено?
Он вернулся в кухню. Закрыл окно. Убрал пистолет с глаз. Заварил чаю из трех пакетиков. Сел. Ты же здесь, Сука! Я тебе глотку продырявил, но ты тут, твоя душа сидит в этом черном зеркале, ты тут забэкапился и смеешься надо мной! Смотришь на меня через глазок камеры, ждешь, пока прибегут из твоей сучьей корпорации меня давить!! Тут ты!
Илья сжал телефон в руках – чтобы задушить его. Нет. Нельзя душить и нельзя выбрасывать! Надо Петину маму успокоить сначала. Надо было что-то написать ей… Написать ей, чтобы она не звонила пока! Чтобы дала ему подумать. Но как ее об этом попросить?
Говори, Сука! Отвечай! Я от твоей памяти пароль подглядел: раз-два-три! Семь-восемь-девять! Детский идиотский пароль! Ты тут теперь у меня в клетке! Не дам тебе покоя, пока ты меня врать не научишь! Пока не выручишь меня, падла! Ты мне должен! Ты! Мне! Должен! И жидкой своей юшкой ничего не отдал!
Илья влез в Сучью с матерью переписку.
«Да. Я просто напился. Завтра созвонимся».
«Хорошо. Спокойной ночи».
Стал отматывать разговор вверх – туда, где вступал вместо Ильи сам Петя. О чем они там писали друг другу? За что можно уцепиться?
«Приедешь на выходных?»
«Мать! У меня служба без выходных! Сколько объяснять?!»
Так. Так. Еще говори.
«Ты ведь у нас уже сколько не был!»
«Сама знаешь, кому надо сказать спасибо!!»
Поднялся еще выше, еще дальше в прошлое. Петина мама писала старательно, расставляла все знаки препинания, и часто представлялась Пете заново, будто не понимала, что ее номер определяется.
«Петя, это мама. У тебя все кончилось? Тебе можно позвонить?»
«Мать! Я сам наберу, когда можно будет! Пока буковками!»
«Ладно. Напиши хотя бы Нине. Она места себе не находит».
«Сам разберусь!»
Что кончилось? Илья покрутил еще в прошедшее время, но ответов там никаких не нашел. Но бывало, кажется, так, что Петя переставал подходить к телефону и сам звонить не мог. Собрания? Или спецоперации? Он же оперативник, а не кабинетная крыса, так? Надо найти его переписку с другими ментами. Там подскажут правильные слова.
Выскочил в список контактов. Пустые чужие имена, фотографий нет, званий нет, людей за номерами не увидеть. Стал смотреть внимательней. Можно начальство найти: начальство по имени-отчеству дóлжно называть.
Таких сложносоставных людей у Суки в телефоне было немало. Но эти люди, видно, любили говорить своим голосом, да чтобы их слушали внимательно, а утруждать себя азбукой они не хотели. Алексеи Алексеевичи, Роберты Арамовичи, Михаилы Марковичи, Антоны Константиновичи – все были будто неграмотны.
Нашел только какого-то: «Игорь К. Работа».
Работа. А что теперь делать? У кого-то такая, у кого – кадилом махать. Вертухаи вон на зоне тоже работают: завтракают с семьей, бутерброды собирают, детей в макушку чмокают, садятся в «Ниву» и едут недалеко от дома сторожить упырей; а из залетных граждан – упырей лепить, потому что только упырий язык знают и других учить не хотят. Возвращаются, перекошенные, домой, накатывают водяры, гоняют жен и детей порют: призвание. Вот и Сука своей работе себя, наверное, целиком отдавал.
Игорь К. печатал телеграфным стилем: как будто из блиндажа радисту надиктовывал. Но диктовал так, чтобы враг, если перехватит, не разгадал: «Хазин закладка ок?», «Хазин! ДС говорит внедр через нед», «Хазин вызывают упр». Петя отвечал ему так же односложно: «Понял», «Принято».
Илья потер виски.
Надо было пытаться, пока она тревогу не подняла.
Стал набирать ей: «Ма, не переживай…», но осекся. Посмотрел, каким тоном Сука с ней сношался; исправил «Ма» на «Мать». Перечитал еще Петины рявканья, попробовал, как он.
«Мать! Работа. Срочно вызвали в управление. Дело какое-то. Не могу говорить!»
Было неловко втыкать в маму восклицательные знаки, но Петя так делал. Надо было за ним повторять, чтобы она подлога не заметила. Отправил и замер. Включил звук. «Упр» – это ведь управление? Все он правильно у Игоря К. разобрал? Или в чем-то ошибся? Сколько вообще мать про Петину работу знает?
Через долгую минуту тренькнуло.
«Ты ведь помнишь про отцовский юбилей??»
Вот оно. Голос она не признала бы, а текст спутала. В тексте дыхания нет.
«Все я помню».
«Жду твоего звонка!»
Сообщения от нее приходили не сразу, как будто шли медным кабелем из Америки. Медленно она писала. Мать у Ильи тоже набирала сообщения трудно, неуверенно, тыкалась в кнопки полуслепо.
Отцовский юбилей. Что же он сам не позвонит? Сюрприз для него готовят, что ли? Илья поискал в контактах «Папу». Не было папы там. Поискал «Отца». И отца не было. Как же это?
Умер, может? Может, это и не юбилей, а годовщина?
Стал бы сам Илья из памяти стирать номер своего умершего отца? Или оставил бы в телефонной книге? Оставить – глупо: номер ведь отдадут другому безвестному человеку, который на звонки покойному будет раздражаться, клясть и прежнего хозяина, и всех звонящих. Вон и могилы-то через пятьдесят лет свежим мертвецам пересдают, а уж телефон….
А стирать? Жестоко, что ли. Материн номер Илья точно не смог бы стереть, если б и было откуда. Но про отца – неясно. У Ильи отец умереть не мог, потому что он никогда и не жил.
Так. Сейчас Петина мама подождет немного, пока Сука на собрании. В управлении. Есть час, есть два, может. За эти два часа нужно исхитриться еще хоть день у нее отыграть.
Весь Вотсапп под завязку был забит кляузами от застуканных и посаженных на привязь нариков, которые, чтобы только не присесть самим, наперебой закладывали своих, друг друга, дилеров и родных. Тут можно было потеряться.
Поверх всех имен была пустая строка с лупой. Поиск. Илья эту строку начал заполнять: «Управ…» – понять, о чем там может пойти разговор.
Вывело его на какого-то Синицына.
Синицын писал: «За эту тему надо будет в управление еще заслать, учти». Хазин отвечал: «Не учи ученого». Была, значит, какая-то тема. Но к Илье это касательства не имело. Что еще там у Игоря? «Внедр.»
Ему откопало тут же несколько разговоров. Люди-инициалы слали Хазину свои шифрограммы. Но Илья не к ним обратился.
Нина.
«Я же объяснял, у меня внедрение, я не смогу…»
Кто эта Нина? Та базарная баба с «Трехгорки»?
Он открыл переписку: нескончаемую. Если бы телефонный экран эту переписку не отсекал с обоих концов, можно было бы, наверное, ее от земли до неба раскатать.
Скользнула фотография: с вытянутой руки девушка снимала себя сама. Нет, не та губастая, которую Петя золотыми котлами к себе притягивал. Точеная девчонка, каштановые волосы дерзким каре, круглые очки со стекляшками вместо линз, пальто нарочито великое, будто парус на ветру. Красивая, юная. Кажется непорченой какой-то; что такой с Петей Хазиным делать?
В добавление к восклицательным знакам в каждом Нинином сообщении были круглые рожицы, картиночки, человечки. Они от этого казались детскими, будто изрисованными цветным карандашом. Как открытки, которые Илья маме в садике делал ко всем штатным праздникам.
Мать у Суки телефоном пользовалась наивно, неуверенно. Товарищи по работе как в рацию в него буквами лаяли. Но Нина здесь была в своей стихии.
«Тебе нравится пальто? Не слишком весеннее?»
«Нормально».
«Дико хочется зиму проскочить, и чтобы уже весна. В общем, я его купила!»
Петя с ней вдруг тоже позволял себе – то желтый кружок с улыбкой, то какую-то придурковатую пиктограмму. Илью чуть кольнуло в зареберье. Странное было чувство: как будто подсматриваешь за целующимися.
Подожди, Нина. Не забалтывай.
Там про внедрение было что-то.
«То есть ты опять пропадешь? Даже говорить не сможешь?»
«Я буду писать. Там люди будут вокруг. Я же объяснял, что это такое! Все время будут. Писать смогу. Может, позвоню, если получится».
Внедрение. Опер косит под дилера или в группу заходит с легендой. Восьмерит под воров. Берет в разработку, чтобы ниточки все в грибнице выследить, ни одной случайно не порвать. Известная схема: те, кто реально сидел по двести двадцать восьмой, рассказывали.
Когда это было? Полгода назад. Родина может и снова назначить.
А что другие про это говорили? Поточнее бы, не бабьим диалектом.
Но к мужикам Илья возвратился не сразу, хоть и торопился. Не выдержал. Мотнул ленту вверх: есть там?.. Было. Нина зеркало фотографировала, а в зеркале была она сама – загорелая, худенькая, под ребра живот буквой Л втянут, пупок пуговичный, рукой обнимает грудь, прикрывает, но руки не хватает – запястье слишком тонкое, а там сок, там поспело все, там уже распирает, и коричневый сосок между пальцев глядит любопытно, как в замочную скважину; ключицы выступают, а где ключицы сходятся – там, вместо колье, почему-то квадратный штрих-код черной свежей татуировкой. Стоит вполоборота: поджарая, но выточенная ласково, без углов; глаз не отвести, и ни одной ее линии лучше не вычертить.
Хороша, сучка.
Прислала себя этой мрази, чтоб он по ней честнее скучал.
Захотелось еще ее найти, полюбоваться. Пульс разогнался. И идиотская ревность к Хазину резанула. Пока он бикс вокзальных к себе придавливал, было терпимо. Но эта как к нему попалась?
Еле отрезвел. За уши оттянул себя от замочной скважины. Смешно, конечно: завтрашний мертвец ко вчерашнему мертвецу живую женщину ревнует. Юную совсем женщину, весеннюю не к месту, будущую еще долго-долго жить, уже когда и от Пети, и от Ильи одна гниль останется.
Черт. Ладно. Нет времени.
Внедрение, и… Опять вышел на Синицына.
«С внедр все. Сворачивай!» – кричал тот.
«Шлю группу», – откликался Хазин через секунду.
Продолжали уже спустя несколько часов – спокойнее, размеренней, выдерживая паузы.
«Приняли груза двадцать, пять можно в сторону», – докладывал Синицын.
«Давай в сигнал про это, Вась», – перебивал Хазин.
«У меня не установлен».
«Так установи, балда!»
«Вотсапп шифруется же».
«Хер твой шифруется, все ключи на Лубянке давно».
Потом уже только о встречах договаривались: Петя опаздывал, Синицын психовал. Но груз больше всуе не поминали.
Можно пять в сторону. Приняли двадцать. Конфисковали, что ли? Что еще за секреты у этих могут быть?
Сигнал. Илья вышел в меню, пошерстил иконки. Петин телефон был замусорен самым невообразимым, набитые черт-те чем папки громоздились завалами. Фоном к ним шел внедорожник «Мазератти» на морском побережье. Еле отыскал какой-то Signal в тайнике, заложенный между аркадными игрушками.
Вошел. Тут не так тесно было, как в Вотсаппе, сюда не всех звали. Но Синицын здесь околачивался. Илья заглянул ему в нутро.
«Что твой абрек? Будет брать?»
«Не торопи, Вась! Серьезный чел, нельзя давить. Я скажу, когда».
«Долго не могу ждать. Че если фэсэры?»
«Не ссы».
Илья отстал от Синицына. Правильно он все про Петю понял? Конфискат налево толкал? Правильно. Он отодвинул телефон. Глотнул черного передержанного чая. Положил три ложки сахара, размешал. Сахар в холодном чае кружил как пурга за полярным кругом. Не желал таять.
Тут Сука Илью не разочаровал.
На это Илья и ловил его там, на «Трехгорке». И подловил.
Ничего в этом такого, что мусора у одних товар принимают, а другим сами спихивают. На зоне это тоже по двести двадцать восьмой рассказывали. Илья всегда слушал, как боком причастный. Должен же у людей и бизнес быть, как им на один оклад существовать? Только что контроль за оборотом наркотиков ментам отдали. До этого была отдельная служба: ФСКН. А до того, как ее переименовали в ФСКН, она называлась – ГНК. Госнаркоконтроль. Но уже тогда шутили: Госнаркокартель. Смешно.
Не Илье Петю судить.
Все одно, кончились его дела. И Илье недолго оставалось, чтобы свои завершить. Надо было им друг друга отпустить, а за кем какие секреты от прошлой жизни еще тащились – важно ли?
Или важно.
Подумал, закрутил сахарный вихрь против часовой. Переписка совсем недавняя была. Пара дней ей. Вряд ли все случилось уже. Груз, значит, у Синицына этого где-то. А деньги у абрека. Все ждут обмена. Но без Суки у них ничего не выйдет. А Сука лежит лицом в сточной воде.
Илья поискал в сообщениях еще «груз» и «товар». Какие-то старые перепалки выскакивали, находило в архивах «грузишь!» и «нетоварный», осадок всякий взбалтывало со дна Петиного телефона. Абрек, ясное дело, в контактах так зваться не мог. Илья тогда поехал алфавитом прочесывать все мусульманское. Многое вытянул, но в месседжах ничего подходящего не было.
Посмотрел в Вотсаппе, посмотрел в Сигнале.
Вяз в каких-то терках с чеченами, помогал освободить пузатых азербайджанцев, принятых в клубе с порошком. Но это все несвежие были истории, только по недоразумению или для хроники не удаленные. А нового, после того, как двадцать конфисковали, – ничего.
Попробовать?!
Надежда – идиотская, дерзкая – пухла в нем, набиралась соков.
Что Илье терять? Нечего. Кому долго жить – у того ставка высокая, а Илья ставил на кон всего-то день или два. Все, что было.
Договориться за Суку с абреком. Перехватить деньги – сколько там полагается за двадцать неизвестно чего. Товар пускай он с Синицына этого спрашивает. Соединить их, разберутся как-нибудь. Или перережут друг другу глотки.
Им эти деньги зачем? На «Мазератти» на какое-нибудь. Шмарам в топку закидывать, чтоб любовь не гасла. На море синее поехать. К дому добавить этаж. Шелуха. Илье нужнее: ему мать пристроить надо.
Можно ведь успеть. Место нормальное выкупить, гроб приличный, что там еще положено, спросить у тети Иры, опытного человека. Венки. Попросить за все прощения. Расцеловаться. И сгинуть. Если деньгами заливать, все успеть можно. Последнее волшебство в мире осталось – деньги.
Уже кончался завод, но провернули Илье ключ в спине, дали еще немножко куража побегать. Скажи ему неделю назад кто, что он от такого расклада окрылится, он бы такого человека зубами загрыз. Но вот: сейчас ходил по квартирке в полотенце на бедрах широким шагом, тер руки, пытался подумать, как сложить мозаику. Хотелось выручить маму.
– Ну давай, Сука, побазарь со мной! Кому ты хотел кумар свой сбагрить?
Молчит.
Илья разболтал упрямый сахар, вылил в себя весь стакан; и сахар расшевелил окостеневший ум. Придумал, как разговорить Петю.
«Приехал ты. На телефон все пишется».
Он перебрал приложения: отыскал диктофон. Если Хазин Илью просто из азарта писал – незнакомого взять в оборот, чтобы пятничный вечер зря не пропадал, то партнеров он и подавно должен был всех себе в диктофон упаковывать. Для подстраховки.
Последний файл был и вправду Илье посвящен.
Включил. Подождал.
– Помнишь меня? – спросил у Суки Илья. – Я семь лет назад уже раз приехал так с тобой.
Петя шептал что-то в ответ, но сейчас опять не было времени разбираться. Запись была четыре минуты. Кончалась, когда Сука нагадал пароль и хотел кому-то за помощью звонить; но срок истек.
Точно: файлов тут была длинная цепь. Стал слушать один за другим.
– О, Хазин. Прикрой-ка дверь. Все сделано?
– Да, Денис Сергеевич. Но ждем пока. Телятся.
– Ну, когда готово будет, ты не затягивай. Я там почти договорился на твой счет уже. Можешь красивый бокал готовить. Поглубже. Чтобы прочувствовать момент.
– Так точно!
– И еще просят немного натурой.
– Принято. Беру на себя.
– Лучше с собой бери. Там шашлычок намечается. Я введу в курс. Бывай. И не затягивай, понял?
– Всего доброго, Денис Сергеевич.
Оборвалось. Илья открыл следующий файл – все по номерам, ни один не назван.
– Ты, паскуда, не знаешь, что это? Я даже знаю! Это оборудование, уебок! Для гровинга оборудование! Что ты тут, помидоры голландские разводишь?! Да тут у тебя теплица целая! Хера себе! Свет… Эй, Костомаров! Живо опергруппу внутрь!
– Товарищ милиционер… Слышьте… Давайте это самое… Да че… Это я мяту… К чаю… Чего группу… Давайте пообщаемся…
– Ты мяту у меня всю сожрешь сейчас, говно! Усек ты?! Ты взятку мне, что ли, суешь?! Ты ах-херел?! Тебе еще за дачу взятки впаяют… Костомаров! Берем этих укурков и все тут опечатываем! И энтэвэшников давай сюда, пускай снимают улов!
Дальше было еще на час бубнежа, соплей, мычания – но слушать было ни к чему: не то дело. Скорей, что тут еще?! Еще, еще – допросы, очные ставки, разговоры за обедом. Убитый час.
– Мага, ты?
– Салам, товарищ милицанер.
– Ты когда расчехлишься?
– Э! Пиши в Телеграм. Кто такое по телефону говорит! Сам знаешь, все слушают. Или ты сам меня палишь?
– Ладно, сиди ровно. Напишу в твой Телеграм тебе.
Еще один мессенджер. Так поискал, сяк. Наконец нашел-таки в Телеграме Магомеда-дворника: «Короч пацаны говорят бабки будут через неделю по месту поговорим то старое больше не катит». Сообщение вчерашнее. Неделя.
Хазина это устраивало. Илью – нет.
Неделю сумеет он ломать комедию, кривлять из себя Суку, Петю Хазина?
Илья встал, прошелся: два шага в один конец коридора, два в другой.
Снова писк. В уши по капле. На натянутых нервах пиликало.
Взял аккуратно телефон, написал Петиной матери: «Срочно отправляют. Внедрение. Неделю без связи».
Она попыталась позвонить, но он не подошел. Мать бросила трубку посреди гудков – может, боялась при начальстве вызывать сына на разговор. Потом накарябала:
«Ты не можешь отказаться?»
«Нет, мать! Не могу! Это служба!» – это Илье непросто далось.
«Хотя бы эсэмэски сможешь писать?!»
Илья выдохнул. Нельзя сейчас перегнуть. Она чувствует что-то, да все она чувствует; пусть только думает, что эта тревога – из-за того, что грядет, а не от того, что уже стряслось. Осторожно, боясь спугнуть ее, вывел на экране: «смс – да».
«Черт бы проклял твою службу!»
Это – пожалуйста.
В первый раз за утро набрал полную грудь воздуха.
Умылся холодным. Поставил щи на огонь.
5
Удобно Пете жилось с телефоном.
Илье вот приходилось все в себе держать: Веру нагую в солнечном луче, снежки после школы, экспедицию с Серегой и Саньком в депо, пьяный концерт «Сплина» в «Б-2», подглядывание за девчонками в школьном туалете, последнюю поездку с мамой к бабушке в Омск, тарзанку на дачных прудах, травмпункт на Восьмое марта, когда картошку мясным ножом чистил, чтобы мать впечатлить, щенка, которого нельзя оказалось оставить, драки за гаражами, бутылку «Фанты» на полу, вкус Верин, вкус – вина и вины – Киры с филфака, которая на второй сентябрь позвала его к себе после универа пропущенную лекцию отфоткать, плейстейшн с парнями в новогодние праздники до утра, до опухоли мозга, санки до продуктового, ограбленную голубятню на Букинском, побег от матери из пансионата на дискотеку в Симферополе, строительный котлован с зыбучим песком, рассвет в четыре утра, белые шортики на белозубых девчонках в ультрафиолете, жирное зеленое море, крымское шампанское и крымское солнце, полынь и кипарисы, ночное купание в волнах, в шторм, и еще разного миллион.
Говорят: встает перед глазами. Но это неправда, конечно. Вспыхивает на мгновение. Удержать невозможно. Нельзя разглядеть в подробностях. Нельзя вспомнить, что за минуту до было, что после. Образы-обрывки, пятна на сетчатке, не картины, а ощущения. Где их видишь на самом деле? Где они вообще? И куда тают?
Илья тренировал дряблый человеческий мозг, отвернувшись лицом к стене на своих нарах. Тормошил его, выуживал из складок провалившиеся детальки. Стучал себе по крышке, чтобы в цветах показывали и без шума. Мозг старался: сначала был как засохший пластилин, но Илья на него дышал, разминал, и мозг делался помягче, потеплей. Перед Ильей всегда была стена, покрашенная масляной краской в зеленый цвет. Хороший был экран. Но нормально все равно это телевидение работало только по ночам. Так мощно иной раз шарашило, что потом еще все утро нужно было в себя приходить. Сны отлично прошлое показывают. До слез.
У Суки все в телефоне хранилось; все в высокой четкости, все в максимальной яркости. Фотографии и видео. Память у Суки была – 128 гигабайт. Жизнь умещалась целиком, и еще оставалось место для музыки. Думаешь, ты свое прошлое помнишь, а помнишь на самом деле снимки, которые и так сохранены в мобильнике.
За семь лет телефоны и зорче стали, и памятливей – в шестнадцать раз. Теперь телефон такое в людях видел, что человек бы не разглядел. Можно стало вернуться, проверить себя. Удобно Пете: не надо лишним забивать голову. Удобно и Илье: можно чужие сны смотреть.
В фотографии зашел за Ниной.
Проскочил какие-то отчеты с места аварий, натюрморты из кальянных, групповые снимки с мордатыми мужиками в штатском, темные автопортреты со смазанными биксами, патриотические мемы, синяки на задержанных, фотки в «Мазератти», так сделанные, чтобы не был виден автосалон.
Среди них нашлись – отправленные, наверное, самой Ниной – дурашливые картинки: тут она губы дует, тут жмет к себе кота, потом с каким-то ребенком, совсем не похожим на нее. Илья задерживался на них – но проматывал дальше. Искал другого. Хотел еще ключиц, еще впадину уголком под ребрами аркой, губ отверстых водоворота, надеялся, что рука поднимется, откроет ему скрытое. Шалости, и дерзости, и испуга от собственной дерзости, и нахальства, с которым предлагают себя, и томного топкого ожидания нахального ответа. Глаз и губ. Того, чем не любоваться можно, а в чем можно пропасть и забыть себя. Еще такого.
Это чужое, не Ильи, но и пускай чужое. Своего нет и не будет.
Остается что? Остается – так.
Вышел в папку с видео. Отмотал в прошлое. Зацепился за ее лицо. Открыл – с отдыха. С какого-то моря. Плей.
Отмерзли волны, стал шуршать в динамике ветер, ожила под ветром осока высокая вдоль широкой белопесчаной полосы. Прыгнула закатная панорама. В кадре оказалась – Нина. Волосы сплетались, летели на этом ветру, она убирала их с лица, смеялась. Сидели на пляже, на полотенцах.
Татуировки у нее еще не было.
– Пойдем купаться? – спрашивал ее своим высоким голосом невидимый Петя.
– Если ты пойдешь, я пойду, – отвечала Нина.
– А телефон тут бросить?
– Ну и что. Меньше сидеть в нем будешь.
– У меня там вся работа!
– У тебя вот тут вся работа, – Нина тянулась куда-то пальчиком – к Петиному лбу. – В голове! Всегда! А ты сейчас на отдыхе! В от-пус-ке!
Вскакивала – песок фонтаном – и убегала в взволнованную воду: ярко-желтый купальник на почти черной от солнца коже. Петя не мог оторваться от нее – снимал, как она, визжа, упрямо входит в брызги – потом телефон падал навзничь, смотрел долго, как паралитик, в алые облака, записывал Петино: «Я к тебе!», и потом – смех. Оба смеялись.
Хорошо, что Пети не было видно тут.
Еще вечерний разговор – из какого-то кафе. Полосатые восточные подушки, кальянный дым, музыка нудная, коктейльные бокалы, в них что-то с апельсинами и взбитыми сливками. Нина – в глазах бумажные фонарики – облизывает сливки с трубочки, смотрит в глаза, спрашивает:





