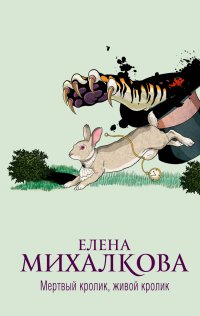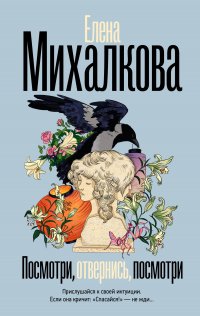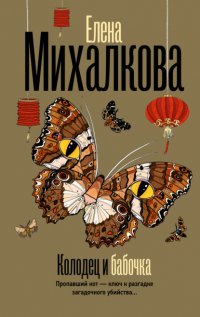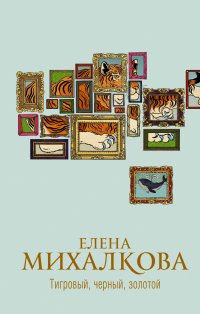
Читать онлайн Тигровый, черный, золотой бесплатно
- Все книги автора: Елена Михалкова
© Михалкова Е., 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Глава 1
Девушка начала со лжи. По телефону она заверила, что речь пойдет о поисках пропавшего человека.
К чашке кофе, которую Сергей Бабкин поставил перед ней, она так и не притронулась, хотя до этого сдержанно кивнула в ответ на вопрос Илюшина.
Строгое платье до щиколоток, синий жакет. Скрученная в низкий тяжелый узел на затылке темно-каштановая коса, легчайшие завитки выбившихся волос ореолом вокруг бледного лица. Под густыми бровями миндалевидные черные глаза. Перед ними сидело живое воплощение принцессы Жасмин.
– Картины? – недоверчиво переспросил Илюшин. Бабкин покосился на него: Макара тоже поразили красота и требовательность их гостьи.
– Два полотна одинакового размера, сто на восемьдесят. – Она сидела неподвижно, сложив руки на коленях. – Исчезли из музея в ночь после выставки.
– Мы специализируемся на поиске пропавших людей. – Макар говорил мягко, но Сергей знал: Илюшин не выносит лгущих клиентов. – Почему вы пришли к нам, Анаит… простите, как ваше отчество?
– Анаит Робертовна, но лучше просто Анаит. – Упрямое движение маленького подбородка. – Вас хочет нанять художник, автор картин. Я выполняю его поручение.
«А спеси у тебя, милая, столько, будто ты эти поручения раздаешь».
– Расскажу вам детали… – начала девушка.
Илюшин отрицательно покачал головой.
– Мы специализируемся на поиске пропавших людей, – повторил он.
– Я понимаю. Вопрос гонорара обсуждаем!
– Боюсь, здесь нечего обсуждать…
– Игорь Матвеевич согласен на коэффициент «два» к вашему обычному вознаграждению…
– Не в этом дело…
– Выставка проходила с пятницы по воскресенье в Музее провинциального искусства, – упрямо начала она, будто не слыша. – Под нее были отведены четыре зала, эти картины висели в первом. Когда все закончилось, их сняли, упаковали и спустили в хранилище, из которого украли в ту же ночь…
– Вы напрасно тратите время на эти подробности. – Илюшин поднялся. – Это нужно рассказывать следователю, который ведет дело.
– От официального расследования нет никакого результата! – Она продолжала сидеть, словно не понимая, что ее выпроваживают.
– Мы ничем не можем помочь.
– Но послушайте!..
– Простите, мы вынуждены отказаться. – Илюшин сделал шаг к двери, и это было уже недвусмысленным завершением разговора. – Если картины действительно украдены, их поиском занимаются…
Он осекся. Чтобы Макар замолчал на полуслове, требовалась веская причина. Пару раз в своей жизни Сергей Бабкин думал – с некоторой обреченностью, – что, даже если он свернет напарнику голову, тот все равно продолжит вещать. Поэтому он насторожился и уставился на Илюшина. Первая его мысль была о сердечном приступе.
Однако Макар за сердце не хватался и на бок не заваливался. Он нахмурился, и только тогда Бабкин догадался перевести взгляд на девушку.
Она пыталась не расплакаться. В глазах набухли слезы, бледное лицо расцвело алыми пятнами. Она быстро сморгнула, и слезы хлынули ручьем. Восточная ее горделивая красота размылась, будто акварель, на которую плеснули водой, и перед ними оказалась несчастная, потерявшая самообладание девочка, совсем юная и растерянная.
Бабкин при виде плачущей женщины испытывал ощущение, очень похожее на тянущую зубную боль в сердце.
Илюшин же при виде плачущей женщины раздражался, потому что подозревал нехитрую манипуляцию. Но сейчас интуиция подсказывала, что никто не пытается таким образом добиться от них желаемого; более того, он запоздало понял, что все это время красавица держалась из последних сил, а высокомерной выглядела из-за скованности и смущения.
Чувство раскаяния Илюшину было чуждо. Однако он стремился восстановить собственный душевный комфорт, а для этого требовалось, чтобы бедный ребенок – теперь Макару казалось, что ей от силы лет восемнадцать, – перестал рыдать.
Поэтому оба забегали вокруг нее. Сергей при этом невнятно гудел, а Илюшин ворковал что-то утешительное. Однако конец слезам положило не их хлопотание, а то, что Бабкин в конце концов отдавил Илюшину ногу и Макар приглушенно взвыл.
– …с грацией молодого бегемота, – пробормотал он.
– А ты не стой под стрелой! – огрызнулся уязвленный Сергей. – А то мечешься, понимаешь, как бабочка-капустница!
Девушка сквозь слезы уставилась на них, и оба спохватились, что привычная перепалка происходит на глазах у посторонних.
– Вы почему кофе не пьете? – спросил Макар.
– Я сегодня уже три чашки выпила! – всхлипнула Анаит. – Не могу больше.
Бабкин сунул ей коробку с салфетками. Макар придвинул стул и сел рядом.
– Хорошо, с кофе разобрались. – Он говорил с таким видом, словно вопрос о напитке всерьез его беспокоил. – Теперь объясните, что с картинами. Ну, украли. Полиция найдет. В чем сложность? Это ведь не Ренуар?
Анаит покачала головой:
– Работы исчезли в ночь с воскресенья на понедельник, сегодня пятница. Никто не ищет. Сотрудник полиции приходил в музей, расспрашивал. Но больше ничего не произошло. Ах да, посмотрели видео с камеры…
– И что на видео? – заинтересовался Бабкин.
– Какой-то человек выносит упакованные картины с черного хода около шести утра, грузит в «Газель» и уезжает. Я сама не видела запись, мне рассказали в музее… Номера заляпаны грязью, а сам человек в таком, знаете… – Она провела ладонью перед лицом.
– Балаклава.
Девушка вытерла слезы и попыталась напустить на себя прежний независимый вид.
– А что с охраной? Почему сигнализация не сработала? – спросил Бабкин.
– Ее включают, только когда нет сторожа. А сторож был. Спал и ничего не слышал…
Анаит, кажется, снова готовилась заплакать. Но при этом встала и принялась озираться, ища сумочку. Щеки ее покраснели уже не от слез, а от стыда. Илюшин ясно видел, что ей неловко за свою несдержанность и она не собирается пользоваться их растерянностью, а хочет только сбежать, раз ей отказали.
Он взглянул на Сергея и едва не расхохотался. Бабкин выглядел как медведь, сожравший несвежего тюленя. На мрачной его физиономии были написаны сожаление о содеянном и тоска при мысли о том, какая расплата за это предстоит.
Иными словами, напарник уже все для себя решил.
«Ну, картины так картины», – пожал мысленно плечами Макар Илюшин.
В конце концов, он отказал девице в основном из-за неверно взятого ею тона и бессмысленного вранья. Дел у них сейчас не было. За предыдущее им заплатили в двадцать раз меньше, чем стоило расследование. Правда, они с Сергеем получили моральное удовлетворение[1]. Но «коэффициент», о котором упомянула барышня, пришелся бы очень кстати.
У него была и еще одна причина взяться именно за это дело.
– Присядьте, Анаит, – со вздохом сказал он. – Сережа, завари нам, пожалуйста, черный чай. Я надеюсь, чай с лимоном вы будете?
Девушка взглянула на Макара. Заплаканное лицо осветилось неуверенной надеждой.
– И булочкой, – пробасил Бабкин, который внезапно обрадовался непонятно чему.
* * *
Анаит Давоян работала ни больше ни меньше как советником по культуре у предпринимателя Игоря Бурмистрова.
– У Игоря Матвеевича есть и личный секретарь, – пояснила она. – В мою сферу обязанностей входит только поддержка его художественной деятельности.
Игорь Матвеевич для заработка продавал сантехнику, а для души писал картины. Вот уже год он состоял членом Имперского союза художников. Это творческое объединение живописцев и графиков проводило регулярные выставки, арендуя залы музеев или других подходящих площадок.
Музей провинциального искусства, по словам Анаит, был одним из постоянных партнеров Имперского союза. В этот раз для выставки Бурмистров предложил два своих лучших полотна, над которыми он работал последние месяцы. Спустя пару недель картинам предстояло отправиться в Амстердам, в одну из крупных местных галерей.
– Это большое событие для Игоря Матвеевича, – говорила Анаит. – Он гордился тем, что из всех членов союза Ясинский выбрал именно его работы.
Бабкин записал новое имя.
– Адам Брониславович Ясинский – глава союза, – пояснила Анаит. – Фактически Ясинский и организовал его семь или восемь лет назад.
– Он художник?
– Нет. Я знаю только, что он прежде работал в Министерстве культуры. Возглавлял какой-то фонд или отдел.
Сергей быстро записывал: «Музей. Охранник. Камеры. Машина». Сперва побеседовать с охранником. Крепко же тот спал, если похититель пробрался в хранилище, открыл его – каким образом, кстати? – и преспокойно вытащил картины, причем проделал это дважды. Феерической наглостью отдавало это предприятие, наглостью и разгильдяйством.
В принципе, думал он, идеальное сочетание для преступления. Взять хоть ограбление музея Изабеллы Стюарт Гарднер. Общая цена похищенного – больше пятисот миллионов долларов, и с девяностого года ни намека на личности преступников, равно как и на картины. Правда, ФБР называло имена похитителей, но что толку, если полотна так и не были возвращены.
Два злоумышленника.
Поразительная простота сценария преступления.
И разгильдяйство, сделавшее возможным его осуществление.
– Сколько могут стоить украденные картины? – спросил Макар.
Анаит растерялась. Не совсем уверенно она ответила, что это зависит от многих факторов, сам художник не оценивал свои работы, возможно, выставка в Амстердаме многое прояснила бы…
– Ну, хоть порядок цен? – вмешался Бабкин.
Ему хотелось понимать, ради чего весь сыр-бор. Но Анаит, собравшись, объяснила, что определить это не представляется возможным. Картины имеют огромную ценность для Бурмистрова, однако в денежный эквивалент он ее не переводил.
– Можно увидеть сами работы? – попросил Илюшин.
Анаит вынула из сумки две фотографии альбомного формата и без слов положила на стол. Бабкин подошел, уставился на верхний лист.
– Это яичница с помидорами? – с неподдельным интересом спросил Макар.
– Работа называется «Бенгальские тигры», – сдержанно ответила Анаит.
Бабкин издал горловой звук, который свидетельствовал о сильном воздействии искусства на его неокрепшую душу. Илюшин благоговейно помолчал.
– Тигры… – повторил он наконец с неопределенной интонацией. – Что ж. Допустим. А это…
Он не без трепета отодвинул лист, и открылась фотография второй картины.
– Ой, котик! – обрадовался Макар.
Бабкин задавил рвавшийся наружу звук и просто смотрел во все глаза на котика.
– Игорь Матвеевич назвал эту работу «Владыка мира», – сказала Анаит. – На ней изображен снежный барс.
Владыка был плох. Тело его равномерно покрывали сине-зеленые пятна.
– Болеет котик, – с жалостью констатировал Илюшин.
– Это окрас! – возразила Анаит. – Колористическое решение свидетельствует о переосмыслении традиционных образов и уходе в авангардизм для усиления изобразительного воздействия полотна.
Воздействие полотна невозможно было отрицать. Бабкин подумал, что нужно увеличить сумму ежемесячного взноса в приют для бездомных кошек. Илюшин вспомнил, что у него в холодильнике заплесневел кусок голландского сыра.
Обе картины были оформлены в помпезные рамы: старое золото, обильная вычурная лепнина. Финтифлюшка на загогулине, как выразился позже Бабкин.
Именно эти загогулины и подтолкнули Илюшина к окончательному решению. Он взглянул на Анаит и сообщил, что они согласны взяться за расследование. Оплата составит…
И назвал такую сумму, что Бабкин пошел пятнами и стал неотличим от владыки мира.
Тем временем Илюшин невозмутимо присовокупил, что половина этой суммы в любом случае останется у них вне зависимости от исхода дела.
Только на таких условиях они берутся за поиски тигров и, господи прости, барса. «Господи прости» Макар не произнес вслух, однако оно повисло в воздухе.
Анаит не смутилась. Ответила, что этот вопрос она должна согласовать с Игорем Матвеевичем, и вышла позвонить на лестничную клетку.
– Ты барса собрался искать или похищенную английскую королеву? – тихо спросил Бабкин. – Сантехнический магнат не раскошелится на такие деньжищи.
Илюшин только усмехнулся в ответ.
Пять минут спустя Анаит вернулась и сообщила, что получила разрешение от Бурмистрова подписать договор на предложенных условиях.
* * *
– Пора провести рекогносцировку, – сказал Макар и спрыгнул с подоконника, на котором сидел, рассматривая с двадцать пятого этажа свой двор.
– Ты поедешь со мной в музей? – удивился Сергей.
– Нет, в музей ты отправишься один. А я планирую встретиться с господином Ясинским. Мне очень хочется узнать, во сколько глава Имперского союза оценивает пропавшие картины.
Час спустя Сергей Бабкин подходил к скромному двухэтажному зданию музея в переулках за Бульварным кольцом, а Макар Илюшин – к высокому дому недалеко от парка.
Адам Брониславович Ясинский встретил его на лестничной клетке. Илюшин с первого взгляда определил, что Ясинский – не из тех людей, которые выбегают к гостям, и сделал закономерный вывод, что Адам Брониславович в нем, частном сыщике, чрезвычайно заинтересован.
Вывод этот подтвердился сразу же.
– Есть какие-то новости? – спросил Ясинский, и взгляд его выпуклых черных глаз сделался умоляющим. – Здравствуйте!
Илюшин с удивлением ответил, что об исчезновении картин он узнал только два часа назад.
– Да-да, конечно, конечно… Прошу вас, проходите.
Ясинский суетился и нервничал. Илюшин вспомнил тигров с барсом и озадачился еще больше.
– Вот сюда проходите, вот сюда… Простите, забыл, как вас по имени-отчеству?
– Макар Андреевич.
– Очень рад, Макар Андреевич!
Илюшина провели в светлую, с большим вкусом обставленную гостиную. Книги, картины, китайские вазы… Взгляд Макара остановился на бронзовой скульптуре: мальчик, заносящий острогу над рыбой. Тонкий, легкий, с мускулистыми ногами. Скульптор поймал и движение – за мгновение перед ударом, и странно-неподвижное выражение лица, на котором жили одни глаза.
Молчаливая домработница поставила перед ним чай и тарталетки, наполненные икрой.
– Взял на себя смелость… – бормотал Ясинский. – Надеюсь, не откажетесь…
На свету Макар разглядел его как следует.
Ясинский был благообразен и, пожалуй, даже величественен. Среднего роста, он казался выше из-за прекрасной осанки. Умные темные глаза смотрели на собеседника с печальным пониманием. Голос у него, когда он успокоился, приобрел мягкую звучность, словно Ясинский привык проповедовать с амвона; к этой ассоциации подталкивала и растительность на его лице: усы и светло-русая, густая, вьющаяся борода.
– Прошу вас, угощайтесь, не обращайте на меня внимания, – попросил он. – Мне кусок в горло не лезет. Я чувствую себя виноватым в том, что случилось, хотя формально моей вины и нет.
– Адам Брониславович, расскажите, пожалуйста, о самом художнике.
– О Бурмистрове?
Илюшину показалось, что взгляд Ясинского метнулся в сторону.
– Да, о нем. Что он за фигура?
И тут Адам Брониславович сделался очень осторожен. Он рассказывал, словно нащупывал тропинку в топком болоте. «Да, непрофессиональный художник… Не имеет соответствующего образования. Мы, знаете, объединяем любителей, самородков, так сказать. В нашем союзе сложился уникальный уровень, мы в достаточной степени отошли от затертого классицизма и в то же время в своем новаторстве не пересекли границу, за которой начинается самолюбование и пустые поиски… Мы остались со своим зрителем, это один из главных наших постулатов, кроме очевидного – свободы самовыражения, конечно… И у Игоря Матвеевича в высшей степени имеется эта свобода…»
Илюшин ничего не понял. В чем и признался, глядя в печальные черные глаза Ясинского.
Тот с сожалением развел руками.
– У Бурмистрова есть враги в вашей среде? – зашел Макар с другой стороны.
– Ни в коем случае! – вскинулся тот. – Что вы, что вы! Мы как раз и отличаемся теплейшими отношениями внутри коллектива. Изначально я строил на этом свою деятельность. Поддержка, тепло, взаимопомощь… Видите ли, художники – исключительно уязвимые создания, по сути своей это дети, талантливые дети.
Одно из таких уязвимых созданий не моргнув глазом согласилось заплатить им несусветный гонорар.
– Значит, врагов нет. Недоброжелатели? Завистники?
– Категорически отрицаю! Никто из наших…
– А что насчет Амстердама? – начал Макар и вновь заметил, как Ясинский дрогнул. – Отчего вы выбрали именно картины Бурмистрова?
– За свежесть и незашоренность взгляда. Это как раз тот уровень, с которым не стыдно выходить на западный рынок – а покупатели там, поверьте, оч-чень переборчивы, избалованы, я бы даже сказал. Галеристы постоянно ищут что-то новое, они жаждут удивлять. С этой точки зрения работы Бурмистрова идеальны. – Он с раздражением отмахнулся от домработницы, попытавшейся налить ему чай. – Невозможно выразить, как много потерял союз, когда картины исчезли. Я рассматриваю это как личную утрату.
– Во сколько бы вы их оценили, Адам Брониславович?
– Не могу сказать. – Ясинский покачал головой. – Поездка в Амстердам нужна в том числе для того, чтобы мы могли ориентироваться по рынку европейских цен. Я вас умоляю, сделайте все возможное, чтобы найти полотна. Если вопрос в средствах…
Он вскочил с таким видом, будто собирался выдать частному сыщику пачку наличных. Илюшин не удивился бы, если бы так и случилось. Макар заверил, что вопрос не в деньгах и они с напарником сделают все, что только в их силах.
– Расскажите, Адам Брониславович, о тех, кто участвовал в прошедшей выставке…
От Ясинского Илюшин уходил недовольный. Он не узнал стоимости картин. Ничего не выяснил об отношениях внутри союза. Макар попытался нажать на Ясинского в попытке обозначить ценник «Барса» и «Тигров» хотя бы на российском рынке, но Адам Брониславович оказался увертлив, как угорь. «Я не искусствовед, мой дорогой, поймите, я организатор! Моя работа, по сути, техническая. Обеспечение нормального функционирования всех моих подопечных, возможность им выставляться и не думать о том, где искать площадку, как ее оплачивать… Я могу помочь только одним: у меня есть знакомый искусствовед, прекраснейший человек, профессионал высочайшего класса. Дьячков Родион Натанович. Вот его телефон. Позвоните, скажите, что вы от меня. Надеюсь, он сумеет для вас что-нибудь прояснить!»
Илюшин записал имена художников, которые выставлялись вместе с Бурмистровым. Ясинский пообещал обзвонить их и предупредить о визите частного сыщика.
* * *
Сергею Бабкину нечасто доводилось бывать в музеях. Правда, время от времени Маша вытаскивала его на большие выставки, твердя, что непременно нужно увидеть Серова или прерафаэлитов… Сергей ходил, но удовольствие получал не от созерцания картин, а от компании жены. Больше всего в культпоходе ему нравилось в завершение программы ритуально выпивать с ней в музейном кафетерии чашку кофе, к которому прилагалось свежее пирожное… Допустим, эклер. С эклером мероприятие обретало какой-то смысл.
Музей провинциального искусства оправдал его худшие ожидания.
Во-первых, охранная система была липовая. Да, щурили красные глазки камеры по углам залов, но все это было чистой воды бутафорией. Запись велась только с двух точек: над главным входом и над запасным, через который и были вынесены полотна. Однако во всеобщем бардаке запись в ночь кражи с главного входа исчезла.
Во-вторых, в хранилище, куда развесчики приносили после выставки все картины и упаковывали для отправки художникам, вела хлипкая дверь с навесным замочком. Дверь можно было выбить с одного удара, что, собственно, и проделал преступник. Теперь висела она, стыдливо прислоненная к стене, на одной петле. А приспособить обратно, по словам сотрудников, ее никто не мог, потому что – и это был третий неприятный сюрприз – охранник исчез.
– Тот самый, который работал в ночь кражи? – хмуро спросил Бабкин.
Пожилая женщина, сотрудница музея, сопровождавшая его, держалась в некотором отдалении. Вид у нее был такой, словно она ждала, что он вот-вот начнет крушить мебель. «Мышь музейная», – страдальчески думал Бабкин. «Вахлак!» – страдальчески думала мышь.
– Да, Николай Николаевич следил за порядком в ночь с воскресенья на понедельник, – признала она.
– И теперь его нет?
– К сожалению, не вышел сегодня утром. Мы не можем с ним связаться, он не отвечает на звонки. Возможно, с ним что-то произошло… – в голосе ее звучало сомнение.
– Мне нужно взглянуть на его документы и посмотреть запись с камеры.
Бабкин зашел за стойку охранника, проверил содержимое ящиков. Ключи, жвачки, сигареты… Альбом Гогена в нераспечатанной целлофановой обложке и зачитанная до дыр книга «Пособие по выживанию». Наведался в каморку, которая носила название «Комната отдыха», и бесцеремонно выгнал оттуда ее обитателя – толстощекого мужчину лет пятидесяти с поросячьими глазками.
Стул, стол, продавленный топчан. На батарее за шторой – пара носков. Угол комнатки был забит старыми журналами. Бабкин вытащил наугад пару из них, и в дверной проем, как Луна, выплыла сонная физиономия охранника.
– Мое это, – пробормотал он. – Там это. Кроссворды.
Музейную мышь сменила молодая женщина по имени Ксения, разговорчивая и насмешливая. Мышь, передав ей сыщика, облегченно пискнула и исчезла. Бабкин бы тоже облегченно пискнул, но вынужден был держать лицо.
Пока искали запись, он связался со следователем, который вел дело. Следователь что-то сонно и вяло бормотал, ничего не помнил и даже толком не знал, о каких картинах идет речь.
«С этим каши не сваришь», – сказал себе Бабкин. Кажется, прошлое дело вычерпало весь их запас везения.
Он внимательно отсмотрел все, что запечатлела камера в ночь с воскресенья на понедельник. До шести утра все было тихо. Темнота, темнота, темнота. Редкие прохожие. Такие же редкие машины, в основном такси: промелькнули и исчезли. В шесть часов четырнадцать минут к заднему входу подъехала грязная «Газель» и встала, перегородив узкий переулок. С водительского сиденья выпрыгнул мужчина в шапке-балаклаве, враскачку подошел к двери, потянул за ручку – и исчез внутри.
Сергей прокрутил этот отрывок четыре раза. Никаких ключей в руках у вора он не разглядел. Следовательно, дверь была не заперта…
– Вот это мощно, – сказал он, не веря самому себе. – Ксения, в вашей организации такое в порядке вещей?
– Нет, мы тоже удивились. Николай Николаевич клянется, что перед сном сделал обход и все запер.
Сергей сделал копию с документов охранника, которого в музее упорно называли сторожем. Вакулин Николай Николаевич, пятьдесят четвертого года рождения, прописан в Мытищах… Бабкин набрал указанный номер телефона, но Вакулин был недоступен.
Мужчина в балаклаве снова появился перед камерой спустя двенадцать минут. «Знал, куда идти и что брать», – пометил Бабкин. Он первым делом проверил, сколько занимает путь от входа до подвала, где хранились картины. Четыре минуты, плюс выбить дверь – допустим, еще одна. И восемь минут на то, чтобы отыскать нужную картину среди других полотен и вытащить наружу.
Кстати, как вор ее нашел?
– Картины упакованы, но все они подписаны, – объяснила Ксения. – Подписывала я сама.
Сергей спросил у Ксении, сколько весит «Владыка мира», и услышал в ответ, что как человек, занимавшийся развеской картин, она может ответить ему с большой долей уверенности: чуть меньше двадцати килограммов, из которых основной вес приходится на массивную раму.
Выходило, что либо сторож помогал вору, либо тот физически достаточно силен, чтобы в одиночку поднять по лестнице и пронести по коридору тяжелую картину, да еще и в упаковке.
На записи с камеры было видно, что со своей ношей похититель обращался без всякого почтения. Прислонил к стене, открыл задние дверцы машины, подхватил картину – и довольно небрежно забросил внутрь.
Затем мужчина в балаклаве вернулся в музей. На второй раз ему потребовалось чуть больше времени: он показался снаружи только через шестнадцать минут.
Бабкин увеличил изображение. Но, как ни старался, не смог разглядеть никого на пассажирском сиденье. Вор действовал в одиночку.
– Записи предыдущих суток остались? – спросил Сергей. – Хотя бы тех, что накануне кражи?
Ксения покачала головой.
– Что вы! Чудо, что эта сохранилась. Когда я поняла, что «Тигры» и «Владыка» пропали, сразу побежала к сторожу и велела сделать копию. Ну, в итоге пришлось самой корпеть… наш Николай Николаевич человек хороший, но с техникой не дружит.
«У хорошего человека обворовали им же охраняемый объект прямо под носом», – подумал Сергей, однако ничего не сказал. Только спросил, нет ли у Ксении предположений, где может быть сторож.
– Дома? – неуверенно предположила та.
Бабкин покивал. Он выпытал у нее все, что Вакулин когда-либо упоминал о своей жизни, и вернулся на шаг назад.
– Ксения, как вы обнаружили, что картины исчезли? – Заметив недоумение в ее глазах, он пояснил: – Я ведь ничего не понимаю в организации процесса. Можете детально рассказать, начиная с окончания выставки? Картины сразу унесли в хранилище? И кто это сделал?
– Это входит в мои обязанности, – сказала девушка. – Я упаковываю работы, подписываю, переношу их вниз, как правило, безжалостно эксплуатируя Николая Николаевича в роли грузчика, он всегда готов помочь, за это мы его и ценим… В этот раз он был занят, так что я осталась одна. Но меня выручил муж Майи Куприяновой. Он приехал со своей женой отметить окончание выставки. Она тоже художница. Андрей – святой человек! Пока все… э-э-э… отмечали, он пришел мне на помощь. Мы с ним вдвоем перетаскали все вниз довольно быстро.
Бабкин окинул взглядом хрупкую фигурку в брюках и блузке с бантом и вспомнил о весе картин Бурмистрова:
– Разве у вас не должно быть специального человека для такой тяжелой работы?
– Должен, – подтвердила Ксения. – Как только для него выделят дополнительный оклад, он появится. А пока приходится справляться самим. Вы вот, я вижу, сразу нашего сторожа начали подозревать! А мы на него молимся. Он добрый и отзывчивый человек, о чем ни попросишь – все исполняет! Фактически он у нас здесь за разнорабочего.
– А второй охранник?
– Петрищев? Нет, от него помощи не дождешься. Его максимум физической деятельности – кроссворды разгадывать.
– Что происходит с картинами после того, как вы их упаковали? Сколько они могут оставаться в хранилище?
Она засмеялась:
– Ой, долго! Вообще-то у нас есть договоренность со всеми художниками, что работы должны быть разобраны в течение трех дней. Подвал-то не безразмерный! Но это правило часто нарушается. Кое-кто вообще забывает про свои картины. Но есть и те, кто сразу после выставки их увозит.
– Как именно?
Ксения пожала плечами:
– В обычном такси, никаких сложностей. Скажем, Майя Куприянова очень дисциплинированная. В этот раз у нее, по-моему, остались только две небольшие пастели, и она сразу забрала их с собой… А Борис Касатый после выставки захватил из хранилища все пять картин своего друга Ломовцева, потому что отправился к нему в гости. Мы всегда благодарны за такие поступки. Это значительно облегчает мою работу.
– А когда вы обнаружили исчезновение картин Бурмистрова?
– На следующее утро, чуть позже девяти, – не задумываясь, сказала Ксения. – Я пришла на работу в половине девятого, спустилась в подвал. У нас был заказан транспорт, чтобы отвезти некоторым художникам их картины…
– Подождите! Вы только что сказали, что они сами должны все забрать.
– Это зависит от договора с Ясинским. Попросту говоря, есть художники, у которых имеются деньги, чтобы мы все упаковали и отправили по адресу.
Бабкин понимающе кивнул. Бурмистров, разумеется, был из таких.
– Кому вы должны были отправить картины?
– Ульяшину, Бурмистрову, Алистратову, Юханцевой, – перечислила Ксения. – Все остальные разбирают свои работы сами. Я сначала решила заняться Бурмистровым…
– Почему?
– Даже не знаю… Впрочем, нет, знаю! Колесников – это тот, кто мне помогал, – самыми большими картинами занимался в последнюю очередь, так что бурмистровские в хранилище стояли ближе всех. Чистая эргономика. Я удивилась, когда не увидела их… Стала искать – и быстро поняла, что «Тигров» и «Владыки мира» нет. Позвонила помощнице Бурмистрова: подумала, что она опередила меня и сама забрала картины… У нас все довольно неформально организовано, а сторож ее хорошо знает. Но Анаит у нас не появлялась, и сам Бурмистров тоже не приезжал. А потом мы проверили запись с камеры и все поняли.
Сергей внимательно рассмотрел фотографию пропавшего сторожа. Бледный, одутловатый, небритый. Лицо большое, словно его растянули во все стороны, как тесто для пиццы. Круглые добрые глазки, редеющие волосы. Рот вялый, нос картошкой. Никто не назвал бы Вакулина красавцем. Но Сергей спросил у Ксении, нет ли других снимков, и девушка вывела на экран еще несколько фото – на этот раз неофициальных. Снимали на новогодней вечеринке.
И вроде бы все осталось прежним: пузико, одутловатость, щеки… Но здесь Вакулин выглядел не как лысеющий пьющий неудачник на пороге старости, а как человек при своем деле. Он смеялся, грозил кому-то пальцем, щурился в объектив – и был живым, толстым, веселым и даже обаятельным.
– Он пошутить любит, наш Николай Николаевич, – сказала Ксения, рассматривая фото и невольно улыбаясь.
Сергей чуть не сказал: «Да, я заметил, он у вас большой шутник», но сдержался. Не надо обижать свидетельницу.
– Ксения, расскажите, пожалуйста, про те три дня, что картины висели у вас. К ним кто-нибудь проявлял особый интерес?
Выяснилось, что он первый, кто задает этот вопрос. Бабкин про себя сказал несколько недобрых слов в адрес следователя. Ксения представлялась ему словоохотливой и легкомысленной – сочетание, которое неизменно вселяет надежду в сердце частного детектива.
– Я такого не наблюдала, но я не присутствовала в залах постоянно, лишь заходила изредка. Все шло как обычно…
По едва уловимой паузе Бабкин понял, что есть продолжение.
– …пока?.. – вопросительно продолжил он.
– Пока не появилась Юханцева, – призналась Ксения.
– Кто это? – Он записал в блокнот новое имя.
– Художница, член Имперского союза, как и Бурмистров. Ульяшин тоже был на выставке в первый день, и она устроила ему грандиозный скандал.
– Минуточку! Кто такой Ульяшин?
Ксения удивленно взглянула на него:
– Павел Андреевич Ульяшин, известный художник, правая рука Ясинского. Он кто-то вроде посредника между членами союза и самим Ясинским. Всех знает, и его все знают… Наша Юлия Кулешова с ним дружит тысячу лет, она вам лучше меня может о нем рассказать. Обычно Ульяшин приходит на вернисаж, дает пару интервью журналистам, фотографируется на фоне своих работ – и исчезает. Его задача – привлечь СМИ, осветить, так сказать, наш тихий угол…
Теперь в ее тоне Сергей отчетливо различал насмешку.
– Так, а Юханцева? – Он быстро конспектировал.
– Ей не понравилась развеска. Считается, что престижно и почетно выставляться в первом зале, хотя на самом деле в третьем, например, лучше свет и больше мест для сидения, поэтому посетители любят там задерживаться. Юханцева, как и Бурмистров, представила на выставку две работы. «Лисы танцуют» и «Совиные цветы». Она задержалась, приехала часам к трем, когда выставка была в разгаре. В первый день всегда толчея, много людей, которые даже не будут смотреть на картины – просто мелькнут и убегут. Юханцева вошла и сразу увидела, что ее картин нет там, где она ожидала их найти. Рената накинулась на бедного Павла Андреевича…
– Так, подождите… Я правильно понял: вы развешивали картины?
– Я, – подтвердила Ксения.
– Вы сами выбираете, какую работу куда поместить?
– Обычно – да. Но в этот раз у меня были четкие указания от Ульяшина. Он назвал картины, которые должны висеть в первом зале. Остальные я распределяла по своему усмотрению, и для Юханцевой выбрала, как мне казалось, удачное место…
– И каких же художников назвал Ульяшин? Кто заслужил первый зал?
Ксения нахмурила брови и стала загибать пальцы:
– Так, сам Пал Андреич – это раз. Бурмистров со своим зоопарком. Секунду, дайте вспомнить… Эрнест Алистратов. Борис Касатый. Кажется, все. А, Ломовцев, конечно! Тимофей – пейзажист, у него талантливая кисть, публика любит его работы. Но его самого на выставке не было.
– Значит, Ульяшин распорядился повесить в первом зале «Тигров» и «Барса»…
– Да, и когда Юханцева это обнаружила, она вышла из себя. Не знаю, были ли у них с Ульяшиным другие договоренности или она просто рассчитывала на это место, поскольку она сама Юханцева, но Рената была в бешенстве.
Бабкин отметил про себя «саму Юханцеву», но не стал останавливаться на этом. У него будет возможность выяснить, что за дама закатывает скандалы заместителю Ясинского.
– И что же говорила Юханцева?
– Ну, что обычно говорит женщина в гневе? Что этого так не оставит, что у Ульяшина будут неприятности… Послушайте, – вдруг встревожилась Ксения, – а вот не сплетничаю ли я сейчас?
– Вы оказываете всестороннее содействие расследованию, – успокоил ее Сергей. – Бурмистров присутствовал при этом разговоре?
– Ни в коем случае! Он редко появляется на выставках. Я его видела, кажется, только пару раз. Занятой человек, бизнесмен. Его представитель – Анаит Давоян. Чудесная девушка, между прочим, даже странно, что…
Она запнулась и потянулась за бутылочкой воды. Сергей некоторое время смотрел на нее, пока не стало ясно, что продолжения не будет.
– Ксения, вы давно работаете в музее?
– Три года. А что?
– У вас ведь есть представление о том, сколько может стоить та или иная картина? Бурмистров не оценивал свои работы, а мне нужно понять, на что рассчитывал вор.
Словоохотливость Ксении испарилась. Она смотрела на Бабкина серьезными серыми глазами, и под этим укоризненным взглядом он почувствовал себя неловко.
– Боюсь, я ничем не могу вам помочь, – суховатым официальным тоном сказала она. – Оценка картин не входит в мою компетенцию. Вам лучше обратиться за этим к самому Бурмистрову.
Показалось ему или при имени художника по ее лицу пробежала едва заметная неприязненная гримаса?
– У вас есть идеи, кто мог быть заинтересован в краже?
– Ни единой.
Ксения сложила руки на груди, недвусмысленно говоря: нам пора заканчивать. И причиной тому был его вопрос о стоимости картин.
Сергей смирился с поражением и лишь спросил, кто из сотрудников музея может знать больше о прошедшей выставке. Он собирался опросить всех, но начать хотел с самых осведомленных.
– Кулешова работала в воскресенье, – подумав, сказала Ксения. – Она первую половину дня была в залах, и вечером я видела ее среди художников. Я вас провожу.
* * *
Бабкина отвели в маленькую комнатку на втором этаже. Подоконник был плотно уставлен горшками с фиалками. Над цветами нависла худая сутулая фигура в длинной серой хламиде.
Фигура обернулась, и Сергей узнал в ней мышь.
– Юлия Семеновна, возвращаю нашего детектива, он жаждет общения с вами, – отрапортовала Ксения и исчезла прежде, чем он слово успел сказать.
В глазах мыши отразилось беспокойство. Бабкину даже почудилось, что она в шаге от мысли окропить его из леечки, чтобы он растаял, как старая колдунья из сказки.
Сергей откашлялся, спросил, можно ли присесть, и, пока мышь растерянно молчала, без разрешения занял стул.
– Юлия Семеновна, вы присутствовали в воскресенье на выставке Имперского союза, – без предисловий начал он.
– Да… Была… – Казалось, ей не хотелось в этом признаваться. – Вы меня в чем-то подозреваете?
– Я?! – искренне удивился Сергей. – Ни в коем случае. Мне кажется, вы чрезвычайно ценный свидетель.
– Именно поэтому вы сорок минут расспрашивали Ксению Львовну, – кротко заметила мышь. Сергей расслышал в ее голосе ехидство.
– Ксения Львовна дала мне общую картину, – нашелся он. – Однако детали не менее важны.
Тонкие поджатые губы несколько расслабились. Мышь поставила лейку и присела на краешек стула.
– И какие детали, по-вашему, я могла заметить? Все проходило как обычно. Это не первый раз, когда Имперский союз выставляется у нас: мы регулярно предоставляем им площадку.
– Расскажите, как проходил воскресный день на выставке, – попросил Сергей. И, сделав небольшую паузу и изобразив стеснение на лице, добавил: – Если вас не затруднит… Можно попросить чаю? С утра без завтрака, весь день на ногах…
Это была наглая ложь. Однако Бабкину нужно было расположить к себе эту ехидную мышь в хламиде или хотя бы добиться, чтобы она перестала считать его опасным. Самый верный способ – поставить себя в зависимость от чужой доброты. Женщина, которая заваривает чай, чувствует себя хозяйкой положения. Он ввалился в ее фиалковый рай, занял собой все пространство – неудивительно, что мышь принимает его в штыки. Да и первое впечатление было неудачным…
Несколько секунд женщина колебалась. Сергей покорно ждал.
– Хорошо, – наконец вздохнула она. – Но учтите, кроме печенья, мне предложить вам к чаю нечего.
Бабкин рассыпался в благодарностях.
Чай ему подали в тончайшего фарфора чашке, и он все время, держа ее в пальцах, боялся, что она лопнет, точно яичная скорлупа. И тогда взмахнет Юлия Семеновна своей хламидой и обратится в мышь, но не простую, а летучую, и вопьется ему в яремную вену острейшими своими резцами. Он читал, что где-то в Аргентине обитают летучие мыши, питающиеся кровью лошадей и овец. Даже название засело в памяти: «Мохноногий вампир».
С трудом отогнав видение маленькой крылатой мохноногой Юлии Семеновны, присосавшейся к его шее, Сергей с величайшей осторожностью поставил чашку на блюдце и достал блокнот.
– Значит, вас интересует воскресенье, – задумчиво проговорила Кулешова. – Что ж… Я присутствовала в качестве смотрителя. Какие-то люди обращали внимание на работы Бурмистрова, но, как бы вам сказать… Их внимание носило оттенок зубоскальства.
– То есть никто из зрителей, которых вы видели, не планировал покупать его картины? – уточнил Сергей.
– Ни в коем случае. Для них эти произведения были не более чем поводом для шуток. В течение дня приходили друзья и близкие художников… Поддержка такого рода очень важна, но иногда зрителей со стороны не остается вовсе. Куда ни глянешь, везде чья-нибудь тетя или бывшие жены.
– Бывшие жены? – заинтересовался Сергей.
Кулешова махнула рукой и, как ему показалось, слегка зарделась.
– Чьи это были жены?
– Увольте меня от обсуждения личной жизни творческих людей!
Сергей мысленно поставил пометку: проверить жен.
– Юлия Семеновна, я слышал, вы дружите с Павлом Ульяшиным?
– Кто вам такое сказал?! – вскинулась она. Бабкин удивленно взглянул на нее, и она снизила тон: – Впрочем, да… Это нельзя назвать в полной мере дружбой – скорее, уважительное отношение равноправных существ, подпитываемое взаимным теплом и интересом…
«Секс был, романа не было», – перевел Сергей.
– Когда-то мы были ближе, я увлекалась живописью, но со временем каждый из нас занял свою нишу в отдалении от другого. Хотя мы по-прежнему рады видеть друг друга. Павел Андреевич – выдающийся профессионал, я горжусь знакомством с ним. Смею надеяться, он мог бы сказать то же и обо мне…
«Секс был давно, продолжения не имел», – скорректировал Бабкин.
– Юлия Семеновна, как проходил вечер воскресенья?
– В пять было официальное закрытие. Ульяшин произнес короткую речь, а затем все начали расходиться и собираться.
– Расходиться и собираться? – переспросил Сергей.
– Дело в том, что традиционно после закрытия устраивается нечто вроде небольшого… – Кулешова сделала паузу, и взгляд ее упал на чайник, – … чаепития! Возможность в тесном творческом кругу обсудить прошедшее событие неоценима. Кто-то уходит, взяв картины, но кто-то остается. Как правило, самый тесный круг – те, кто давно знает друг друга… Но бывают и новые лица.
– Чаепитие – это застолье? – уточнил Сергей, плохо понимавший эзопов язык.
Женщина строго взглянула на него:
– У нас это называется завершающим мероприятием.
Бабкин, вспотевший от чая, хотел попросить ее открыть окно, но взглянул на фиалки и передумал.
– Вы присутствовали на нем?
– Да, меня пригласили.
– Это… чаепитие чем-то отличалось от предыдущих? – Бабкин досадовал, что ему приходится вытягивать из нее все клещами. Но он чувствовал, что Кулешова не просто так заговорила о нем.
И вдруг лицо его собеседницы озарилось хищной улыбкой, а в глазах загорелся такой плотоядный блеск, что Бабкин на мгновение заподозрил, будто Юлия Семеновна только что на его глазах сошла с ума.
«Только б кусаться не начала», – успел он подумать, но Кулешова подалась к нему и доверительно зашептала:
– Еще как отличалось, о, еще как!
* * *
На встречу с искусствоведом Дьячковым Макар отправил Бабкина.
– Задача у тебя простая, – по телефону проинструктировал он, – выяснить стоимость картин. Или хотя бы понять их художественный уровень.
– Да чего там не понимать… – начал Бабкин, перед которым несчастный барс стоял как живой, то есть полумертвый.
– Мы с тобой не разбираемся в современном искусстве. Нужен специалист и его заключение. Мне не по душе, что до сих пор не ясно, что именно мы пытаемся отыскать. Сколько получит вор, если решит продать произведения Бурмистрова?
Искусствовед Дьячков оказался блеклым пучеглазым мужчиной, похожим на моль. Шею его облегал искусно завязанный алый шелковый платок. Он экал, гхекал, обчихал Бабкина и несколько раз ткнул его коротеньким пальцем в грудь – жест, который могли позволить себе только крайне неосторожные или исключительно бесстрашные люди. Бабкин, однако, все вытерпел. Лишь пару раз он сладострастно представил, как затягивает платочек на тщедушном стебельке дьячковской шейки.
Дьячков назначил встречу в лобби многоэтажного офисного центра. В кресле он сидел, будто в собственной гостиной: закинув ногу на ногу и время от времени подаваясь вперед, чтобы ткнуть своего собеседника.
– …вы, я вижу, человек невежественный, – гнусавил несостоявшийся удавленник. – Я вам объясняю. Примитивизм – слыхали такое слово? Из курса школьной программы – ну, ну, напрягитесь же! – помним? Это течение в искусстве, сознательное упрощение художественных образов и выразительных средств. Проторенессанс, да? Кватроченто! В случае Бурмистрова мы говорим, заметьте, не о рустикализации, это важно…
– Для чего это важно? – спросил Бабкин.
– Для понимания! – ответил развеселившийся искусствовед. – Понимание лежит в основе всего. Игорь Бурмистров – яркий, может быть, даже ярчайший представитель современного наивного искусства. Ну, вот Анри Руссо же, да? Или, если вам это ближе, митьки. Мы можем рассматривать Кабакова и Едзиева в этом же контексте… Мотивы народного искусства органически вплетены…
Слушая искусствоведа, Бабкин ощутил себя коброй, раскачивающейся под медитативную дудочку факира. У кобры начала болеть голова. Дьячков с каждой своей фразой будто затягивал у него на голове шнурок с узелками. Кажется, у испанцев была такая пытка…
Мысль о пытках заставила Бабкина сбросить наваждение.
– Давайте рассмотрим Бурмистрова, – твердо сказал он. – Во сколько вы бы оценили каждую из его работ?
– Милый мой, это вульгарный подход! Вульгарнейший! В некотором роде дискредитация самого искусства… понимаю, для вас это пустые слова, но я, голубчик мой, как-никак жрец в этом храме…
Однако Сергея не смутило, что он занимается дискредитацией.
– Ясинский рекомендовал обратиться к вам не за лекцией о мотивах примитивного искусства, а чтобы получить оценку украденных картин. Если вы не в состоянии этого сделать, давайте не будем тратить время. Ни мое, ни ваше.
Дьячков, скривив губы, неохотно протянул:
– Может быть, пятьсот тысяч. Восемьсот. Миллион. Мы говорим об идеальном мире, где заказчик готов заплатить столько, сколько эти картины действительно стоят… Это в первую очередь ориентация на европейские рынки. Но и у нас есть ценители, да, истинные ценители…
«Миллион за яичницу с помидорами или пятнистого доходягу, – подумал Бабкин. – Ёлы-палы, да кому ж их впаришь?»
– Быть может, именно ценитель и пошел на это… неблаговидное дельце, – предположил Дьячков. – Тот, кому работы Бурмистрова не по карману, но кто жаждет быть их обладателем. Не одобряя ни в коем случае методы этого человека, не могу не признаться, что понимаю его… да-да, понимаю!
Добившись от искусствоведа внятного ответа, Сергей почувствовал себя увереннее. «Хоть какой-то результат. А теперь займемся мутным охранником-сторожем».
Он поговорил с давним приятелем из телефонной компании и выяснил, что с телефона, принадлежавшего Николаю Вакулину, в последний раз звонили сутки назад. Место, откуда был сделан звонок, совпадало с адресом его квартиры.
После этого телефон не перемещался, и с него не выходили на связь.
Бабкин сумел проникнуть в подъезд, где жил Вакулин, долго и безуспешно жал на кнопку звонка, поговорил с соседями, выяснил, что Николая Николаевича они в последний раз видели два дня назад, и еще послонялся под окнами в надежде, что сторож все-таки появится. Когда начали сгущаться сумерки, а свет в квартире на втором этаже так и не зажегся, Бабкин позвонил Макару и спросил, надо ли следить за квартирой.
– Вакулин пока первый в списке подозреваемых. Входная дверь музея оказалась незаперта. Как воруют картины и вышибают дверь в хранилище, он не слышал. А теперь еще и этот внезапный уход с радаров!
– Согласен, но если он залег на дно, слежка ничего не даст – только потеряем время. Узнай, с кем он созванивался за последнюю неделю, и возвращайся, все обсудим.
* * *
Офисом двоим частным сыщикам служила квартира Илюшина на двадцать пятом этаже. В просторной гостиной, превращенной в рабочий кабинет, принимали клиентов, обсуждали текущие расследования и хранили архивы: Бабкин не доверял «облачным» технологиям. Однако в последнее время Макар и Сергей все чаще перебирались вниз, в кафе китайской кухни, открывшееся с год назад на первом этаже. Бабкин редко встречал там других посетителей и подозревал, что это местечко существует в основном за счет Илюшина.
Незаметно он и сам пристрастился к острым густым супа´м, разнообразной лапше и десертам, напоминавшим сладких гусениц. Здесь готовили и корейские, и вьетнамские, и тайские блюда, а однажды по просьбе уставшего Сергея поджарили ему огромную сковородку картошки на сале.
Макар ждал его тут. Сидел, обложившись подушками, как султан, и что-то листал на планшете.
– На выставке был скандал, – сообщил Бабкин, подойдя к его столику. – Вернее, даже два скандала. Второй, правда, не имеет отношения к Бурмистрову.
– Пей чай, бодрит, – сказал Илюшин.
Бодрости Сергей, по правде говоря, не хотел. Он хотел домой, к беременной жене. И хотя Маша пять минут назад по телефону отчиталась, что у нее все в порядке, она смотрит сериал и ест мороженое, Сергей все равно не мог успокоиться. Дурное, как предутренний кошмар, видение завладело его сознанием. Почему-то представлялись соседи сверху, которые непременно захотят поставить посреди жилой комнаты ванну – старинную, чугунную, на львиных лапах – и наберут в нее воды, и эта ванна под собственной тяжестью рухнет вниз, пробив перекрытия, и упадет на его жену.
Никогда прежде Сергею, человеку лишенному воображения, не были свойственны нелепые страхи. Соседями сверху были два кротких старичка, с которыми он виделся не далее как этим утром, но и воспоминание о встрече не помогало: если не чугунная ванна, то орех, обыкновенный орех в рожке с мороженым мог вызвать смертельную аллергию у его жены. А его нет рядом, чтобы…
– Все в порядке? – спросил Макар, внимательно глядя на него.
Бабкин залпом выпил чай из пиалы, обжегся и несколько пришел в себя.
– Нормально все. Сначала скажи, что ты узнал о Бурмистрове.
Илюшин начал рассказывать. На втором предложении обычно внимательный Сергей потерял нить, некоторое время сидел, машинально кивая, а затем, сказав: «Подожди секунду, я сейчас», встал и вышел на крыльцо. К вечеру похолодало. Ежась, он набрал номер жены и, едва услышав голос в трубке, спросил:
– Твое мороженое – с орехами?
– Что? – растерялась Маша.
– Мороженое, которое ты ешь, – с орехами?
– Нет, – помолчав, сказала Маша. – С кленовым сиропом. А что?
– Да так, просто подумалось… – Сейчас он сам не понимал, как объяснить свой внезапный интерес. Безумие какое-то. Впору пить афобазол.
– Кстати, у Цыгана будет понос. Я отошла на минуту, а он всосал в себя мороженое вместе с картонным стаканчиком. Лежал, понимаешь, рядом на диване…
При мысли о собаке Сергею стало спокойнее. Как будто старый седой пес мог защитить его жену от ванны, пробившей перекрытие, или смертельно опасного ореха…
«Господи, что я несу…»
Сергей Бабкин привык сам думать свои мысли. Но с того дня, как жена сказала ему о беременности, некоторые мысли думались без него. За этими мыслями выползали страхи: детские, абсурдные и оттого непобедимые. Чудовище не исчезает из шкафа, если папа посветил туда фонариком. Оно всего лишь ждет, когда закроют дверцу и выключат свет.
Еще недавно все было просто. Он плохо понимал сам механизм природы такого страха: пока беда еще не случилась, опасаться нечего; когда она уже произошла, нужно разбираться с последствиями, не отвлекаясь на переживания.
Теперь Маша ждала ребенка, и от простоты не осталось и следа. Страх налетал порывами и выдувал из Сергея все теплое и живое, словно он был брошенным домом с распахнутыми дверями и окнами. Нелепые видения то и дело возникали рядом, подобные гигантским паукам, вылезшим из земляных нор. Он слышал их шуршание, чувствовал липкость жирной паутины.
Но старый пес поднял седую голову – и пауки убрались.
Бабкин был человек приземленный до мозга костей. А потому ему ничего не было известно о том, что знает большинство детей, – какой огромной силой обладает даже самый маленький кот и самая трусливая собака.
– Ладно, пойду к Илюшину, – сказал он. – Напишу, когда буду собираться домой. Все мороженое не ешьте, оставьте мне!
Если Макар и был удивлен его побегом, он ничем этого не выдал. Что-то записывал в планшете и кивнул вернувшемуся напарнику как ни в чем не бывало.
– У Маши все в порядке, – сказал Бабкин, думая о своем. Илюшин пристально взглянул на него. – На чем мы с тобой… А, скандалы.
– Подожди, сначала о стоимости картин. Что говорит искусствовед?
– От полумиллиона до полумиллиона.
– Сколько?!
– От пятисот тысяч до миллиона, – с удовольствием повторил Бабкин, наблюдая за выражением его лица.
– Не ту сферу деятельности мы избрали, Сережа, – печально сказал Илюшин. – Сколько барсов могли бы намалевать твои натруженные руки! Сколько тигров! Косуль! Бобров!
– Слушай, мысль у меня вот какая… – Бабкин придвинул к себе тарелку с лапшой и начал есть. – Красть эту дикую красоту можно было только под конкретного заказчика. У Бурмистрова нет такого имени в художественной среде, чтобы любое его полотно имело высокую стоимость. Музейные мыши были очень осторожны в оценке, но я понял так, что прежде его вообще никто не покупал. Следовательно, кто-то запал именно на эти две работы. Они были показаны широкой публике только в пятницу. Получается, искать надо среди тех, кто был на выставке. Мыши никого не помнят, будем опрашивать художников. Список у меня есть, завтра с утра и начнем. Хоть кто-то из них должен был заметить посетителя, который приценивался к этим картинам!
Илюшин задумчиво помешал рис в своей пиале.
– Цена для этой мазни ошеломительная, – вслух подумал он.
– Наивное искусство, не кот начхал!
– Да любой кот начхал бы лучше… Подожди! – Макар поднял на него глаза. – Кто это сказал, про наивное искусство?
– Ну, не сам же я придумал. Дьячков, само собой.
Илюшин нехорошо прищурился.
– Что? – недоумевающе спросил Сергей. – Что ты на меня так смотришь?
– Ты уверен насчет наивного искусства?
Бабкин вытянул из кармана записную книжку.
– «…яркий, может быть, даже ярчайший представитель современного наивного искусства», – зачитал он вслух. – Дальше идет сравнение с Анри Руссо. Что тебе не нравится?
– Мне не нравится искусствовед, которого нам сосватал Ясинский. Потому что ни «Владыка мира», ни «Тигры» – это не наивное искусство, и втюхивать подобную галиматью можно только человеку, который разбирается в живописи на уровне шимпанзе Конго.
Сравнение с шимпанзе заставило Бабкина помрачнеть.
– Это был очень одаренный шимпанзе… – заметил Макар в его сторону, одновременно кому-то звоня. – Анаит, здравствуйте! Макар Илюшин вас беспокоит. Нет… Нет, к сожалению, не поэтому… Но в прямой связи с расследованием. Анаит, нам требуется человек, который мог бы дать объективную оценку картинам Бурмистрова. Желательно, чтобы он не был связан с Имперским союзом художников. Я знаю, что вы искусствовед… – Бабкин удивленно посмотрел на него: он впервые слышал об этом. – Однако вы скованы этикой рабочих отношений. Можете кого-то порекомендовать?
В трубке неуверенно прозвучала фамилия Ясинского.
– Да, мы разговаривали с Ясинским и тем специалистом, к которому он советовал обратиться, – невозмутимо сказал Илюшин. – У меня есть сомнения в компетенции последнего. Нам нужно независимое мнение со стороны. Поймите меня правильно: очень независимое и очень стороннее.
В трубке повисло молчание. Сергей слушал тишину, озадаченно глядя на Макара. Макар смотрел в окно.
– Вам нужна Антонина Мартынова, – так четко проговорила Анаит, словно Илюшин включил громкую связь. – Я пришлю вам ее номер и предупрежу, что вы придете.
Короткие гудки.
Макар удовлетворенно угукнул и вернулся к рису.
– Ты считаешь, Дьячков соврал? – спросил Бабкин.
– Соврал или ошибся, не знаю. Но такое чувство, будто Бурмистров с его картинами окружен каким-то заговором молчания. Никто не может ответить на довольно простой вопрос…
– Ну, Дьячков как раз ответил.
Макар пожал плечами:
– Завтра у нас будет второе мнение. Расскажи об охраннике и скандалах. Ты сказал, их было два? И кстати, сколько человек охраняет музей?
– Двое, но девяносто процентов работы приходится на исчезнувшего Вакулина. Сейчас в музее паникуют и не знают, кем его заменить. Второй мужик поставлен на теплое место чьей-то властной лапкой. Музейные дамы к нему относятся так же, как вороны к чучелу на поле.
– Ты с ним побеседовал?
– Пытался. Он туп как пробка. Приходит, отсиживает смену и уходит. Ни с кем не общается. У него в комнатушке кипа бесплатных журналов с кроссвордами – как колонна, до потолка. Поделился, что не понимает, зачем нужно искать пропавшие картины, если художник может взять да намалевать новые.
– Тогда давай вернемся к скандалам. Два инцидента на одной выставке – это норма жизни для художников или что-то из ряда вон выходящее?
– Судя по реакции музейной дамы, скорее, редкость. Первая склока напрямую связана с Бурмистровым: художница Рената Юханцева потребовала от Ульяшина, чтобы он поменял местами ее и бурмистровские картины. Ее не устроила развеска. Ульяшин ей отказал, и она грозила ему карами небесными.
– Так, а кто такая Юханцева?
Бабкин успел навести справки.
– Она продюсер популярного ток-шоу на одном из центральных каналов. Отбирает гостей сама, держит всех в железном кулаке. Говорят, довольно известная дама!
– Значит, сначала Юханцева устраивает скандал, а по окончании выставки исчезают две картины Бурмистрова, – задумчиво сказал Илюшин. – Хорошо, а что за вторая заварушка?
Бабкин не удержался от смешка:
– После закрытия выставки, вечером в воскресенье художники устроили междусобойчик…
* * *
…Разумеется, вечером в воскресенье устроили междусобойчик. Кое-кто, конечно, уехал, но многие остались – в частности, два выдающихся члена Имперского союза: Борис Касатый и Эрнест Алистратов.
Эрнест Алексеевич в творческой среде носил прозвище Геростратов. В юности Эрнест, деля одну мастерскую на двоих с другим художником, в приступе то ли творческой ревности, то ли творческого запоя сжег чужую картину.
Алистратову было за пятьдесят. Его фактурное горбоносое лицо в обрамлении черно-седых кудрей в любом собрании привлекало внимание. Он держался очень прямо, носил роскошные шейные платки – лиловые, желтые, небесно-голубые – и ошеломлял публику морскими пейзажами. Изумрудное стекло гигантских волн ему особенно удавалось, и перед маринами Алистратова всегда собирались почитатели. «Второй Айвазовский!» – шелестело среди них.
Эрнест Алексеевич имел привычку появляться на мероприятиях в окружении свиты. Свиту составляли две-три его бывшие натурщицы, одна-две нынешние, несколько бывших жен (это множество частично пересекалось с натурщицами), а также актуальная супруга.
Алистратов двигался, и благоухающий пестрый эскорт тек за ним. Темные бархатные глаза Эрнеста лучились удовольствием. Внешний круг образовывали ученицы Алистратова – немолодые барышни, тщетно пытавшиеся годами добиться такой же изумрудной прозрачности мазка.
Любой, кто видел Алистратова, с первого взгляда понимал: перед ним творческая личность. Что говорит нам о том, как важна роль шелкового платка в становлении художника.
Борис Касатый в некотором роде был его противоположностью. Касатова окружали не дамы, а толпа учеников. По необъяснимой причине все они выглядели как студенты театральных вузов, явившиеся пробоваться на роль Родиона Раскольникова. Высокие, худые, с воспаленными глазами под бледным челом, они затмевали собственного учителя.
Касатый был невысок ростом, носил клочковатую бородку, очки и льняные рубахи, и в целом облик его напоминал о разночинцах. Там, где Алистратов проходил в мягчайших туфлях итальянской замши, Касатый топал в грязных берцах. Неряшливостью своей он не то чтобы козырял, но умело ее использовал. «Борис Касатый – человек из народа!»
Отсюда был один шаг до определения «самородок».
И определение это звучало, звучало!
Касатый преподавал в доброй дюжине художественных школ, творил много и разнообразно и, как и Алистратов, пользовался любовью публики. А что еще ценнее – ее вниманием. Он писал морщинистых синеглазых старух, с ног до головы покрытых бабочками; писал зайцев на бесконечно длинных тонких ломких ногах, бредущих над заснеженной русской тайгой; писал гибких женщин с пушистыми одуванчиками на месте голов; писал корабли, оснащенные гигантским лебединым крылом, раздуваемым ветром…
Именно два этих заслуженных деятеля, два столпа Имперского союза и сцепились между собой в безобразной склоке. Касатый подпрыгивал, пытаясь достать до роскошной шевелюры Алистратова. Эрнест Алексеевич визжал и отмахивался подносом. Он одержал небольшую победу, ухитрившись дотянуться до очков соперника и разбить их. Вокруг драчунов были художественно разбросаны бутерброды с семгой, которые за пять минут до этого принесли на подносе.
– Руки… грязные… – выкрикивал, задыхаясь, Касатый. – Грабли свои артритные… При себе держи, скотина, бездарь, графоман от живописи! Изольду не смей трогать!
– Мерзавец! Уберите его, он бешеный… Полицию! Да зовите же…
– А-а, подлец, полицию захотел! – рвался из чужих рук Борис Игнатьевич. – А полицию нравов не хочешь, старый …?!
И приложил утонченнейшего Алистратова площадным словцом. Дамы ахнули. Смотрительница Юлия Семеновна, которая тоже в глубине души считала Алистратова распутником и сластолюбцем, тихо зааплодировала.
Но мнение смотрительницы никого не интересовало. Кроме, конечно, Сергея Бабкина, который несколькими днями позже с большим интересом выслушал от нее подробности этой безобразной грызни.
– Жалкий конъюнктурщик! – выкрикнул Алистратов. Благородство его облика было несколько утрачено в схватке. – Завистливый пачкун! Выставить к черту! Не заслуживаешь быть здесь… Ужом пробивался! Задницы лизал! Копиист паршивый, тьфу!
– У-у-у, потаскун! – взвыл Касатый.
Он вырвался наконец из державших его рук, выхватил поднос у Алистратова и этим подносом с размаху огрел соперника по уху.
Раздался дивный звон. Эрнест Алексеевич, пошатываясь, сел на стул и угодил на бутерброд с рыбой.
Как призналась позже Кулешова, она пожалела, что супруга Алистратова не осталась на празднование и, следовательно, не стала свидетельницей брошенных оскорблений. О, будь она рядом с мужем в эту тяжелую минуту, ему не удалось бы отделаться отекшим ухом. Страшно мог бы пострадать Эрнест Алексеевич. И возможно даже, что пролилась бы кровь.
А причиной всему было имя, произнесенное Касатым в начале схватки.
Изольда.
Изольда была легендой среди натурщиц. Томная, молчаливая, проплывала она мимо художников, сбрасывая одежды, и выходила на подиум во всем блеске своей античной красы. Поклонники звали Изольду ундиной. Кожа ее и в самом деле была голубовато-перламутрового оттенка, а голос манил. Воздействие его было тем сильнее, что говорила Изольда мало и редко. Так что воображение очарованных художников дорисовывало за ее молчанием бездны ума и богатства души.
Восхищение Изольдой разделяли не все. Среди женщин за ней закрепилось оскорбительное прозвище Сардина. Натурщица вряд ли об этом догадывалась. Ее мало что интересовало. Двигалась она с медлительностью улитки. Каждый взмах ее ресниц длился вечность. Вязкий мед, густое молоко, тягучий сироп – вот кто была Изольда, и в сладчайших ее объятиях жаждали погибнуть многие.
Последние месяцы Изольда позировала Борису Касатому. Он работал над монументальным полотном, в котором, помимо нагой женской фигуры, присутствовали также лошадь, голуби, четыре омара и пеликан. Под его кистью рождался шедевр.
Причина нападения на Алистратова была проста. Прекрасная Изольда, как заподозрил Касатый, дарила свою благосклонность не только ему, но и Эрнесту. Но с нее-то, бедной, что взять! Как сердиться на родник, к которому может припасть любой? Вообразить немыслимо, чтобы Борис Игнатьевич огрел ундину подносом.
А вот подлый Геростратов покусился на чужое. За что и был наказан.
– Ах, если бы Вера Степановна осталась… – мечтательно протянула Кулешова в завершение своего рассказа. – Она бы его оскопила прилюдно.
Бабкин и не подозревал такую кровожадность в кроткой музейной мыши.
– В итоге народ после этой ссоры разбрелся кто куда, – закончил он пересказ. – Группа художников во главе с Борисом Касатым уехала к некоему Ломовцеву…
– Тимофей Ломовцев, – кивнул Макар. – Я это имя уже слышал.
– …А остальные разошлись. У Ломовцева собрались… – Он достал блокнот. – Майя Куприянова, Наталья Голубцова, Борис Касатый и Павел Ульяшин. Ну, и сам Ломовцев.
– И эти пятеро мне очень интересны, – сказал Макар.
Глава 2
– У тебя нос, что ли, увеличился? – озабоченно спросил Алик и прихватил ее переносицу двумя пальцами.
Анаит вздрогнула и дернулась.
– Ты что? Больно!
За соседним столиком засмеялись подростки – над ней или о чем-то своем, Анаит не поняла, но почувствовала, что к щекам приливает жар. Она с детства легко краснела.
– Дыши глубже! – Алик рассмеялся и помахал перед ее лицом расслабленной кистью, нагоняя воздух, будто веером. – Не комплексуй. Я в том смысле – чего нос повесила?
Анаит отодвинула тарелку с салатом:
– Бурмистров возвращается завтра утром…
– Ну и что? – с набитым ртом спросил Алик.
Официант поставил перед Анаит чашку кофе. Она отпила и поморщилась: теплый, не горячий.
– Ему нужен результат. А мне нечего предъявить.
– Ну, ты сделала, что он требовал, – возразил Алик. – Не самой же тебе разыскивать его картины?
– Прошло уже два дня. Он потребует каких-то новостей, отчета о том, чего они добились. Я позвонила утром в детективное агентство, но от меня отделываются общими фразами…
Алик пожал плечами:
– Вот это ему и скажешь. Расследование только начато, рано требовать ответов. «Ждите-ответа-ждите-ответа», – вдруг гнусавым металлическим голосом проговорил он – и впрямь очень похоже на робота, и за соседним столиком снова раздались смешки. Анаит с трудом удержалась, чтобы не предложить Алику пересесть.
– Будь посмелее с Бурмистровым, – посоветовал Алик. – Тебе не хватает умения отстаивать свои границы. Честно говоря – только не обижайся! – ты пока овсяная каша на молоке. Сама провоцируешь Бурмистрова размазывать тебя по тарелке.
Анаит вскинула на него глаза.
– Алик, ты вообще представляешь, что такое Бурмистров? – тихо спросила она.
– Ну, как бы не первый год вкалываю. – Он подпустил высокомерных ноток. – И в отличие от тебя местом своим доволен.
Голубые глаза смотрят холодно: она позволила вслух усомниться, что он знает, о чем говорит. Анаит впадала в оцепенение от этого моментального переключения регистров: только что о тебе выражали заботу – и тут же внятно обозначают: не забывай, кто есть кто. Вот уж у кого, а у Алика с границами все обстоит превосходно.
Обычно Анаит сдавала назад. Мама учила никогда не ущемлять мужское самолюбие. Анаит – женщина, к тому же молодая; Алик – взрослый самостоятельный мужчина. Он опытен и знает жизнь (здесь подразумевалось: а она – нет).
– Бурмистров давит как асфальтовый каток, – тихо, но упрямо сказала она. – У нас с ним разные весовые категории. Я видела, как люди вдвое старше лебезили перед ним и заискивали. Игорь Матвеевич очень…
Она поискала слово, отражавшее бы его умение выжимать все соки, словно за короткий разговор тебя успевали не только прихлопнуть среди страниц энциклопедического словаря – живой лепесток, дышащую веточку, – но и высушить до полного выцветания красок. Однако слово не нашлось, и Анаит просто повторила:
– …давит.
Алик откинулся на стуле и забросил в рот зубочистку.
– Ладно, давай проиграем ситуацию до конца! Счет принесите, пожалуйста… – Это мимоходом, официанту. – Предположим, что Бурмистров будет в ярости и выскажет тебе свое недовольство. А дальше-то что? Ну, выскажет и выскажет!
Анаит оценила его великодушие. Алик был задет, но нашел в себе силы не растравлять собственную обиду. Такое случалось нечасто.
Она с готовностью подхватила протянутую руку поддержки.
– Накричит – это ерунда! Я уже привыкла, правда! – «Ложь, наглая ложь». – Но если его что-то не устроит, он меня уволит, понимаешь? Я ужасно боюсь, что меня выкинут…
Признаваться было стыдно, и Анаит вновь ощутила, что краснеет. Пригубила совсем остывший кофе – наивная попытка притвориться, что стало жарко от напитка.
Собственно, понятно, почему стыдно. Алик всегда высмеивает страх. Любит цитировать: «Трусость, несомненно, один из самых страшных пороков». «Это отец большой семьи может бояться увольнения, – бросил он как-то в начале их отношений. – Ему семью кормить и детей обувать-одевать. А ты-то что? Ну, выставят тебя! Вернешься под крылышко к папочке с мамочкой. Ты из-под него и не вылетала. Будут класть еду в твой жадно разинутый клювик, пока ты ищешь новое место. Еще и утешат свою деточку, купят ей айфончик или ноутбучик, чтобы не плакала».
В этих словах таилась ужасная несправедливость. Да, семью ей содержать не надо, однако утешения от родителей не дождешься. Какие ноутбуки! Она работала на старом компьютере, оставшемся от сестры. Анаит возразила бы Алику, но он тогда сразу так заледенел, что она вспомнила, как ему самому пришлось пробиваться в Москве: голодному провинциальному мальчику без друзей и родни, хвататься за любую работу – и он хватался: курьером носился, в «МакАвто» заказы собирал, подрабатывал ночным сторожем, торговал электроникой, и еще где-то помотало его, неприкаянную щепку, грязным потоком прибивая к разным берегам, пока не вынесло в банк. «А что тебе в банке больше всего понравилось?» – наивно спросила как-то Анаит. В другое время Алик высмеял бы ее за этот вопрос («А ты сама подумай, что мне могло там понравиться? Может, белая зарплата? Теплый офис?»), но он был в хорошем настроении и неожиданно ответил: «Чистые полы в операционном зале. Март, на улице грязища, а у них плитка блестит, как языком вылизанная».
– С одной стороны, неприятно, – рассудительно произнес Алик, покусывая зубочистку. – «Парашюта» тебе, конечно, не видать…
– Какого парашюта?
Алик в ответ только хмыкнул и продолжил:
– Но ведь если начистоту, ты у нас девица переборчивая…
– Я переборчивая? – изумилась Анаит.
– Ну, не я же. Кто ушел из школы? Кто послал Спицына? Согласилась бы на его предложение – каталась бы сейчас как сыр в масле. А ты решила, что можешь перебирать харчами. Детка, это Москва. Здесь редко дают вторые шансы, если профукала первый.
Анаит вспыхнула до корней волос.
– Я же рассказывала тебе про Спицына! – Ее охватили стыд, гнев и злость на собственную глупость – она всерьез решила, что он хочет поддержать ее, а не ткнуть носом в то, кто она такая. – Ты не помнишь, как это было унизительно?
– Ой, ладно-ладно, не заводись! Я тебе еще тогда сказал, что не вижу ничего унизительного в дресс-коде. Мы в банке, знаешь, тоже не в трениках сидим…
– Ты действительно не видишь разницы?
Анаит с силой подалась к нему и грудью сдвинула чашку.
– Тише… – предостерегающе начал Алик.
– Это! Было! Омерзительно!
– ТИХО!
На них начали оглядываться. Подростки, собиравшиеся уходить, застряли в дверях и с откровенным любопытством таращились, хихикая и толкая друг друга.
Анаит представила, как выглядит со стороны: покрасневшее лицо, уродливая гримаса гнева. Отец часто повторяет: «Женщина в злости безобразна». Она сейчас безобразна, и это всем бросается в глаза.
– Возьми себя в руки, – по одному слову процедил Алик. – Будь любезна, не ставь меня в идиотское положение.
И Анаит отстранилась, выдохнула. Из чашки выплеснулся кофе и лужицей растекся по столу. Анаит ссутулилась, втягивая грудь.
– Пошли отсюда, – сухо сказал Алик и поднялся.
Насколько Анаит в гневе превращается в страшилище, настолько Алик хорошеет. Лицо у него становится таким, каким его задумал Вседержитель, и нельзя сомневаться, глядя на него, что произошла ошибка: вместо того чтобы возглавлять ангельское воинство, Алик возглавляет отдел продаж в московском банке. Анаит невольно залюбовалась им. Точеное, безупречное, словно из глыбы льда искуснейшим мастером вырезанное лицо, и даже голубизна айсберга просвечивает, если взглянуть под правильным освещением.
Он подал ей пальто, по-прежнему молчаливо негодуя. Они были в двух шагах от скандала! Привлекли к себе внимание!
В этом они похожи с отцом. Может, потому Алик так нравится ее родителям?
Больше всего папа с мамой боялись, что Анаит свяжется с художником. Все годы, что Анаит училась, мать время от времени принималась рыдать: пропадет ребенок, выйдет замуж за алкаша, за алиментщика и сама нарожает ему заморышей, будет ходить в синяках, вся битая-перебита-а-а-ая!..
И переходила причитать на родной армянский.
Горестная судьба младшей дочери отчего-то с особенной выразительностью являлась матери во время чистки хрусталя. Хрусталь был наследственный, от бабушки, и мать раз в три месяца ритуально доставала его из серванта, мыла, вытирала насухо. Дочерей не подпускала: руки кривые, грохнете – и не почешетесь!
Хрусталь в ловких маминых пальцах искрился, радовался, сиял, и под это радужное сверкание, вспыхивавшее на потолках и стенах, мать со всем пылом предавалась отчаянию.
И вдруг – Алик! Не пьет. Не курит (курильщиков презирает за слабоволие). Поддерживает с папой культурные разговоры. К рождению детей относится осознанно. А главное, не имеет никакого отношения к миру бесприютных творческих душ: художников-распутников-пропойц.
Анаит вышла на крыльцо, застегивая пальто. На миг она забыла обо всем – такая щедрая теплая осень встретила ее. Сколько сияния! В желтый колер добавить чуточку бронзы – и самую малость черного пигмента, чтобы получить оттенок старого золота…
– На будущее я бы попросил тебя воздержаться от прилюдных скандалов, – сухо сказал сзади Алик.
Анаит потерла лоб:
– Прости, пожалуйста…
Меньше всего ей хотелось сейчас выяснять с ним отношения. Честно говоря, лучше бы он совсем ушел. Она так любила это время года – короткое, блаженное, упоительное… Не делить его ни с кем, идти по бульвару, обогнуть монастырь и сверху глазеть на цветные лоскуты крыш и стекла машин, в которых отражается небо, и оттого кажется, что каждая увозит облака…
– Куда ты сейчас? – голос Алика вырвал ее из размышлений.
– Поеду в детективное агентство. Может быть, удастся добиться чего-то, о чем не стыдно будет доложить Бурмистрову…
– Я с тобой, – непререкаемым тоном сказал Алик.
– Прости?
– Вместе поедем. Тебя детективы не принимают всерьез. Нужно, чтобы с ними поговорил мужчина.
Анаит, оторопев, уставилась на него.
– Не благодари, – отрезал Алик и пошел к метро.
Анаит сделала попытку его переубедить. Ничего из этого не вышло. И вроде бы она должна быть ему благодарна – он отпросился на час с работы, пожертвовал своим временем, чтобы помочь, – а в ней все равно тихо бился внутренний протест. Анаит сама не знала, что именно ей не по душе. Он несколько раз повторил, что ее никто не принимает всерьез, что она позволяет вытирать об себя ноги…
– Никто об меня ничего не вытирал, – возразила Анаит.
– Именно поэтому ты трясешься, как собачонка, при мысли о возвращении шефа, – язвительно согласился Алик. – Потому что у тебя нет материалов для отчета.
Макар Илюшин в ответном сообщении написал, что они как раз хотели с ней поговорить, чтобы прояснить кое-какие дополнительные вопросы. От этого Анаит слегка приободрилась. Не только ей от них, но и им от нее что-то нужно.
– Ты, главное, в разговор не лезь, – сказал Алик, когда они вошли в подъезд. – Взрослые разберутся.
Как и в прошлый раз, дверь в квартиру открыл угрюмый громила, едва не подпиравший лбом притолоку. Но затем все пошло не так, как она ожидала.
– Александр Лопарев, – представился Алик, протягивая руку и напористо продвигаясь вперед. – Хотел обсудить с вами результаты вашей работы.
Быть может, с кем-то другим это и сработало бы. Но сыщик просто остался стоять в коридоре, будто кит, перегородивший тушей узкое русло реки, и быстроходный корабль Алика вынужден был сбросить скорость, а затем и вовсе остановиться.
– Сергей Бабкин, – сказал сыщик. – Я не совсем понял, чего вы хотите.
– Может, мы в комнате поговорим? – вздернул бровь Алик.
– О чем? – туповато спросил сыщик. И уже к Анаит обратился совсем другим тоном: – Проходите, пожалуйста, Макар Андреевич ждет вас.
– Минуточку! – Алик взвился, как укушенный. – Никуда она без меня не пойдет!
И прихватил Анаит за локоть.
По взгляду сыщика, застывшему на прекрасной, белой, длиннопалой кисти ее бойфренда, Анаит внезапно поняла, что грядет что-то нехорошее.
– Анаит, это ваш супруг? – осведомился Бабкин.
– Жених! – задиристо ответил Алик.
– Анаит? – Бабкин как будто не услышал его.
– Александр… мой жених, да…
– Я хочу обсудить результаты вашей работы, – настаивал Алик. – Это ей вы можете голову морочить, а со мной такое не пройдет! Вам деньги за работу платят, не за спасибо трудитесь!
В дверях кабинета показался Илюшин. Был он, как и при первой встрече, в джинсах, футболке и клубном пиджаке, но при этом босой. Впечатление создавалось такое, будто его яхта только что причалила к берегу и расслабленный взъерошенный владелец, сбросив дорогие туфли, спрыгнул на песок.
– Здравствуйте, Анаит Робертовна! Рад вас видеть! Сережа, у нас какое-то недоразумение?
– У нас жених! – пробасил Бабкин. – Жаждет аудиенции.
Илюшин уставился на Алика.
– Я не понимаю, с какой стати мне препятствуют… – возмущенно начал тот.
– Препятствуют в чем? – перебил его Макар.
– Я хочу получить отчет по делу об украденных картинах.
– На основании?..
– На том основании, что вы не даете вашей клиентке никаких отчетов, а я представляю ее интересы!
– Анаит Робертовна не наша клиентка, – сообщил Илюшин.
Алик растерялся и выпустил ее локоть. Каким-то неуловимым движением скользнув вперед, Сергей Бабкин оттеснил Анаит, и она сама не заметила, как оказалась в комнате. Алик теперь не мог ее видеть, но до нее доносилось каждое слово.
– Не понял! В каком смысле? – Он перешел на повышенный тон.
– Нашим клиентом является не Анаит Робертовна, а владелец картин, – невозмутимо ответил Илюшин. – Вы имеете к нему какое-то отношение?
Наступило молчание.
– А-а-а, вот оно что, – протянул наконец Алик. – Хитро придумано!
– Я не знаю, что вы имеете в виду. – Илюшин не двигался с места и стоял в той же расслабленной позе. Алик вынужден был выглядывать из-за плеча Бабкина, чтобы рассмотреть его. – Мы только что выяснили, что вы не наш клиент и не представляете его интересы. Теперь, с вашего позволения, нам нужно работать.
Наступила тишина. Анаит показалось, что она расслышала сопение.
– Анаит, я жду тебя у подъезда, – громко и отчетливо сказал Алик.
Дверь хлопнула.
Макар Илюшин вернулся в комнату и опустился в кресло. Анаит стояла в смятенных чувствах, не зная, как реагировать и надо ли ей извиняться за Алика или оправдывать его…
– Присаживайтесь, пожалуйста. Я бы хотел обсудить с вами кое-что, касающееся выставки.
Анаит поняла, что за Алика ее никто не собирается отчитывать, и ощутила невыразимое облегчение. До этого ей казалось, что она отвечает за случившееся… Она привела его. Но частный сыщик выглядел так, словно мгновенно забыл о существовании Александра Лопарева.
Бесшумно вошел Бабкин.
– Завтра возвращается Игорь Матвеевич, мой босс, – со вздохом сказала Анаит. – Он захочет узнать о результатах.
Илюшин покачал головой:
– Простите, мне нечем его порадовать: результатов пока никаких. Нам нужно с ним встретиться. Вы сможете это устроить?
Она кивнула.
Сыщик вновь расспросил ее о последнем дне выставки и об отношениях между художниками. Анаит терпеливо дала подробный отчет, ни словом не напомнив, что недавно они говорили об этом.
В конце беседы она не удержалась и все-таки спросила:
– Неужели у вас нет совсем-совсем никаких результатов? Мне бы хоть что-нибудь ответить Игорю Матвеевичу…
Игорю Матвеевичу, который не приемлет оправданий. Игорю Матвеевичу, который вколачивает каждое свое слово, будто кулаком забивает гвоздь.
Илюшин задумался.
– Не знаю, порадует ли его новость, что исчез охранник.
– Какой? – ахнула Анаит. – Николай Николаевич?
– Да, Вакулин. Пропал бесследно.
…Когда Анаит вышла из подъезда, Алика нигде не было.
Она потопталась немного – в надежде, что он поджидает ее где-то на площадке и вот-вот возникнет из-за угла, – но Алик не появился. Ни сообщений в «ватсапе», ни эсэмэсок: он просто уехал.
Анаит позвонила сотруднице музея:
– Ксения? Здравствуй, это Анаит Давоян. Мне сейчас сказали, что Николай Николаевич исчез. Это правда?
Ксения, понизив голос, все подтвердила. Вакулин пропал. Причем позаботился о музейщиках: оставил лаконичную записку: «Не ищите». Разумеется, после такого послания за поиски взялись с утроенной силой. Анаит выслушала, что и полиция приезжала, и частные детективы, у которых на лицах написано, что если они отыщут бедного Николая Николаевича, из него сделают отбивную, и еще скорая, потому что директриса поскандалила по телефону с Акимовым и у нее поднялось давление… Нужно развешивать картины, а кому этим заниматься, когда одна поехала в больницу, другая ушла с мигренью, а третья должна присмотреть за внуком…
Здесь Анаит прервала Ксению и решительно сказала, что сейчас примчится в музей и поможет.
– Святой ты человек, Ниточка, – от души сказала Ксения. – А сыра купишь по дороге? У меня как раз отменное чилийское есть совершенно случайно… Я считаю, нормальным людям противопоказано в этом бардаке находиться без допинга.
…Анаит купила и сыра, и коробочку эклеров, и несколько пирожков. Самоотверженная Ксения одна на хозяйстве – а значит, осталась без обеда.
* * *
– Кто о нас позаботится, если не мы? – риторически вопросила Ксения.
Они разлили красное вино и разложили на блюде эклеры, которые со своими шелковистыми шоколадными спинками напоминали семейство такс. К повседневному запаху музея – пыли и немного воска – присоединились энергичные ароматы пирожков с капустой.
– Пусть все снова станет нормальным! – провозгласила Анаит, и две девушки чокнулись мухинскими гранеными стаканами.
– С того дня, как украли картины, у нас дурдом! – Ксения, судя по ухмылке, ухитрялась получать от «дурдома» удовольствие.
Была она худенькая, с кудрявой, как у ангела, русой головкой и трогательно-беспомощным выражением лица, которое поразительно не соответствовало ее натуре. Таких деятельных и толковых людей Анаит нечасто доводилось встречать. В свои двадцать девять Ксения уже три года занимала должность заведующей выставочным сектором. Впрочем, музей был невелик и небогат, оттого Ксения тащила на себе поклажу из тысячи мелких обязанностей, не ропща и сохраняя бодрость духа.
– А Вакулин-то каков! Вонзил кинжал в спину!
– Может, он испугался? – задумчиво предположила Анаит. – Если он что-то видел, то может стать опасным свидетелем…
Ксения скептически глянула на нее поверх своего стакана.
– Ты сама в это веришь? Деньги ему сунули, вот и вся история. Или бутылкой отделались. А он не ожидал, что всех так отчаянно начнут трясти, – думал, пошумят немного и успокоятся. Не в первый раз картины пропадают – помнишь, у Юханцевой исчезли при перевозке?
– Ну, там-то просто потерялись… – Анаит думала о своем.
– Это да. Но бардак у нас ужасный! Если ты кому-то передашь мои слова, я тебя отравлю.
– Только если будешь травить чилийским.
Вдвоем они за час управились с развеской.
– Повезло с художницей, – кряхтела Ксения, принимая у Анаит из рук небольшую картину. – Акварелью работает, умничка! В малом формате! А мы три месяца назад выставляли Грачинского, так он, сволочь, знаешь на чем пишет? На шкафах!
– Это как?
– А вот так!.. Давай-давай, я приму… Шкафы старые находит по всему городу, разбирает их и малюет на внутренних стенках. На дверцах, например. Представляешь их вес? Мы тут впятером с ними корячились, чуть друг друга не пришибли… Вот же героическая смерть: умереть на работе, задавленной картиной. Где-то мне это уже попадалось в художественной литературе…
– Сомс Форсайт так погиб, спасая картины от пожара. Вернее, спасая дочь.
Анаит внезапно поняла, что безотчетно задело ее в словах Ксении.
– Подожди! Ты сказала, Маркова в больнице, потому что поскандалила с Акимовым? С Акимовым?!
Ксения усмехнулась:
– Думаешь, если он молчун, с ним уже и поскандалить нельзя?
– Не могу себе представить, – искренне сказала Анаит.
– А вот у нее получилось! Она кричала, что он подогнал нам вражью морду. Предателя внедрил в стройные наши музейные ряды. Ну, это мой свободный пересказ…
– А при чем здесь Акимов?
– Так сторожа взяли по его протекции, – удивилась сверху Ксения, глядя на Анаит со стремянки. – Предыдущий охранник уволился, мы искали нового, а тут как раз возник Мирон: у меня, говорит, имеется надежный человек, рукастый и непьющий. Заведующая его еще благодарила потом. А теперь ветер переменился. Вакулин всех подвел. И так-то было тревожно, а после его побега – вдвойне. Почему, ты думаешь, у Марковой нервы сдали? Сорваться на Акимове! Мы же все понимаем, что он ни при чем.
Закончив, Ксения убежала куда-то, а Анаит присела на подоконник в пустом выставочном зале. Снаружи доносились голоса, шаги, выкрики, шум машин… За окном незаметно сгущались сумерки. И вот уже прозрачность воздуха сменилась глубокой сказочной синевой, словно небо просело до самого асфальта и все пешеходы и водители идут и едут сквозь него, не замечая, что давно уже на небесах.
А потом зажглись фонари, и город сразу утратил иллюзорность. Химеры растворились в стенах, оставив неясный абрис на штукатурке. Улица стала тихой, уютной и обжитой, как бабушкина квартира, и только старческий дребезжащий голос трамвая изредка заставлял вздрагивать ее обитателей.
Глава 3
День снова выдался теплый. Сухая дорога в этот ранний час еще не заполнилась машинами. Вдоль обочин торчали лисьи хвосты пушистых колосьев. Сергей и Макар ехали в ближнее Подмосковье: возвратившийся из командировки Бурмистров назначил встречу в своем загородном доме.
«Он ждет вас на даче», – сказала накануне Анаит. Голос у нее был извиняющийся.
Им пришлось миновать два пункта охраны, прежде чем они попали на территорию, принадлежащую Бурмистрову. Увидев «дачу», Бабкин завистливо вздохнул. За кованым забором высился двухэтажный бревенчатый терем с верандой. Вокруг росли туи, в центре искусственного пруда бил фонтан.
Ворота открылись автоматически. Сыщики вышли из машины и огляделись: вокруг никого не было. Но вскоре на крыльце показалась приземистая женская фигура, махнула рукой, показывая, куда им идти, и скрылась за дверью.
– Так выглядит теплая встреча, – пробормотал Сергей.
– Занятой человек, – благоговейно сказал Илюшин. – Все, что можно, делегирует помощникам.
– Вот помощникам и делегировал бы расследование. – Бабкина уязвило, что клиент не вышел их встретить.
Когда они оказались внутри, очарование купеческого терема рассеялось. В огромной пустой гостиной, на удивление холодной, несмотря на затопленный камин, со стен смотрели головы волков, лосей и медведей. Любопытный Илюшин немедленно принялся изучать окружающее пространство и в углу, в застекленной витрине обнаружил композицию из бекасов, живо напомнившую ему детские посещения зоологического музея.
Гостиную разделял пополам длинный дубовый стол. Гигантский экран на противоположной стене беззвучно транслировал виды Новой Зеландии.
– Какой-то, блин, ресторан «Охотник», – пробормотал Сергей, неприязненно разглядывая интерьер.
Снова появилась женщина, молча сделала жест, приглашая за ней.
– Может, у него здесь помощники немые? – тихо предположил Бабкин.
– Ты не вызываешь у них доверия, Сережа.
– Ты вот у меня доверия не вызываешь. Но я же с тобой разговариваю…
Комната, куда их привели, оказалась вдвое меньше гостиной. Пол устилали шкуры и ковры. Бабкин с внутренним содроганием погрузил грубый пыльный ботинок в длинный ворс. А вот Илюшину все было нипочем – он прямо по шкурам бодро зашагал в своих кроссовках, направляясь к человеку, сидящему в кресле за столом.
Этого сидящего за столом Бабкин в первую минуту совсем не заметил. Сначала тревожился, что испачкает ковры, а затем оторвал взгляд от пола – и увидел стены, увешанные картинами.
Даже у плохо разбиравшегося в живописи Сергея не возникло сомнений в том, кто их автор.
Автор сидел за столом и встал, чтобы пожать руку Макару.
– Присаживайся! – Бурмистров кивнул на кресло. – А приятель твой чего? Любуется?
Бабкин проглотил рвущееся из глубины души предложение вернуться в гостиную и поздоровался с хозяином.
Бурмистрову на вид было около сорока пяти. Плотно облегавший черный спортивный костюм подчеркивал его сложение тяжеловеса. Широкоплечий, коротконогий Бурмистров с недовольной усмешкой взглянул снизу вверх на Бабкина, подошел и зачем-то похлопал его по плечу. Илюшин насмешливо вздернул бровь. Сергей выдержал похлопывание, не моргнув глазом: натренировал терпение на искусствоведе.
К тому же в отличие от искусствоведа Бурмистров им платил.
В облике Игоря Матвеевича в первую очередь привлекал внимание лоб. Высокий, выпуклый, растекающийся вверху на две желтоватые залысины, а в междуречье увенчанный черным завитком, такой лоб мог бы принадлежать интеллектуалу, мыслителю. Впечатление портили глаза. Глаза у Бурмистрова были разнесены на такое расстояние, что между ними поместилось бы еще одно лицо. Из-за этой особенности Игорь Матвеевич напоминал то ли быка, то ли рыбу толстолобика.
– Докладывайте, – разрешил он, плюхнувшись в кресло. – Чего добились? Какие у вас успехи?
Бабкин взглянул на Илюшина. Илюшин слегка откинул голову назад, рассматривая клиента.
Собственно, на этом Бурмистров мог бы и закончиться как клиент.
Ситуацию изменило вмешательство третьей силы.
Откуда-то появились два крупных пятнистых кота с лоснящимися шкурами. Они непринужденно взлетели на стол и разлеглись, вытянувшись во всю длину. Кончики их хвостов мелко подрагивали. Коты напоминали миниатюрных гепардов и крайне не понравились Бабкину. Выглядели они злыми, возбужденными и непредсказуемыми.
Бурмистров протянул руку к ближнему, намереваясь потрепать его по холке. Быстрый взмах располосовал воздух. Хозяин едва успел отдернуть ладонь.
– Фу, дурак! – прикрикнул он. – Пошел!
Кот, сощурив глаза, с омерзением взглянул на Бурмистрова и лизнул подушечки передней лапы с таким видом, словно чистил клинки перед боем. Сергей почувствовал, что лед в его душе тает. Определенно, было в этих пятнистых тварях нечто симпатичное, незаметное с первого взгляда…
Сидевший почти вплотную к столу Макар точно так же протянул руку – никто слова не успел сказать – и рассеянно почесал за ухом другого кота. Вместо того чтобы разодрать наглецу запястье, кот запрокинул голову и замурлыкал. Сергей и Бурмистров оторопело уставились на него. Илюшин почесал коту подбородок. Второй, бросив вылизываться, неторопливо переместился к нему поближе и обнюхал его пальцы. Илюшин почесал ему нос.
«Дрессировщик хищников, – с невольным восхищением подумал Сергей. – Мог бы на арене выступать с этим номером».
Илюшин, не подозревая о возможной карьере циркового артиста, гладил котов, о чем-то раздумывая, и наконец пришел к определенному выводу. Холодные серые глаза остановились на Бурмистрове. Словно по команде, звери тоже уставились на хозяина.
– Внесу ясность, Игорь Матвеевич, – сказал Макар. – Мы предоставляем вам отчет раз в четыре дня, как и записано в договоре. Если вас не устраивают условия, мы готовы расторгнуть его в любую минуту. – Он помолчал, давая время обдумать сказанное. – Мы приехали, чтобы расспросить вас об отношениях внутри союза и других деталях случившегося. Не для того, чтобы предоставить вам отчет. Мне хотелось бы, чтобы в этом вопросе не было ни малейшей двусмысленности.
Бурмистров молча смотрел на него, и по выражению его бычьих глазок ничего нельзя было понять.
Коты, тесня друг друга, теперь топтались на краю стола.
Точка зрения Илюшина была донесена предельно ясно. «Ты нам не хозяин». А с учетом котов хозяином ситуации, определенно, в этот момент выглядел Макар.
– Вот предатели, – вдруг весело сказал Бурмистров, оглядывая пятнистых тварей. – Кастрирую обоих. Короче! О чем ты поговорить-то хотел?
Илюшин коротко взглянул на Сергея, и тот придвинулся ближе, достал блокнот.
– Кто был заинтересован в том, чтобы приобрести ваши работы? «Тигров» и «Владыку мира»?
Сергей задал вопрос наугад, просто чтобы о чем-то спросить. Он понимал: сейчас главное – втянуть Бурмистрова в беседу. В отличие от Илюшина, который, не задумываясь, вышел бы отсюда, послав Игоря Матвеевича к черту, Бабкин держал в голове сумму, которую им предстояло получить в результате успешного расследования. На людей, подобных Бурмистрову, он насмотрелся еще в годы работы оперативником, и их желание подмять под себя весь мир не вызывало в нем такого внутреннего протеста, как в Макаре.
Бурмистров пожевал губами:
– Да я их как бы не продавал… Они должны были ехать на европейскую выставку. Представлять достижения российской живописи.
Сергей взглянул на Игоря Матвеевича внимательнее, но тот был серьезен.
– Представлять достижения? – невольно повторил он.
– Ясинский меня выбрал, – со спокойным достоинством кивнул Бурмистров. – Сам бы я еще кое над чем поработал… Но если человек понимает, я что, спорить с ним буду?
Бабкин скосил глаза на картину, висевшую за спиной хозяина: по океанскому берегу шла обнаженная женщина и вела в поводу коня.
Ему показалось, за приоткрытой дверью, откуда явились коты, мелькнула женская фигура.
– Кто мог быть против того, чтобы ваши картины попали в Нидерланды?
Бурмистров наморщил нос.
– Тут вот какое дело, – начал он. – Я в союзе белая ворона. Пришел весь такой, они там годами учились, кисти грызли, книжки умные читали… А особо достижений-то нету, похвастаться нечем. Ну, пейзажи, ну, какая-то заумная байда… И тут появляется человек, который просто все это на лету хватает, все эти их планы-лессировки-перспективы… Такое вообще трудно перенести: когда приходит кто-то, кто обскакивает тебя по всем параметрам. А если это еще и самоучка! У-у-у… – Он вытянул губы трубочкой и покачал головой.
Бурмистров рассказывал основательно и долго. Он говорил о завистниках, о тех, кому не досталось и сотой доли его таланта, о кознях, которые строились против него, о замыслах своих работ…
На кознях Сергей Бабкин встрепенулся.
– Кто-то пытался вам навредить?
– Да была одна! – Бурмистров махнул рукой. – Они же глупенькие. Привыкли мелко гадить друг другу. А тут в прудик заплыла рыба, которая им не по зубам…
Он самодовольно усмехнулся.
– Расскажите подробнее, – попросил Сергей.
– За подробностями – это к Ясинскому. Он их всех строит, как детсадовцев. Я чисто по фактам тебе могу. Короче, одна художница начала слухи распускать. Я слухов не люблю. Есть чего против? Говори в лицо, раз храбрая такая. А по кустам ховаться и оттуда шипеть… Не люблю.
– Какие слухи она распускала?
– Инсинуации, – веско сказал Бурмистров и замолчал – очевидно, в уверенности, что все объяснил.
– Какого рода? – терпеливо спросил Сергей.
– Ну, я же говорю тебе: инсинуации. Понимаешь, что это?
– Не уверен, – признался Бабкин со всем возможным смирением.
– Пела, что я занес Ясинскому или Ульяшину, уже не помню… в общем, кому-то занес, чтобы меня приняли в Имперский союз… – Он осуждающе покачал головой. – Люди всех по себе меряют. Потом начала нести чушь про картины… А я тебе вот скажу. – Бурмистров подался вперед. – Про меня можно что угодно чесать языком. Я, знаешь, не червонец, чтобы всем нравиться, я-то стерплю. Чужой успех людям всегда глаза мозолит. Да и как бы посуди сам: на кого обижаться? На этих убогих, что ли? Они там через одного то голодранец, то калека. Но вот когда мое творчество задевают, этого не надо. Та художница от слова «худо» – она не против меня тявкала, она против моих картин тявкала.
Бурмистров вернулся в прежнюю позу и обвел взглядом полотна на стенах. Выглядел он как полководец, обозревающий своих лучших солдат. Бабкин все-таки не удержался и посмотрел на коня. Конь с тоской смотрел на Бабкина, и во взгляде его было написано: «Пристрелите меня уже кто-нибудь».
«Терпи, – мысленно ответил ему Бабкин. – Мы же терпим».
«Ты-то потом своими ногами отсюда уйдешь, а я на этих копытах даже утопиться не могу», – сказал конь.
Бабкин малодушно отвел взгляд.
– Чем все закончилось? – спросил он.
– Я ж говорю, мне такое спускать не с руки. Хотела воевать, героиня, – получи войну. Разобрался с ней. Я, извини, в позу терпилы становиться не подписывался, так?
– Каким образом разобрались?
– Ну, пообщался с Ясинским. Узнал, что там с художественной ценностью картин у этой деятельницы. И почему она, ты думаешь, вопила громче всех? – Бурмистров развел руками. – Потому что сама вообще рисовать не умела. Ни формы, ни цвета. Мысли нету. И-де-и. Вообще ничего. Когда я появился, она на меня накинулась – творческой зависти не выдержала. Ну, Ясинский заявил, что и так слишком долго ее терпел, и выкинул. Это как бы, согласись, было не мое решение. Я только задал вопрос.
– Давно это случилось?
– Года два назад…
– А фамилию этой художницы вы помните?
– М-м-м… Кочегарова, что ли… Слушай, у Ясинского спроси. Я такую ерунду не запоминаю.
– Игорь Матвеевич, а как вы пришли к живописи? – вдруг подал голос Илюшин.
Даже чуткое ухо Сергея не уловило в его вопросе ни ноты насмешки. Он встревожился, что Бурмистров спросит, какое их собачье дело, – и отчасти будет прав; Сергею не было понятно, чем продиктован интерес Макара.
Однако Бурмистров не только не рассердился, но и благосклонно покивал.
– Я в бизнесе, так сложилось, всю жизнь. Вкалывал до седьмого пота, думал только, как семью обеспечить… У меня жена, родители, – пояснил он. – А тут бац – мне сорок, и супруга объявляет о разводе…
– Как так? – ненатурально удивился Макар.
– На ровном месте, – прочувствованно сказал Бурмистров. – Живешь, доверяешь человеку, а потом удар ножом в спину. Это жизнь, мужики… Это, мать ее, жизнь.
Он тяжело вздохнул и посмотрел на приоткрытую дверь. «Накрыли в бане с девками», – решил Сергей.
– Свинтила любезная моя супруга, я остался один. Одиночество… Кто его испытал, тот прежним не станет. Ну, страдание – оно, в общем, облагораживает душу. Об этом еще Достоевский писал. – Бурмистров помолчал. – Отправился я к психотерапевту. Проницательная баба! Не зря за прием дерет. На первой встрече спрашивает: нет ли у вас хобби или скрытых талантов? Чем вы любите заниматься?
«Коней калечить», – мрачно сказал про себя Сергей.
– Я прикинул и думаю: ну, можно в сторону искусства двинуться.
– Ваша бывшая жена рисовала? – невинно спросил Макар.
Сергею показалось, что этот вопрос сбил Бурмистрова с настроя. Он недовольно уставился на перебившего его сыщика.
– В частной школе вела изостудию, – признал он после некоторого раздумья. – В общем, я нашел препода, в школу записался, начал рисовать… Чувствую – прет! Вообще обо всем забываю, когда захожу в мастерскую. Я мастерскую обустроил наверху… – Он кивнул в сторону второго этажа. – Но сначала только для себя писал, не было мысли выходить на широкую публику. А потом как-то раз ко мне друзья завалились. Посидели душевно, я им показал свои эксперименты… Тогда, конечно, еще неопытный был. Много ошибок делал. Но душа-то все равно прорывается через ошибки, если человеку есть что сказать. Короче, друган смотрит и говорит: круто, Игорь, я бы реально купил! Другие его поддержали. Один говорит: «Я бы у себя повесил!» Второй: «Я бы жене подарил!» Меня озарило: значит, то, что я делаю, нужно людям, а? Мои друзья мне бы врать не стали. Я нашел Имперский союз, подал заявку… Ни на что особо не рассчитывал. А потом мне сам Ясинский позвонил… Вот и понеслось.
– Спасибо, что поделились. – Илюшин был сама кротость. – Это очень вдохновляющая история.
– Ну, не каждый сможет, как я, – спустил его с небес на землю Бурмистров. – Но попытаться всегда стоит.
И вновь в проеме мелькнула женская фигура. Сергей разглядел розовое бедро и длинные волосы.
Бурмистров, проследив за его взглядом, встал, прикрыл дверь и с непроницаемым видом вернулся на место.
– Игорь Матвеевич, у вас есть предположения, кто заинтересован в краже ваших картин? – спросил Сергей.
– Есть, да. Правда, это должна быть ваша идея. Не я же деньги за расследование получаю. Но мне не жалко, могу и поделиться. Я навел справки и кое-что выяснил. На чужой кухне пошушукал, так сказать. Союзов художников вроде нашего – их несколько. Они между собой, как ты догадываешься, конкурируют. Люди, потребители то есть, живут в разных квартирах… У одного домик побольше, у другого поменьше, но пространство-то – что?
– Трехмерно? – предположил Илюшин.
– Пространство конечно, – снисходительно сказал Бурмистров. – Сколько картин можно в одной квартире повесить? Ну, десяток. Может, дюжину. А кушать-то всем хочется, в том числе художникам. Хоть у них краски и съедобные, ха-ха-ха! Ну, не все! Это я обобщаю, понимаешь?
– Конкурируют, – вернул его к исходной мысли Бабкин.
– Да, верно. Союзы бьются за каждого клиента. Это же бизнес, надо понимать. Законы суровые, как в любом бизнесе. Если ты не съел, то съели тебя. А наш Ясинский – это такая голова, что ей палец в рот не клади. Пробивной мужик, у него все схвачено. Вот кого уважаю! Получается – что? Он сделал ставку на меня. А кое-кто не хочет, чтобы эта ставка выстрелила. Вот тебе и мотив.
– У вас есть конкретные подозреваемые?
– За конкретными подозреваемыми я вас нанял. Да, и вот еще что… За мной следили. Началось это недели три назад. Я сначала думал: чудится. Но интуиции надо доверять. А она у меня о-го-го, верная подруга! – Бурмистров сделал такое движение, будто собирался одобрительно похлопать самого себя по плечу. – Я их машину приметил. Серый «пыжик», крутился за мной… Номера грязные, водилу не разглядеть. А потом и здесь объявился какой-то хмырь. Пошатался и исчез.
* * *
Выйдя на свежий воздух, Сергей ощутил такое облегчение, словно два часа провел не в бревенчатом тереме, а в вонючем зиндане. Он закурил бы, если бы не обещание, данное самому себе.
– Поехали отсюда, – сказал Илюшин, разделявший его чувства. – Нужно перебить эту живопись новыми впечатлениями.
– Ты копыта у коня разглядел?
– Копыта? Нет. Я вдохновлялся картиной с изображением ангельского воинства и демонов.
– Не обратил внимания.
– Выглядит как битва пациентов психиатрической лечебницы с медперсоналом. Даже белое облачение похоже. Должно быть, срисовывал ангелов со знакомой медсестры.
– Кстати, у него там какая-то баба шастала…
– Серега, очевидно, Бурмистров – выдающийся художник, просто мы чего-то не понимаем, – удрученно сказал Илюшин. – Этот жлоб действительно от природы талантлив. А мы с тобой из рода той заплесневелой серости, которая игнорировала Ван Гога, издевалась над Гогеном, довела Вермеера до невроза и Модильяни до обнищания. – Он посмотрел на часы. – Так, до встречи с Мартыновой остается три часа.
– Позавтракать успеем!
– Нет, езжай на Бережковскую набережную. Там неподалеку есть выставочный центр.
Бабкин помрачнел:
– Тебе одного художника не хватило?
– Имперский союз почти в том же составе, в котором был в музее, переместился на новую площадку. Хочу взглянуть на работы коллег Бурмистрова.
И сопротивляющийся, несчастный Бабкин был затащен на выставку, где они оказались чуть ли не единственными посетителями в этот час.
Внутри Сергею неожиданно понравилось. Просторные залы с белыми стенами. Непривычное звучание собственных шагов. «Пространство без вкуса и запаха», как определил Макар. Наверное, думал Сергей, такими и должны быть выставочные площадки: без своего голоса, чтобы не перебивать голоса экспонатов.
Женщина за кассой предупредила, что вскоре начнут прибывать посетители, и Илюшин потащил Сергея скорее смотреть картины, утверждая, что в толпе восприятие будет совершенно не то. Бабкин пытался уговорить его сначала выпить кофе в местном кафетерии, но, когда Илюшин чего-то хотел, противостоять ему было невозможно.
Они оказались в просторном помещении, увешанном картинами. На этот раз Имперский союз арендовал только один зал.
– У тебя есть уникальная возможность создать впечатление о людях, которых тебе предстоит увидеть, – сказал Илюшин.
– Ты о чем?
Макар вздохнул:
– О самовыражении, мой недогадливый друг. Те, кого нам нужно опросить, отчасти присутствуют здесь, перед тобой, на этих стенах. – Он широким жестом обвел зал.
– Час назад ты насмотрелся на самовыражение Бурмистрова, – флегматично сказал Бабкин. – И как, сынку, помогли тебе твои ляхи? Понял ты о нем что-то новое?
– Мне отвратителен твой скептицизм, – с достоинством сообщил Илюшин и, заложив руки за спину, устремился к картинам.
– Трепло, – фыркнул Сергей и пошел за ним.
Спустя полчаса он решил, что увидел достаточно, и облегченно опустился на банкетку посреди зала. От живописи у него рябило в глазах, и он стал наблюдать за Илюшиным.
Смотреть за Макаром было так же увлекательно, как изучать повадки какого-нибудь лесного зверя. Илюшин двигался легко и плавно, буквально перетекая от картины к картине. Бабкину невольно вспомнились утренние коты. Но, выбрав объект, Илюшин замирал и становился неподвижен, точно хищник в засаде.
К этому времени галерея постепенно начала заполняться, и Сергей получил материал для сравнений. Люди, вставая перед пейзажами или портретами, топтались, перемещали вес тела с ноги на ногу, шевелились, наклоняли головы, покашливали, поправляли сумки, потягивались… По контрасту с их суетливостью неподвижность Илюшина казалась нечеловеческой.
Интереса Макара к картинам Сергей не понимал. Самому ему понравились только пейзажи. Пожалуй, пару из них он бы согласился повесить в квартире. Сочные, яркие – казалось, краски брызжут из них, точно из сжатого в кулаке апельсина. Автором пейзажей значился Тимофей Ломовцев.
Маше могли бы понравиться цветы. Едва намеченная линия подоконника, стеклянная ваза, преломляющая солнечные лучи, и над прозрачно-сияющим стеклом – крупные пурпурно-розовые мазки раскрывающихся пионов с точно переданным густым сумбуром почти живых лепестков. Казалось, если стоять перед картиной достаточно долго, среди них мелькнет муравей. Крепко сжатые младенческие кулачки бутонов в зеленых рубашонках торчали далеко в сторону, и даже Сергею было понятно, что этот длинный взмах совершенно необходим, что без него картина не состоится. «Майя Куприянова», – прочел он подпись.
Несколько картин, изображавших замощенные булыжником площади с взлетающими над ними голубями, показались ему смутно знакомыми. «Наталья Голубцова». Он повертел это имя в памяти. Кого же еще рисовать Голубцовой как не голубей… Но где же он видел эти площади и птичек?.. Голуби, впрочем, при ближайшем рассмотрении оказались собратьями по несчастью бурмистровского коня. Что-то в их анатомии наводило на мысль, что не рождены они ни для счастья, ни для полета.
Обнаженную натуру Сергей пропустил. Как человек старомодных взглядов, он предпочел бы, чтобы все эти женщины были одеты.
Дальняя стена была отведена под очень странные, на его взгляд, работы. Безумные длинноногие зайцы поднимались над деревьями, точно башенные краны; из растений прорастали головы кричащих людей…
Но больше всего его озадачили картины некоего Мирона Акимова.
Три из них изображали кита и рыб в разных сочетаниях. На огромных холстах через гигантскую тушу кита, как сквозь скалу, плыли розово-золотистые рыбы. Рыбы били фонтаном из китовой головы; рыбы покрывали кита, словно чешуя. Здесь, видимо, нужно было узреть некую идею, но Сергей для этого слишком проголодался.
Последняя картина вызвала у него отторжение. В толще серо-синеватого воздуха висели уши – полтора десятка ушей. Бабкин поморщился и сказал себе, что с него хватит.
Как назло, именно перед Акимовым Илюшин и застрял. Трижды уходил – и трижды возвращался.
«Да что он в нем нашел?»
«Почему уши?» – спросил себя Макар.
В этих фрагментах человеческих тел была потусторонняя прозрачность. Илюшин вглядывался с изумлением, пытаясь понять, каким образом удалось достичь художнику поразительного эффекта: любой из фрагментов казался некоторым образом больше, чем целый человек. Словно в розово-перламутровую раковину каждого уха ему удалось закатать, точно в консервную банку, все человеческое существо.
«Одухотворенные уши», – озадаченно подумал Макар. Полотно ему не нравилось. Оно было неприятным, даже отталкивающим. Но оторваться от него он не мог. Так в детстве взахлеб читал рассказы Эдгара По, не понимая и половины, ужасаясь, внутренне корчась и ощущая, что эти запутанные коридоры ведут его к чему-то скверному, однако не в силах был захлопнуть книгу.
* * *
По пути к Мартыновой Илюшин позвонил помощнице Бурмистрова.
– Анаит, вам было известно о конфликте Игоря Матвеевича с художницей из Имперского союза? Кажется, Кочегаровой.
– Я ничего об этом не слышала, – растерянно сказала Анаит. – Но я не так давно работаю у Игоря Матвеевича… Должно быть, все это произошло до меня.
Макар отметил, что с момента возвращения Бурмистрова в ее голосе появились извиняющиеся нотки.
– Кто может быть в курсе, кроме Ясинского? – Илюшин пока не хотел обращаться к нему за разъяснениями.
– Ульяшин или Ломовцев. Павел Андреич – по должности, а Тимофей – по вдохновению души. Он все обо всех знает.
Илюшин уточнил напоследок, любит ли Мартынова цветы, выслушал ответ, поблагодарил и попрощался.
– Ну что, в цветочный? – спросил Сергей. – Мы уже рядом, минут десять осталось.
– В табачный, – коротко ответил Макар.
– Серьезно?
– Ага. Анаит утверждает, что всем цветам Антонина Мартынова предпочитает хороший табак.
Вот почему Бабкину заранее представилась старая карга в замусоленной накидке, с горящим глазом и крючковатым носом, под которым в углу проваленного рта торчит дымящаяся трубка.
Из всего этого сбылась только трубка.
– Можете называть меня «госпожа оформитель», – сказала она, когда Макар спросил, как лучше к ней обращаться. – Феминитивов не терплю.
Непонятно было, шутит или говорит всерьез.
Госпожа оформитель взглянула на Бабкина и сжалилась:
– Антонина – вполне нормально и более чем достаточно. Ого, а вот это отлично!
По тому, как обрадовалась она табаку, Сергей понял, что Илюшин угадал с подношением. И трубку Антонина набила сразу же и с этой трубкой в зубах принялась расхаживать по мастерской: высокая, худая, босая, в подвернутых грязных джинсах и свободной рубашке трудноопределимого цвета. Узел русых волос на голове протыкала и удерживала длинная кисточка.
По мастерской за хозяйкой поплыл крепкий табачный дух, перебивая скипидарную вонь и что-то еще химическое, едкое.
– Офортный станок, – бросила она Сергею, уставившемуся на непонятное приспособление, на первый взгляд напомнившее снаряды в тренажерном зале.
Мастерская находилась в полуподвальном помещении с длинным узким окном под самым потолком. Над головой Бабкина подрагивали белые лампы, похожие на папиросы. Гигантский стол под окном, во всю ширину комнаты, был завален листами, тюбиками, карандашами, какими-то штампами и бог знает чем еще – у половины предметов в этой комнате он не понимал назначения.
Полетели в сторону раскрытые книги, а под ними обнаружился плоский панцирь электрической плитки. Вздулась и опала над туркой крепкая пена, и Бабкин получил наконец вожделенную кружку кофе – керамическую, огромную, как ступа Бабы-яги. Илюшину достались гейши, прогуливавшиеся под руку по перламутровым берегам старой фарфоровой чашки.
Сыщики устроились на колченогих табуретах. Сергей думал, что тут табурету и придет конец, но колченогий, не скрипнув, выдержал вес его огромного тела.
Мартынова присела на груду картонных папок. Сидела, выпускала дым, насмешливо оглядывая их ореховыми глазами. «А интересно было бы взглянуть на ее работы», – подумал Бабкин.
– Ну, давайте ваши вопросы, – весело предложила Антонина.
Илюшин отпил очень горький и очень крепкий кофе и без вступлений сказал:
– Мы расследуем исчезновение картин Бурмистрова. Вчера нам сообщили, что каждую из них можно оценить от полумиллиона до миллиона…
Он вынужден был прерваться. Антонина изменилась в лице, а затем громкий хохот огласил подвальную мастерскую. Художница смеялась, запрокинув голову, утирая слезы и мотая головой, словно счастливая лошадь, вырвавшаяся из загона на пастбище. За окном при звуках этого хохота остановились на тротуаре чьи-то озадаченные ноги.
– А-ахахаха! Это вам… Ха-ха!.. Бурмистров сообщил? – выговорила она наконец. – Что-то он поскромничал! Что ж не миллиард?
– Это слова искусствоведа Дьячкова…
Второй взрыв смеха оборвал Илюшина.
– Узнаю Родиона Натановича, – слегка успокоившись, сказала Мартынова. – Гнусный лживый червяк. Такого и придушить платочком было бы не грех. Красным, в голубую дрисочку.
Бабкин с изумлением уставился на человека, с такой точностью угадавшего его тайное желание.
– К Дьячкову нас отправил Ясинский!
– Узнаю Адама Брониславовича, – насмешливо парировала Мартынова. – Он, конечно, масштабное жулье, но по-прежнему прокалывается на таких вот мелочах.
Илюшин вспомнил благообразного джентльмена с умным взглядом хорошо воспитанной собаки. Масштабное жулье?
– Вы не виноваты, – утешила Антонина. – У вас наверняка сложилось превратное представление о том, что такое Имперский союз. Человеку со стороны и в самом деле разобраться в этом довольно непросто… Давайте я сразу скажу: картины Бурмистрова не стоят вообще ничего. Ценны разве что рамы, которые для этого кретина с манией величия нашла Анаит, обегав, между прочим, все антикварные магазины Москвы.
Бабкин тихо и счастливо засмеялся. Макар недоуменно взглянул на него, понял – и спустя секунду тоже хохотал.
– Что? Что такое? – Мартынова переводила взгляд с одного на другого.
– Кретин, значит? С манией величия?
Она пожала плечами:
– Вы же его видели. Его – и его работы.
– То есть, погодите… – Бабкин хотел окончательной ясности. – Украденные «Тигры» и «Барс» – плохие картины?
Антонина с сочувственной улыбкой посмотрела на него, словно ребенка по голове погладила.
– И тигры, и барсы, и прочая кунсткамера. Послушайте, Бурмистров – даровитый бизнесмен, но он, как и многие, ничего не понимает о себе, когда речь заходит о творчестве. Вы знаете его путь к живописи? Он сходил на курсы «Нарисуй картину за три часа». Нарисовал! Нанял частного учителя, который трижды в неделю заверял ученика в его гениальности. Вам известно, как безденежье воздействует на голодных преподавателей рисунка и живописи? В них пробуждаются доселе дремавшие актерские способности. Они даже акулу способны убедить в том, что она вегетарианец, если акула гарантирует регулярную оплату. А с Бурмистровым и особых усилий не потребовалось. Он прочел ровно две книжки: «Рисуем животных» и «Открой в себе гения». На курсах его хвалили. Преподаватель его хвалил. Друзья его хвалили. Откуда у человека с таким характером возникли бы сомнения в собственной гениальности? Насмотренность у него нулевая. Образование – девять классов. Он Брейгеля от Гегеля не отличает! Всерьез интересовался у Анаит, не существует ли тигровой краски, чтобы раскрашивать тигров в один прием. Это же анекдот! Даже рассказывать всерьез невозможно, потому что никто не поверит. А оно-таки правда!
– Но Амстердам… – слабо квакнул Бабкин. – Выставки… Альманах! – Он вспомнил, как Дьячков упоминал, что работы Бурмистрова представлены в каком-то ежегодном альманахе.
– Это альманах Имперского союза, – пояснила художница. – Он создается Дьячковым, собирается им и парой-тройкой других купленных искусствоведов, которые роятся вокруг союза, как плодовые мушки над подпорченным яблоком, и питаются с него. Ладно, давайте на пальцах! Есть такой Союз художников России. Это правопреемник Союза художников СССР. Могучая организация, объединяющая профессиональных мастеров и искусствоведов. Такая могучая, что даже заплесневелая. Попасть туда человеку без художественного образования затруднительно, какого бы масштаба талантом он ни обладал. Да и с образованием непросто. Однако существует туча любителей, желающих выставляться, находить своего зрителя, вращаться в общей тусовке, да просто зарабатывать своим искусством! Адам Ясинский в свое время понял, что это питательнейшая кормовая база. На художниках можно делать деньги.
– Каким образом? – вмешался Макар. – Черт, нет, я не понимаю. Нищие создания! Ни гроша за душой!
– Вы сегодня одного художника уже видели, – заметила Антонина. – Как там у него с грошами дела обстоят, по-вашему? Про душу не спрашиваю, она Ясинского мало интересует.
Макар озадаченно умолк.
– Ясинский – мошенник, – пригвоздила Мартынова. – Карьерный путь его довольно извилист, но до Имперского союза он окучивал Минкульт. Кажется, обеспечивал государственную поддержку искусству и народному творчеству… Ну, вы легко можете это проверить. С многочисленных фондов кормится не он один. Но Ясинский зарвался и вынужден был уйти. По собственной воле он никогда не выдернул бы из министерства свой цепкий хоботок: видимо, кто-то его прижал. На некоторое время Адам оказался не у дел, а потом судьба свела его с Ульяшиным… Через которого он втерся в доверие к моим коллегам.
«Ульяшин – один из столпов “Имперского союза”, – вспомнил Бабкин слова сотрудницы музея.
– Ульяшин – художник, и неплохой, – словно отвечая на его мысли, сказала Антонина. – Жук, хитрец и феноменальный ловчила. Рассказывают, что в свое время, еще в девяностых, ему удалось оформить выделенную в аренду мастерскую как жилую площадь. Не знаю, правда ли это… Мастерские, как вы знаете, выдает в аренду государство, у них вообще-то статус нежилого помещения, и после смерти временных владельцев все они передаются другим художникам. В общем, не могу поручиться, что это не выдумка. Однако точно могу сказать, что Пал Андреич, всеобщий любимец и душка, – обладатель просторной квартиры в мансарде. Которая когда-то была мастерской.
– Ясинский использовал Ульяшина как мост для налаживания связей с художниками? – спросил Макар.
– Разумеется! Адама никто не знал и не принял бы. Понятия не имею, как они договорились с Ульяшиным, но у меня нет сомнений, что Павел Андреевич имеет свой маленький гешефт. Может быть, Ясинский с его связями заманил его и чем-то еще… В результате этого договора Ульяшин составил ему протекцию. Зажег лампочку поздним вечером на крыльце – и бабочки потянулись на свет.
– Но зачем? – спросил Макар. – Что с этого имеет Ясинский?
Мартынова в несколько приемов утрамбовала в чашу трубки сухой табак и щелкнула над ним зажигалкой. По мастерской пополз дым с привкусом корицы. Она затянулась и скрестила вытянутые босые ноги.
– Имперский союз сделан по образцу старшего брата – Союза художников. Все его участники платят членские взносы, имеют карточку члена союза, они проводят выставки, постоянно встречаются, издают альманахи ужасного дизайна, прикормленные искусствоведы пишут заказные статьи, выдают грамоты, красивые дипломы, а если Ясинский договаривается с музеем, то еще и музей может напечатать какую-нибудь бумаженцию на официальном бланке с печатями. – Она хрипловато рассмеялась. – Ради такого будешь отчислять деньги в казну! Взносы невелики, но регулярны. А еще художники должны платить за участие в выставках. Вы удивитесь, если узнаете, какова разница между реальной арендой залов и тем, что собирается с художников. Часто куратор выставочных площадей имеет от Ясинского свой процент…
– …и поэтому не заинтересован в тесном и откровенном общении с художниками, – кивнул Макар.
– Вот видите, вы уже схватываете! Продолжайте следить за руками. Вам известно, что, например, Лувр запросто сдает площадки под международные выставки молодых художников? И если ты достаточно оборотист и хитер, а также имеешь наработанные связи, не составит труда туда пробиться. Представляете ли вы, что это значит для художников? Какова магия этого слова? Лувр! Для них это доказательство, что они признаны на мировом уровне! И художники платят – платят, чтобы потом рассказывать, что их картины висели не где-нибудь, а в главной галерее всего мира. Хоть последнее и не соответствует истине. И, ради бога, перестаньте считать всю эту братию голью перекатной! Да, есть и такие. Однако Ясинский нацелен на других. Среди членов Имперского союза хватает обеспеченных людей, которые в сорок или пятьдесят внезапно ощутили в себе призвание художника. Они пишут чудовищно уродливые поделки, перерисовывают с фотографий, с чужих картин, да если бы с картин – с открыток! Думаете, я шучу? Ничуть! Увеличивают картинки на компьютере, распечатывают – и перерисовывают по клеточкам. Все это потом будет упрятано в золотые багеты шириной с ладонь, закрыто шикарным антибликовым стеклом, оформлено в дивной красоты паспарту… Собственно, Бурмистров – их идеальный представитель. Вы и вообразить не можете, сколько он отстегивает Ясинскому. А если таких в союзе десять человек? Двадцать?
– Открытки… – пробормотал Сергей.
– Что, простите?
– Голуби!
Он вдруг понял, где встречал голубиную стаю над площадью. Маша как-то покупала своей знакомой в подарок вышивальный набор. Требовалось только следовать схеме и аккуратно класть стежок за стежком, чтобы получить готовую картинку.
Обложка в целлофановой обертке встала перед глазами Сергея во всех деталях.
Он потрясенно взглянул на Антонину.
– Картины Голубцовой – это наборы для вышивания!
– О, Голубцова – это бездны! – засмеялась Антонина. – Но не буду спойлерить. Вам ведь еще предстоит познакомиться с ней, правда? Что я еще не упомянула? Ах, выставки за границей!
– Так они все-таки случаются? – удивился Макар.
– А я вам тут о чем распинаюсь! Ну конечно, случаются! И картины вполне покупают! Или вы думаете, публика в Германии или Франции умнее нашей? Есть своя специфика в предпочтениях, но если ее знать и ориентироваться… Ясинский продал не так уж мало за эти годы. Он по складу характера изворотливый делец. Не будь он так откровенно нечист на руку, я бы его даже уважала. Он везет в Берлин нежные и тонкие зимние пейзажи художника из Нижних Челнов, продает по восемь тысяч евро, а по возвращении вручает пейзажисту двадцать тысяч рублей за каждую работу. Художник счастлив, считает Ясинского благодетелем и целует ему руки. Сразу все пропивает, естественно… С разных сторон к Адаму текут денежные ручейки. И это я еще не говорю вам о схеме раскрутки малоизвестного художника и выдаивании денег из богача-мецената – настоящего богача, не чета Бурмистрову – под предлогом становления новой звезды. Может, Ясинский до этого еще дойдет… Методы-то все опробованные, рабочие.
– Это какой-то ужас, – искренне сказал Сергей. – Вам не жалко людей, которые отдают свои деньги Ясинскому?
Мартынова пожала плечами:
– Безграмотность и необразованность всегда будут кормить мошенников. Зато все довольны. Горе-художники подкармливают свое тщеславие, Ясинский подкармливает свой банковский счет – и кто от этого страдает?
– Зрители, – мрачно сказал Сергей.
– Бросьте! Во-первых, половина зрителей на таких выставках – это родные и знакомые Кролика, как говорилось в одной прекрасной книге. Во-вторых, среди всех этих бездарностей попадаются бриллианты. Настоящие, неподдельные. И не так редко, как может показаться.
– Например, кто? – спросил Макар.
– Мирон Акимов, – не задумываясь, ответила художница. – Еще Тима Ломовцев очень хорош. Но Акимов – это мощь. Я такого раньше не видела. Он гениальный самоучка, очень странный и, кажется, очень несчастный. В Имперском союзе мало людей, способных его оценить.
Бабкин вспомнил уши и промолчал.
– А еще есть Фаина Клюшникова. Она выставляется очень редко, продает от силы две-три картины в год, от сердца отрывает, называет их своими детьми. Фая – в чистом виде городская сумасшедшая. Но как она пишет! По тонкому, почти акварельному маслу работает сухими мазками – и ее картины наполнены воздухом. Если вам повезет, вы их увидите. Репродукции не передают, это надо вживую…
– Значит, Ясинский нам соврал о стоимости картин Бурмистрова, – подвел итог Макар, которого не интересовали талантливые городские сумасшедшие. – Использовал для этого говорящую голову.
– А чего вы хотели? – Антонина выпустила в воздух облачко дыма. – Чтобы он признался, что Бурмистров – дойная корова, которую убедили, что она гордый лев? Не гений с безграничным потенциалом, а простофиля, обведенный вокруг пальца? Ясинский должен был держать лицо, вот и забалтывал вас как мог.
– Он показался мне крайне заинтересованным в поиске картин, – задумчиво сказал Илюшин.
– Правда? Странно! Адаму прекрасно известно, что Бурмистров наплодит еще этих несчастных больных ублюдков в товарных количествах.
Бабкин с Макаром переглянулись: «Однако Ясинский все же переживал. – Значит, у него есть для этого основания».
Обоим уже было ясно, что версия Бурмистрова несостоятельна. Никто не мечтал подложить главе союза свинью, похитив самую большую его ценность.
– А вот Анаит Давоян, к слову сказать, тоже заверяла нас в высоком художественном уровне картин, – вспомнил Макар.
– Как будто у нее был выбор! Бурмистров платит ей зарплату. Зато через пару лет у нее в резюме будет написано «частный консультант», а это уже другие возможности.
– Вы дружите с Анаит?
Улыбка осветила лицо Мартыновой.
– Нет, не дружим. Я вела у нее изостудию, а затем посоветовала ей поступать в училище с искусствоведческим отделением, где когда-то работала сама. Смею надеяться, осталась ее наставницей. Она же для меня… Знаете, у немцев есть слово, которое на русский переводится как «дитя моего сердца». Так вот, Анаит – одна из детей моего сердца. Исключительная девушка. – В голосе Мартыновой зазвучала гордость. – Одаренная, сильная, смелая. Вспыльчивая, как сто чертей! Страшно задушенная своим заботливым семейством, желающим ей, разумеется, всего самого лучшего, а также пиявицей условно мужеского пола, присосавшейся к моей красавице… Какой-то Пыжик? Жулик? Алик!.. – Она сделала небрежный жест, означавший: какая разница!
– Антонина, у вас есть идеи, кому могли понадобиться картины?
Художница страдальчески мотнула головой, словно отгоняя назойливую муху, и сердито выдернула из волос кисточку. Русые волосы рассыпались по плечам. Загорелое лицо с острыми скулами выступило из них, как из рамы, и черты его смягчились в этом окаймлении. Сергей перехватил взгляд Илюшина. Макар смотрел на женщину не отрываясь.
«Фьююююю-ить!» – длинно просвистел про себя Бабкин.
– Ни малейших идей, – твердо сказала Мартынова. – Для меня происходящее такая же загадка, как для вас.
– А мог кто-то ревновать к успеху Бурмистрова? – вклинился Сергей.
– Запросто. Та же Голубцова. Она женщина невероятной глупости – глубокой, как колодец. Но зачем ей красть картины? Это тяжело, неудобно… Гораздо проще замазать их акриловой краской.
– Почему именно акриловой?
– Акрил быстро сохнет. Масло через сутки можно счистить, если писать толстым слоем. Если тонким, то смыть разбавителем. А акрил за те же сутки застынет в камень.
Илюшин покивал, что-то обдумывая.
– Вы знаете Ренату Юханцеву?
– Лично – нет, – спокойно отозвалась Антонина. – Я видела ее работы, мне этого достаточно. Художник она посредственный, но сюжеты выстраивает мастерски. Этим и берет.
Илюшин поставил мысленную зарубку: найти картины Юханцевой. На утренней выставке их не было.
– Она очень продуманный художник, – добавила Антонина.
– А Тимофей Ломовцев?
– Талант, работяга, невообразимый лентяй, шут гороховый и большая умница, – отчеканила она, не задумываясь, словно метко забросила один за другим мячики в корзину. – Может два месяца не притрагиваться к кисти, а потом три недели вкалывать без еды и сна. О нем ходят слухи, что он работает только потому, что ему нужно обеспечивать большую семью в Саратове, но я подозреваю, что этот слух самим Тимофеем и пущен. Он вам понравится! Главное, не слушать, что он несет.
Сергей хмыкнул, несколько огорошенный такой характеристикой. Макар рассмеялся.
* * *
Сторож Николай Вакулин оказался фигурой неуловимой.
Его телефон был оставлен в квартире, где никто не появлялся. На самого Николая Николаевича других номеров оформлено не было, но Сергей не сомневался, что у Вакулина имеется еще один сотовый, с которого он и связывается с друзьями.
Бабкин двинулся кругами.
Ближняя родня.
Дальняя родня.
Ближние друзья.
Дальние друзья.
Пять часов спустя список разросся до сорока фамилий.
Положение осложнялось тем, что многие были рассеяны по другим городам. Вакулин мог уехать в Тверь, Саратов, Волоколамск, Зеленоградск и Великий Новгород. Мог прятаться в деревушках под Владимиром. На то, чтобы проверить все возможные места его укрытия, ушла бы не одна неделя.
Расследование уперлось в сторожа. Сергей методично проверял всех его абонентов за неделю, предшествующую исчезновению. Но Вакулин оказался еще и невероятно общителен. Даже старенькая тетушка Сергея, любившая повторять, что женщины психологически устойчивее мужчин, потому что крепче поддерживают горизонтальные связи и не позволяют им теряться с возрастом, позавидовала бы словоохотливости музейного сторожа. Он звонил друзьям; звонил детям друзей; звонил даже бывшим одноклассникам. Сергей Бабкин не вспомнил бы собственных по именам, а Вакулин знал, когда дни рождения у их жен.
И чем дольше Бабкин его искал, тем больше уверялся, что имеет дело с человеком исключительно отзывчивым. Музейные сотрудницы были правы. К Вакулину обращались, если нужно было помочь наклеить обои или встретить на вокзале бабушку. Его окружала, точно паутина, разветвленная сеть взаимопомощи.
Осознав это, Сергей приуныл. Люди, с которыми он разговаривал, улыбались ему, говорили о «нашем добряке Коле», «Николае Николаевиче – участливой душе» и даже о «Коленьке – светлом человечке», и он не мог исключать, что участливая душа, добряк и человечек в этот момент стоит за дверью и тихо хихикает.
Сергей Бабкин был прекрасным оперативником. Кроме того, с годами у него наработалось подобие чутья, в котором он всегда отказывал самому себе. Интуиция и озарения – это у Макара, а у него – терпеливый ежедневный труд, который далеко не всегда увенчивается успехом.
Илюшин – уникум. Пришел, увидел, победил.
За самим собой Сергей не числил особенных побед. Никто не ждет великих достижений от рабочей лошади, вспахивающей поле.
Но пока ему не удавалось то, что он заслуженно числил своей сильной стороной, – найти пропавшую иголку, тщательно перебрав стог.
Илюшин выглядел на удивление спокойным. Когда Бабкин пришел к нему со своей неудачей, Макар только пожал плечами:
– Оставь Вакулина в покое. Бесполезно сосредотачиваться на его поисках – это отнимет бездну времени и может оказаться безрезультатным. По горячим следам, пока не остыли, занимаемся художниками.
* * *
Итак, поздним вечером у Тимофея Ломовцева собрались:
– Майя Куприянова. Сергей запомнил ее как художницу, рисовавшую очаровательные цветы.
– Борис Касатый. Один из участников стычки, близкий приятель Ломовцева. «Зайцы над тайгой», – записал Бабкин себе в блокнот.
– Павел Ульяшин. Правая рука Ясинского и, если верить Антонине Мартыновой, жучила и ловчила. Пользуется большим авторитетом среди коллег. Если есть «золотой стандарт» художника, то это Павел Андреевич. Портреты, натюрморты, пейзажи: все выверенное, тяжеловесное, вторичное до оскомины, но именно такого рода картины покупает зритель, если хочет дома любоваться «классикой».
– Наталья Голубцова. «Вышивка», – пометил Сергей. Злоязычной Мартыновой охарактеризована как исключительно глупая женщина. «Но учтите: Наташа – одна из самых восторженных почитательниц Ясинского. Она, кажется, занимается тем, что торгует постельным бельем, то ли турецким, то ли белорусским… Именно из ее кармана оплачиваются все банкеты после выставок, например. О чем мало кто знает».
– На золотом крыльце сидели, – негромко сказал Сергей. – С кого начинаем?
Илюшин взглянул на список:
– С Куприяновой как самой молодой. Сколько ей? Тридцать три? К ней и поедем.
Глава 4
Вечером зашел Алик и объявил, что они идут гулять. Был весел, нежен, заботлив – и красив, да что там, великолепен, точно граф Сумароков-Эльстон на портрете Серова! Анаит с детства любила разглядывать это бледное лицо в альбоме репродукций великого живописца. Шептала про себя как заклинание: «Феликс Феликсович, позднее князь Юсупов…» И приблудного кота назвала Феликсом – уговорила родителей не соглашаться на Пушка или, того хуже, Паштета. Оказалась права. Драный горемыка отъелся и явил себя во всем блеске королевской красоты: серебристо-голубая шерсть, безупречная чистота манишки, а главное – взгляд! «Я вас осчастливил, мизерабли», – говорили эти желтые, как у лисы, глаза.
Свободных столиков не было, но Алик обаял метрдотеля – и место нашлось. Анаит откровенно им любовалась. Он извинился, что не дождался ее после встречи с детективами: «Вытащили срочно, пришлось ехать и разруливать одну проблему, прости, не успел даже написать!» Шутили, обсуждали сериалы, решили в выходные выбраться в Новую Третьяковку…
Вечер был бы прекрасен, если бы…
Если бы Анаит не царапало воспоминание о том, что сказала Ксения.
«Акимов составил протекцию Вакулину». А затем сторож исчез, и виноватым назначили Акимова.
Анаит несколько раз встречала Мирона Акимова на выставках. Они почти не общались, разве что перекидывались приветственными фразами. Репутация его в художественной среде была Анаит прекрасно известна: почти все сходились в том, что картины Акимова вопиюще плохи, кроме разве что Тимофея Ломовцева, непонятно отчего благоволившего художнику. За два года в Имперском союзе он не продал ни одной работы.
* * *
Бурмистров утром сообщил, что сегодня в помощнице не нуждается. После этого план, который накануне только мерещился Анаит, – план неясный, смутный, лишенный всяких очертаний, – внезапно обрел плоть. Не давая себе времени на размышления, она сунула в рюкзак теплый свитер, проверила, достаточно ли заряда на телефоне, и, поколебавшись, взяла темные очки. Этот последний шаг едва не заставил ее передумать. Было в нем что-то шпионски-драматическое, детское и беспомощное… Но Анаит отогнала эти мысли.
Меньше чем за час электричка довезла ее до нужной станции. От потрескавшейся платформы вела дорога с широкой обочиной. Можно было дождаться автобуса, но Анаит, сверившись с картой, пошла пешком.
Придумана была глупость. Но Анаит говорила себе, что в худшем случае прогуляется три километра и потратится на билет в обе стороны – больше ничего.
Она старалась не слишком задумываться, быстро шагая и щурясь, когда солнечные лучи били в глаза сквозь тусклую бронзу листвы. Земля с пожухлой травой мягко проседала под подошвами. Ветер ворошил опавшие листья и нес запах дыма.
Впереди ждал не поселок, а садовое товарищество. Хорошее слово – товарищество! Где-то на одном из клочков земли была расположена акимовская дача, по совместительству – мастерская; точного адреса Анаит не знала. О Мироне Акимове вообще мало что было известно. Чудо, что она помнила название садового товарищества и нужное направление. Найти его на карте было делом нескольких минут.
«Изобильное», – говорила Наташа Голубцова. Разговор этот случился около полугода назад, после очередной выставки, на которую Мирон приволок безумную, огромную картину. «Наверное, в «Изобильном» своем намалевал, – безмятежно сказала Голубцова. – Он туда каждый день таскается как на работу».
Наталье Денисовне было за пятьдесят, но она требовала, чтобы ее называли Наташенькой. Анаит приходилось скрутить себя в узел, чтобы обратиться к этой голубоглазой полной женщине на «ты».
Наталья Денисовна сочетала в себе хищное простодушие голубя и лучистую наивность ромашки. Она и рисовала ангельских птичек и полевые цветы на закате, смело пренебрегая правилами перспективы, светотени, композиции и прочими ограничениями, что ставят скудные умы перед истинным вдохновением.
Однако и Голубцова ненароком могла принести пользу. Она ухитрялась быть в курсе всех событий: перевалочная база для сплетен, кочевавших от группы к группе.
Пожалуй, не так она была проста, как хотела казаться. Ксения, музейщица, отчего-то терпеть ее не могла. Какая-то у них однажды вышла стычка… До Анаит донеслись лишь отголоски пересудов, а сама Ксения на эту тему словом не обмолвилась.
Навстречу Анаит прошла немолодая женщина с рюкзаком и корзинкой в руке. В корзинке светились прозрачной веснушчатой желтизной крупные яблоки.
– На, угостись, – сказала женщина как старой знакомой и сунула ей плод.
Один бок у яблока был холодный, а другой теплый, словно нагретый теми, что лежали внизу.
Анаит благодарно улыбнулась. Запоздало спохватилась через несколько шагов: вот у кого бы спросить, где дача Акимова! «Нет, не надо. Она может рассказать, что какая-то девушка им интересовалась».
Анаит пока нельзя обнаруживать своего интереса.
Качающийся мостик ее логического умозаключения держался на шатких опорах предположений. Пока что не было подтверждено даже первое из них. Анаит прошла в распахнутые ворота мимо будки охранника. Единственным, кто заинтересовался ею, был косматый грязно-белый пес. Анаит безбоязненно потрепала его по холке и огляделась.
Неподалеку на участках жгли костры. Светло-серые столбы поднимались в воздух. Ее обогнала стайка детей, кто в куртках, кто в шортах. Проехали две машины… Уже знакомый грязно-белый пес пробежал мимо. Ветер нес пыль, листья и запах дыма, плотный до осязаемости. У Анаит заслезились глаза. Она надела солнечные очки, чувствуя себя неловко. Интересно, помнит ли Акимов ее лицо? Он никогда не обращал на нее внимания.
Дым сменился запахом подгоревшего шашлыка. То окрики, то смех, то просто разговоры доносились до Анаит: садовое товарищество производило впечатление места густо и тесно населенного. Откуда-то дохнуло жареной рыбой с луком. Анаит шла медленно, заглядывая за заборы. Она надеялась, что шестое чувство подскажет, где дача Акимова. Мирон должен был построить что-то особенное, отличающееся от соседских развалюх…
Шестое чувство молчало.
Она вышла на площадку, обсаженную рябинами. Под ними на траве расселись те самые дети, что обогнали ее. На противоположной стороне улицы Анаит увидела бревенчатый лабаз с зарешеченными окнами и вывеской: «Продукты».
Это был край «Изобильного». Конец пути.
Анаит уже поняла, что никакого проку от ее поездки не будет. Нужно было придать своему пребыванию здесь хотя бы видимость смысла. Купить что-то на память. Она пыталась вспомнить расписание электричек, когда на крыльцо из дверей вывалились, подталкивая друг друга, трое мужчин. Все трое были немолоды, пузаты и расхристаны. Один споткнулся на ступеньках, едва удержавшись на ногах, и в сумке отчетливо зазвенело.
– Коля, не сметь! – веселым пьяным голосом прикрикнул один.
– А если бы он нес п-п-патроны! – добавил идущий следом, прихватив для страховки товарища за сумку.
И вдруг Анаит поняла, что перед ней пропавший сторож музея. Николай Николаевич Вакулин. Она так привыкла видеть услужливое бледное лицо, что не опознала его в этом развеселом пьянице.
Она быстро сбросила рюкзак с плеча и принялась для виду что-то искать в нем, но Вакулину было не до нее. Троица прошла в двух шагах от девушки и свернула в проход между участками.
Анаит несколько секунд смотрела им вслед. Теперь, когда первая опора оказалась прочно укрепленной в земле, она почувствовала себя уверенно.
Можно тянуть мостик дальше.
Анаит поднялась по ступенькам и зашла в магазин. Внутри было прохладно и безлюдно. Только продавщица в спортивном костюме расставляла на стенде сигаретные пачки.
Анаит выбрала два «киндер-сюрприза» и положила на ленту.
– Скажите, а это не дядя Коля сейчас к вам заходил? – спросила она, расплатившись и как будто вдруг что-то вспомнив. – Я издалека не разглядела.
– Это кто такой? – раздраженно спросила продавщица, пытаясь впихнуть пачку «Золотой Явы» на отведенное ей место.
Анаит понаблюдала несколько секунд, затем молча вынула из ее пухлых пальцев «Яву» и одним ловким движением вставила в нужный кармашек.
– Ох ты! – уважительно сказала продавщица. – Как всю жизнь училась!
Анаит про себя усмехнулась. То-то рады были бы ее педагоги на искусствоведческом такому комплименту.
– Кого ищешь-то?
– У родителей есть знакомый, Николай Николаевич. Мне показалось, я увидела его издалека. Не пойму, обозналась или нет. Рыхлый, плечи покатые, лицо круглое.
– А, вон ты о ком! Он вроде не живет, а гостит. Я его третий день здесь вижу, каждый раз с Василием и братом его. Отмечают чего-то!
– А у кого гостит? – спросила Анаит, подпустив дозу поверхностного любопытства: обычная девушка, раздумывающая, сходить ли поздороваться с давним другом семьи.
Она не ждала ответа и вздрогнула, услышав, как спокойно женщина произносит знакомое имя.
– У Акимова. Знаешь, где он живет?
Десять минут спустя Анаит с бьющимся сердцем стояла перед неприметным домом за невысоким палисадом.
От соседних этот участок отличали неухоженность и отсутствие площадки для машины. За калиткой к дому тянулась дорожка, которую обступал запущенный сад. Кустарники со спутавшимися колтунами ветвей; грозная, выше крыши, темная ель, похожая на безумную тощую старуху в рваной юбке; одичавшие сливы… Даже залитый полуденным солнцем, сад был сумрачен и байронически прекрасен. Соседские участки сверкали идеально ровными пустыми газонами, как красавица искусственными зубами.
Итак, она была права. Едва услышав, чьим протеже являлся Николай Николаевич, Анаит сложила два и два: исчезновение картин Бурмистрова и последующее бегство сторожа. На чье преступление он мог закрыть глаза? Того, кто помог ему с работой. Где он мог укрыться от неприятных расспросов полиции? У него же.
Так и произошло. Вакулин обосновался на даче Акимова и, найдя себе двух компаньонов, ушел в загул.
А все Ясинский, змей-искуситель! Поманил галереей в Амстердаме. Соблазнил малых сих. Вернее, одного малого, предположившего, что в отсутствие двух полотен, которые должны были отправляться за границу, выберут чьи-нибудь другие. И у кого же больше шансов, как не у чрезвычайно самобытного художника Мирона Акимова?
«Так он и рассуждал, – думала Анаит. – Украл картины, подбив Вакулина помочь. Когда начался переполох, сторож не захотел отвечать – и удрал. Спрятался здесь».
Голубцова утверждала, что у Акимова на даче устроена мастерская. Где прятать украденные полотна, как не среди своих собственных? Вряд ли он их уничтожил. Хотелось надеяться, что не тот человек Мирон Акимов, чтобы у него поднялась рука на произведения товарища по цеху.
Анаит огляделась. Улица была пуста.
«Я ведь за этим сюда и приехала».
Бурмистров найдет способ добраться до Акимова, едва сопоставит факты, как это сделала она. Частные детективы принесут ему их на блюдечке. Он наймет людей, которые перевернут мастерскую вверх дном. А когда отыщет свои картины…
Откинув щеколду, Анаит вошла и закрыла за собой калитку. Очки сунула в карман – теперь они только мешали.
Мирон весь день на работе. Вернется вечером, если и вовсе не останется в городской квартире. А сторож празднует с новообретенными приятелями свободу.
Оставалось лишь одно затруднение.
Никто не видел ее, когда она прошла по тропе, раздвигая еловые ветви. Странно, что Акимов не обкорнал эти лапы, протянувшиеся на тропинку… Прикосновение их было прохладным и живым, точно слепец деликатно пробежал пальцами по незнакомому гостю. Анаит обогнула жасминовый куст, поднялась на крыльцо и подергала дверь.
Закрыто.
Так, что вокруг? Трава и кусты. Ни камня, ни ведерка, ни горшка с цветком… Есть нехитрая скамейка из двух обрубков и брошенной на них доски, но и под ней ничего, кроме жуков. Ну же, Мирон Иванович! Твоя старая дача никому не нужна: ни денег, ни техники – да что там, у тебя и телевизора-то наверняка нет. К чему возить с собой связку ключей, когда у тебя живет приятель? Нет, вы будете прятать ключ где-то поблизости, чтобы тот, кто вернется первым, мог попасть в дом…
Она потыкала носком ботинка траву. Поискала вдоль стены. Проверила под подоконником. Ключа не было. Анаит закусила губу и посмотрела на окно. Старые двойные рамы; решеток нет, но звук разбившегося стекла могут услышать соседи…
Еловые ветки едва покачивались. В глубине дерева, ближе к вершине, пересвистывалась стайка мелких птиц. Шелест, шорох, писк, почти неуловимое движение вверх по стволу… А ведь там их много, подумала Анаит, намного больше, чем кажется.
Вернулась к ели, обошла ее, приглядываясь, и под одной из ветвей, почти не удивившись, увидела привязанный на шерстяной зеленой нитке простой ключ, поблескивавший, словно новогодняя игрушка. Ее охватило торжество.
Она взбежала на крыльцо, провернула ключ в замочной скважине и толкнула дверь. Внутри вместо ожидаемого бардака – груды заношенных ботинок, прокуренных курток, дохлых мух ожерельями возле пустых бутылок на подоконниках, – ее встретил такой спокойный порядок, что в первый момент она испугалась, что ошиблась дачей. В некотором смысле дом был антитезой саду.
Полки до потолка: внизу обувь, вверху инструменты. Полосатая ковровая дорожка. Анаит поразил строгий, почти аскетичный облик комнаты, в которую она вошла. Печка, топчан, обеденный стол у окна, не больше дюжины книг… Чайная чашка на столе приковывала к себе взгляд: бледно-лиловые фиалки на размытом зеленом фоне, тончайший обруч золота по краю; предмет в этой комнате невообразимый, точно бабочка в шахте, – несомненно, подарок женщины.
За окном проехала машина, и Анаит вспомнила, зачем пришла. Поставив рюкзак на пол, она проверила на телефоне, есть ли связь. Важный пункт плана: когда она отыщет картины, надо будет вызвать такси из ближайшего поселка. Самой ей не дотащить ни «Тигров», ни «Владыку мира».
Коридор с дверью в кладовую. Крохотная кухня с побеленными стенами. Еще одна комнатка, узкая, точно келья, с неровно вздувшимся на полу матрасом: очевидно, здесь обретался по ночам Николай Николаевич. Мастерская была в конце коридора, выходила окнами на лес. Здесь порядок заканчивался. Мольберты, подрамники, готовые картины, наваленная грудой мешковина, какие-то свертки, грязные палитры, бутыли вдоль стены – и над всем этим витает крепкий запах лака с растворителем. На подоконнике торчат щетиной вверх кисти, воткнутые в зеленый брус флористической губки.
Анаит осмотрела все картины в мастерской и разочарованно застыла посреди комнаты. «Владыки» и «Тигров» не было. Мост оборвался, не дотянувшись до берега.
Неужели Акимов оставил их в городской квартире? Тогда все ее безрассудство было напрасным.
Она вновь обыскала дом. Распахнула створки единственного шкафа, разворошила зимние куртки и лыжные штаны. Изучила каждую картину, осмотрела рамы – не мелькнет ли знакомая.
Ничего.
Анаит вернулась в коридор, вскинула рюкзак. Сейчас, когда она потерпела такой сокрушительный удар, он казался втрое тяжелее. Бессмысленность всех предпринятых ею шагов давила на плечи.
В последний момент ее взгляд остановился на темной, вглубь уходящей норе коридора. Заканчивалась эта нора мастерской. Слева – спальня с кухней, справа – чулан… Вернее, дверь в чулан, потому что внутрь Анаит не сунулась, представив, что увидит: шмотки, банки, краски и ящик водки. Почему водки? Акимов, кажется, не пьет.
Анаит подошла и для очистки совести толкнула дверь. Та не открылась. В полусумраке она рассмотрела, что снаружи на ней установлен простейший засов, какой обычно ставят на деревенских калитках.
Еще страннее! Первая мысль – не прячет ли там Акимов кого-нибудь? «Что, собственно, мы знаем об Акимове?» – спросила себя Анаит. Очень мало, почти ничего.
Рыжий, хмурый. Немногословный. Происходит из творческой семьи: и отец, и дядя – художники, признанные, в отличие от него. Имеет прочную репутацию неудачника. Трудится инженером-электриком на каком-то заводе. Начал писать только после сорока. Держится особняком. Сообщество отторгало Акимова, словно представителя чужого вида. Только Тима Ломовцев признает и принимает его, да и вообще относится к Акимову со странной насмешливой нежностью. Ну так это же Ломовцев! Анаит его стеснялась и, по правде говоря, побаивалась. В развеселом хулигане Ломовцеве, бабнике и дамском угоднике, временами проглядывал козлоногий сатир, бил копытом и косил на Анаит ярким зеленым глазом. В его присутствии на нее нападали стыдливость и немота.
Анаит откинула щеколду, включила фонарик на телефоне и посветила внутрь.
Если это и был чулан, то просторный, едва ли не больше спальни с матрасом на полу. Луч обежал пространство и замер, уткнувшись, как поисковая собака, в повернутую к стене картину в дорогой золотой раме, за которой просматривались еще холсты.
– Наконец-то!
Анаит подбежала к картине, попыталась перевернуть ее, выронила телефон и впопыхах бросилась к выключателю. У телефона треснула задняя панель, но даже это не могло ее сейчас огорчить. Щелчок – и зажглась лампа под потолком.
Где-то с силой хлопнула от ветра форточка. На глазах Анаит приоткрытая дверь чулана мягко затворилась, и снаружи что-то звякнуло.
В следующий миг, похолодев от ужаса, она поняла, что это был за звук.
«Щеколда».
Она толкнула дверь, но ничего не вышло. Анаит оставила щеколду приподнятой, и теперь та прочно удерживала ее взаперти.
Колотиться в обшивку бесполезно. Анаит соображала быстро и хладнокровно. «Входную дверь я точно не запирала. Позвонить таксисту, когда он подъедет, попросить зайти, освободить меня – и уехать с картинами. Все будет нормально, не паникуем».
Но, подняв телефон, она увидела, что повреждения куда серьезнее, чем ей показалось на первый взгляд. Корпус был разбит с обеих сторон. На прикосновения сенсорный экран не отзывался.
Не меньше десяти минут Анаит терпеливо пыталась пробиться через мертвый мобильник.
В конце концов ей пришлось признать, что она лишена связи.
Комната без окон, с единственной дверью, запертой снаружи, и у нее нет возможности позвонить. Трезво оценив ситуацию, Анаит поняла, что пора впадать в панику.
Она молча ожесточенно побилась об дверь. Щеколда дружелюбно позвякивала снаружи в такт ее ударам. Анаит покричала на телефон, покричала на лампу, вцепилась в волосы. Дура, дура! Как можно было позволить этому случиться!
Взгляд ее упал на холсты. Анаит перевернула картину и, оторопев, уставилась на пейзаж с березками и полем. Неплохой пейзаж, профессионально поставленная рука, ничего особенного, но многие будут рады повесить у себя такой в гостиной…
Однако ни одного тигра.
Сейчас, при ближайшем рассмотрении, она видела, что и рама-то не похожа. Те, что она приобрела, были толщиной с руку, широкие и тяжелые. А это – ерунда, одна насмешка. Пластик «под дерево».
Она перебрала оставшиеся картины, уже понимая, что искомого не отыщет. Кто-то оставил здесь старые полотна, не особенно заботясь об их сохранности, и щеколду привесил снаружи, словно для того, чтобы пейзажи и натюрморты не разбежались.
Два часа спустя Анаит сидела, опираясь спиной на дверь. Перед ней вдоль стен были расставлены картины. Она рассматривала их, жуя прихваченный из дома бутерброд. Удивительно, что аппетит не пропал. Воды в бутылке почти не осталось, но это и хорошо: бутылка может пригодиться для иных надобностей.
Все, что теперь было в ее силах, – это ждать. Новый план составился сам собою: когда вернется Николай Николаевич, она постучится и попросит выпустить ее. Сторож наверняка ее помнит. Конечно, он расскажет обо всем Акимову, если только не будет достаточно пьян, чтобы забыть о том, как выпускал девицу из чулана, но вряд ли на это стоило всерьез надеяться.
Однако все снова пошло не так.
Когда Анаит услышала звуки в коридоре, это была не тяжелая поступь изрядно выпившего человека, а быстрый озабоченный шаг.
Акимов вернулся раньше времени.
Некоторое время она с тоской прислушивалась. Затем потянуло очень знакомым, безошибочно опознаваемым запахом: гречка с тушенкой. Анаит доела бутерброд и сказала себе, что нужно выждать минут двадцать. Пусть Акимов поужинает. Сытые люди добрее.
Телефон не работал, наручных часов она не носила, так что отслеживать время было не на чем. Анаит съела вместе с Акимовым воображаемую кашу, посидела немного, заварила себе воображаемый чай, выпила с печеньем. Звуки из комнаты затихли, шагов больше не было слышно.
Она тяжело вздохнула, поднялась и постучала в дверь.
Сначала было тихо. Затем вновь раздались шаги, которые вполне можно было назвать недоуменными.
Анаит постучала еще раз и громко сказала:
– Мирон Иванович, выпустите меня отсюда.
Несколько секунд такой оглушительной тишины, будто Мирон Иванович превратился в соляной столп. Звякнула щеколда, дверь распахнулась – за ней стоял Акимов. Несколько секунд они смотрели друг на друга.
– Тебя что, этот идиот запер? – спросил наконец Мирон.
Анаит мгновенно увидела, какие прекрасные возможности предоставляет ей эта версия. Да, она приехала, чтобы спросить совета о пропавших картинах, но дома был только Николай Николаевич, и он был пьян, а потом толкнул ее сюда… Заплакать и убежать. А сторож пусть потом оправдывается.
Ах, как заманчиво!
Анаит глубоко вздохнула и покачала головой.
– Я забралась в ваш дом, чтобы найти картины Бурмистрова. Зашла в чулан, дверь захлопнулась, щеколда упала. Я оказалась взаперти.
Здесь надо было добавить «извините, пожалуйста», однако есть ситуации, когда извинение подразумевается настолько явно, что выражать его вслух – лишь обеднять невысказанное.
Акимов нахмурился. Они по-прежнему стояли, разделяемые дверным проемом. Пожелай он захлопнуть дверь и оставить Анаит в чулане, ему бы ничего не помешало.
– Картины? – переспросил Акимов. – Те, что украли?
Анаит молча кивнула.
Мирон озадаченно переступил с ноги на ногу, взглянул на чашку, словно не понимая, что это за предмет. Он был в домашних серых брюках и серой же мятой футболке; странно, но мышиная эта одежда проявляла его, делала ярче. На публичных мероприятиях, где Анаит доводилось его встречать, он казался выцветшим, полинялым.
– Ты решила, что я украл «Тигров» и… кто там еще?
– Снежный барс, – кротко сказала Анаит.
– Ну, это, допустим, не барс, – пробормотал Акимов. – Я все-таки барсов видел… Нет, это гибрид кота с игуаной… Выродок печальный… Послушай-ка, – он шагнул к Анаит, и она лишь усилием воли заставила себя не отшатнуться, – зачем я, по-твоему, должен был их украсть? Как ты для себя объяснила это дикое предположение? Это, кстати, Бурмистров тебя ко мне отправил?
– Он здесь ни при чем!
– М-да? А удивительно. Поступок вполне в его духе.
– Я сама, – твердо сказала Анаит. – А зачем вам щеколда на двери снаружи?
– Что? А, это от собаки. У отца когда-то был пес, он научился сбрасывать носом крючок и пробирался в чулан, грыз все подряд… Так, и все-таки: зачем мне воровать этих, господи прости, чудовищ? Чтобы сделать мир лучше?
– Чтобы ваши работы отправили в Амстердам вместо бурмистровских!
Акимов ошарашенно уставился на нее и вдруг расхохотался. Смеясь, он вышел из чулана и махнул ей рукой: иди, мол. Анаит медленно выдохнула – она до последнего не была уверена, что ее не оставят сидеть под замком.
Художник вернулся в большую комнату, налил в свою чудесную фарфоровую чашку какой-то темно-бурый чай из крошечного глиняного чайника с крышкой-пуговкой.
– Сядь, – кивнул на стул у окна. – Как в дом попала?
– Нашла ключ на елке и открыла.
– Ключ на елке тоже показали?
– Нет… Ключ я сама.
– И где он сейчас?
– На полочке, – честно сказала Анаит. Она действительно положила ключ на полку в коридоре, чтобы не искать его потом по карманам.
– М-да… А я-то был уверен, что Коля, бестолочь, забыл запереть… – пробормотал Акимов, отпил чай и задумался.
Анаит сидела, сложив руки на коленях, и молча ждала, когда определится ее дальнейшая судьба. Акимов мог вызвать полицию. Мог выставить ее. Мог позвонить Бурмистрову, Ясинскому, черту в ступе и рассказать о ее выходке! Она не представляла, чего от него ожидать.
– Что за безумная идея насчет моих картин и Амстердама? Только не говори, что ты это сама придумала. Ты же не дура, в конце концов! Завязывай играть в героическую партизанщину и выгораживать своего Бурмистрова.
Анаит смиренно приняла не-дуру, которая прозвучала именно как дура. Не человеку, отсидевшему два часа в чужом чулане, обижаться на критику.
– Я вам уже объяснила: Игорь Матвеевич вообще ничего не знает. Я считала, вы хотите попасть в амстердамскую галерею.
Акимов перегнулся через стол:
– Девочка, ты понимаешь, что у меня нет ни единого шанса выставиться в амстердамской галерее? У меня его не было бы, даже если бы украли вообще все картины Имперского союза! Ясинский скорее отправил бы Голубцову, чем меня. Ты что, проспала все выставки? Нет ни одного – слышишь, ни одного человека, которому нравились бы мои работы. Их никто никогда не купит, а интерес Ясинского – исключительно материальный.
– Мне, – тихо сказала Анаит.
– Что – тебе?
– Мне нравятся ваши картины.
Акимов презрительно скривился:
– Перестань. Я тебя и без этого выпущу. Можешь идти хоть сейчас.
Анаит вспыхнула.
– Мне нравятся ваши картины, – твердо повторила она. – Они… это очень талантливо.
– Не мелочись! Скажи уж сразу: гениальны. Может, тогда…
Анаит вскинула взгляд на Акимова, и он внезапно осекся.
– Я знаю, что ни один из наших художников вам в подметки не годится! – с плохо сдерживаемым гневом сказала она. – Не пытайтесь на меня давить! Я поступила плохо, когда забралась к вам и обыскала вашу дачу. Хотите – вызывайте полицию. Но не смейте мне говорить, что мне думать о ваших работах!
– Да я не то что… – Акимов несколько растерялся. – Никто на тебя не давит, с чего ты взяла! Что вообще за нелепый разговор…
– Ваши картины – потрясающие, необыкновенные, – продолжала Анаит, не замечая, что раскраснелась. – И «Белый кит», и «Голос», а особенно – «Нет реки». Фактически вы работаете в акварельной технике маслом, и в «Голосе» это особенно оправдано…
– Потому что краски дорогие, – буркнул Акимов.
– И серый фон! – Она не могла успокоиться. – Это ведь мешковина, правда? У вас холст говорит, понимаете, он поет!
– Экономия на серой краске у меня поет…
– А как вы контуром работаете! Я не понимаю, как это – вы ведь не учились, да? Все говорят, что вы самоучка, и тогда это вдвойне, втройне… Вы понимаете? – Она взмахнула перед собой руками, словно подбрасывая в воздух птицу. – Ай, нет, вы ничего о себе не понимаете! У вас отец художник – значит, он вам показывал?..
– Мой отец мне ничего не показывал, – резко оборвал ее Акимов, и Анаит замолчала.
Он встал, сердясь на самого себя за резкость. Идиотская ситуация… Все, надо заканчивать этот ералаш, пусть экзальтированная дурында проваливает на все четыре стороны.
Он обернулся к Анаит, по-прежнему сидящей, сложив руки на коленях, и твердо сказал:
– Ну вот что…
Она подняла на него глаза. На нежных фарфоровых щеках остывала краска.
– …есть хочешь? – безо всякой уверенности закончил Акимов.
…Мирон накрыл ей в кухне. Они сидели, разделенные узкой доской откидного стола, и девушка доедала кашу с тушенкой. Остатки соуса подобрала кусочком хлеба – ловко, аккуратно, не оставив на тарелке ни пятнышка, ни крошки. Не смущаясь, облизала пальцы.