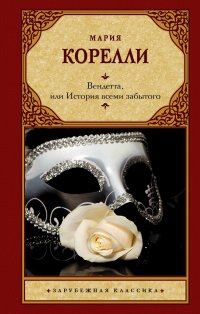Читать онлайн Скорбь Сатаны бесплатно
- Все книги автора: Мария Корелли
Глава первая
Знаете ли вы, что значит быть бедным? Не бедным надменной бедностью, на которую жалуются люди, проживающие от пяти до шести тысяч фунтов в год и жалующиеся на невозможность сводить концы с концами, а действительно бедным, положительно, жестоко, отвратительно бедным, отталкивающей, унижающей ужасной бедностью? Бедностью, которая заставляет вас облекаться в одну и ту же одежду, пока она окончательно не изношена и отказывает вам в чистом белье, так как цены за стирку разорительны. Которая отнимает у вас уважение к самому себе и заставляет вас красться смущенным по улицам вместо того, чтобы ходить с поднятой головой, сознавая свое независимое положение, — вот про какую бедность я говорю. Это проклятие, держащее благородное рвение под спудом унизительных забот; это — нравственная язва, въедающаяся в сердце даже благонамеренного человека, который внезапно делается и завистливым, и злым, и готовым на всякое преступление… Когда бедняк видит тучную светскую женщину, развалившуюся в своем роскошном экипаже со следами излишнего питания на лице, и безмозглого, сладострастного молодого человека, шатающегося часами без дела, как будто весь свет с его миллионами честных тружеников, сотворен лишь для его случайного развлечения, тогда его тихая кровь превращается в яд и его страждущий дух возмущается и восклицает: «Зачем, во имя Бога, существует такая несправедливость? Зачем негодному бездельнику иметь полные карманы золота, благодаря случайной наследственности, тогда как я, работая с утра до ночи, с трудом добываю себе кусок хлеба?
Действительно зачем? Зачем злые люди процветают, как зеленое лавровое дерево? Я часто думал об этом. Теперь, пожалуй, я мог бы решить задачу уже по личному опыту… Но… какой это был бы опыт?.. Кто поверит в его действительность? Кто поверит, что нечто столь странное и ужасающее могло выпасть на долю простого смертного? Никто! Однако это — правда; правда существеннее, чем все то, что считается правдой. Я знаю также, что многие люди переживают теперь точно такие же обстоятельства, какие пережил я, под тем же влиянием, сознавая иногда, что они находятся в греховных тенетах, но обладая слишком слабой волей, чтобы вырваться из сети, в которую они самовольно впутались. Выучатся ли они уроку, которому выучился я, в страшной школе, под руководством ужасного наставника? Сознают ли они, как я сознал, до самых мелких фибр моего умственного понимания, неопровержимое существование обширного, индивидуального деятельного ума, невидимого, но неустанно работающего за завесой всеобщей материи, словом вечного и несомненного Бога? Если так, то темные задачи станут для них светлыми; они поймут, что кажущаяся им несправедливость, в действительности великое Правосудие. Но я не пишу с целью убедить своих товарищей — людей. Я слишком хорошо знаю их упрямство, я сужу о них по себе. Гордая самоуверенность некогда съедала меня, и я понимаю, что другие могут быть в том же положении. Я только хочу передать различные приключения моей карьеры в том порядке, как они случились, предоставляя более светлым умам задачу объяснить суть человеческого существования, насколько возможно ясно и хорошо.
В одну холодную зиму, оставшуюся в памяти у всех, за ее необыкновенную суровость, когда огромная волна сильнейшей стужи распространилась не только по благословенным островам Великобритании, но и по всей Европе, я, Джеффри Темпест, находился в Лондоне и умирал с голоду. Голодающий человек редко внушает должную симпатию и мало кто верит в действительность его нужды. Почтенные люди, только что наевшиеся досыта, недоверчивее всех; некоторые даже улыбаются иронически, когда им говорят о голодающих, как будто это случайная шутка, выдуманная для послеобеденного развлечения. Или с возмутительной невнимательностью, характеризующей светских людей до такой степени, что они задают вопросы и не дожидаются, или не понимают ответа, хорошо покушавшее собрание, услыхав о чьей-нибудь голодной смерти, лениво роняет слова: „Как это ужасно!“ и немедленно приступает к разбору последней новости, изобретенной для приятного препровождения времени…
Быть голодным, это так грубо и пошло; это никак не может служить темой для разговора в воспитанном обществе, поевшем всегда больше, чем того требует организм. Но в том периоде, о котором я говорю, я, ставший впоследствии человеком, которому завидовали все, знал слишком хорошо жестокое значение слова „голод“; знал гложущую боль и страшную смертельную слабость, вызванную им, и ненасытное животное рвение к пище; одним словом, все ощущения, которые достаточно скверны для людей, привыкших к ним, но которые, пожалуй, еще ужаснее, когда они испытаны впервые человеком, принадлежащим, как ему кажется, к высшему свету! Я чувствовал, что не заслуживал тех страданий, которые местами приходилось переносить. Я работал усердно, с самой смерти моего отца, как только узнал, что все состояние, которое по моим ожиданиям должно было перейти мне, едва хватит на уплату кредиторов, и что ничего, со всего дома и имени, не останется мне, кроме разве золотой рамки с миниатюрой матери, умершей, когда я родился; с самого того времени, повторяю я тянул лямку и трудился неустанно! Пользуясь своим университетским образованием, я занялся литературой. Я искал работу, кажется, во всех Лондонских редакциях: многие отказывали мне, другие брали меня на пробу, но ни от кого я не мог добиться постоянного жалованья. Всякий, кто хочет содержать себя исключительно трудом мозгов и пера, рискует вначале быть отвергнутым. Его усилия осмеяны, его рукописи возвращены непрочитанными, и им интересуются меньше, чем осужденным убийцей, находящимся в тюрьме. Убийца, по крайней мере, одет и накормлен; изредка снисходительный сторож соглашается поиграть с ним в картишки. Но на человека, одаренного оригинальными мыслями и способностью выражать их, смотрят как на нечто хуже преступника, и весь чиновничий люд соединяется, чтобы общими силами уничтожить его. Я принимал и удары и пинки в угрюмом молчании и продолжал жить, — не из любви к жизни, а просто, потому что я презирал трусость, наталкивающую на самоубийство. Я был еще довольно молод, чтобы не терять надежды, — смутная мысль, что и моя очередь настанет, что вечно кружащееся колесо фортуны, столь жестоко давящее меня теперь, когда-нибудь да подхватит меня, заставляла меня уныло продолжать существование, — но это было бессмысленное существование, больше ничего. В продолжение шести месяцев, я вел критические статьи в одном известном литературном вестнике. Мне посылали тридцать романов в неделю для разбора, я рассматривал наскоро штук восемь или десять и писал на них целый столбец ругани, оставляя другие без всякого внимания. Я пришел к заключению, что эта система вызывала одобрение, — мой редактор был доволен и щедро платил мне в размере пятнадцати шиллингов в неделю. Но в один злосчастный день, я переменил тактику и горячо похвалил произведение, которое по совести отличалось хорошим направлением и безусловной даровитостью. Автор, оказалось, был старым врагом моего редактора; к несчастью для меня, мои похвалы ненавистного ему человека явились в печати; результатом этого было то, что личная злоба взяла верх над общей справедливостью, и я был моментально уволен.
После этого я протянул еще некоторое время, писав сущую дребедень в ежедневных газетах; я существовал обещаниями, которые никогда не исполнялись и дошел до того, что, как я говорил раньше, в начале января этой суровой зимы я очутился без копейки, лицом к лицу с голодной смертью; кроме того я еще задолжал за убогую конуру, которую снимал недалеко от Британского музея. Я провел целый день в поисках за работой, объехал все редакции… Но не было ни одного вакантного места. Я также безуспешно старался поместить свою рукопись; — роман, не лишенный достоинства, но который, по всеобщему мнению чтецов в редакциях, никуда не годился. Эти „чтецы“, как я потом узнал, большей частью сами занимались беллетристикой, и в свободные минуты разбирали присланные в редакцию рукописи. Я никогда не пойму логики этого устройства; для меня это кажется способом поощрять бездарность и угнетать оригинальные умы. Простой разум указывает на факт, что чтец, желающий сохранить свое место в литературном мире, естественно будет скорее поощрять посредственные произведения, чем те, которые могли бы затуманить его славу. Как бы там ни было, и хороша ли эта система или нет, во всяком случае, я и мой злосчастный роман пострадали от нее. Последний издатель, к которому я зашел, был добряк, который посмотрел на мое исхудалое лицо и изношенную одежду с видимым состраданием.
— Мне жаль, — сказал он — очень жаль; но приговор моих критиков единогласен. Насколько я мог судить, вы смотрите на все с серьезной точки зрения, и слишком строго судите современное общество. Это не годится, батюшка! Никогда не нападайте на высшее общество… оно покупает книги. Если бы вы могли написать какую-нибудь любовную повесть, что-нибудь рискованное, — не совсем нравственное, — вот это удовлетворило бы нынешние требования!
— Простите, — перебил я уныло, — вы совершенно уверены в правильности вашего суждения о современном вкусе?
Редактор улыбнулся мягко и слегка насмешливо, как будто удивляясь моему абсолютному неведению.
— Конечно, я уверен, — ответил он. — Я основательно изучил общественный вкус, как изучил собственный карман. Но поймите меня; я не советую вам писать книги на неприличные темы, — вы можете это предоставить передовой женщине, но уверяю вас, что серьезная литература продается туго. Критики не поощряют её; во-первых им и публике нравится одно и тоже: что-нибудь реальное, сенсационное, написанное газетным стилем. Литературный язык — язык Аддисона — ошибка.
— Я тоже ошибка, — сказал я с деланной улыбкой. — Во всяком случае, если то, что вы мне говорите — правда, я должен откинуть перо и заняться другим ремеслом. Я принадлежу к старой школе и считаю литературу за высшее звание; я предпочитаю отказаться от нее, чем добровольно ее унизить.
Редактор посмотрел на меня не то удивленно, не то недоверчиво.
— Ну что же? — заметил он, наконец, — вы ударяетесь слегка в донкихотство, — это пройдет; пойдемте в мой клуб и пообедаемте вместе.
Я стремительно отказался, поняв, что предложение было сделано в виду моего отчаянного положения; гордость, пожалуй, неуместная гордость, пришла мне на помощь. Я быстро распростился с редактором и, схватив отвергнутую рукопись, вернулся в свою убогую квартиру. Когда я подымался по лестнице, меня остановила хозяйка, прося меня уплатить за квартиру не позже следующего дня. Старуха говорила вежливо; видно было, что она сочувствовала мне… Эта жалость уязвила меня столько же, как недавнее предложение издателя пообедать с ним, и с видом почти наглой уверенности, я обещал уплатить следуемые с меня деньги в назначенное время, хотя совершенно не знал, откуда достать требуемую сумму. Достигнув своей комнаты и закрыв дверь на ключ, я швырнул ненужную рукопись на пол и, беспомощно опустившись на стул, начал громко ругаться и проклинать судьбу. Меня это слегка облегчило; хотя я был изнурен голодом, я еще не дошел до слез… Бешеное проклятие было для меня таким же утешением, как приступ рыданий для нервной женщины. Но я не мог плакать, и, несмотря на глубокое свое отчаяние, не был способен обратиться к Богу. Откровенно говоря, в то время я не верил в Бога. Я был вполне доволен собой и презирал старые суеверия и даже саму религию. Конечно, меня воспитывали в христианской вере, но, несмотря на это, духовно я блуждал в каком-то хаосе, — умственно был скован мнениями окружающих, а физически дошел до крайней нужды… Мое положение было отчаянное, и я сам был отчаянный! Если добрые и злые ангелы когда-либо бросают жребий за душу простого смертного, то в этот момент они бросали его за мою душу. Несмотря на все это, у меня было сознание, что я сделал, что мог. Я был загнан в угол людьми, желавшими отнять у меня даже право на существование; но я боролся с ними. Я работал честно и терпеливо, — все было напрасно, и я знал о существовании мошенников, наживавших большие деньги, дураков, скопивших миллионы! Их благосостояние указывало на то, что честность не всегда венчается успехом. Но что мне было делать? Как приступить к иезуитскому „делай зло, чтобы достичь добра“, личного добра?.. Я продолжал размышлять в этом духе, но как-то вяло и бессвязно.
Ночь была чрезвычайно холодная. Мои руки окоченели. Я старался согреть их у керосиновой лампы, которой хозяйка позволяла мне пользоваться, несмотря на запоздалые платежи. Внезапно, я заметил три письма на столе: одно в длинном голубом конверте, похожем на нотариальную повестку или возвращенную рукопись, — другое, с почтовым клеймом из Мельбурна, а третье — толстое квадратное послание с красным золоченым княжеским гербом на обороте. Я равнодушно перевернул все три конверта, потом, взяв Австралийское, подержал его минуту в руке, раньше, чем сломить печать. Я знал от кого оно и старался угадать его содержание. Несколько месяцев тому назад, я написал подробный отчет своих возрастающих долгов и бесконечных неприятностей одному товарищу по школе, который, находя Англию слишком узкой для своего тщеславия, отправился в дальние страны, надеясь наткнуться на золотые россыпи. Я узнал, что его дела шли хорошо и что он создал себе вполне обеспеченное положение; основываясь на этом, я решился попросить у него пятьдесят фунтов в долг. Я держал в руках его ответ, не решаясь открыть его.
— Конечно, — отказ! — сказал я в полголоса. — Как бы товарищ не был хорош с вами, он мгновенно черствеет, когда дело идет о деньгах. Он выразит глубокое сожаление, сошлется на застой торговли и скверные времена для финансовых оборотов и кончит надеждой, что все обойдется! Я знаю все это наизусть! Впрочем, с какого права я требую от него больше, чем от других? Несколько сентиментальных дней, проведенных рука об руку в Оксфорде, — вот к чему сводится наша дружба.
Я невольно вздохнул, и нечто вроде тумана застлало мне глаза. Я увидал опять серые башни мирной Магдалины, и светло-зеленые деревья нашего милого университетского города. Я и товарищ, письмо которого я теперь держал в руках, мы бродили вместе, молодые, счастливые, и воображали, что мы гении, родившиеся специально для обновления миpa; мы оба страстно любили классиков, и были начинены Гомером и мыслями и правилами бессмертных греческих и римских писателей. В то время, мы действительно воображали, что сотворены из того же теста, как герои. Но вступление на общую арену вскоре отняло у нас наше самомнение — мы превратились в простых тружеников — прозаические задачи каждого дня отогнали Гомера на задний план. И мы поняли, что общество интересуется более последним нецензурным скандалом, чем трагедиями Софокла и мудростью Платона. Ну что же? С нашей стороны было несомненно глупо надеяться возобновить мир, тогда как Платону это не удалось, — но даже черствый циник не станет отрицать, что приятно вспоминать дни юности, сознавая, что это время, по крайней мере, не было лишено благородных стремлений…
Лампа тускло горела, и мне пришлось поправить ее раньше, чем приступить к чтению письма друга. В соседней комнате кто-то играл на скрипке и играл хорошо, нежно, иногда даже с некоторым 6pиo; звуки отделялись один за другим, и я прислушался к игре со смутным ощущением удовольствия. Я ослаб от голода и медленно переходил в какое-то полусознательное состояние; захватывающая прелесть музыки, вызывая во мне эстетические и, пожалуй, сладострастные ощущения, уничтожили на некоторое время более животные требования.
— Ну вот, — пробормотал я, обращаясь к незримому музыканту, — ты упражняешься на скрипке ради жалкого вознаграждения, которое еле хватит на твое пропитание. Может быть, ты участвуешь в каком-нибудь дешевом оркестре, или просто играешь на улице, где посреди роскоши ты умираешь с голода! Ты не можешь надеяться попасть в высшие круги и стать модным музыкантом; если же ты надеешься на это, то жестоко ошибаешься! Играй, мой друг, играй! звуки, вызванные тобой, крайне приятны и должны были бы составить, твое счастье! Желал бы я знать, действительно ли ты счастлив или, как я, быстро отправляешься к черту?»
Музыка становилась нежнее и жалостливей под аккомпанемент внезапного ливня, сопровожденного градом. Свирепый ветер врывался сквозь щели дверей и свистал уныло в трубе камина, — ветер, холодный как объятие смерти и пронизывающий как лезвие ножа. Я задрожал и, наклонившись к тускло горевшей лампе, приступил к чтению своих писем. Когда я распечатал письмо из Австралии, на стол выпал чек в пятьдесят фунтов, учитываемый в одном из наиболее известных лондонских банков. Мое сердце застучало от прилива благодарности и облегчения.
— Мой милый Джек! — воскликнул я, — я обвинял тебя напрасно, твое сердце осталось добрым.
И, глубоко проникнутый великодушием своего друга, я стремительно принялся читать его письмо. Оно было не длинное и писанное видимо второпях.
«Дорогой Джеффри, мне было очень жаль узнать, что ты в таком скверном положении; что человек с твоими способностями не может завоевать себе должного места в литературном мире, только доказывает, какое стадо дураков ныне процветает в Лондоне. Мне кажется, что все дело сводится к необходимости нажать некоторые пружины и это возможно только при помощи денег. Посылаю тебе с радостью просимые пятьдесят фунтов, — пожалуйста, не торопись отдавать их. Думаю, ты будешь мне благодарен за то, что я посылаю тебе друга, настоящего друга, неподдельного, уверяю тебя! Я дал ему письмо к тебе, и, между нами, самое лучшее, что ты можешь сделать, это предоставить ему себя и свой литературный труд. Он знает всех и знаком со всеми ухищрениями редакторских приемов и газетных клик. К тому же, он филантроп и всегда рад случаю помочь либо деньгами, либо протекцией. Он очень влиятелен в высших кругах и вытащил меня из крупной неприятности; я страшно благодарен князю и при случае рассказал ему и про тебя: какой ты умный и с каким уважением относились к тебе в нашем милом университете; он обещался поставить тебя на ноги! Он всесилен, это понятно, если принять во внимание, что весь цивилизованный и нравственный мир подчиняется богатству, а у него денег — хоть отбавляй! Воспользуйся им, он только этого и желает; напиши мне, когда твои дела продвинутся. Не беспокойся насчет возврата пятидесяти фунтов, пока твои дела совершенно не поправятся.
Вечно твой
Босслз»
Я улыбнулся, прочитав смешную подпись, хотя в моих глазах стояли слезы. «Босслз» было прозвище, данное ему товарищами, и никто иначе не называл его, кроме профессоров, для которых он был Джон Кэррингтон. Я сложил письмо с чеком и, размышляя, какого рода человек этот филантроп с несметным количеством денег, собрался открыть другие письма, радостно сознавая, что на следующий день могу уладить счета с хозяйкой. Кроме того, мне теперь было возможно заказать себе ужин и одновременно зажечь огонь в унылом камине. Но раньше, чём заняться удовлетворением своего животного я, я открыл длинный голубой конверт, столь похожий на угрожающую повестку, и, развернув лист, просмотрел его с изумлением: что это означало? Строки замерцали перед моими глазами, — удивленный и пораженный я читал и перечитывал написанное, не понимая в чем суть… Наконец, я понял, и нечто вроде электрического тока пронзило меня… Нет! Нет! Это было невозможно! Судьба не бывает столь сумасшедшей, столь игриво и бессмысленно капризной! Это злая шутка, устроенная нарочно, чтобы меня извести. А между тем… если это была шутка, то шутка изумительная! Имеющая также вес закона! Клянусь, новость казалась мне положительно достоверной!
Глава вторая
Стараясь пересилить свое волнение, я медленно перечел документ; мое изумление только усилилось, и у меня промелькнула мысль, что я сошел с ума или заболеваю белой горячкой. Неужели это удивительное, из ряду выходящее известие — правда? Если оно не ложно, то… силы небесные! Мне чуть не сделалось дурно; потребовалась вся моя сила воли, чтобы не лишиться чувств от восторга и неожиданности, — если известие не ложно, то мир принадлежит мне; из нищего я превратился во властелина… все мои самые несбыточные надежды близки к осуществлению! Письмо, удивительное письмо, было озаглавлено именем одного из известнейших нотариусов Лондона и уведомляло меня деловым языком, что дальний родственник моего отца, о котором я мельком слыхал, будучи еще ребенком, скоропостижно скончался в Южной Америка, оставляя мне одному все свое огромное состояние.
«Состояние усопшего достигает цифры свыше пяти миллионов фунтов стерлингов; мы сочтем за большое одолжение, если вы, найдете возможным зайти на этой неделе в нашу контору для личных переговоров. Большая часть капитала находится в Государственном Банке; довольно крупные суммы помещены во французских правительственных рентах. Мы предпочли бы дать вам дальнейшие сведения лично. В надежде вскоре увидать вас, мы просим вас принять уверение и пр.»
Пять миллионов! Я голодающий писатель, безнадежный посетитель редакций, без семьи и без друзей, — я владелец пяти миллионов фунтов! Я старался понять все значение этого удивительного факта, так как это, несомненно, был факт, и не мог! Мне казалось, что я в каком-то диком заблуждении, вызванном в моем усталом уме недостатком пищи. Я оглядел комнату с ее жалкой мебелью, пустым камином, грязной лампой, низкой убогой постелью и всеми признаками крайней бедности, — а потом разразился неудержимым хохотом; до такой степени меня поразил контраст между тем, что меня окружало и известием, которое я получил!
— Что за каприз сумасшедшей фортуны? — воскликнул я громко. — Кто бы мог этого ожидать? Бог мой! Подумать, что я, я избран из всего мира для столь поразительного счастья! Клянусь небесами, если все это правда, то не пройдет месяца, как я заставлю общество кружиться, как волчок, по одному моему мановению!
И я опять громко засмеялся, засмеялся, как ругался раньше, чтобы облегчить себя. Кто-то засмеялся мне в ответ, — это было эхо моего смеха… Испуганный, я остановился и прислушался. Дождь лил по-прежнему, ветер злостно свистал, как разъяренная ведьма, — соседний скрипач исполнял блестящую руладу на своем инструменте, — но других звуков не было. Несмотря на это, я был готов поклясться, что слышал грубый мужской смех, раздавшийся позади меня…
— Это плод моего воображения, — пробормотал я и поднял фитиль в лампе в надежде получить больше света.
— Я просто разнервничался; положим, что это неудивительно! Бедный Босслз! Славный малый, — продолжал я, вспомнив его чек на пятьдесят фунтов, казавшийся мне таким благодеянием еще несколько минут до этого, — какой сюрпризе ожидает тебя… Я возвращу тебе твои деньги немедленно с прибавкой пятидесяти фунтов в виде процентов за твою щедрость. А что касается современного мецената, которого ты посылаешь мне на помощь, он, пожалуй, превосходный старичок, но в этот раз он почувствует себя лишним! Я не нуждаюсь ни в поддержке, ни в советах, ни в покровительстве, — теперь я могу их просто купить! Титулы, почести, поместья — все покупное… Любовь, дружба, положение — продажны в нашем усовершенствованном коммерческом веке и идут к тому, кто больше за них дает. Клянусь своей душой! Этот богатый филантроп не посмеет тягаться со мной! Навряд ли у него больше пяти миллионов… А теперь надо поужинать! Придется есть в кредит, пока я не получу денег, — в общем, отчего бы мне не покинуть сейчас эту отвратительную дыру и переехать в лучшую гостиницу Лондона?
Я хотел было выбежать из комнаты в приливе возбужденности и радости, когда новый сильный порыв ветра прорвался сквозь трубу камина, неся с собой комки сажи, которые упали черной массой на мою отверженную рукопись, брошенную мной в отчаянии на пол. Я быстро поднял и вытер тетрадь, думая, какова теперь будет ее дальнейшая судьба, теперь, когда я могу издать ее сам и не только издать, а напечатать объявления и рекламировать ее по всем правилам искусства, столь знакомого в интимных кружках писателей. Я улыбнулся, подумав, как я отомщу всем, которые до сих пор пренебрегали моим трудом, — как они будут дрожать передо мной, ластиться как наказанные щенки и подобострастно льстить моему таланту! Я заставлю даже самых упрямых преклониться передо мною, — я это решил непременно, — если деньги не всегда побеждают, это лишь потому, что их не сопровождает ум. Деньги и ум вместе могут овладеть миром — иногда ум может достичь этого результата и без денег; над этим серьезным фактом не мешало бы призадуматься и людям без ума…
Поглощенный честолюбивыми мыслями, я безотчетно внимал диким звукам скрипки, долетавшим до меня из соседней комнаты, — звуки, похожие то на отчаянные рыдания, то на беззаботный смех веселой женщины. Я вспомнил вдруг, что еще не открыл третьего письма с княжеским золоченым гербом; оно лежало нетронутое на столе. Я поднял его и принялся распечатывать толстый конверт с каким-то непонятным чувством отвращения. Вынув, наконец, сложенный лист толстой бумаги, украшенной гербом, я прочел следующие строки, написанные удивительно четким и красивым, хотя мелким почерком.
«Милостивый Государь, у меня есть письмо к вам от Вашего бывшего товарища Кэррингтона, живущего ныне в Мельбурне; он был так добр, что дал мне возможность познакомиться с человеком, который, как я понял, одарен священными дарами литературного гения. Я заеду к Вам сегодня между 8 и 9 часами вечера в надежде застать вас дома незанятым.
Присылаю свою визитную карточку с адресом…
Преданный Вам
Лючио Риманец»
Карточка, про которую он писал выпала на стол. На ней виднелась маленькая изящная корона над словами:
Князь Лючио Риманец.
А в углу значился адрес, написанный карандашом: «Гранд Отель».
Я перечел краткое письмо. Оно было просто, вежливо и понятно. В нем не было ничего замечательного, положительного, но мне оно вдруг показалось полным скрытого смысла, — почему? — я не мог понять. Какая-то чарующая сила приковывала мой взгляд к характерному смелому почерку, и я подумал, что человек, писавший эти строки, обязательно понравится мне.
Но как же уныло свистел ветер; скрипка продолжала рыдать, как одушевленная заблудившаяся душа страждущего музыканта! У меня помутилось в голове и сердце болезненно сжалось; равномерное капание дождя казалось мне приближением приставленного ко мне шпиона. Я делался нервным и раздраженным, — предчувствие чего-то злого, какой то беды омрачило светлое сознание моего неожиданного счастья. Потом прилив стыда владел мною — стыда, что этот иностранный князь, владелец несметного богатства посетил меня, меня, миллионера, — в столь убогой квартире; несмотря на то, что я еще не дотронулся до своего богатства, я был охвачен мелким низким желанием притвориться, что я никогда действительно бедным не был. Если б у меня был хоть шиллинг, я бы послал телеграмму незнакомцу, прося его отложить свой визит, но у меня его не было….
— Во всяком случае, — сказал я, громко обращаясь к пустой комнате и к бушующему ветру, — я не встречу его сегодня; я отлучусь, не сказав куда — и, если князь придет, то подумает, что я еще не получил его письма. Я назначу ему свидание, когда буду на другой квартире и одетый как подобает моему положению; а между тем, ничего нет легче, как избежать встречи с этим непрошенным покровителем.
Пока я еще говорил, мерцающая лампа вдруг вспыхнула и потухла, оставляя меня в полном мраке. С восклицанием более громким, чем приличным, я начал разыскивать спички или в крайнем случае шляпу, — но я еще был занят неудачными поисками когда услыхал лошадиный топот, остановившийся как раз под моим окном. Я остановился и прислушался. Внизу раздался какой-то шум, я различил голос хозяйки, говорившей вежливо и подобострастно; ей ответил приятный мужской голос; наконец шаги, твердые и ровные, начали медленно подыматься по лестнице и остановились на моей площадке.
— Черт вмешался в это дело, — пробормотал я сквозь зубы. — Вот мое счастье! Пришел именно тот человек, которого мне хотелось избежать.
Глава третья
Дверь открылась, и, благодаря темноте, я мог лишь различить высокую тень, стоящую на пороге, хорошо помню впечатление, которое произвел на меня этот странный облик, преисполненный столь величественной силой, что я невольно обомлел и едва расслышал слова моей хозяйки.
— Господин желает вас видеть, — сказала она и остановилась в досаде, увидав полный мрак в моей комнате. — Каково? — воскликнула она, — лампа потухла, — потом обращаясь к посетителю, она прибавила:
— Боюсь, что мистер Темпест вышел; хотя я видела его полчаса тому назад. Если это вас не затруднит, то подождите минуточку, я принесу свечку и посмотрю, не оставил ли он записку на столе.
Она быстро удалилась и, хотя я знал, что мне следовало заговорить, какое то злобное чувство заставляло меня молчать и не выдавать своего присутствия. Между тем незнакомец сделал два-три шага вперед, и звонкий голос с насмешливым оттенком раздался:
— Джеффри Темпест, вы тут?
Зачем я не ответил? Необъяснимое, необычайное упрямство удерживало меня, — скрытый в темноте моей убогой комнаты я упорно молчал.
Величественный облик приблизился; рост и ширина незнакомца угнетающе подействовали на меня: еще раз голос повторил:
— Джеффри Темпест, вы тут?
Мне было стыдно дольше молчать: сделав над собой усилие, я победил свое непонятное упрямство, сделавшее из меня жалкого труса, и, храбро выступив вперед, я стал перед моим посетителем.
— Да, я здесь, — сказал я, — но мне неудобно так принимать вас! Вы, конечно, князь Риманец, я только что прочел вашу записку, предупреждавшую меня о вашем посещении, но я надеялся, что моя хозяйка, увидав темноту, решит, что меня нет, и уведет вас. Вы видите, я совершенно откровенен.
— Да, действительно, — ответил незнакомец, и в его звучном голосе послышалась насмешка… — Вы так откровенны, что я не могу не понять вас. Откинув вежливость в сторону, вы негодуете на меня за мой несвоевременный визит и желали бы, чтобы я не пришел.
Точное объяснение моего настроения показалось мне столь неучтивым, что я поспешил опровергнуть его, хотя знал, что оно было правильно. Правда, даже в мелочах, всегда неприятна.
— Пожалуйста, не считайте меня за грубияна, — сказал я, — дело в том, что я открыл вашу записку лишь несколько минут назад, и раньше, чем я мог сделать какое либо распоряжение для вашего приема, лампа у меня потухла, и я вынужден приветствовать вас сквозь такую темноту, что даже не могу подать вам руки.
— А все-таки попробуем, — сказал посетитель смягченным голосом, придавшим какую-то чарующую силу этим ничтожным словам. — Вот моя рука: — если в вашей руке кроется инстинктивная дружба, то они сойдутся и без внешней помощи.
Я немедленно протянул руку и почувствовал теплое, но властное пожатие. В ту же минуту комната озарилась светом, моя хозяйка взошла, неся с собой зажженную лампу, которую она поставила на стол. Она, кажется, удивилась, увидав меня, — но сказала ли она что-нибудь или нет — не помню, — я был так удивлен и очарован видом незнакомца, тонкая, изящная рука которого не выпускала мою, что я ничего не видел и ничего не слышал. Я сам не маленького роста, но князь был, по крайней мере, на пол головы выше меня; пристально вглядываясь в него, я пришел к заключению, что никогда ещё не видал человека, наружность которого соединяла такую разительную красоту с выражением столь глубокого разума. Голова, красивая по форме, выражала силу и мудрость и была поставлена на плечи, которых не устыдился бы и сам Геркулес, лицо представляло чистый, белый овал и было удивительно бледное; эта бледность усиливала блеск его больших темных и слегка выпуклых глаз, привлекающих своим странным выражением, не то веселости, не то горя. Самой характерной чертой этого лица, был, пожалуй, рот: обладая красивыми изгибами, он был, тем не менее, тверд и решителен и своей величиной избегал женственности; в спокойном положении, он выражал иронию, едкость и даже жестокость, но освещенный улыбкой, этот рот намекал, или мне казалось, что он намекал, на нечто более субтильное, чем все известные нам страсти, и с быстротой молнии в моем уме сверкнул вопрос, что это мистическое, необъяснимое ничто могло бы быть? С первого взгляда я оценил все изящные качества моего нового знакомого, и мне показалось, что я знаю его давно. Но вдруг, при свете принесенной лампы и лицом к лицу с моим посетителем, я вспомнил все, что окружало меня: пустую холодную комнату, отсутствие огня, черную сажу, загрязнившую голый пол, мою изорванную одежду, придававшую мне столь печальный вид, в особенности рядом с этим горделивым князем, носившем на себе столь явные признаки богатства, как роскошная соболья шуба, которую он небрежно откинул, не переставая смотреть на меня с улыбкой.
— Я знаю, что пришел в неурочный час, — сказал он, — но я всегда, так прихожу. Это мое несчастье! Воспитанные люди никогда не вторгаются туда, где их не просят, — я боюсь, что в этом случае мое воспитание хромает. Постарайтесь простить мне ради этого, — и он подал мне письмо, на котором я увидал знакомый почерк Кэррингтона. — И позвольте мне присесть, пока вы прочтете мой оправдательный документ.
И, приблизив к себе стул, князь Риманец сел: его красивое лицо и плавные движения положительно очаровывали меня.
— Никаких документов не нужно, — сказал я с искренним радушием. — Я уже получил письмо от Кэррингтона, в котором он говорит о вас с восторженной благодарностью. Но дело в том… простите меня, князь, если я кажусь вам удивленным и растерянным… но я думал встретиться с довольно пожилым человеком…
Я остановился, смущенный пристальным взглядом его блестящих глаз, уставленных на меня.
— В наше время, милостивый государь, никто не стар, — объявил князь шутливо, — даже дедушки и бабушки игривее в пятьдесят лет, нежели в пятнадцать! В высшем обществе совсем не говорят о летах, — это невоспитанно, почти непристойно! О неприличных вещах говорить нельзя, — и возраст стал неприличным, поэтому избегают в обществе говорить о нем. Вы ожидали встретить старого человека? Вы не ошиблись, я стар; Вы не можете себе представить, как я действительно стар!
Я улыбнулся этой нелепости.
— Да вы моложе меня, — сказал я, — по крайней мере, вы моложе на вид.
— Вид бывает обманчив, — ответил Риманец весело, — я, как многие из известных красавцев столицы, гораздо старше, чем кажусь! Но прошу вас, прочтите письмо, которое я принес вам; я не успокоюсь, пока вы этого не сделаете.
Желая искупить чрезвычайною учтивостью свою прежнюю грубость, я исполнил просьбу князя и, открыв письмо, прочел следующее:
«Дорогой Джеффри!
Податель сего, князь Риманец, из ряда выходящий ученый и принадлежит к одному из самых старых родов не только Европы, но, пожалуй, и мира! Тебе, как любителю древней истории, будет интересно знать, что его предки первоначально были князьями Халдеи, поселившиеся впоследствии в Тире, откуда они переехали в Этрурию, где оставались веками; последний отпрыск этого знаменитого рода и есть тот одаренный и благодетельный человек, которого, как хорошего друга, я рекомендую твоему особому вниманию. Непредвиденные обстоятельства, слегка бурного свойства, заставили его покинуть родину, причем он потерял часть своего состояния, так что теперь он более или менее странник на лице земли; но благодаря этому он видел многое и обладает весьма широким опытом. Кроме того, князь замечательный поэт и музыкант и хотя он занимается искусствами исключительно для собственного развлечения, я думаю, что его практические знания литературного дела послужат тебе в твоей трудной литературной карьере. Спешу прибавить, что касательно науки, он абсолютно всеведущ. Посылаю вам обоим уверенности в своей искренней дружбе и остаюсь
преданный тебе
Джон Кэррингтон».
Обычная подпись «Босслз» верно казалась писателю неуместной, но почему-то отсутствие ее огорчило меня. В письме звучало нечто принужденное, сухое, как будто оно было написано под чьим-то давлением. Отчего мне явилась эта мысль, не знаю? Я взглянул исподтишка на моего посетителя, — он поймал мой взгляд и в свою очередь посмотрел на меня пристально, как бы допытываясь чего-то. Боясь, что мое смутное недоверие выразилось у меня в глазах, я поспешил заговорить:
— Это письмо, князь, лишь увеличивает во мне чувство стыда и сожаления, вызванное моим грубым поведением в начале вашего визита. Никакие извинения не могут изгладить моей вины, но вы не можете себе представить, как я удручен и унижен, что должен был принять вас в столь неподходящей обстановке; я желал бы приветствовать вас совсем иначе…
Тут я остановился, раздраженный мыслью, что, в сущности, я чрезвычайно богат, но пока еще кажусь бедным. Князь махнул рукой, как бы отгоняя мои ненужные извинения.
— Зачем вы огорчаетесь? — спросил он, — радуйтесь скорее, что вы можете обойтись без обычной пошлой роскоши. Гений процветает на чердаке и умирает в хоромах, — разве это не общепринятая теория?
— Но это устарелая и ошибочная теория, — возразил я, — Гений жаждет попытать счастье во дворце, так как его обычная судьба — голодная смерть.
— Верно; но подумайте, сколько дураков он кормит, умирая! Над всем этим, милостивый государь, царит мудрое Провидение. Шуберт умер от нужды, — но, сколько заработали на его произведениях музыкальные издатели? Это закон справедливости: жертвовать честными людьми, дабы олухи не пропадали!
Князь засмеялся; я посмотрел на него с некоторым удивлением. Его замечание было так похоже на всегдашние мои мысли, что я не знал, говорит ли он серьезно или нет.
— Вы конечно шутите, — сказал я, — вы ведь не верите тому, что сказали?
— Ах, неужели я не верю, — воскликнул он и глаза его сверкнули, как молния, — если я не верю учету собственного опыта, то что же остается мне? Уверяю вас, дьявол правит миром с кнутом в руке, — и как это ни странно, принимая в соображение, что есть же еще отсталые люди, верящие в Бога, он справляется со своим цугом довольно легко!
Князь нахмурился и злобные черты вокруг рта как бы углубились, — потом он опять весело засмеялся и прибавил:
— Но к чему это нравоучение? — оно лишь претит духов; всяк разумный человек ненавидит, если ему говорят, как он должен поступать, но как он поступать не хочет! Я пришел сюда, чтобы подружиться с вами, если вы это позволите; откинемте дальнейшие церемонии; прошу вас, поедемте со мной в гостиницу, где я остановился и где уже заказал ужин на нас обоих.
Я был окончательно очарован его приятными манерами, красивой наружностью и звучным голосом; насмешливый поворот его мыслей был мне по душе: я почувствовал, что мы поладим друг с другом, и раздражение, вызванное во мне тем, что князь застал меня в столь бедной обстановке, слегка улеглось.
— С удовольствием, — ответил я, — но, сперва, позвольте вам объяснить мое положение. Вы уже слышали про мои скверные обстоятельства от моего друга Джона Кэррингтона, и я знаю по первому его письму, что вы пришли ко мне исключительно по доброте и мягкосердечности. Благодарю вас за ваше благое намерение. Вы думали найти несчастного литератора, борющегося за существование под страшным гнетом бедности и неудачи, и два часа тому назад вы были бы правы, но с тех пор обстоятельства изменились: я получил известие, радикально повлиявшее на мое положение; одним словом, сегодня вечером случилось для меня нечто неожиданное и удивительное…
— Надеюсь, приятное? — мягко перебил меня князь.
Я улыбнулся.
— Посудите сами, — и я протянул ему письмо нотариуса, извещавшего меня о неожиданном наследстве.
Князь быстро просмотрел письмо, потом сложил его и с вежливым поклоном передал его мне.
— Пожалуй, мне следует поздравить вас, — заметил он. — Итак, поздравляю вас, хотя это богатство, которое, по-видимому, удовлетворяет вас, мне лично кажется ничтожным! Без особенного труда, вы можете прожить его через каких-нибудь восемь лет, а потому оно не гарантирует вам абсолютную беззаботность. Чтобы быть богатым, действительно богатым, следовало бы иметь миллион в год. Это давало бы право надеяться не покончить свою жизнь в богадельне.
Он засмеялся; я же глупо уставился на него, не зная, как принять его слова — за правду или пустое хвастовство! Пять миллионов фунтов чистыми деньгами — ничтожество? Князь продолжал говорить, как бы не замечая моего замешательства.
— Неистощимая жадность человека никогда не может быть удовлетворена! Если он не жаждет одного, то жаждет другого, и его вкусы почти всегда дороги. Несколько красивых и легкомысленных женщин быстро избавят вас от ваших миллионов покупкой одних лишь драгоценных камней. Игра на тотализаторе подействует еще быстрее. Нет, нет, вы не богаты! Вы еще бедны; только ваши нужды не так существенны, как прежде. Сознаюсь вам: я слегка разочарован; я пришел к вам в надежде помочь кому-нибудь хоть раз в жизни, — роль кормильца восходящего гения меня прельщала, а оказывается я предупрежден, как всегда! Как это ни странно, тем не менее, это факт: достаточно мне иметь какое-нибудь намерение по отношению к человеку, чтобы быть предупрежденным, так или иначе. Какая горькая судьба!
Князь остановился и поднял голову, как бы прислушиваясь к чему-то.
— Что это? — спросил он.
В соседней комнате скрипач разыгрывал знакомую Аве Mapию; я объяснил ему, в чем дело.
— Мрачно, очень мрачно, — сказал он, насмешливо пожимая плечами. — Ненавижу такую скучную музыку! Ну, что же? хотя вы и миллионер и вскоре будете правилом высшего общества, вам не кажется, что нет препятствий к предложенному ужину? А потом в увеселительный сад, что вы на это скажете?
И князь радушно хлопнул меня по плечу, упорно глядя мне в лицо своими удивительными глазами, в которых, казалось, отражались огненные слезы. Его блестящий повелительный взгляд совершенно покорил меня; я не сопротивлялся странному влечению, тянувшему меня к человеку, с которым я только что познакомился. Это чувство было слишком приятно, чтобы я стал бороться с ним. Одну минуту я начал было колебаться, вспомнив свою истасканную одежду.
— Я не пригож для вашего общества, князь, — сказал я, — я похож более на бродягу, чем на миллионера.
Риманец взглянул на меня и улыбнулся.
— Вы не правы, — воскликнул он, — вы этим не отличаетесь от многих крезов! Только бедняки и гордецы стараются одеться хорошо, — они и шаловливые дамочки пользуются красивой одеждой. Скверно сшитый сюртук большею частью украшает первого министра; если вы встретите женщину в ужасно некрасивом платье по цвету и по фасону, будьте уверены, что она нравственна, занимается благотворительностью и по меньшей мере герцогиня.
И, запахнув свою соболью шубу, князь медленно встал.
— Какое дело нам до сюртука, если карман полон, — продолжал он весело, — достаточно того, чтобы газеты хоть раз протрубили о ваших миллионах, и уже найдется предприимчивый портной, который выдумает пальто «а-ля Темпест», мягко оттененное, как ваше нынешнее пальто в неопределенно-зеленый цвет! А теперь, пойдемте; известие вашего нотариуса должно было придать вам хороший аппетит, или оно не так важно, как вы говорите; я хочу, чтобы вы отдали должное моему ужину. Мой повар всегда ездит со мной и, не хвастаясь, могу сказать, что он чрезвычайно искусен! Надеюсь, между прочим, что вы позволите мне оказать вам хоть одну услугу, а именно, пока не уладятся все законные формальности по вашему наследству, позвольте мне быть вашим банкиром.
Предложение было сделано с видом такой изысканной деликатности и дружбы, что я не мог не принять его с благодарностью, тем более, что оно выводило меня из временных стесненных обстоятельств. Я написал несколько строк моей хозяйке, предупреждая ее, что она получит должные ей деньги на следующий день по почте, потом, засунув рукопись, единственную мою принадлежность, в боковой карман, я потушил лампу и рядом с моим новым другом покинул мою мрачную квартиру и с ней все грустные воспоминания прошлого. Я нисколько не думал, что настанет час, когда время, проведенное мною на этом чердаке, покажется мне счастливейшей частью моей жизни, когда горькая бедность, испытанная мною в то время, будет казаться мне благословением сурового, но святого ангела, приставленного ко мне для указания высшего и благородного пути, — когда я буду молиться с отчаянными рыданиями, чтобы только вернуться к своему прежнему нравственному я! Хорошо ли или плохо, что будущее совершенно скрыто от нас, это трудно разрешимый вопрос. Во всяком случае, в ту минуту мое неведение было счастьем! Я с радостью покинул дом, где испытал только одни неприятности и разочарования и повернул ему спину с чувством несказанного облегчения, — последнее, что я услышал, когда вышел на улицу, была жалостливая тихая мелодия в минорном тоне, посланная за мной в виде прощального привета незнакомого и невидимого скрипача.
Глава четвертая
Карета князя, запряженная парой горячих вороных рысаков, дожидалась нас; лакей, увидав хозяина, открыл дверцы, вежливо приподняв цилиндр, обшитый золоченым галуном. Я взошел в экипаж первый по просьбе моего спутника; откинувшись на мягкие подушки, я до такой степени сознал свою силу, что принял за должное роскошь, окружавшую меня; дни моей нужды казались мне уже отдаленными, почти туманными. Голод и счастье совместно владели мной; я был в каком-то смутном состоянии, вызванным продолжительным отсутствием пищи, и ничто не казалось мне действительным. Я знал, что не пойму значения своего неожиданного счастья, пока не удовлетворю физическую нужду и не стану вновь нормальным человеком. В данную минуту, голова у меня кружилась, бессвязные мысли туманили ум, и мне самому казалось, что я жертва какого-то капризного сна, от которого вскоре пробужусь. Карета бесшумно катилась по мостовой, изредка подскакивая на резиновых шинах, и слышен был лишь равномерный топот лошадей. Внезапно в полумраке я заметил огненный взгляд моего нового друга, устремленный на меня с каким-то странным упорством.
— Вы еще не почувствовали, что мир у ваших ног? — спросил он полуигриво, полунасмешливо, — в роде кегельного шара, который ждет чтобы вы с ним поиграли? Мир такой потешный и двинуть его так легко! Мудрецы всех веков старались исправить его, но напрасно; мир продолжает любить сумасбродство больше разума! Это деревянный шар, или мяч для тенниса, готовый полететь, куда и когда угодно, лишь бы ракета была золотая!
— Вы говорите едко, князь! — сказал я, — но у вас верно обширнейший опыт?
— Да, — ответил он, не колеблясь, — мое царство велико.
— Вы, значит, владетельное лицо?! — воскликнул я в удивлении, — и ваш титул не только почетный?
— По понятиям вашей аристократии мой титул почетный, — ответил князь быстро, — когда я говорю, что мое царство велико, я подразумеваю, что я царствую повсюду, где люди подчиняются богатству! С этой точки зрения разве я не прав, утверждая, что мое царство велико? почти безгранично?
— Вы циник, — сказал я, — неужели вы не верите, что есть вещи, которых купить нельзя — например честь и добродетель?
Князь презрительно улыбнулся.
— Если честь и добродетель действительно существуют, — ответил он, — то они конечно неподкупны! Личный же опыт научи меня, что я могу купить все. Чувства, называемые большинством людей добродетелью и честью страшно условны — стоит предложить должную сумму денег, и они превращаются в нечто другое; это любопытно? — не правда ли, чрезвычайно любопытно? Сознаюсь, однако, что однажды я наткнулся на безусловное бескорыстие, — но только раз! Пожалуй, я еще раз наткнусь на подобный факт, хотя сильно в этом сомневаюсь. Возвращаясь к себе, прошу вас не думать, что я притворяюсь или представляюсь вам под ложным титулом. Я действительно князь и принадлежу более старому и знаменитому роду, чем все ваши аристократы; — но мои владения давно уже распались и мои подданные разбрелись по разным странам: — анархия, нигилизм и другие политические беспорядки заставляют меня умалчивать о моих делах. Денег, к счастью, у меня сколько угодно и, благодаря им, я прокладываю себе путь. Когда-нибудь, когда вы узнаете меня ближе, я ознакомлю вас с историей моей частной жизни. У меня еще несколько титулов и имен, непомеченных на моих визитных карточках, — я сохранил самый простой из них — чтобы избегнуть коверкания моего имени. Мои интимные друзья откидывают титул и просто называют меня Лючио.
— Это ваше крестное имя? — начал было я.
Князь перебил меня быстро и сердито:
— Совсем нет! у меня нет крестного имени, да и во всем моем существе вы не найдете ничего христианского.
Князь говорил с таким видимым нетерпением, что я не нашелся, что ответить:
— Неужели! — пробормотал я.
Он горько рассмеялся.
— «Неужели?» вот все, что Вы нашли сказать! Слово «христианин» меня изводит. Во всем мире нет ни одного настоящего христианина. Вы не христианин, никто не христианин в действительности, хотя многие притворяются, что они христиане и одним этим богохульствуют, делают больше зла, нежели злейший из падших духов! Я же вовсе не притворяюсь и у меня одна только вера…
— Какая?
— Глубокая и ужасная вера, — сказал князь внушительным тоном; — но важно то, что это — истинная вера — неопровержимая, как проявления природы. Но об этом мы поговорим потом, когда будем чувствовать себя в мрачном настроении; а теперь мы приехали, и единственная забота нашей жизни (это забота многих) — это, как можно лучше поужинать.
Карета остановилась и мы вышли. Увидав знакомых рысаков с серебряными приборами, швейцар и двое других служащих бросились нам навстречу; князь прошел мимо них без всякого внимания и обратился к скромно одетому в черном человеку, его камердинеру, приветствовавшему его с низким поклоном. Я пробормотал свое желание нанять комнату в гостинице.
— Мой человек сделает все нужные распоряжения, — сказал князь, — гостиница не полна; во всяком случае, лучшие номера еще свободны, и Вы конечно займете лучшие?
Глазеющий слуга до этого момента смотрел на мой потертый костюм с видом особенного презрения, выказываемого нахальными холопами тем, кого они считают бедняками, но, услышав эти слова, он мгновенно изменил насмешливое выражение своей лисьей физиономии и с раболепством кланялся мне, когда я проходил. Дрожь отвращения пробежала по мне, соединенная с некоторым злобным торжеством: отражение лицемерия на лице этого холопа было, как я знал, только тенью того, что я найду отражающимся в манерах и обращении всего «высшего» общества, так как там оценка достоинств не выше, чем оценка пошлого слуги, и за мерку принимаются исключительно деньги.
Если вы бедны и плохо одеты — вас оттолкнут, но если вы богаты — вы можете носить потертое платье, сколько вам угодно: за вами будут ухаживать, вам будут льстить и всюду приглашать, хотя бы вы были величайшим глупцом или первостатейным негодяем.
Такие мысли смутно бродили в моей голове, пока я следовал за хозяином в его комнаты. Он занимал целое отделение в отеле, имея большую гостиную, столовую, кабинет, убранные самым роскошным образом, кроме того — спальню, ванную комнату и уборную, и еще комнаты для лакея и двух других слуг.
Стол был накрыт для ужина и сверкал дорогим хрусталем, серебром и фарфором, украшенный корзинами самых дорогих фруктов и цветов, и несколько минут спустя мы уже сидели за ним.
Лакей князя служил во главе, и при полном свете электрических ламп я заметил, что лицо этого человека казалось очень мрачным и неприятным, даже таило злое выражение, но в исполнении своих обязанностей он был безукоризнен, будучи быстрым, внимательным и почтительным, так что я внутренне упрекнул себя за инстинктивную неприязнь к нему. Его имя было Амиэль; я невольно следил за его движениями, так они были бесшумны, и его шаги напоминали крадущуюся поступь кошки или тигра.
Ему помогали двое других слуг, одинаково расторопных и хорошо дрессированных, и я наслаждался изысканными блюдами, которых так давно не пробовал, и ароматным вином, о котором могли только мечтать разные знатоки. Я начинал себя чувствовать совершенно легко и разговаривал свободно и доверчиво, и сильное влечение к моему новому другу увеличивалось с каждой минутой, проведенной в его компании.
— Будете ли вы продолжать вашу литературную карьеру теперь, когда вы получили это маленькое наследство? — спросил он, когда после ужина Амиэль поставил перед нами изысканный коньяк и сигары и почтительно удалился.
— Конечно, — возразил я, — хотя бы только для удовольствия. С деньгами я могу заставить обратить на себя внимание. Ни одна газета не откажет в хорошо оплаченной рекламе.
— Верно! Но не откажется ли вдохновение изливаться из набитого кошелька и пустой головы?
Это замечание рассердило меня.
— Вы считаете, что у меня пустая голова? — спросил я с досадой.
— Не теперь; но дорогой Темпест, не позволяйте токайскому вину, которое мы только что выпили, или коньяку, который мы еще должны выпить, отвечать за вас так стремительно. Уверяю вас, я не считаю вас легкомысленным; наоборот, судя по тому, что я слышал о вас, ваша голова полна идей превосходных, оригинальных, но в которых, к сожалению, условная критика не нуждается. Но вопрос в том, будут ли эти мысли продолжать рождаться в вашем уме или полный кошелек заставит их исчезнуть? Вдохновение и оригинальность мыслей редко сопровождают миллионера. В данном случае я могу ошибиться: надеюсь, что я ошибаюсь, но почти всегда бывает так: когда на долю восходящего гения выпадают мешки с золотом, Бог покидает его, и сатана вступает в свои права. Неужели вы не слыхали этого раньше?
— Никогда, — ответил я, улыбаясь.
— Ну конечно это пустые слова, в особенности в наше время, когда не верят ни в Бога, ни в дьявола! Подразумевается, однако, что надо выбрать между высшей ступенью, т. е. гением и низшей — деньгами. Нельзя одновременно ползать и летать!
— Большие деньги не могут заставить человека ползать, — сказал я, — наоборот, они лишь могут укрепить его способности и поднять его до самых больших высот.
— Вы так думаете? — заметил князь, с озабоченным видом зажигая сигару, — в таком случае вы мало изучали то, что я назову природной психикой. То, что от земли — притягивает к земле. Вы не можете этого не понять. Золото первоначально принадлежит земле, — оно выкапывается из земли и превращается в толстые тяжелые слитки, — одним словом это существенный металл. Гений принадлежит неизвестно чему; нельзя ни выкопать его, ни передать его, а только преклоняться перед ним, — это редкий гость, своенравный, как ветер, переворачивающей беспощадно общепринятые условия жизни. Гений, как я говорил вам — нечто высшее, не имеющее ничего общего с земными вкусами и заботами, а деньги — положительное преимущество, притягивающее вас невольно к земле, где вы и остаетесь!
Я засмеялся.
— Вы красноречиво громите богатство, — сказал я, — но вы сами необычайно богаты, — неужели вы сожалеете об этом?
— Нет, я об этом не сожалею; это было бы бесполезно, а я не люблю тратить времени попусту; но я говорю вам правду. Гений и несметное богатство редко идут рука об руку. Например, я: вы не поверите, какие у меня были способности в былое время… Когда я еще не был хозяином самого себя!
— Но я уверен, что они имеются у вас и теперь, — заметил я глядя на его красивую голову и умные глаза.
Странная, необъяснимая улыбка, замеченная мной еще раньше, вновь озарила его лицо.
— Вы хотите сказать, что моя внешность вам нравится, — она нравится многим! Но дело в том, что как только детство проходит, мы притворяемся быть другими, чем мы есть, и, благодаря долгой практике, в конце концов, наша обложка очень удачно скрывает наше настоящее «я». Это очень умно — и теперь люди превратились в какие-то телесные стены, через которые ни враг, ни друг ничего не увидит… Каждый человек, сам по себе, одинокая душа, заключенная в клетку собственного изделия; — когда он наедине, он знает и ненавидит себя, — иногда даже он страшится ужасного изверга, скрывающегося под привлекательной внешней маской и спешит забыть о нем, окунаясь в одурманивающее пьянство и разврат! Я делаю это часто, вы этого не подозревали?
— Никогда, — ответил я быстро; в его голосе звучали трогательные нотки… — вы клевещете на самого себя и обвиняете себя напрасно.
Лючио мягко засмеялся.
— Может быть, — сказал он небрежно, — одному вы можете верить, что я не хуже большинства людей. Но вернемся к вопросу о вашей литературной карьере, вы написали книгу, не правда ли? Издайте ее и посмотрите, каков будет результата. Если первая ваша книга будет пользоваться успехом, — это достаточно, а способы всегда найдутся для обеспечения успеха. В чем суть вашего романа? Надеюсь, что он неприличен?
— Нисколько, — ответил я, — роман трактует лишь о благороднейших сторонах жизни и высших стремлениях: я написал эту, книгу с намерением очистить и возвысить мысли моих читателей и одновременно старался утешить опечаленных и тоскующих….
Риманец улыбнулся и посмотрел на меня с жалостью.
— Не годится! — воскликнул он, — уверяю вас, что это не годится, — ваш роман не удовлетворяет требованиям нашего времени. Пожалуй, он сойдет, если вы устроите вечер для всех критиков и угостите их хорошим ужином с неограниченным числом лучших вин. Иначе не ожидайте успеха. Для успеха вовсе не нужно гоняться за высшими идеалами… — надо просто быть неприличным, — но только настолько, насколько это допускают передовые женщины, — а границ у них почти не существует. Пишите побольше о любовных отношениях, одним словом, говорите о мужчинах и женщинах, как вы бы говорили о скотине, существующей исключительно для приплода, и ваш успех будет поразительный! Ни один критик не посмеет не похвалить вас, а пятнадцатилетние девушки будут зачитываться вашим романом в тишине своих девственных спален.
И глаза князя блеснули таким огнем безграничного презрения, что я ужаснулся и не знал, что ответить; он же продолжал:
— Как могло вам прийти в голову, мой милый Темпест, писать о высших стремлениях жизни? В этом мире нет больше места для высших ваших стремлений, — все пошло и материально, — человек и его стремления ничтожны, как и он сам. А для высших форм жизни ищите другие миры, они ведь существуют. Кроме того, люди не ищут чистых мыслей в романах, которые они читают для удовольствия, — для этого они идут в церковь и там скучают. И зачем вам утешать людей страдающих из-за собственной вины и глупости? Вас никто утешать не станет, никто вам монеты не подаст, чтобы спасти от голодной смерти. Мой добрый друг, откиньте ваше донкихотство одновременно с вашей бедностью. Живите для себя; — если вы будете жить для других, то вы встретите лишь черную неблагодарность, последуйте моему совету и ни под каким видом не жертвуйте своими личными интересами.
Кончив свою фразу, князь встал из-за стола и повернулся спиной к пылающему камину, продолжая спокойно докуривать сигару, — я посмотрел на его изящный стан и красивое лицо с первым, чуть заметным, оттенком недоверия.
— Если бы вы не были так удивительно хороши, собой, я бы сказал, что вы бессердечны, — сказал я, наконец, — но черты вашего лица противоречат вашим словам. В действительности вы не так равнодушны к человечеству, как кажетесь, весь ваш вид выражает благородство, которое вы не в силах победить, даже если бы вы этого хотели. К тому же разве вы не стараетесь всегда делать добро?
Он улыбнулся.
— Да, всегда, то есть я стараюсь удовлетворить желания людей, но хорошо ли это или дурно, — еще не доказано. Нужды людей почти безграничны, — единственно чего они, кажется, до сих, пор не желают, это прекратить знакомство со мной.
— Конечно нет; раз они встретили вас, то это невозможно, — воскликнул я, и засмеялся, до такой степени его предположение показалось мне смешным.
Князь посмотрел на меня исподлобья.
— Желания людей не всегда нравственны, — заметил он, стряхнув пепел сигары в камин.
— Но вы, конечно, не поощряете их пороков, — возразил я, все еще смеясь. — Это было бы чересчур точное исполнение роли благодетеля.
— Я вижу, что мы заблудимся в теории, если станем дольше рассуждать, — сказал он. — Вы забываете, милый друг, что никто не может решить окончательно, что добродетель и что порок? Это вещи условные и как хамелеоны в разных странах принимают разные цвета. У Авраама были две или три жены и столько же содержанок, а в Ветхом Завете он пользуется репутаций праведного. Лорд Толнодди в Лондоне имеет одну жену и несколько содержанок и в других отношениях очень похож на Авраама, а его считают за безнравственного человека. Кто решит этот вопрос? Лучше переменить разговор, так как мы никогда ни к какому заключению не придем. Как нам провести вечер? В Тиволи танцует толстая, хитрая девушка, забравшая в свои тенета одного известного старого герцога, — не пойти ли посмотреть, какими телесными вывертами она старается создать себе солидное положение в английских аристократах? Или вы устали, и предпочитаете улечься спать?
Откровенно говоря, я страшно устал и умственно, и физически, благодаря необыкновенным волнениям дня, — голова моя тоже отяжелела от вина, к которому я не привык.
— Сознаюсь, что я предпочел бы постель всякому удовольствию, — пробормотал я, — но как насчет комнаты?
— Амиэль верно уж позаботился об этом; надо спросить его, — сказал князь и позвонил; камердинер немедленно явился.
— Вы приготовили комнату для мистера Темпеста?
— Да, ваше сиятельство; номер в этом коридоре почти напротив комнат вашего сиятельства. Он не так меблирован, как было бы желательно, но я употребил все усилия, чтобы устроить его по возможности удобнее.
— Благодарю, я Вам очень признателен.
Амиэль почтительно поклонившись, удалился.
Я подошел к князю, чтобы пожелать ему доброй ночи. Он взял мою протянутую руку и, держа ее в своей, упорно посмотрел на меня, как бы чего-то допытываясь.
— Я полюбил вас, Джеффри Темпест, — сказал он, наконец, — но именно потому, что я полюбил вас и думаю, что в вашей душе есть другие задатки, кроме животных и плотских, я сделаю вам довольно оригинальное предложение. А именно: если я не нравлюсь вам, скажите это теперь и мы расстанемся сейчас же, пока мы еще не успели ближе познакомиться; постараюсь не встречать вас больше на жизненном пути, разве только если вы сами отыщете меня. Если же, наоборот, я нравлюсь вам и вы чувствуете в моем умственном направлении нечто родное, то обещайте быть моим другом и постоянным товарищем, по крайней мере, на несколько месяцев. Я могу ввести вас в высшее общество, представить первым красавицам Европы и познакомить с самыми блистательными мужчинами. Я знаю всех, так что могу быть полезным. Но если вы чувствуете в глубине вашей души малейшее ко мне отвращение… — князь приостановился, потом продолжал необычайно торжественным тоном, — во имя Всевышего не противьтесь этому и оставьте меня; клянусь вам что я вовсе не такой, каким кажусь!
Глубоко потрясенный его странными словами и внушительным тоном, я остался в колебаниях от этой минуты, если бы я только знал тогда, от чего зависело все мое будущее. Действительно я почувствовал недоверие, почти отвращение к этому очаровательному, но циничному человеку, и он это заметил. Но теперь все подозрения исчезли сразу, и я сжал его руку в приливе удвоенной радости.
— Мой милый друг, ваше предостережение опоздало, — воскликнул я весело, — кто бы вы ни были и каким бы вы ни казались в собственных глазах, я нахожу вас крайне симпатичным и себя осчастливленным вашим знакомством. Мой старый друг Кэррингтон действительно услужил мне, устроив нашу встречу: уверяю вас, что я горжусь вашей дружбой. Вы на себя клевещете и испытываете в этом какое-то наслаждение, но вы ведь знаете старинную пословицу: «Не так страшен черт, как его малюют!»
— Это правда, — задумчиво прошептал князь, — бедный черт! Его недостатки преувеличены, итак, мы будем друзьями?
— Надеюсь; я первый не нарушу этого дружеского договора!
Темные глаза князя уставились на меня пытливо, и в глубине их сверкнуло нечто в роде насмешки.
— Договор — хорошее слово! — сказал он, — итак мы сочтем это за договор. Я хотел было помочь вам с материальной стороны, но теперь вам этого не нужно; однако мне кажется, что я могу быть вам полезным иначе: а именно, со мной вам будет легче проникнуть в высшее общество. А что касается любви, то вы конечно влюбитесь, если еще не успели влюбиться?
— Нет, — ответил я стремительно и искренно, — я еще не встречал женщины, подходящей к моему идеалу красоты.
Князь громко рассмеялся.
— Ваши требования дерзки, — воскликнул он — и так ничто, кроме совершенной красоты не удовлетворит вас?… Но подумайте, мой друг, вы сами, хотя вы и недурны и хорошо сложены, вы ведь далеко не Аполлон!
— Это к делу не относится, — сказал я, — мужчина должен выбирать женщину для личного наслаждения с такой же осторожностью, как он выбирает вино или лошадей, — а потому повторяю, я желаю совершенства… или ничего…
— А женщина? — спросил Риманец, и глаза его при этом сверкнули.
— Женщина не имеет права выбора, — ответил я (это был любимейший из моих аргументов, и я излагал его с удовольствием при каждом удобном случае): — она обязана соединиться с тем, кто может прилично содержать ее. Мужчина всегда мужчина, а женщина приложение к мужчине, — без красоты она не имеет права требовать, чтобы ее содержали.
— Правильно, совершенно правильно и логично, подтвердил князь, принимая чрезвычайно серьезный вид, — я сам нисколько не симпатизирую новым идеям о какой-то интеллектуальности женщины. Женщина, в конце концов, просто самка, — ее душа лишь отражение души мужчины; она абсолютно лишена логики и рассуждать не умеет. Однако религия поддерживается этим безрассудным творением, — и любопытен факт, что несмотря на безусловное превосходство мужчины, женщине удавалось неоднократно взбаламутить мир и низвергнуть планы мудрейших королей и советников, которые должны были по логике побороть ее. В наше время справиться с женщиной стало еще трудней.
— Это преходящее явление, — заметил я небрежно, — движение нескольких некрасивых и нелюбимых представительниц прекрасного пола. Женщины мало привлекают меня, и вряд ли я когда-нибудь женюсь.
— Что же, у вас еще время есть; а между тем вы можете позабавиться, — сказал князь, пристально глядя на меня. — Я же могу познакомить вас с брачными рынками всего света, хотя предупреждаю, лучшего товара как в нашей столице вы не найдете нигде! Цены дешевые, мой друг, вы можете получить чудный образец блондинки или брюнетки почти задаром. В свободное время мы рассмотрим их! Я рад, что вы сами решили быть моим товарищем, — ибо я горд, я страшно горд и никогда не остаюсь в обществе человека, когда чувствую, что он сам этого не желает. А теперь, спокойной ночи!
— Спокойной ночи, — повторил я, мы подали друг другу руку и не успели разъединить их, как яркая молния внезапно осветила всю комнату; почти в ту же минуту раздался страшнейший удар грома, электрические лампы потухли и лишь тусклое пламя камина продолжало освещать наши лица. Я невольно вздрогнул и слегка смутился, князь оставался неподвижен на том же месте, — неожиданное обстоятельство, казалось, нисколько не смутило его, — его глаза сверкали ярко, как у кошки.
— Какая гроза, — заметил он, зимою такого грома почти не бывает! Амиэль…
Камердинер вошел; его лицо как будто застыло, превратившись в загадочную маску.
— Лампы потухли, — обратился к нему князь — странно, что цивилизованный мир не сумел окончательно справиться с электричеством; не можете ли вы исправить их, Амиэль?
— Конечно, ваше сиятельство; — и через несколько минут благодаря каким-то приемам, которых я усмотреть не мог, лампочки под стеклянными колпаками вновь загорелись.
Гром ударил еще раз и хлынул дождь.
— Замечательная погода для января месяца, — повторил Риманец, вторично протянув мне руку, — спокойной ночи, мой друг, спите хорошо!
— Если разъяренные стихи позволят, — ответил я с улыбкой.
— Не обращайте внимания на стихи; человек почти уже овладел ими; по крайней мере, он на пути к этому. Амиэль, покажите мистеру Темпесту его апартаменты.
Амиэль перешел через коридор и ввел меня в огромную богато меблированную комнату, где весело пылал огонь. Приятная теплота как бы приветствовала меня, и я, не испытывавший с самого детства такого комфорта, соединенного с таким изяществом, почувствовал себя уничтоженным сильным приливом восторга, вызванного моим неожиданным богатством. Амиэль почтительно дожидался у дверей, изредка поглядывая на меня с выражением, показавшимся мне слегка насмешливым.
— Могу ли я чем-нибудь услужить вам? — спросил он, наконец.
— Нет, благодарю вас, — ответил я, стараясь насколько мог придать своему голосу небрежно-покровительственный тон; я чувствовал инстинктивно, что этого человека надо придерживать в известных границах. — Вы были очень внимательны, я этого не забуду.
Легкая улыбка проскользнула по смуглым чертам лакея.
— Я крайне признателен, сэр, спокойной ночи.
И Амиэль удалился. Оставшись один, я начал ходить взад и вперед по комнате, полусонно, полусознательно стараясь привести в порядок необычайные события прошедшего дня; но мой ум был отуманен и встревожен, — и перед моими глазами ясно выделялась лишь одна картина, — выдающаяся, замечательная, личность моего нового друга. Риманец! Его удивительная красота, чарующие манеры, цинизм, как-то странно смешанный с каким-то другим, более глубоким, чувством, которое я назвать не мог, мелкие, но оригинальные черты, составляющие этот образ, все это неотвязчиво вертелось в моей голове, составляя нечто неразлучное с новыми обстоятельствами моей жизни. Я начал раздеваться перед камином, изредка внимая шуму все еще шумевшего дождя и медленно удалявшегося грома.
— Джеффри Темпест, мир перед тобой, — сказал я, лениво обращаясь к самому себе, — ты молод и обладаешь крепким здоровьем, порядочной наружностью и достаточным количеством мозгов; прибавь ко всему этому 5 миллионов фунтов стерлингов и богатого князя в качестве лучшего друга! Что ты можешь еще требовать от Фортуны? Ничего, кроме славы. А это достанется тебе легко; в наше время слава, как и любовь — вещь покупная. Звезда твоя на восходе, — прощай, изводящий литературный труд, — удовольствие, выгода и отдых вот спутники твоего будущего! Ты счастливчик, — наконец и на твоей улице праздник!
С этими словами, я бросился на мягкую кровать и устроился для сна; засыпая, я еще слышал отдаленные удары грома. Раз мне показалось, что князь звал Амиэля диким, неистовым голосом; потом я вдруг встрепенулся и привстал под впечатлением чьих-то огненных глаз, устремленных на меня. Я продолжал сидеть в постели, стараясь разглядеть окружающий меня мрак, но огонь в камине успел уже потухнуть, я зажег электрическую лампочку — в комнате никого не было. Однако мое воображение до такой степени разыгралось, что раньше, чем мне удалось заснуть, около самого уха мне послышался чей-то свистящий шепот:
— Тише, не беспокойте его. Пусть безумец спит в своем безумстве!..
Глава пятая
На следующее утро я узнал, что «его сиятельство», так называли князя Риманца, жившего в этой гостинице, совершал утреннюю прогулку верхом в парке, а потому мне пришлось выпить утренний кофе наедине. Я пошел для этого в общую столовую гостиницы; мне прислуживали с удивительной предупредительностью, несмотря на мою затасканную одежду, с которой до сих пор я расстаться не мог, так как перемены у меня не было. «В котором часу я изволю завтракать? в котором часу обедать? оставляю ли я за собой комнату, где я провел ночь? Или может быть она не подходящая? Не приготовить ли мне апартаменты в роде тех, которые занимает его сиятельство?» Все эти подобострастные вопросы сперва удивили, потом позабавили меня. Какое-то тайное агентство, очевидно уже распространило слух о моем несметном богатстве, — и вот, каков был результат. Я ответил, что пока мои действия мне самому неизвестны, — через несколько часов, однако, я дам положительные приказания, а пока оставляю комнату за собой. Выпив кофе, я вышел с намерением навестить своих поверенных, но в ту минуту, когда я уже нанимал извозчика, я увидал своего нового приятеля, возвращавшегося с прогулки. Князь был верхом на великолепной кобыле с огненными глазами и твердыми мускулами; видно было, что седок только что остановился после галопа, не достаточного, однако, чтобы утомить свою лошадь. Она кружилась и вертелась между экипажами и телегами, но Риманец безусловно владел ею. Если князь показался мне красавцем накануне вечером, то он еще более понравился мне при дневном свете: легкий румянец оживлял бледность его лица и глаза блестели, радостно оживлённые утренним упражнением. Я подождал приближения князя рядом с Амиэлем, вышедшим на крыльцо как раз в то время, когда подъехал его хозяин. Риманец улыбнулся, увидав меня, и тронул свою шляпу хлыстом в знак приветствия.
— Вы долго спали, Темпест, — сказал он, соскакивая с лошади и бросая уздечку ехавшему за ним конюху. — Завтра, вы должны поехать со мной и присоединиться к «Бригаде Печени», как прозвали модных утренних ездоков. В былое время считалось неприличным говорить о печени и о других внутренних органах нашего существа, а теперь наоборот мы испытываем некоторого рода наслаждение, когда говорим о наших недугах, болезнях и медицинских приемах! А в «Бригаде Печени», вы встретите сразу всех интересных молодых людей, продавшихся дьяволу ради золотого тельца; людей, обедавших до изнеможения и потом ездивших на горячих лошадях для моциона (кстати, я нахожу, что лошади слишком благородные животные для столь мерзкой ноши), надеясь очистить свою испорченную кровь от яда, который они сами влили в нее. Все думают, что я принадлежу к их числу, но они жестоко ошибаются.
И князь погладил свою кобылу, раньше, чем конюх успел отвести ее.
— Зачем же вы ездите с ними? — спросил я, улыбаясь и искренне любуясь его чудным сложением и гордым станом, казавшимся еще величественнее в верховом костюме. — Вы ходячий обман.
— Вы правы, — ответил князь небрежно, — но не я один обманываю ближних в Лондоне. Куда вы собираетесь?
— К поверенным, от которых я получил вчера письмо: «Бентам и Эллис», — это имя их фирмы, чем раньше я повидаюсь с ними, — тем лучше, не правда ли?
— Да, пожалуй, однако подождите, — и князь притянул меня к себе, — необходимо, чтобы вы были при деньгах. Лучше не спрашивать у них денег вперед; право, нет надобности объяснять этим представителям закона, что вы находились накануне голодной смерти, когда получили извещение о наследстве от них. Возьмите мой бумажник, ведь вы обещались позволить мне быть вашим банкиром; а по дороге вам следовало бы зайти к хорошему портному и принарядиться; итак, до скорого…
И князь быстро удалился. Я поспешил за ним, тронутый его предупредительностью и добротой.
— Подождите, Лючио, подождите.
Я в первый раз назвал его по имени; князь остановился как вкопанный.
— Ну что же? — спросил он, глядя на меня с удивленной улыбкой.
— Вы не даете мне времени говорить, — ответил я шёпотом; мы стояли уже в коридоре гостиницы и я не хотел, чтобы посторонние слышали наш разговор. — Дело в том, что у меня деньги есть, — или скорее, что я могу их сейчас достать, — Кэррингтон прислал мне чек в пятьдесят фунтов, — я забыл вам сказать об этом. Это крайне мило с его стороны; возьмите, по крайней мере, чек в виде гарантии, — и кстати, сколько денег в бумажнике?
— Пятьсот фунтов бумагами и золотом — ответил князь кратко.
— Пятьсот? мой добрый друг, это слишком много. К чему мне такая сумма?
— Лучше иметь слишком много, чем слишком мало, — засмеялся Риманец, — дорогой Темпест, не делайте из этого какое-то важное дело. Пятьсот фунтов сущая безделица, вы можете истратить их на какой-нибудь дорожный несессер; отошлите Кэррингтону его чек, — я совсем не уничтожен его щедростью, принимая во внимание, что несколько дней до моего отъезда из Австралии на его долю выпала руда, стоящая минимум миллион.
Я принял это известие с удивлением и даже с некоторым негодованием. Открытая великодушная натура моего старого товарища внезапно омрачилась в моих глазах; отчего он не рассказал мне про свой неожиданный успех? Или он боялся, что я буду надоедать ему денежными просьбами? Должно быть, эти мысли выразились у меня на лице, так как Риманец пристально глядя на меня, сказал:
— Он не известил вас о своем неожиданном счастье? Это не по-дружески. Но я вам уже говорил вчера вечером, что богатство часто портит человека.
— Я убежден, что Кэррингтон не хотел меня обидеть, — заговорил я быстро, — он верно напишет в своем последующем письме об этом. А что касается ваших пятисот фунтов…
— Оставьте их у себя, — прервал меня Лючио с нетерпением, — какое там обеспечение; разве я не имею вас в виде обеспечения?
Я засмеялся.
— Конечно я солидная гарантия, да к тому же я не собираюсь бежать.
— «Бежать от меня?» — повторил князь, окинув меня не то добрым, не то холодным взглядом — не думаю!
И небрежно махнув рукой, он удалился. Я положил бумажник в карман, нанял извозчика и покатил на Базингам-стрит, где размещались мои поверенные.
Приехав в контору, я велел доложить о себе и; был немедленно принят двумя маленькими людьми в порыжелых сюртуках; они и были представителями фирмы. По моей просьбе они послали секретаря уплатить и отпустить моего извозчика, а между тем я вынул из бумажника Лючио десятифунтовую бумажку, прося их разменять ее. Они взялись за это с удовольствием, и мы сразу приступили к делу. Мой умерший родственник, которого я совсем не помнил, но который, как оказалось, видал меня сиротой на руках моей няньки, оставил мне безусловно все свое состояние, не исключая редкой коллекции картин, старинных вещей и драгоценных камней. Его завещание было составлено столь ясно и просто, что не давало повода никаким недоразумениям, и мне объявили, что через неделю или десять дней все формальности будут окончены, и я стану неоспоримым владельцем огромнейшего наследства.
— Вы удивительно счастливый человек, мистер Темпест, — сказал старший представитель фирмы, мистер Бентам, складывая документы, которые мы только что разобрали. — В ваши годы это великолепное наследство может быть величайшим для вас благом, или величайшим проклятием; заранее сказать нельзя. Владение таким несметным богатством налагает большую ответственность.
Это замечание со стороны исполнителя закона, позволявшего себе делать нравственные выводы из моего положения, забавило меня.
— Многие были бы очень рады взять на себя эту ответственность и поменяться со мной, — сказал я небрежно, — вот вы, например?
Я прекрасно понимал, что мои слова неуместны, но сказал их нарочно, чувствуя, что мистер Бентам не имел никакого права напоминать мне об ответственности богатства. Однако, он не обиделся и только искоса посмотрел на меня, с видом ученого ворона.
— Нет, мистер Темпест, нет, — ответил он сухо, — я не пожелал бы поменяться с вами, я очень доволен своим настоящим положением. Мой мозг составляет мне капитал, приносящий достаточные проценты для моих нужд; жить удобно и честно, — вот все, что я требую от судьбы; я никогда не завидовал богатству.
— Мистер Бентам, философ, — заметил его товарищ Эллис, — в нашем звании, мистер Темпест, мы видим такие неожиданные повороты жизни, что, следя за изменчивой судьбой наших клиентов, мы невольно учимся уроку умеренности.
— Это урок, с которым до сих пор я совладеть не мог, — ответил я весело, — сознаюсь, однако, что в данную минуту, я вполне доволен.
Они оба отвесили мне вежливый поклон, а мистер Бентам подал мне руку.
— Теперь, когда дело окончено, позвольте мне поздравить вас, — прибавил он учтиво. — Конечно, если впоследствии вы пожелаете передать ваши дела в другие руки, мой компаньон и я, мы немедленно устранимся. Ваш покойный родственник питал к нам неограниченное доверие.
— Так же, как и я, уверяю вас, — перебил я стремительно. — Пожалуйста, возьмите на себя труд вести мои дела, как вы это делали для усопшего, и заранее прошу вас верить моей глубокой признательности.
Они оба опять поклонились, и на этот раз мистер Эллис тоже пожал мне руку.
— Мы сделаем все возможное, мистер Темпест, неправда ли, Бентам? — Бентам серьезно кивнул головой, — а теперь, как вы думаете, Бентам, сказать или не сказать?..
— Может быть, — ответил Бентам сентенциозно, — лучше было бы сказать.
Я посмотрел на одного и на другого, не понимая, чего они добиваются; наконец, мистер Эллис, нервно потирая себе руки, с нерешительной улыбкой решился объясниться.
— Дело в том, мистер Темпест, что у вашего покойного родственника была какая-то странная идея: — он был умный и рассудительный человек… но если бы он продолжал жить, то кончил бы сумасшествием; это было бы крайне нежелательно, так как помешало бы ему столь разумно распорядиться с своим состоянием… К счастью для вас и для него, он совладел со своей идеей и до последнего своего дыхания сохранил в целости всю свою деловитость и прямолинейность. Но, тем не менее, эта идея ни минуты не покидала его, не правда ли Бентам?
Бентам глубокомысленно посмотрел на черное пятно, украшавшее потолок над газовым рожком.
— Да, да, — вздохнул он, — я думаю, что наш агент был вполне уверен в правильности своего убеждения…
— Но в чем же суть? — воскликнул я в раздражении — Что же? Он, может быть, хотел получить патент на какое-нибудь изобретение, в роде усовершенствованного летательного аппарата, на которое пришлось бы пожертвовать все свое состояние?
— Нет, нет, — и мистер Эллис засмеялся над неправдоподобностью моего предположения. — Нет, дорогой сэр, механические и коммерческие дела не прельщали его. Старик был слишком, как бы это выразить, — слишком настороже перед всяким прогрессом, чтобы тратить деньги на новшества. Видите ли, мне не совсем удобно передать вам то, что в действительности было лишь фантастической выдумкой нервного человека, но откровенно говоря, мы сами не знаем, как он нажил свое огромное состояние, не правда ли Бентам? — Бентам медленно покачал головой, сложив губы в трубочку.
— Он поручал нам большие суммы и советовался насчет наилучшего размещения их, и нам было безразлично откуда явились эти суммы, не так ли Бентам?
Бентам вторично склонил голову.
— Нам поручали деньги, — повторил Эллис, нежно прикладывая концы своих пальцев один к другому, — и мы старались заслужить доверие, действуя с умеренностью и преданностью. И только несколько лет после того, как мы начали заниматься его делами, ваш почтенный родственник открыл нам свое странное, ошибочное убеждение, которое вкратце сводилось к следующему: наш клиент, будто бы, продался дьяволу, и ценой этой сделки и было его огромное состояние!
Я разразился неудержимым смехом.
— Какая глупость, — воскликнул я. — Несчастный! Он, верно, страдал расслаблением мозга; или может быть, просто говорил аллегорически?
— Не думаю, — ответил мистер Эллис полувопросительно и не переставая гладить себе руку, — не думаю, чтобы наш агент употреблял выражение: «продаться дьяволу» в переносном смысле; не так ли, мистер Бентам?
— Я убежден, что нет, — сказал Бентам серьезно, — он говорил о сделке, как о настоящем совершившемся факте.
Я засмеялся, но в этот раз не так весело:
— Что же, мало ли фантазий бывает у людей? ничего нет удивительного, что еще существуют лица, верующие в черта, но для человека вполне рассудительного…
— Да… н… да, — прервал меня Эллис, — ваш родственник, мистер Темпест, был вполне рассудительный человек, и единственная непонятная его идея была именно эта. Может быть, и не стоило об этом говорить… хотя с другой стороны (мистер Бентам верно согласится со мной), все таки лучше, что мы откровенно высказались.
— Это для нас большое облегчение, — прибавил мистер Бентам.
Я улыбнулся, встал и простился с обоими чудаками. Они поклонились мне одновременно; совместная жизнь и работа превратили их чуть ли не в близнецов.
— До свидания, мистер Темпест, — сказал Бентам, — будьте уверены, что мы будем следить за вашими интересами так же усердно, как мы следили за интересами покойника. Если при случае вам захочется с кем-нибудь посоветоваться, мы всегда к вашим услугам. Позвольте вас спросить, не угодно ли вам взять немного денег вперед?
— Нет, благодарю вас, — ответил я и мысленно поблагодарил князя за то, что он поставил меня в столь независимое положение, — я вполне обеспечен.
Мой ответ, кажется, удивил поверенных, хотя вида они не подали. Они записали мой адрес и послали своего помощника открыть мне дверь. Я дал ему гинею, прося его выпить за мое здоровье, на что он радостно согласился, — потом побрел пешком, стараясь верить, что я не болен и действительно владею пятью миллионами фунтов. Завернув за угол, я неожиданно наткнулся на того самого редактора, который накануне возвратил мне мою рукопись.
— Алло, — воскликнул он, увидав меня.
— Алло, — повторил я.
— Куда вы? — продолжал он, — вы, все еще стараетесь пристроить ваш злосчастный роман? Поверьте мне, мой добрый друг, он никуда не годится…
— Нет, годится, — ответил я спокойно, — я намерен издавать его сам.
Редактор встрепенулся. — Как, вы хотите сами издать его? Силы небесные! Да это будет вам стоить шестьдесят — семьдесят, пожалуй, сто фунтов!
— Мне все равно, даже если это будет стоить тысячу.
Лицо редактора вспыхнуло, и глаза удивленно расширились.
— Я думал… простите меня, — проговорил он заикаясь, — я думал, что с деньгами у Вас проблемы.
— Мое положение изменилось, — ответил я сухо.
Растерянный вид моего собеседника и удивительный переворот в моей судьбе, к которому я еще никак не мог привыкнуть, так повлияли на меня, что я не мог удержаться и засмеялся громко, почти истерично. Редактор испуганно оглянулся, как бы желая незаметно улизнуть, я схватил его за руку.
— Послушайте, — сказал я, стараясь пересилить свою истерическую веселость. — Я не сошел с ума, не думайте этого, я просто миллионер! — И я опять неудержимо расхохотался: положение казалось мне чересчур смешным. Но почтенный издатель, по-видимому, действительно был испуган до такой степени, что я сделал над собой усилие и успокоился.
— Даю вам честное слово, что я не смеюсь — это сущая правда! Вчера вечером я нуждался в обеде, и вы, как добрый малый, предложили меня накормить, — сегодня у меня пять миллионов фунтов стерлингов; не смотрите на меня так удивленно, а то с вами сделается удар; как я уже докладывал вам, я теперь издам свою книгу на собственный счет, — и она будет пользоваться успехом, за это я вам ручаюсь. Я не шучу, я говорю серьезно и непоколебимо, как сама судьба. Теперь, сейчас, в моем бумажнике больше денег, чем нужно, чтобы напечатать мой роман.
Я выпустил руку редактора; он отшатнулся изумленный и растерянный.
— Боже мой! — пробормотал он, — это похоже на сон; я никогда ничем не был так поражен, как этим известием.
— Так же как и я, — сказал я, с трудом удерживаясь от второго припадка хохота. — Но странные вещи случаются не только в сказках, но иногда и в действительности. И книга, отвергнутая строителями, — я хочу сказать, чтецами, будет угольным камнем строения, или успехом настоящего сезона! Что вы возьмете, чтобы издать ее?
— Возьму? я? Вы хотите, чтобы я издал ее?
— Да, конечно, отчего же нет? Если я предлагаю вам заработок, неужели стая оплаченных вами чтецов могут помешать вам принять его. Вы не раб, и мы живем в свободной стране. Я знаю, кто занимается приемом рукописей в вашей конторе, — старая дева пятидесяти лет, никогда не любимая и никому не нужная — бездарный литератор, изливающий свою желчь в едких заметках, на полях даровитых сочинений; скажите мне, во имя всех святых, зачем вы доверяете таким некомпетентным лицам? Я заплачу вам за издание, какую хотите высокую цену, и еще набавлю в виде признательности за ваш покладистый нрав. — Ручаюсь вам, моя книга не только создаст мне славу, как автору, но и вам, как издателю. Я буду рекламировать ее во всю, и подкуплю всех критиков… Все в нашем мире возможно, когда есть деньги…
— Подождите, подождите, — перебил меня редактор, — все это так неожиданно, дайте мне возможность обдумать Ваше предложение.
— Даю вам один день на размышления, — перебил я, — но ни секунды больше. Если вы не согласитесь, то я найду кого-нибудь другого, и он наживется вместо вас; вот и вся разница! Будьте умны, мой друг, а пока, доброго Вам дня.
Редактор стремительно бросился за мной.
— Остановитесь; вы говорите так странно, так дико, почти бессвязно. У вас голова совсем вскружилась.
— Да, но в хорошую сторону.
— Боже мой, — и он мягко улыбнулся, — вы не даете мне времени поздравить вас. Поздравляю вас от всей души! — И он сильно сжал мне руку. — А что касается книги, то на самом деле в ней нет крупных недостатков; некоторые рассуждения слишком резки и навряд ли понравятся публике, вот и все. Домашние скандалы составляют в наше время самый благодарный сюжет, но я подумаю и пришлю вам ответ; куда прикажете?
— В «Гранд-Отель», — ответил я, забавляясь внутренне его замешательством, — я знал, что в голове он уже прикидывал цены и размышлял, сколько можно будет с меня стянуть для удовлетворения моего литературного увлечения. — Зайдите сами; приходите просто обедать или завтракать; только предупредите меня, а то рискуете меня не застать. Только не забывайте, я даю вам срок до завтра, в этот промежуток времени вы должны сказать решительное: «да» или «нет».
С этими словами я оставил редактора, тупо смотревшего мне вслед, как будто какое-то невиданное чудовище упало с неба к его ногам. Я продолжал свой путь, внутренне смеясь минувшему разговору, пока удивленные лица встречающихся мне людей не заставили меня прийти в себя и скрыть волновавшие меня мысли. Я шел быстро и, благодаря этому, мое возбуждение улеглось, и я вошел в нормальное состояние флегматичного англичанина, считавшего верхом неприличия выказывать какие-либо чувства. Я употребил остальные часы утра на покупку готового платья, которое на счастье пришлось мне в пору, и дал самый обширный заказ самому дорогому портному Лондона, обещавшему выполнить все скоро и аккуратно. После этого я послал хозяйке моей бывшей квартиры должные ей деньги, с придачей 5 фунтов, в виде благодарности за ее долготерпение и доброту, пока я проживал в ее мрачном доме, и в очень веселом настроении духа, подбодренный моим обновленным платьем, я вернулся в «Гранд-Отель». Встретивший меня лакей с подобострастной учтивостью доложил мне, что «его сиятельство» дожидается меня к завтраку в своих апартаментах. Я направился туда и застал моего нового друга одного в своей роскошной гостиной; он стоял в полном освещении среднего окна и держал в руках длинный хрустальный ящичек, на который смотрел с почти любовной заботливостью.
— Ах, Джеффри, вот и вы, — воскликнул он, — я надеялся, что вы покончите с делами до завтрака, и поджидал вас.
— Чересчур любезно с вашей стороны, — ответил я, обрадованный тем, что он назвал меня по крестному имени. — Что это у вас в руках?
— Один из моих любимцев, — ответил Лючио с легкой улыбкой. — Вы верно никогда ничего подобного не видели?
Глава шестая
Я подошел ближе, чтобы рассмотреть ящичек. Он был просверлен дырочками для свободного обмена воздуха, на дне лежало насекомое с яркими крыльями, раскрашенными всеми цветами радуги.
— Оно живое? — спросил я.
— И живое и до известной степени разумное, — ответил Риманец, — я кормлю его, и оно знает меня; это все, что можно сказать о цивилизованных существах, не так ли? Люди признают лишь тех, кто кормит их? Насекомое вполне ручное и дружелюбное, как видите и, открыв ящик, Лючио бережно протянул свой указательный палец. Блестящее тело жука заискрилось отливами опала, яркие крылья медленно раскрылись и насекомое поднялось и прицепилось к руке своего покровителя. Князь высоко поднял его и, легко размахивая рукой, воскликнул.
— Лети, маленький дух, лети и вернись ко мне.
Жук поднялся к потолку, потом начал кружиться, своим блеском он напоминал чудный драгоценный камень; я следил за ним с восторгом; совершив несколько кругов, насекомое вернулось к своему владельцу и село ему на руку, не пытаясь больше летать.
— Одно общее место гласит, что посреди жизни кроется смерть, — произнес князь, мягко устремив свои темные глаза на блестящие крылья своего любимца, — на самом деле это сказано не вполне правильно: лучше было бы сказать, что посреди смерти кроется жизнь! Это маленькое существо, редкое и любопытное произведение смерти, и не единственное в своем роде. Другие находились в тождественных условиях. Я завладел этим насекомым довольно странным образом; если вам не скучно, то расскажу, как было дело?
— Наоборот, — поторопился я сказать, не отрывая глаз от странного маленького существа, переливавшегося всевозможными радужными красками.
Лючио взглянул на меня, потом приступил к своему рассказу.
— Вот как это случилось: я присутствовал при открытии гроба египетской мумии, — по ее талисманам мы узнали, что это принцесса царской крови. Несколько замечательных украшений были привязаны к ее шее; а на груди лежал кусок битого золота, в четверть дюйма толщины. Все тело было обернуто бесконечным количеством благоуханных покрывал; когда их сняли, то оказалось, что тело посреди груди сгнило, и в пустоте, или гнезде, образовавшемся от процесса разложения, было найдено живым это насекомое, такое же полное жизни и блестящее, как теперь.
Я невольно вздрогнул.
— Ужасно, — сказал я, — сознаюсь, на вашем месте, я не мог бы приручить существо, найденное при таких отвратительных условиях. Я убил бы его.
Князь продолжал на меня смотреть упорно и пытливо.
— Зачем? — сказал он, наконец. — Я боюсь, мой милый Джеффри, что у вас нет склонности к науке. Убить бедняжку, которая нашла жизнь на груди смерти, не жестокая ли это мысль? Для меня это неклассифицированное насекомое служит ценным доказательством (если бы я нуждался в нем) неразрушимости зачатков сознательного существования; у него есть глаза и чувства вкуса, обоняния, осязания и слуха, и оно получило их вместе с разумом из мертвого тела женщины, которая жила и, без сомнения любила, и грешила, и страдала более четырех тысяч лет тому назад!
Он остановился и вдруг прибавил:
— Все таки, откровенно говоря, я с вами согласен и считаю его злым созданием. В самом деле! Но я люблю его не меньше за это. Факт тот, что я сам составил о нем фантастическое представление. Я склонен признавать идею о переселении душ и иногда, чтобы удовлетворить свою причуду, я верю в возможность, что принцесса этого царского египетского дома имела порочную, блестящую и кровожадную душу и что… вот здесь о н а!
Холодная дрожь пробежала по моему телу. Я посмотрел на своего друга, стоявшего напротив меня в бледном зимнем освещении, с «блестящей и кровожадной душой» на протянутой руке, и мне показалось, что его высокий стан и, удивительная красота дышали чем-то зловещим. Меня охватил необъяснимый ужас, который я приписал впечатлению рассказанной истории, и решив побороть свои ощущения, я стал разглядывать более внимательно волшебного жучка. Его блестящие бисерные глазки сверкали, как мне казалось, враждебно, и я отступил назад, сердясь на самого себя за овладевший мною страх перед этим существом.
— В нем действительно что-то замечательное, — пробормотал я. — Я не удивляюсь, что вы дорожите им, как редкостью. Глаза совсем ясные, почти разумные.
— У нее верно были красивые глаза, — заметил Риманец с улыбкой.
— У «нее»? что вы хотите сказать?
— У принцессы, конечно, — ответил он весело, — у этой милой дамы, часть существа которой, очевидно, перешла в это насекомое, питавшееся исключительно ее телом.
И он положил насекомое в его хрустальное жилище с самой нежной заботливостью.
— Я полагаю, что вы делаете из этого вывод, что ничто в сущности не умирает окончательно?
— Именно так, — сказал Риманец решительно, — мой дорогой Темпест, в том-то и вся беда или благо окружающих нас вещей; ничто не уничтожается бесследно, даже мысль.
Я молчал, следя за тем, как Лючио прятал хрустальный ящичек с его несимпатичной обитательницей.
— А теперь — за завтрак! — воскликнул князь радушно, беря меня за руку, — у вас вид на двадцать процентов лучше, чем когда вы вышли сегодня утром. Заключаю из этого, дорогой Джеффри, что все законные формальности улажены? Что же вы делали все остальное время?
Сидя за столом, с прислуживающим темнолицым Амиэлем, я стал рассказывать свои утренние приключения, и случайную встречу с издателем, вернувшим накануне мне рукопись, но который теперь верно примет сделанное мною предложение. Риманец слушал меня внимательно, изредка улыбаясь.
— Конечно, — сказал он, когда я кончил говорить, — ничего нет удивительного в поведении этого человека. Я даже нахожу, что он выказал необыкновенно много выдержки и приличия тем, что не тотчас же схватился за ваше предложение, — его лицемерное желание подумать, доказывает, что он обладает тактом и предусмотрительностью. Неужели вы воображаете, что существует человек, которого нельзя было бы купить? Мой добрый друг, вы можете подкупить кого угодно, лишь бы вы дали достаточную сумму, и даже папа продаст вам место в раю, если вы только заплатите ему на земле. Ничто в этом мире не получается свободно, кроме воздуха и солнечного сияния, — все остальное вы должны выкупать кровью, слезами, иногда вздохами, но чаще всего деньгами!
Мне показалось, что Амиэль, стоя за стулом своего господина, двусмысленно улыбнулся; инстинктивная неприязнь которую я питал к этому человеку, мешала мне распространяться о своих делах во время завтрака. Я не мог формулировать существенной причины моего отвращения к доверенному лицу князя, но, чтобы я ни делал, чувство оставалось и усиливалось с каждым взглядом на его угрюмое недоброжелательное лицо. Однако, он был вежлив и внимателен, я не мог упрекнуть его ни в чем; но, когда, наконец, поставив на стол кофе, ликеры и коробку с сигарами, он тихо удалился, я почувствовал бесконечное облегчение и вздохнул свободно. Как только мы остались одни, Риманец зажег сигару и, откинувшись в кресле, посмотрел на меня с таким сочувствием, что его красивая наружность показалась мне еще более привлекательной.
— Давайте поговорим, — сказал он, — мне кажется, что в настоящее время, я ваш самый лучший друг; и конечно, я знаю свет лучше вас. Что вы хотите сделать с вашей жизнью, или лучше сказать, на что вы думаете тратить ваши деньги?
Я засмеялся.
— Конечно, я не буду давать сумм на постройку церквей или устройство больниц! Я даже не открою бесплатной библиотеки, так как эти учреждения служат не только центром заразных болезней, но, в большинстве случаев, управляются местными торговцами, которые вследствие этого воображают, что они могут судить о литературе. Мой дорогой князь, я намерен тратить деньги на собственные удовольствия, и уверяю вас, что способов очень много.
Риманец продолжал молча курить, сквозь бледно-сероватые клубы дыма его глаза как-то сверхъестественно блестели.
— С вашим состоянием вы могли бы осчастливить сотни людей… — заметил он.
— Благодарю вас, но пока я предпочитаю быть счастливым сам, — ответил я решительно, — должно быть, я кажусь вам эгоистом, — вы филантроп, я это знаю, — а я далеко нет!
Лючио продолжал упорно смотреть на меня.
— Вы могли бы помогать вашим собратьям в литературном мире.
Я прервал его слова решительным движением.
— Никогда, мой друг, даже если бы небо провалилось! Мои собратья-литераторы отталкивали меня при каждом удобном случае и старались всячески отнять у меня возможность заработать себе кусок хлеба, — теперь моя очередь толкать их, и я выкажу им так же мало жалости, как они выказывали мне: никто не помогал, никто не симпатизировал мне, и я никому ни помогать, ни симпатизировать не стану!
— Месть сладка, — произнес князь сентенциозно, — я советую вам сделаться издателем модного литературного журнала.
— Зачем?
— Как, вы еще спрашиваете? Подумайте, какое будет для вас наслаждение получать рукописи ваших врагов и отвергать их, бросать их письма в мусорную корзину и отсылать их стихотворения, повести, политические статьи с надписью на обороте: «возвращаю с благодарностью» или «для нас не подходящая». Кроме того, вы можете изводить ваших соперников анонимной критикой. Радость дикаря, привесившего к своему поясу двадцатый череп, — ничто, в сравнении с этим! Я сам был издателем когда-то, и знаю это по личному опыту.
Я засмеялся его предложению, сделанному с таким серьезным видом.
— Вы, конечно, правы, — ответил я, — я вполне понимаю все преимущества такого положения, но ведение этого дела слишком сложное для меня, оно связало бы меня по рукам и по ногам.
— Ну, не ведите дело лично, последуйте примеру всех крупных издателей, не работайте сами, — берите только барыши. Вы никогда не найдете ни одного издателя наших крупных журналов, — если вам что-нибудь нужно, — пожалуйте к его помощнику! Сам издатель, смотря по сезону, находится или в Англии, или в Шотландии, или зимует в Египте, — люди воображают, что он ответствен за все, что появляется, в его газете, а большей частью он и не знает, в чем ее содержание. Он полагается на свой штат, а когда этот самый штат находится в затруднительном положении, то ссылается на отсутствие издателя, от которого ничего нельзя решить; между тем издатель мирно проживает за тысячи верст и его никто не беспокоит. Вы могли бы подвести публику этим же способом.
— Да, конечно, — ответил я, — хотя такой способ занятий мне не по сердцу, — если бы у меня было какое-нибудь дело, я бы занимался им усердно, я нахожу, что если работать, так уж во всю.
— Я тоже, — ответил Риманец поспешно, — я сам довольно добросовестный человек, — он улыбнулся, как мне показалось иронически. — Но скажите, как вы намерены наслаждаться своим состоянием?
— Я начну с того, что издам свою книгу, — ответил я, — ту самую книгу, которую никто не хотел печатать, — уверяю вас, я заставлю весь Лондон говорить о ней.
— Весьма возможно, — ответил князь, глядя на меня сквозь облако дыма, — публика Лондона рада покричать, по преимуществу, однако о двусмысленных и нецензурных вещах. А потому, как я докладывал вам раньше, если бы ваша книга была смесью Золя, Гюисманса и Бодлера или ваша героиня представляла бы из себя скромную девицу, считавшую честный брак за унижение, то она, несомненно, пользовалась бы огромным успехом в наши дни Содома и Гоморры.
Тут Лючио внезапно вскочил и, бросив недоконченную сигару в камин, обратился ко мне с видимым возбуждением:
— Отчего с неба не падает огненный дождь на эту проклятую страну? Она созрела для наказания — полная отвратительных существ, недостойных доже мучений ада, куда, сказано, осуждены лжецы и лицемеры! Темпест! Если есть человеческое существо, которого я более всего гнушаюсь, так это тип человека, весьма распространенный в наше время, — человека, который облекает свои мерзкие пороки в мантию широкого великодушия и добродетели. Такой субъект будет даже преклоняться перед потерей целомудрия в женщине, потому что он знает, что только ее нравственным и физическим падением он может утолить свое скотское сластолюбие. Чем быть таким лицемерным подлецом, я предпочел бы открыто признать себя негодяем!
— Потому что у вас благородная натура, — сказал я, — вы исключение из общего правила.
— Исключение! Я? — и Лючио горько засмеялся, — но, положим, вы правы: я исключение среди людей, — по своей честности я принадлежу скорее к животным! Лев не присваивает себе манер голубя, он громко провозглашает свою кровожадность. Даже змея, несмотря на вкрадчивость своих движений, предупреждает о своих намерениях шипением. Вой голодного волка слышен издалека и заставляет запоздавшего в снежных пустынях путешественника торопиться домой, но человек не дает ключа к своим действиям, — зловреднее льва, хитрее змеи и кровожаднее волка, он жмет руку своему товарищу в притворной дружбе и час спустя, пользуясь его отсутствием, оскверняет его клеветой, за улыбающимся лицом он прячет фальшивое, эгоистичное сердце, бросая вызов Пигмее в лицо загадочной Вселенной, он смеется над Всевышним, не замечая, что сам стоит над бездной… Силы небесные! — Тут Лючио остановился и всплеснул руками. — Какое дело Всевышнему до такого неблагодарного слепого червяка, как он!
Его голос прозвучал замечательно звонко; глаза блеснули огненной пылкостью. Смущенный его неожиданной вспышкой, я не заметил, как потухла моя сигара, и продолжал глядеть на него в немом удивлении. Какой у него был вдохновенный вид, какая величественная осанка, как горделиво пылал его огненный взгляд; было что-то исключительно страшное в его вызывающем протесте. Князь поймал мой удивленный взор, и страстный пыл его гнева улегся; он засмеялся, пожав презрительно плечами.
— Я, должно быть, был создан актером, — сказал он небрежно, — время от времени любовь к декламации овладевает мной. И я начинаю говорить, как говорят наши премьеры и члены парламента, повинуясь настроению момента и не веря ни одному слову того, что говорю!
— Я не принимаю вашего опровержения, — ответил я с улыбкой. — Вы верите тому, что говорите, хотя действительно я думаю, что вы человек минуты.
— Неужели? — воскликнул князь. — Как вы умны, Джеффри Темпест, вы поразительно умны! Но вы неправы! во всем мире нет существа менее меня поддававшегося впечатлению минуты и более решительного и непоколебимого в своих намерениях. Верьте мне или не верьте, как хотите, — насильно внушать веру нельзя. Если бы я сказал вам, что я опасный друг, что я предпочитаю зло добру и что я не безвредный наставник для кого бы то ни было, — что бы вы сказали на это?
— Я сказал бы, что вы находите своенравное наслаждение в унижении, — ответил я, вновь закуривая сигару и внутренне забавляясь его серьезностью, — и я продолжал бы любить вас по-прежнему, если не больше, — хотя это было бы трудно!
Лючио уселся в кресло и пристально посмотрел на меня.
— Темпест, вы следуете примеру хорошеньких женщин, — они всегда любят негодяев!
— Но вы не негодяй, — заметил я, с наслаждением затягиваясь сигарой.
— Да, я не негодяй, но во мне много дьявольского.
— Тем лучше, — сказал я, усаживаясь еще более удобно в мягком кресле, — надеюсь, что и во мне тоже есть частица дьявола.
— Вы верите в него? — спросил Риманец.
— В дьявола? Конечно нет!
— Однако, он один из самых выдающихся легендарных лиц — продолжал князь, зажигая другую сигару, — и служит сюжетом многих интересных рассказов. Представьте себе его изгнание из рая! Люцифер, сын Утра! Что за имя! Быть рожденным от Утра! Быть существом, сотканным из прозрачного, беспорочного света, согретым розовым оттенком миллионов восходящих светил! Великолепный и величественный, этот чудный Архангел стоял по правую руку Всевысшего и перед его неутомимыми очами проходили грандиозные создания Божественного Ума. Внезапно, среди кружившихся зачатков, Люцифер увидал новый маленький мир и на нем существо, медленно принимавшее ангельское подобие, — существо, долженствовавшее пройти через все фазы жизни, пока оно одухотворится дыханием Создателя и достижением сознательного бессмертия и вечного блаженства. И Люцифер, полный гнева, обратился к Всевышнему и, позабыв все, в приливе гордости и гнева, воскликнул: «Неужели Ты хочешь превратить это мелкое существо в такого же ангела, как я? Если ты сотворишь человека по, нашему подобию, я погублю и истреблю его, так как он недостоин пользоваться наряду со мной великолепием Твоего Всеведущого Ума и славой Твоей Безграничной Любви!»
А голос Всевысшего таинственно и страшно прозвучал ему в ответ: «Люцифер, сын Утра, ты знаешь, что ни одно пустое необдуманное слово не должно быть произнесено передо Мной! Свобода воли есть дар Бессмертных, а потому ты должен исполнить то, что сказал! Низвергнись, гордый дух с твоего высокого положения, — ты, с твоими последователями, и возвратись только тогда, когда человек искупит твою вину! Всякая человеческая душа, поддавшаяся твоему искушению, послужит новой преградой между тобой и раем; но тот, кто по собственной воле оттолкнет и отгонит тебя, приблизит тебя к твоему потерянному достоянию. Когда мир отвергнет тебя, я прощу и вновь приму тебя, — но не раньше!»
— Я никогда не слышал такого объяснения, — сказал я, — мысль, что человек должен искупить дьявола, мне незнакома.
— Да? — переспросил Лючио. — Во всяком случае, это изложено не менее правдоподобно, чем другие. Несчастный Люцифер. Его наказание бесконечно, и расстояние между ним и раем увеличивается с каждым днем! Человек никогда не поможет ему искупить свою вину. Человек отвергнет Бога с удовольствием, но дьявола — никогда! Принимая во внимание эти странные условия приговора, подумайте, как этот Люцифер, сын Утра, или просто, Сатана, должен ненавидеть человечество!
Я улыбнулся:
— У него остается одно средство: никого не искушать…
— Вы забываете его обет! Сатана обязан сдержать свое слово, — сказал Риманец. — Он поклялся перед Богом, что сгубит человека, и он должен исполнить свою клятву, насколько возможно. Ангелы не могут клясться перед Всевышним и не исполнять своих клятв, насколько это возможно. Люди клянутся постоянно во имя Бога, не имея даже намерения совершить обещанное.
— Все это пустяки, — прервал я нетерпеливо. — Эти старые легенды — полный абсурд. Вы передали рассказ хорошо, как будто вы сами верите в его правдивость, но это лишь потому, что вы умеете говорить красноречиво. В наше время никто больше не верит ни в дьявола, ни в ангелов, — к примеру, скажем… я сам не верю в существование души!
— Я знаю, что вы не верите, — ответил Лючио мягко. — Ваш скептицизм очень удобен; он снимает с вас всякую ответственность. Я завидую вам, ибо как мне не жаль, но я принужден верить в существование души.
— Принуждены? — повторил я. — Это даже смешно; никто не может заставить вас принять за истину пустую теорию.
Лючио посмотрел на меня с загадочной улыбкой, которая скорее омрачила, чем осветила его красивое лицо.
— Правильно, весьма правильно. Во Вселенной нет принудительной силы, — человек верховное, независимое существо, хозяин всего, что видит; он не подчиняется никакой власти, кроме собственной воли! Но я увлекаюсь; оставим религию и психологию и будем говорить о единственном сюжете, достойном интереса — о деньгах! Я вижу, что ваши теперешние планы уже составлены; вы хотите издать книгу, которая должна произвести сенсацию и дать вам славу. Желание скромное. Нет ли у вас более широкого тщеславия? Существует множество способов для достижения того же самого, а именно: чтобы о вас говорили; хотите я вам перечислю их?
Я засмеялся.
— Если хотите…
— Прежде всего, необходимо, чтобы о вас напечатали в газетах и протрубили факт, что вы крайне богатый человек. Я укажу вам агентов, которые занимаются подобными делами; это будет вам стоить от 20 до 30 фунтов.
Я широко раскрыл глаза.
— Неужели это практикуется? — спросил я.
— Да, дорогой друг, как же иначе? — сказал Лючио нетерпеливо. — Неужели вы думаете, что на этом свете что-нибудь делается безвозмездно? — Ради чего эти несчастные трудящиеся журналисты станут обращать внимание публики на вас, если они ничего не получат за свои хлопоты? Если вы не подкупите их, то они обругают вас совершенно бесплатно, — за это я вам ручаюсь. Я знаю одного такого агента, очень достойного человека, который за сто фунтов так искусно сделает свое дело, что через несколько недель, публика будет убеждена, что единственный о ком стоит говорить — это Джеффри Темпест и ваши миллионы, и что после его высочества, принца Валлийского, нет более важного человека, чем вы.
— Поговорите с ним, — пробормотал я лениво, — дайте ему двести фунтов, тогда весь свет будет говорить обо мне.
— После того, как о вас заговорят газеты, — продолжал Риманец, вам обязательно надо проникнуть в так называемое высшее общество, — только тут следует действовать постепенно и с крайней осторожностью. Вы представитесь королеве на первом ее приеме, после чего будет довольно легко достать приглашение к одной из первых леди города, где вы встретитесь с принцем Валлийским. Если вам удастся понравиться его высочеству, или чем-нибудь угодить ему, то тем лучше; я думаю, что это будет не особенно трудно, так как он один из самых популярных принцев Европы. Вскоре после этого вы должны купить себе великолепное поместье и объявить об этом в газетах, а тогда уже вы можете отдыхать на лаврах. Общество подхватит вас, и вы окажетесь в течении!
Я весело расхохотался; его план действий забавлял меня.
— На вашем месте, — продолжал Лючио, — я не стремился бы попасть в парламент. Для карьеры джентльмена этого более не нужно. Но я посоветовал бы вам выиграть Дерби!
— Конечно, — ответил я весело, — предложение ваше великолепно, но трудно исполнимо.
— Если вы хотите выиграть Дерби, — возразил князь спокойно, — то вы выиграете его! Я гарантирую вам и лошадь и жокея. — В его голосе прозвучала такая уверенность, что я нагнулся, чтобы рассмотреть выражение его лица.
— Вы хотите совершить чудо? — спросил я шутливо. — Неужели вы говорите серьезно?
— Испытайте меня, — ответил князь, — если хотите, я запишу лошадь от вашего имени?
— Если не слишком поздно и вам не очень затруднительно, то запишите, — ответил я. — Представляю вам, полную свободу действий, только предупреждаю вас, что я не особенно интересуюсь ни скачками, ни бегами.
— Придется вам изменить ваши вкусы, — ответил князь, — конечно, если вы дорожите мнением английской аристократки, которая ничем другим не интересуется.
Вы не найдете в высшем обществе ни одной дамы, которая не играла бы на тотализаторе… Вы можете произвести сенсацию в литературном мире, но это будет ничто в сравнении с вашей славой, если вы выиграете Дерби. Лично я занимаюсь очень много скачками, я обожаю их. Я присутствую на всех бегах, не пропуская ни одного, я всегда играю и никогда не проигрываю. Но позвольте мне начертать вам дальнейший план действий. После того, что вы выиграете Дерби, вы должны принять участие в гонках яхт, но в последнюю минуту дать выиграть принцу Валлийскому.
Потом вы дадите большой обед, приготовленный первым поваром столицы, и будете кормить Его Высочество под звуки «Британия царит над волнами».
Вы произнесете приветственную речь и результат всего этого будет одно или два приглашения ко двору. Видите, как это все просто и легко складывается; к концу лета вы должны поехать в Гамбург и пить воду, даже если она вам не нужна, а осенью вы соберете общество охотников в вашем новом поместье и пригласите его высочество перестрелять всех ваших фазанов. К тому времени ваше имя будет достаточно известно и вы можете жениться на любой красавице, находящейся в данную минуту на брачном рынке.
— Благодарю вас, — воскликнул я, смеясь от души, — честное слово, Лючио, ваша программа совершенна; вы ничего не забыли.
— Вот все, что требуется для общественного успеха, — продолжал Лючио серьезно, — оригинальность и ум не нужны, лишь были бы деньги.
— Вы забываете мою книгу, — заметил я, — я знаю, что она не лишена ни ума, ни оригинальности. Не может быть, чтобы она не способствовала моему успеху в высших сферах.
— Сомневаюсь, — ответил Риманец, — сильно сомневаюсь. Ваша книга очевидно будет принята благосклонно, как произведение богатого человека, забавлявшегося литературой. Но как я говорил вам раньше, гений редко развивается под влиянием богатства; кроме того, высшее общество не может выбить себе из головы, что литература-произведение низших классов… «этот сорт людей так интересен», говорят обладатели синей крови, как бы извиняясь, что они знакомы с каким-нибудь литератором. Вы легко можете себе представить аристократку времен Елизаветы, говорившую своей подруге: «— Вам все равно, моя милая, если я приведу вам некоего Вильяма Шекспира? Он пишет пьесы и чем-то занимается в театре Глобуса, я даже подозреваю, что он играет на сцене! Бедняжка, он почти без средств, но эти люди всегда забавны!» Вы же, мой дорогой Темпест, далеко не Шекспир; но ваши миллионы дадут вам больше успеха, чем великому трагику. Вам не придется искать покровительства или заучивать реверанс для милорда или миледи; эти высокопоставленные лица будут слишком счастливы занять у вас денег, если вы на это согласитесь.
— Я не буду ни давать взаймы, ни дарить, — сказал я.
— «Ни дарить», — повторил Лючио и его глаза одобрительно сверкнули.
— Я очень рад, — продолжал он, — что вы не намереваетесь тратить ваших денег на так называемые добрые дела; это очень разумно. Тратьте на самого себя и ваши траты все-таки принесут пользу многим. К сожалению, я действую иначе. Я помогаю благотворительным обществам, отзываюсь на воззвания и даю пособия неимущему духовенству.
— Это меня трогает, — перебил я его, — тем более что судя, по вашим словам, вы не христианин.
— Нет, — сказал Риманец, и в его голосе послышалась насмешка. — Но вы не понимаете моих мотивов. Многие протестантские священники стараются погубить религию, кто лицeмepиeм, кто жадностью, и когда они ищут моей поддержки для такой благой цели. — Я даю, не считая.
Я засмеялся.
— Вы не можете не шутить, — сказал я, бросая в камин окурок сигары. — Я вижу, что вы любите смеяться над собственными добрыми делами.
Я не докончил, так как в эту минуту вошел Aмиэль, неся телеграмму на серебряном подносе. Открыв ее, я увидал, что она от моего редактора; содержание было следующее:
«С удовольствием принимаю книгу; пришлите немедленно рукопись».
Я торжественно показал депешу князю; он улыбнулся.
— Конечно! разве вы могли ожидать другого ответа? Только ваш издатель должен был бы редактировать свою телеграмму иначе. Я не думаю, что он принял бы вашу книгу с удовольствием, если ему пришлось бы потратить свои деньги. — «С yдoвoльcтвиeм принимаю деньги за печатание вашей книги», вот настоящий смысл его послания. Ну, что же вы намерены делать?
— Я займусь этим сейчас, — ответил я и весь затрепетал от предвкушаемого наслаждения при мысли, что приближается час, когда я могу отомстить своим врагам. — Надо напечатать книгу как можно скорее; я с удовольствием сам займусь всеми подробностями, а что касается других моих планов…
— Предоставьте их мне, — сказал Риманец, кладя свою красивую белую руку мне на плечо. Предоставьте их мне и будьте уверены, что я подыму вас до самой высоты светского тщеславия. Это будет зрелище, возбуждающее зависть людей и удивление ангелов!
Глава седьмая
Следующие три-четыре недели пролетели в каком-то вихре возбуждения; когда они пришли к концу, я с трудом узнал себя, бедного труженика, в беспечном расточительном светском лентяе, в которого я превратился; изредка мое ужасное прошлое поднималось перед моим умственным взором, и я узнавал его с чувством омерзения; я видел себя опять усталым, голодным и скверно одетым, быстро писавшим в своей убогой квартирке, — но, несмотря на все свое несчастье, я тогда был утешен чудными мыслями, которые превращали бедность в красоту и одиночество в любовь. Теперь же дух творчества во мне дремал, я ничего не писал и ни над чем не задумывался. Но я чувствовал, что эта умственная апатия лишь проходящее явление, нечто вроде каникул, заслуженных мною моими долгими страданиями. Моя книга почти уже вышла из печати и может быть из всех удовольствий, испытанных мною, самое большое было именно корректура печатанных листов, по мере того, как я получал их из редакции. Но даже самодовольное чувство автора имело свою обратную сторону; в данном случае, мое огорчение несло довольно оригинальный характер. Я читал свое произведение с удовольствием; в этом случае не отставал от современных писателей, которые все восторгаются своими сочинениями, — но мой самодовольный литературный эгоизм был смешан с чувством непонятного удивления и даже недоверия, так как моя книга была написана восторженно и с чувством, излагая идеи и теории, в которые я лично не верил. Как это могло случиться? спрашивал я себя, я даю публике совершенно ложное понятие о себе. Я задумался над этим; вопрос показался мне затруднительным. Как я мог написать эту книгу, шедшую в разрез со всеми своими теперешними убеждениями? Мое перо сознательно или бессознательно начертало то, от чего мой рассудок совершенно отказывался, — я говорил о существовании Бога и о непременном прогрессе человечества, тогда как безусловно отрицал и одно, и другое; когда я позволял себе мечтать о таких возвышенных и глупых теориях, я был беден, голоден и одинок; вспомнив эти обстоятельства, я немедленно приписал им свое ложное вдохновение. Но было нечто увлекательное в скрытом учении моей книги и как-то раз, окончив корректуру готовых печатных листов, я подумал, что мое произведение нравственно стояло гораздо выше меня самого. Эта мысль причинила мне минутное страдание, — я оттолкнул от себя бумаги, нетерпеливо встал и подошел к окну. Шел сильный дождь, и улицы были черны от толстого слоя мокрой грязи, — весь вид был бесконечно грустен, и мысль, что я богатый человек, нисколько не уничтожила чувства непонятной тоски, которое внезапно овладело мной. Я был один; я занимал в гостинице целый ряд комнат недалеко от князя Риманца; я также имел своего камердинера, славного малого, которого я полюбил за то, что он питал такое же инстинктивное отвращение к Амиэлю, как и я. У меня также была своя карета с парой рысаков, свой личный кучер и выездной, так что князь и я, несмотря на всю нашу дружескую близость, не рисковали мешать друг другу и имели каждый свое отдельное хозяйство. Но в этот злосчастный день я был в более тоскливом настроении, чем в самые скверные часы прошлого, несмотря на то, что в действительности я не имел ни малейшего повода к огорчению. Мое состояние было в моих руках, я пользовался великолепным здоровьем, и у меня было все, чего я мог желать, и к тому же еще сознание, что если мои желания увеличатся, у меня достаточно средств, чтобы удовлетворить их. Под надзором Лючио меня так ловко рекламировали, что я увидал свою фамилию почти во всех лондонских газетах; про меня говорили, как про «нашего знаменитого миллионера». И для пользы публики, к сожалению, несведущей в этих делах, я могу пояснить, как неприкрашенную истину, что за четыреста фунтов стерлингов хорошо известное «агентство» гарантирует помещение все равно какой, лишь бы не пасквильной, статьи, не менее, как в 400 газетах. Этим объясняется многое, и между прочим, почему имена некоторых авторов постоянно попадают на глаза публики, а другие, более заслуживающие внимания, никогда! Заслуги тут не при чем, деньги играют первую роль. Постоянное появление моего имени в печати с описанием моей наружности, моего литературного таланта и намеком на мои миллионы (все это было написано самим Лючио и передано в агентство рекламы с уплатой вперед), привело к тому, что я получал безграничное число приглашений на всевозможные общественные и артистические собрания и столько же прошений от бедных.
Я был принужден иметь своего секретаря, занимавшего комнату в той же гостинице, как я, и работавшего почти целый день. Конечно, я отказывал категорически всем денежным просьбам, никто не помог мне во время моей нищеты, кроме моего старого товарища Боффлза, никто, кроме него, не выразил мне даже искры симпатии, — я решил теперь быть таким же жестоким и бессердечным, как они. Я почувствовал какое-то сильное наслаждение, прочитав письма двух или трех литераторов, просящих у меня место секретаря или компаньона, а в крайнем случае немного денег в долг, чтобы помочь им перенести тяжелое переходное время; один из этих просителей был как раз журналист в одном из известных вестников, который когда-то обещал достать мне работу а, вместо этого, как я узнал впоследствии, отговорил редактора дать мне занятие. Он, конечно, ни одной минуты не воображал, что Темпест миллионер и Темпест, умирающий с голоду литератор — один и тот же человек; — вообще мало кто думает, что богатство может выпасть на долю автора. Я написал ему сам, дав ему понять то, что по моему он должен был знать; и поблагодарил его с некоторой иронией за его дружескую помощь в тяжелое для меня время, — сознаюсь, что в ту минуту я испытал всю сладость мести! Конечно, я больше про него не слыхал; но думаю, что мое письмо не только удивило его, но и возбудило в нем разные мысли.
Но, несмотря на все эти преимущества, откровенно говоря, я не был счастлив. Я сознавал, что все удовольствия в мире к моим услугам и все же, стоя у окна и наблюдая за упорно лившим дождем, я чувствовал, что в нашей жизни больше горечи, чем сладости. Например, я наполнил газеты осторожно редактированными видными объявлениями о своей книге, и вспомнил, как во времена бедности я мечтал об этом; теперь же они не доставляли мне никакого удовольствия. Мне даже надоело видеть свое имя в газетах. Конечно, я ожидал многого от публикации своей книги и с нетерпением ждал, когда она выйдет, но сегодня даже эта мысль утеряла свою прелесть, благодаря только что испытанному неприятному впечатлению, что суть романа идет в разрез с моими внутренними убеждениями. Туман медленно подымался, застилая и без того темные от дождя улицы; с чувством омерзения к себе и погоде, я отошел от окна и уселся в кресло у камина; помешав уголь так, что он загорелся ярким пламенем, я начал думать что бы предпринять, чтобы развеять меланхолию, которая, как туман Лондонских улиц, угрожала заполонить мой ум.
Кто-то постучался в дверь; в ответ на мое нетерпеливое «войдите» явился Риманец.
— Как, Темпест, вы в темноте? — воскликнул он радушно, — почему вы не зажгли свет?
— Этого огня достаточно для моих дум, — ответил я сердито.
— А, вы думали? — спросил он, смеясь. — Не думайте! это прескверная привычка. Никто теперь не думает; нынешнее поколение этого не выдерживает, головы слишком слабы; стоит только подумать, и вся гармония общественного строя внезапно исчезает; к тому же это прескучное занятие.
— Я сам это нахожу, — ответил я мрачно, — Лючио, что-то во мне неладно…
Глаза князя сверкнули, и полунасмешливо, полувопросительно уставились на меня.
— Неладно? — не может быть! Разве вы не один из самых богатых людей мира?
Я пропустил иронию мимо ушей.
— Послушайте, мой друг, — сказал я серьезно. — Вы знаете, что последние две недели я был занят корректурой своей книги?
Он утвердительно кивнул головой.
— Я почти докончил свой труд и пришел к заключению, что книга — не я, она нисколько не передает ни моих убеждений, ни моих мыслей, и я не могу понять, каким образом я мог написать ее.
— Вы находите ее глупой? — спросил Лючио с видимым участием.
— Нет, — ответил я с нескрываемым возмущением, — я не нахожу ее глупой.
— Скучной?
— Нет, она не скучна.
— Сентиментальна?
— Нет.
— Ну что же, мой друг, если книга ваша ни глупа, ни скучна и ни сентиментальна, так в чем же дело? — воскликнул весело Лючио.
— Дело в том, что она выше меня; — я говорил с горечью; — несравненно выше. Теперь я не мог бы написать её. Удивляюсь, как я и тогда был способен на это. Лючио, я пожалуй, говорю глупости, но мне кажется, что я нравственно стоял выше, когда писал эту книгу: я стоял на высоте, с которой с тех пор упал.
— Мне жаль это слышать, — ответил князь. — Судя по тому, что вы говорите, вся беда в том, что вы писали высокопарно. Это нехорошо, очень нехорошо. Ничего не может быть хуже писать о высших чувствах и стремлениях — великое прегрешение, и критики вам этого никогда не простят. Я от всей души сочувствую вам, мой друг; я не воображал, что вы в таком отчаянном положении.
Я засмеялся, несмотря на мое угнетение.
— Вы неисправимы, Лючио! — сказал я. — Но ваша веселость действует на меня ободряюще. Я хотел лишь объяснить вам, что в моем творчестве проведена мысль, которую я будто бы разделяю, а на самом деле это не так; мое я, мое теперешнее я, нисколько не симпатизирует ей. Должно быть с тех пор я изменил свои возвышения.
— Изменили? Еще бы не изменить! — и Лючио захохотал. — Обладание пятью миллионов фунтов должно повлиять на человека или в хорошую, или в дурную сторону. Но, по-моему, вы тревожитесь совсем напрасно. Вы можете прожить столько, и не встретить автора, писавшего то, что он в действительности думает. Когда это бывает, писатель становится бессмертным! Наша планета слишком ограничена, чтобы вместить больше одного Гомера, одного Платона, одного Шекспира.
Итак, не тревожьтесь. Вы не подходите ни к одному из них. Вы принадлежите веку, Темпест, а наш век — недолговечный век декадентства. Всякая эра, в которой любовь к деньгам господствует над всем остальным, гнила с самого корня и должна погибнуть! История нас учит этому; к сожалению, никто не внимает ее голосу. Приметьте особенности нашего времени. — Искусство подчиняется любви к деньгам, — литература, политика, религия также; вы не можете миновать общей болезни и никто не способен уничтожить сразу это зло, менее всего вы, с таким избытком богатства.
Князь приостановился; я упорно молчал, глядя на красные угольки в камине.
— Прибавлю лишь одно, — продолжал Лючио тихим, почти грустным голосом; — оно, пожалуй, покажется вам смешным, — однако это неоспоримая истина! Для того, чтобы писать с чувством, — вы должны чувствовать! Когда вы писали вашу книгу, вы были в состоянии человека-ежа, до такой степени была развита ваша чувствительность. Вы были покрыты иглами, которые и отозвались на все явления приятные и неприятные, воображаемые и настоящие. Некоторые люди стремятся к таким ощущениям; другие же предпочитают не испытывать их теперь же, как человек-еж, вы не имеете больше повода для страха, негодования или самозащиты; ваши иглы притупились в приятном бездействии, и вы почти перестали чувствовать… Вот и все! Перемена взглядов, на которую вы жалуетесь, — легко объяснима. — Вы ничего не чувствуете и удивляетесь тому, что было время, когда вы чувствовали… Спокойная уверенность его тона раздражала меня.
— Неужели вы считаете меня вполне бездушным? — воскликнул я, — вы ошибаетесь, Лючио; я чувствую и очень сильно!
— Что вы чувствуете? — спросил Риманец, пристально глядя, на меня. — В нашей столице сотни несчастных, которые умирают с голоду, сотни женщин и мужчин на краю самоубийства, — что же вы чувствуете по отношению к ним? Разве их горе тревожит вас? Сознайтесь, что нет, — вы никогда не думаете о них, да и зачем бы вам думать? Одно из самых больших преимуществ богатства, — это возможность удалить от себя зрелище чужих страданий и невзгод.
Я ничего не ответил; — в первый раз я возмутился правдивостью его слов, именно потому, что они были правдивы. Увы, Лючио, если бы я знал тогда то, что я знаю теперь!
— Вчера, — продолжал он тем же тихим голосом, — ребенок был раздавлен как раз напротив нашей гостиницы. Это был лишь бедный ребенок, — заметьте это «лишь»… Его мать с криками выбежала из боковой улицы как раз в то время, когда увозили бесформенную массу маленькой жертвы. Она дико разводила руками и отталкивала людей, желавших увести ее. Потом с криками раненого животного несчастная упала навзничь мертвая! Это была лишь бедная женщина, — еще одно «лишь». В газете явились три строки под заглавием: — «Печальный случай». Наш швейцар был свидетелем всей сцены: он стоял на пороге и следил за происходившим со спокойным равнодушием зрителя в театре. Ни один мускул его лица не дрогнул и ничто не изменило спокойного величия его положения, — однако десять минут спустя он весь засуетился, усаживая вас, мой милый Джеффри, в вашу карету. Это набросок из современной жизни, а наряду с этим, религия говорит, что мы все равны перед Господом Богом! Но это нас нисколько не тревожит; мы давно перестали задумываться над тем, каковы мы должны быть в глазах Божьих. Я рассказал вам все это не для морали. Я просто передал вам печальный случай и убежден, что вы нисколько не жалеете ни ребенка, которого раздавили, ни матери, умершей внезапно от разрыва сердца. Пожалуйста, не говорите, что вы жалеете о них, я знаю, что это неправда.
— Как можно жалеть о людях, которых мы не видим и не знаем? — начал я.
— Именно, — перебил Лючио, — как это возможно? Вот вам еще одна неопровержимая истина; как можно чувствовать наше я, когда оно находится в таких удобных условиях, что ничего не сознает кроме животного удовлетворения? Итак, мой дорогой Джеффри, вы должны довольствоваться тем, что ваша книга — отражение вашего прошлого. Вы тогда находились в чувствительном периоде вашей жизни, теперь же вы обложены толстым слоем золота, защищающим вас от постороннего влияния, в былое время многое волновало и расстраивало вас, пожалуй, даже заставляло вас кричать от возмущения; в приливе жестокого страдания вы могли бы протянуть руки и схватить, конечно бессознательно, крылатое существо, называемое славой… Но увы… вы перестали страдать!..
— Вы должны были бы быть оратором, — заметил я, вставая со своего места и начиная ходить взад и вперед по комнате. — Но для меня ваши слова неутешительны, и я не думаю, чтобы они были верны. Слава достигается довольно легко.
— Простите мое упорство, — перебил меня Лючио, как бы извиняясь. — Известность достигается легко, очень легко. Несколько критиков, которых вы угостите хорошим обедом с дорогими винами, дадут вам известность. Но слава, — это голос всей цивилизованной публики, всего света.
— Публика, — повторил я презрительно, — публика любит только дрянь.
— В таком случае жаль, что вы обращаетесь к публике, — ответил князь, улыбаясь. — Если вы такого плохого мнения о ней, зачем вы даете ей плоды вашего мозга? Она недостойна столь редкого подарка.
— Не берите пример с неудавшихся авторов, которые, изведенные невозможностью продать свои произведения, изливают желчь, на безответную публику. Однако эта самая публика — лучший друг автора, и самый верный критик. Но, если вы предпочитаете презирать ее совместно с литераторами, создавшими «Общество взаимного Почитания», я вам скажу, что надо сделать: напечатайте двадцать экземпляров вашей книги и раздайте их главным писателям обозрений; после появлений критических статей, за которые я отвечаю, ваш редактор должен объявить в газетах, что первое и второе большие издания нового романа Джеффри Темпест иссякли, — сто тысяч экземпляров были проданы в одну неделю! Если это не разбудит мир, то я буду поражен.
Я засмеялся; его веселье невольно заражало меня.
— Этот план не хуже многих, которыми пользуются современные издатели, — сказал я. — Громкая реклама литературных товаров, напоминает мне неустанные крики мелких торговцев. Но я до этого не дойду, — я достигну славы законным путем, если это только возможно.
— Но это невозможно, — объявил Лючио с широкой улыбкой. — Вы слишком богаты, одно это уже незаконно в литературе, любящей украшаться бедностью, как иной цветком в петлице! Сражение будет неравное. Факт, что вы миллионер, конечно, сначала склонить весы в вашу сторону. Свет не может противостоять деньгам. Если какой-нибудь бедняк выпустит книгу одновременно с вашей, то у него не будет и тени успеха. За рекламу ему будет невозможно заплатить и критиков он также не сможет угостить обедом. А если бы на деле оказалось, что у него больше таланта, чем у вас, и, несмотря на это, вы бы пользовались успехом, а он нет, то ваш успех был бы незаконный. Но все это неважно; в искусстве, как ни в чем другом, в конце концов, хорошее берет верх.
Я ничего не ответил, но, встав со своего места, подошел к столу, свернул корректированные мною тексты и, написав адрес типографии, позвал своего человека Морриса и приказал ему немедленно отправить их по назначению. Сделав это, я обернулся к Лючио и увидал его все еще сидевшим перед камином; в его позе было что то грустное: одной рукой он прикрывал глаза, чтобы защитить их от ярко-красного пламени. Я пожалел, что высказанные им горькие истины возбудили во мне хотя бы минутное раздражение и, подойдя к нему, я ласково взял его за плечо.
— Ну что же, Лючио? — спросил я, — теперь вы в меланхолии! мое настроение заразило вас?
Опустив руку, он взглянул на меня; его большие глаза блестели, как у нервной женщины.
— Я задумался, — сказал он с чуть слышным вздохом, — задумался над своими последними словами: «что, в конце концов, все хорошее берет верх». Действительно в мире искусства это так; шарлатанство и подделка не приняты богами Парнаса. Но что касается другого — это неправильно: Например, никогда я не возьму своего; никогда себя не оправдаю! Временами, мне жизнь более ненавистна, чем кому-либо другому.
— Может быть, вы влюблены? — спросил я, улыбаясь.
Князь вздрогнул.
— Влюблен?.. Я? Силы небесные! Да от одного лишь предположения я встрепенулся, как ужаленный. Влюблен ли я? Во всем мире нет женщины, способной вызвать во мне хоть тень любви. Женщина — большая кукла с розовыми щеками и длинными волосами, частенько даже не своими! А что касается современных атлеток, играющих в теннис, я не считаю их за женщин. Это просто неестественные зачатки нового пола. Дорогой Темпест, я ненавижу женщин. Вы бы возненавидели их также, если бы знали их, как я. Они сделали меня тем, чем я есть и заставляют меня оставаться таким же!
— В таком случае они заслуживают похвалы, — заметил я.
— Вы делаете им честь.
— Да действительно, — ответил Лючио медленно. Легкая улыбка скользила по его лицу и глаза искрились холодным блеском алмаза, блеском, замеченным мной уже несколько раз. — Верьте мне, я никогда не стану оспаривать у вас, мой милый Джеффри, столь ничтожный подарок, как любовь женщины, — она не стоит борьбы. Кстати о женщинах: припоминаю, я обещал лорду Эльтону привести вас в его ложу сегодня вечером. Это разорившийся вельможа, страдающий подагрой и пропитанный портвейном; его дочь, леди Сибилла, считается первой красавицей в Англии. Ее начали вывозить в прошлом году, и она пользовалась выдающимся успехом. Вы поедете?
— Я в полном вашем распоряжении, — ответил я, с радостью хватаясь за первый предлог, чтобы избегнуть тоски одиночества и остаться в обществе Лючио, разговор которого, несмотря на всю его ядовитость, очаровывал меня и укоренялся в моей памяти. — Когда и где мы съедемся?
— Переоденьтесь; а потом приходите обедать ко мне, — ответил князь, — мы поедем в театр вместе. Пьеса все на тот же избитый сюжет; это — панегирика падшей женщины, ставшей почему-то образцом нравственности и доброты. Пьеса сама по себе не представляет интереса, но, пожалуй, леди Сибилла вознаградит нас.
Лючио опять улыбнулся; яркое пламя в камине потухло, оставляя лишь темно-красное тусклое пятно, — мы были почти в темноте. Я тронул электрическую кнопку, вся комната мгновенно озарилась, — я взглянул на князя, и его удивительная красота вновь поразила меня, как нечто странное, почти сверхъестественное… — Вы не замечали, что люди пристально рассматривают вас, когда вы проходите, — спросил я внезапно и стремительно.
Лючио засмеялся.
— Конечно, нет! Зачем они стали бы смотреть на меня? Каждый человек так занят своими делами и так много думает о самом себе, что он не потеряет из вида своего «ego», даже если бы сам чёрт погнался за ним. Женщины иногда смотрят на меня, как они вообще смотрят на всех более или менее благовидных мужчин.
— Я их не виню, — ответил я, любуясь его великолепным станом и изящной головой, как я бы любовался хорошей картиной или статуей. — Что же, леди Сибилле вы тоже благовиден?
— Леди Сибилла никогда не видела меня — ответил Риманец, — и я сам видел ее только издалека. Граф и пригласил нас сегодня в театр, чтобы познакомить с дочерью.
— Ха, ха! — воскликнул я, шутя, — старик хочет выдать ее замуж!
— Да, должно быть, — я знаю, что леди Сибилла продается, — ответил князь с обычным холодным цинизмом, придававшим твердое, почти жестокое выражение красивым чертам его лица, — До сих пор предлагаемые цены были недостаточно высоки. Но я покупать не буду; как я уже говорил вам, Темпест, я женщин ненавижу!
— Серьезно?
— Вполне серьезно; женщины всегда вредили мне. И я ненавижу их, тем более, что они одарены огромной силой добра, и пренебрегают этой силой, вместо того, чтобы пользоваться ею. Они вполне сознательно наслаждаются грубыми, отталкивающими наслаждениями жизни, и мне это противно. Они гораздо менее чувствительны мужчин, и конечно бессердечнее их. Они матери человеческого рода и за недостатки рода мы можем их благодарить. Вот еще одна причина моей ненависти к ним.
— Неужели вы требуете от человечества совершенства? — спросил я удивленно. — Это невозможно.
Князь призадумался.
— Во Вселенной все совершенство, — сказал он, наконец, — кроме человека. Вы никогда не задумывались над вопросом, отчего человек единственное пятно, единственное несовершенство Вселенной?
— Нет, Я об этом не думал, — ответил я, — я принимаю факты, как они есть.
— Я тоже, — и князь резко отвернулся, — до свидания. Мы обедаем через час, не забудьте.
Дверь отворилась, закрылась, его уже не было. Оставшись один, я задумался над странным нравом князя, — философская теория, любовь к свету, чувствительность, ирония и цинизм все это как-то странно смешивалось в этом выдающемся таинственном человеке, внезапно ставшим моим лучшим другом. Почти месяц уже прошел со дня нашего знакомства, но я не был ближе к разгадке его характера, чем в начале. Однако я восторгался им более, чем когда либо, и если бы мне пришлось внезапно лишиться его общества, жизнь потеряла бы для меня половину своей прелести. Несмотря на то, что я был окружен новыми друзьями, привлеченными блеском моих миллионов, как бабочки ярким светом огня, я ни к кому не питал такой симпатии, как к этому властному, то жестокому, то ласковому товарищу, считавшему жизнь безделицей и меня ненужным ее звеном.
Глава восьмая
Я думаю, что ни один мужчина не забывает первого раза, когда он встречается с воплощением безукоризненной красоты…. Он пожалуй видал много хорошеньких женщин; ослепительный цвет лица или очаровательный выгиб грациозной фигурки не раз привлекали его, но все это были лишь мимолетными намеками на совершенство…. Когда-же эти впечатления соединяются в одну точку, когда все неясные грезы воплощаются в одном живом существе, которое гордо глядит на него с высоты своей девственной чистоты, то он теряет голову перед восхитительным видением и делается рабом своей страсти. И так ничего нет удивительного в том, что я почувствовал себя униженным и покоренным, когда Сибилла Эльтон, медленно подняв свои фиолетовые глаза, посмотрела на меня сквозь завесу темных ресниц с тем неописуемым выражением не то участия, не то равнодушия, которое хотя и считается признаком благовоспитанности, но в большинстве случаев обескураживает и даже отталкивает откровенных и чувствительных людей. Итак, повторяю, взгляд леди Сибиллы отталкивал, но и очаровывал меня. Риманец и я мы вошли в ложу лорда Эльтона между первым и вторым действиями; увидав нас, граф, обыкновенный старичок с лысой головой, красным лицом и большими бакенами, встал с своего места и любезно приветствовал нас, пожав руку князя с особенным радушием… Впоследствии я узнал, что Лючио одолжил ему 10 тысяч фунтов стерлингов, что и объясняло, более чем радушный шлем графа. Леди Сибилла осталась неподвижной и только после того как старик довольно резко обратился к ней со словами: «Сибилла, князь Риманец и его друг мистер Джеффри Темпест», она обернулась и, окинув нас тем холодным взглядом, о котором я говорил выше, чуть заметно наклонила голову в знак приветствия. Ее удивительная красота ошеломила и меня; я не знал, что сказать и молча смотрел на нее в приливе необъяснимого волнения. Старый граф сделал какое-то замечание насчет пьесы, но я едва расслышал его слова. Оркестр играл что-то невероятное, как всегда, во время антракта оглушительный шум медных инструментов звенел у меня в ушах, как бурные волны моря. — Я ничего не сознавал, кроме чарующей прелести девушки, сидящей предо мной в открытом белом платье с брильянтами в волосах, которые блестели как капли росы на лепестках душистой розы. Лючио заговорил с ней, и я прислушался.
— Наконец, леди Сибилла, — сказал он, почтительно наклоняясь к ней, — наконец, я имею честь познакомиться с вами. Я видел вас часто, как видят звезды — издалека.
Леди Сибилла улыбнулась, но столь холодной улыбкой, что углы ее красивых губ едва заметно поднялись.
— Мне кажется, что я никогда вас не видела — ответила она, — но все-таки в вашем лице есть что-то знакомое. Отец постоянно говорил о вас, — само собой разумеется, что его друзья — мои друзья!
Князь поклонился.
— Говорить с леди Сибиллой великая честь, — сказал он, — но быть ее другом, значит вернуться в потерянный рай!
Леди Сибилла вся вспыхнула, потом побледнела; легкая дрожь прошла по ее телу, и она протянула руку за своей накидкой. Риманец бережно окутал ее дивные плечи душистыми складками шелковой ткани, — как я завидовал ему в исполнении этой легкой задачи, — потом Риманец обернулся ко мне.
— Не сядете ли вы сюда, Джеффри? — сказал он, указывая на свое место, — мне надо поговорить по делу с лордом Эльтоном.
Овладев собой, я поспешил воспользоваться удобным случаем: мое сердце радостно застучало, когда красавица ласково и как бы поощряюще, улыбнулась мне.
— Вы, большой друг князя Риманца? — мягко спросила она, когда я уселся.
— Да, мы очень дружны, — ответил я, — он чудный собеседник.
— Я думаю, — сказала леди Сибилла, взглянув на Лючио, который что-то доказывал старому графу, — он поразительно хорош собой.
Я ничего не ответил. Конечно, удивительная красота Лючио не подлежала сомнению, но чувство зависти овладело мной. Ее замечание показалось мне столь же неуместным, как когда человек, имея перед собой красивую женщину, громко восхищается перед ней красотой ее подруги. Я, конечно, не задумывался над своей внешностью, хотя знал, что физически стоял выше общего уровня людей. Чувствуя себя почему-то обиженным, я не прервал наступившего молчания и через некоторое время занавес для второго действия поднялся. Сцена была сомнительного свойства: женщина с «прошлым» играла в ней главную роль. Тенденция пьесы возмущала меня, и я взглянул на моих компаньонов, желая усмотреть на их лицах выражение негодования. Но на изящных чертах леди Сибиллы не было и тени неодобрения, — ее отец даже высунулся из ложи, видимо не желая пропустить малейшей подробности пьесы, а Риманец словно застыл, так что было невозможно угадать его впечатления.
Женщина с «прошлым» продолжала излагать свои истерично-ложные доводы, и «первый любовник» уверял ее, что она воплощение долготерпения и ангельской чистоты; занавес опустился под дружным громом аплодисментов, гармония которого была нарушена лишь одним резким свистком из райка.
— Англия пошла вперед, — заметил Риманец слегка насмешливым голосом. — В былое время засвистали бы эту пьесу, как нечто вредное и могущее развращающе действовать на толпу. Теперь же единственный протестующий голос принадлежит представителю низшего класса.
— Вы демократ, князь? — спросила, леди Сибилла, лениво обмахиваясь большим веером.
— Нисколько; но ее преклоняюсь перед достоинством не денежным, а интелектуальным. На этом поприще развивается новая аристократия. Когда высшее сословие растлевается, оно падает и делается низшим, а когда низшее сословие воспитывает себя и стремится к совершенству, оно поднимается и делается высшим, это закон эволюции.
— Но, Боже мой, — воскликнул лорд Эльтон, — неужели вы находите эту пьесу грубой или безнравственной? Это просто реальный этюд современной жизни. И все эти женщины, эти бедняжки с сомнительным прошлым, очень интересны!
— Очень, — тихо прибавила его дочь. — Казалось бы, что для женщин, не имевших такого прошлого, не может быть и будущего! Нравственность и скромность отжили свой век и утеряли свою цену.
В ее замечании я подметил скрытый смысл. Нагнувшись к ней, я прошептал:
— Леди Сибилла, я рад, что эта пьеса возмущает вас.
Она взглянула на меня с выражением глубокого удивления.
— Нисколько — возразила она, — я видела, много пьес в этом роде и прочла целую массу романов на ту же тему. Уверяю вас, я вполне убеждена, что так называемая «падшая женщина» единственный тип, нравящийся мужчинам; падшая женщина пользуется в жизни всеми наслаждениями, нередко очень удачно выходить замуж, и вообще вполне довольна своей судьбой. Можно сказать тоже самое о наших преступниках; они получают лучшую пищу в тюрьме, чем могли бы себе заработать на воле. Мне кажется, что для женщин нашего времени не стоит быть порядочной, так как в таком случае ее считают просто скучной.
— Я вижу, что вы смеетесь, ответил я с снисходительной улыбкой, «вы' сами знаете, что в глубине сердца вы думаете иначе».
Леди Сибилла ничего не ответила; занавес опять поднялся: безнравственная дама очутилась на роскошнейшей яхте и по-видимому очень приятно проводила время. Сцена не интересовала меня и я откинулся на спинку кресла и предался своим мечтам; лихорадочное возбуждение, вызванное во мне в начале вечера одним взглядом леди Сибиллы, внезапно улеглось и сменилось хладнокровным обычным самомнением. Я припоминал слова Лючио. — «Леди Сибилла продается», и с чувством торжества подумал о своих миллионах. Я взглянул на графа, развеянно гладившего себе усы, потом мой взгляд вернулся к леди Сибиллы: я начал любоваться красивым изгибом ее нежной шеи, безукоризненной грудью и руками, ее роскошными темно-русыми волосами, изящному гордому лицу, томными глазами и ослепительным колоритом, — и я шепнул себе: — вся эта красота покупная, и я куплю ее! В ту же минуту леди Сибилла обернулась ко мне со словами:
— Вы знаменитый, мистер Темпест, не правда ли?
— Знаменитый? — повторил я с чувством глубокого удивления. — Едва ли, моя книга еще в печати!
Брови леди Сибиллы слегка приподнялись.
— Ваша книга? Я не знала, что вы пишете.
Мое тщеславие было ужалено.
— Однако о ней уже было объявлено в газетах, — начал я внушительно, но она прервала меня со смехом:
— Я никогда не читаю объявлений, — это чересчур утомительно. Когда я спросила вас, знаменитый ли вы мистер Темпест, то хотела лишь узнать: вы ли, тот миллионер, о котором так много говорят?
Я довольно холодно поклонился.
Леди Сибилла, закрыв нижнюю часть лица веером, посмотрела на меня с любопытством.
— Как вам должно быть приятно, иметь столько денег, — заметила она, — в довершение этого вы молоды и хороши собой.
Чувство удовольствия заменило оскорбленное самолюбие, и я улыбнулся.
— Вы очень добры, леди Сибилла.
— Почему? — спросила она и засмеялась приятным грудным смехом. — Потому, что я говорю вам правду? Но вы действительно молоды и хороши собой. Вообще миллионеры ужасные люди. Судьба, наградив их деньгами, почти всегда лишает их мозгов и внешней красоты. А теперь, расскажите мне про вашу книгу.
Она как то сразу сбросила с себя маску холодности и во время последнего действия мы разговаривали свободно, но шепотом, чтобы не метать публике. Леди Сибилла была столь очаровательна и любезна, что покорила меня совсем, и я начал терять голову. Когда представление кончилось, мы вышли из ложи вместе, но так как Лючио было занят лордом Эльтоном, я имел удовольствие сопровождать леди Сибиллу до кареты. Садясь рядом с дочерью, старик пожал мне руку с нескрываемым дружелюбием.
— Приходите обедать, приходите обедать, — воскликнул он взволнованно. — Подождите, какой у нас день? Вторник? Приходите в четверг, пожалуйста, без церемонии. Моя жена разбита параличем: она, к сожалению, принимать не может и лишь изредка видит гостей, но ее сестра принимает на ее месте… Тетя Шарлотта, Сибилла, ха, ха, ха! Вот не хотел бы на ней жениться, ха, ха, ха! Мисс Шарлотта Фицрой, женщина, к которой никак подойти нельзя! Это примерное существо. Ха, ха, ха! Приходите обедать, мистер Темпест, — Лючио, приведите его. У нас гостит молодая барышня, американка, с надлежащими долларами и акцентом, — ей богу, я думаю, что она хочет выйти за меня замуж, ха, ха, ха, и ждет, не дождется, чтобы леди Эльтон отправилась в лучший мир, ха, ха, ха! Приходите, приходите посмотреть на американку. В четверг, не правда ли?
По красивым чертам леди Сибиллы проскользнула тень неудовольствия, когда отец заговорил об американке; но она ничего не сказала, только вопросительно посмотрела на нас, как бы желая узнать наши намерения; она, по-видимому, обрадовалась, когда мы оба приняли приглашение старика. Граф еще раз пожал нам руки и захохотал так, что все его лицо побагровело. Ее сиятельство ответила на наш поклон грациозным кивком головы, и карета Эльтона быстро удалилась. Когда мы уселись в экипаж, Лючио с любопытством посмотрел на меня и сказал:
— Ну и как вам?
Я молчал.
— Неужели она не понравилась вам? — продолжал он, — сознаюсь, она холодна и напоминает мне ледяную весталку, но не забудьте; что и вулканы частенько прикрыты снегом. У нее весьма правильные черты и хороший цвет лица.
Несмотря на мое намерение молчать, небрежная похвала Лючио возмутила меня.
— Она безупречно хороша, — сказал я твердо.
Самый безвкусный человек не может в этом не признаться. В ней нет ни одного недостатка. Ее холодность и выдержка говорят в ее пользу. Если бы она расточала свои улыбки и очаровывала всех своим обхождением, то она свела бы с ума немалое количество мужчин!
Я почувствовал, скорей чутьём увидал кошачий взгляд, брошенный на меня князем.
— Честное слово, Джеффри, несмотря на то, что у нас февраль месяц ветер дует прямо с юга и навевает запахи роз и померанцевых цветов, мне кажется, что леди Сибилла сильно подействовала на вас.
— А вы этого желаете? — спросил я.
— Я? мой добрый друг: я ничего не желаю. Я лишь применяюсь к настроению своих друзей. Вы спрашиваете мое мнение, и я отвечаю: если вы действительно увлеклись этой барышней, жаль, что никаких препятствий к вашему счастью не предвидится. Любовный эпизод обязательно должен быть окружен трудностями, действительными или выдуманными. Большая доля безнравственности, ложь, обман, тайные свидания, все это придает любви известную прелесть… по крайней мере, на этой планете…
Я перебил его.
— Вы ужасно любите говорить об этой планете, как будто вы знакомы с другими, — сказал я нетерпеливо. — «Эта планета», как вы презрительно называете мир, — единственная планета, с которой мы имеем дело!
Лючио так пристально уставил на меня свой огненный взгляд, что я невольно вздрогнул.
— Если это так, — ответил он, — то зачем вы не оставляете другие планеты в покое? Зачем вы стремитесь узнать их движения и разгадать их тайны? Если люди, как вы говорите, «имеют дело лишь с этой планетой», зачем они стараются открыть секрет других миров? — секрет, который они когда-нибудь узнают к своему великому ужасу!
Торжественность голоса и вдохновенный вид Лючио взволновали меня, и я не знал, что ответить; он же продолжал:
— Не будемте говорить, мой друг, о планетах, даже о той булавочной ничтожной планете, которую мы называем Землей. Вернемтесь к более интересному сюжету, а именно леди Сибилле. Как я уже говорил вам, нет никаких препятствий к вашему счастью и вы можете жениться хоть завтра. Джеффри Темпест в качестве автора, конечно, не посмел бы и мечтать о бракосочетании с дочерью герцога; но Джеффри Темпест — миллионер — будет принят охотно. Дела бедного лорда Эльтона в очень плохом положении, — он почти что нищий… Американка, которая столуется у него…
— Как столуется? — воскликнул я, — разве граф содержит пансион?
Лючио чистосердечно засмеялся.
— Нет, нет! Просто граф и графиня Эльтон дают престиж своего дома и покровительство мисс Диане Чезни, этой американке, за пустячную сумму в две тысячи гиней ежегодно; графиня передала свою обязанность представительства своей сестре мисс Шарлотте Фитцрой, но корона уже висит над головой мисс Чезни. У нее в доме свой собственный ряд комнат, и она выезжает куда угодно под крылышком мисс Фитцрой. Такой порядок не нравится леди Сибилле, и она нигде не показывается иначе, как с отцом. Она не хочет дружить с мисс Чезни и откровенно высказывает это.
— Я горжусь ею за это, — сказал я горячо. — Я удивляюсь, что лорд Эльтон снизошел…
— Снизошел до чего? — спросил Лючио. — Снизошел принимать две тысячи фунтов в год? Силы небесные! Вы найдете массу лиц высшего общества, готовых снизойти до этого. Синяя кровь становится и жидка и бедна, и только деньги могут сгустить ее. Диана Чезни обладает более чем миллионом долларов и если леди Эльтон сумеет умереть вовремя, то эта маленькая американочка торжественно займет освободившееся место.
— Это возмутительно и не в порядке вещей! — воскликнул я с сердцем.
— Джеффри, мой друг, ваша непоследовательность поражает меня! Разве вы сами не исключение? Кто были вы, хотя бы шесть недель тому назад? Мелкий писатель, с зачатками таланта! Но эти зачатки не были в силах вырвать вас из мрачной тины, в которой вы копошились, проклиная свою судьбу. А теперь, вы стали миллионером, и вы презираете графа за то, что он вполне законно прибавляет к своим доходам, вывозя американскую наследницу в общество, в которое она никогда бы не проникла без его помощи. А вы сами намереваетесь просить руки дочери графа и забываете, что ваш род не род владетельных князей!
— Мой отец был джентльмен, — сказал я не без гордости, — и потомок джентльменов. Мы никогда не были простыми людьми, — наш род был уважаем во всей провинции.
Лючио улыбнулся.
— Я в этом не сомневаюсь, мой друг, нисколько не сомневаюсь; но простой джентльмен стоит или гораздо выше, или гораздо ниже графа. На этот счет у каждого свое мнение; в наше время никто не гордится древним родом, должно быть благодаря поразительному, невежеству представителей древних родов.
И так случается, что пивовары делаются «пэрами» и простые торговцы получают титулы; старые дворянские семьи так оскудели, что они принуждены продавать родовые имения или железнодорожным тузам, или изобретателям какого-нибудь нового удобрения: Ваше положение несравненно лучше, так как вы не знаете, откуда происходят ваши миллионы.
— Вы правы, — ответил я задумчиво; потом внезапно вспомнив свой разговор с поверенными, я прибавил: — я забыл вам сказать, что мой покойный родственник воображал, что он продал свою душу дьяволу и что ценой его души и было это колоссальное состояние!
Лючио резко засмеялся.
— Не может быть! — воскликнул он. — Какая странная мысль! Старик, должно быть, потерял рассудок. Человек со здравым умом не верит в существование дьявола, в особенности в наши передовые времена… Что же поделаешь? Безумие человеческого воображения не имеет пределов. Но вот мы и доехали, — добавил он, когда карета остановилась перед гранд-отелем, — желаю вам спокойной ночи, Темпест, я с вами не войду, так как обещался попытать счастье на зеленом столе.
— Вы будете играть? Где?
— В одном из избраннейших клубов. Ведь в нашей просвещенной столице азартные игры допускаются чуть ли не во всех клубах, так что Монте-Карло не приходится посещать… Но может быть, вы поедете со мной?
Я был в нерешительности. Чудный образ леди Сибиллы наполнял мой ум, и в приступе сентиментальности, я подумал, что было бы жаль осквернить священные мысли о ней забавой низшего разряда.
— Нет, сегодня не могу, — ответил я с улыбкой, — но, — прибавил я, — для людей, играющих с вами, мне кажется, удовольствия мало… Вы можете проиграть страшно много без ущерба для себя, а они нет.
— Так отчего же они играют? человек обязан знать и сколько у него свободных денег, и есть ли у него достаточно силы воли, чтобы остановиться вовремя. Однако мой долголетний опыт доказал мне, что игроки страстно любят шоу; а меня забавляют чужие страсти; я вас повезу с собой завтра, если это вас интересует, но будьте спокойны, я не дам вам особенно проиграться.
— Хорошо, поедем завтра, — согласился я, боясь своим отказом показаться скупым, — а сегодня я напишу несколько писем, а потом лягу спать.
— Желаю вам увидеть во сне леди Сибиллу, — засмеялся Лючио. — Если в будущий четверг она покажется вам такой же очаровательной как сегодня, то советую вам выставить свои батареи, — и, весело махнув рукой, князь захлопнул за собой дверцы кареты, и лошади быстро помчались по туманным и мокрым улицам города.
Глава девятая
Мой почтенный издатель Моррисон, тот самый, который сначала отверг мою книгу, теперь же, имея в виду собственную выгоду, прилагал все усилия, чтобы издать мое произведение по всем правилам искусства; к нему нельзя было бы применить слова «благородный», он не принадлежал к старой фирме издателей, долгосрочность которой как бы оправдывала систему обсчитывать несчастных авторов; это был человек новый, самодельный, с большой дозой наглости и нахальства. Несмотря на это, он был умен и ловок и уже успел привлечь к себе милость большей части печати; доказательством этого служило то, что журналы и газеты давали предпочтение его изданиям над изданиями больше уважаемых фирм. В утро после моего первого знакомства с графом Эльтоном и его дочерью, я зашел к Моррисону, и он немедленно начал излагать мне свои дальнейшие планы.
— Ваша книга выйдет на будущей неделе, — сказал он, радушно потирая руки и глядя на меня с глубоким уважением, вызванным моими миллионами. — Так как расход для вас безразличен, то вот что я намерен сделать; я выпущу в нескольких газетах предупредительную, рецензию: скажу, что «ваша книга создаст новую эру для мыслителей» или же, что «всякий кто дорожит мировым прогрессом, должен прочитать это произведение», или еще: «книга мистера Темпеста касается одного из самых жгучих вопросов нашей эпохи». Эти фразы производят страшное впечатление, в особенности последняя, несмотря на то, что она более или менее избита; малейший намек на жгучий вопрос нашего времени вызывает в публике мысль о чем-то «неприличном, и книга раскупается нарасхват». И Моррисон засмеялся, как бы радуясь собственному остроумию; я молчал, и забавы ради наблюдал за ним. Этот человек, решение которого я ждал с таким томительным нетерпением каких-нибудь шесть недель тому назад, теперь стал моим орудием, готовым за известную плату всячески угодить мне, и я слушал его со снисхождением, пока он ревностно излагал мне способ добывания славы для меня и массу денег для себя.
— Я уже пустил в ход рекламу, — продолжал он, — и расходов не пожалел, — пока еще заказов мало, но они несомненно будут. Рецензию я хочу поместить в восьмистах газетах здесь и в Америке, это нам обойдется в тысячу фунтов. Вы, ничего против не имеете?
— Ничего, — ответил я.
Великий издатель слегка задумался, потом, придвинув свой стул ближе к комнате, шёпотом сказал:
— Вы, надеюсь, поняли, что первый выпуск будет состоять лишь из двухсот пятидесяти экземпляров?
Я возмутился:
— Это даже смешно, — сказал я, — такое минимальное число не в состоянии удовлетворить спрос на книгу.
— Подождите, дорогой мистер Темпест, не горячитесь, Вы мне не даете время объясниться. Все эти пятьдесят экземпляров будут розданы мной в день их появления… это необходимо
— Но для чего?
— Как для чего? — и достопочтенный Моррисон сладко улыбнулся. — Я вижу, дорогой мистер Темпест, что вы, как и большинство гениальных людей, не понимаете торгового дела… Мы раздаем двести пятьдесят экземпляров даром, для того, чтобы иметь право напечатать следующее объявление: «Первое большое издание нового романа Джеффри Темпеста раскуплено в день появления, второе издание уже находится в печати»; этим способом мы дурачим публику, которая не может знать, было ли первое издание в двести экземпляров или в две тысячи.
— Но неужели вы, находите такой образ действий честным? — спросил я.
— Честным, дорогой сэр? Вы сказали честным?
Лицо Моррисона приняло выражение оскорбленного достоинства, — конечно, это вполне честно. Просмотрите газеты; вы нападете на сотню таких же объявлений, к сожалению, их стало чересчур много! Сознаюсь, что есть несколько издателей, которые публикуют, сколько экземпляров было в первом издании и какого числа вышло второе, — но это совершенно не нужно и только причиняет лишние хлопоты. Публика любит, чтобы ее надували, зачем же, мне ублажать ее? Но возвратимся к делу. Второе издание мы разошлем в провинцию и сейчас же опять объявим, что второе издание вышло, и третье в печати, и т. д. до шестого или седьмого издания, тогда уже можно будет приступить к продаже, для этого тоже нужна известная тактика. Но мы еще успеем об этом поговорить. Объявления, конечно, даром не обойдутся, но если вы ничего против не имеете….
— Ничего, — перебил я его, — лишь бы мне позабавиться…
— Позабавиться? — повторил Моррисон в недоумении, — а я думал, что вы добиваетесь славы!
Я громко рассмеялся.
— Да разве слава добывается объявлениями? Я не достаточно глуп, чтобы этого не понять.
— Может быть, вы и правы, — задумчиво качая головой, согласился Моррисон. Его веселое, настроение внезапно изменилось; он стал почти сумрачным. — Не понимаю, почему некоторые писатели, несмотря на все свои усилия, не достигают славы, — сказал он, наконец. — Их имена печатаются огромными буквами, но это бесполезно, они не становятся известными, других авторов бранят и ругают, но славы у них отнять не могут… Вы слыхали должно быть про мисс Клер? Ее ругают постоянно и, несмотря на это, ее слава растет не по дням, а по часам; ее знают все, хотя она далеко не богата. Но вернемся к делу. Не знаю, как критики отнесутся к вашей книге. Первоклассных критиков всего шесть или семь, но с ними приходится считаться, в особенности с Маквингом; это шотландец, который суется повсюду, пишет обо всем и пользуется репутацией человека просвещенного. Если вы можете заручиться Маквингом, то об остальных не стоит и говорить; что он скажет, другие повторят. Но вам следует его подмаслить, а то шутки ради, он разнесет вас.
— Это ничего не значит, — сказал я уверенно, — легкая брань только ускорит продажу книги.
— Иногда да, — согласился Моррисон, задумчиво поглаживая свою бородку, — но в иной раз это может повредить; когда произведение бросается в глаза своей оригинальностью или смелостью, то брань весьма полезна. Но ваша книга требует деликатного обращения и похвалы
— Понимаю! — перебил я его, не будучи в силах скрыть своего негодования, — вы не считаете мою книгу талантливой.
— Милый сэр, вы право слишком резки, — перебил меня Моррисон улыбаясь. — Я нахожу, что ваша книга выказывает и уменье, и деликатность мыслей, если я нахожу в ней какие-то погрешности, то это, пожалуй, только доказывает мое собственное невежество. Но как бы это выразить? По-моему, ваш роман недостаточно приковывает внимание читателя. Положим, что это можно сказать почти про все современные произведения; эти писатели прочувствовали достаточно сами, чтобы заставить почувствовать других.
Я ничего не ответил и невольно вспомнил слова Лючио.
— Что же? — сказал я после, довольно долгого молчания, — если в то время я ничего не чувствовал, то теперь я чувствую гораздо меньше. Неужели вы не понимаете, что когда я писал, то прочувствовал каждую строчку, испытывая при этом чуть ли не физическое страдание?
— Простите, простите меня, — стремительно извинился Моррисон, — но может быть, вы только думали, что вы страдаете, — это обычный самообман литераторов. Видите, чтобы убедить публику, вы должны быть сами убежденным, это действует на людей так же притягательно, как магнит. Но бросим говорить об этом; я рассуждать не умею и, сознаюсь, просмотрел вашу книгу без особенного внимания, так что оттенки, конечно, ускользнули от меня. Во всяком случае, мы употребим все усилия, чтобы добиться успеха; прошу вас только об одном, — это лично переговорить с Маквингом.
Я обещался исполнить его просьбу и на этом мы расстались.
Наш разговор убедил меня, что Моррисон обладает большей долей проницательности, чем я предполагал, и его замечания невольно навели меня на не очень приятные размышления. Если, как он уверял, я не в состоянии удержать внимание читателя, то впечатление получится отрицательное, и мой роман переживет не более одного сезона. О славе, и думать было нечего, конечно, помимо той славы, которую могут мне купить мои миллионы. Я вернулся к себе не в духе, и Лючио сразу это заметил. Я передал ему свой разговор с издателем, и князь тоже посоветовал мне заручиться расположением Маквинга.
— Но как? — спросил я, — я встречал его имя в печати, но лично я его не знаю, не могу же я поехать к нему и просить его благосклонной поддержки?
— Конечно, нет, — засмеялся Лючио, — если бы вы это сделали, то наплакались бы потом. Он поднял бы вас на смех на следующий же день. Нет, нет, мой дорогой, мы обойдем Маквинга, только иначе; хотя вы не знаете его, я с ним знаком.
— Вот это хорошо, — обрадовался я, — вы, кажется, знаете всех!
— Да, действительно, я знаком почти со всеми, с которыми стоит знакомиться. Спешу, однако, добавить, что Маквинга я не считаю особенно стоящим; не беспокойтесь, мы его обойдем, а теперь пора обедать.
Мы сели за стол вместе, как это часто случалось, и во время обеда речь шла исключительно о деньгах. Я поместил свои деньги в. разные предприятия под руководством Лючио и обсуждение этих важных дел заняло довольно много времени. В одиннадцать часов вечера мы решили попытать счастье в игорном доме и, так как ночь стояла ясная, — почти морозная, мы отправились туда пешком. Клуб находился в боковой улице, прилегавшей к самому аристократическому кварталу Лондона. Снаружи, он ничего из себя не представлял, но внутри он был богато отделан, хотя без вкуса. Роль хозяйки исполняла дама с подведенными глазами, принимавшая в гостиной англо-японского стиля. Ее взгляды и манера говорить подчеркивали ее положение дамы полусвета; это была одна из тех несчастных «дам с прошлым», о которых привыкли говорить, как о невинных жертвах мужского разврата. Лючио шепнул ей что-то на ухо; она взглянула на меня, улыбнулась и позвонила. На ее звонок явился весьма приличный лакей во фраке, и по приказанию хозяйки повел нас в верхний этаж. Наших шагов не было слышно, так как мы шли по ковру мягкому, как мох; вообще я заметил, что в этом доме было бесшумно; двери были обиты тяжелым сукном и открывались без малейшего скрипа. На верхней площадке человек еле слышно постучал в боковую дверь; ключ повернулся в замке и мы вошли в ярко-освещенную длинную залу, где толпилась масса людей играющих в «баккара» и «красное и черное». Некоторые из них поклонились князю и с любопытством взглянули на меня; для большинства же из гостей наш вход остался незамеченным Лючио взял меня за руку; мы уселись около одного из зеленых столов и стали наблюдать за ходом игры, — мало-помалу крайнее возбуждение, царившее в зале, передалось мне; это было нечто в роде затишья перед страшной грозой. Я узнал многих сановников, людей хорошо известных в политическом и общественном мире, и был поражен, что они как бы оправдывали своим присутствием существование вполне незаконного игорного дома. Но я старался не выразить своего удивления и продолжал следить за игрой с таким же безмолвным равнодушием, как мой приятель Лючио. Я готовился и проиграть, и выиграть, но конечно не предвидел той прискорбной сцены, которая внезапно разыгралась и в которой я был невольным участником.
Глава десятая
Когда игра, за которой мы наблюдали, пришла к концу, игроки встали и приветствовали Лючио с неподдельным восторгом.
Я инстинктивно понял по их манерам, что они считали князя за самого влиятельного члена клуба. Лючио перезнакомил меня со всеми, и мое имя произвело ожидаемое впечатление. Мне предложили сыграть в баккара, и я охотно согласился. Ставки были крайне высоки, но меня это конечно не пугало. Один из игроков, сидевших рядом со мной, был граф Линтон, белокурый молодой человек, с красивым лицом и благородным видом. Он сразу поразил меня тем, что постоянно удваивал ставки, как мне показалось, только чтоб поразить зрителей; когда он проигрывал, и это случалось очень часто, он громко хохотал, как пьяный или сумасшедший.
Когда я начал играть, то был вполне равнодушен, и мне было безразлично, выигрываю я или проигрываю. Лючио не присоседился к нам, но уселся в стороне и, как мне казалось, неотступно наблюдал за мной. Слепая судьба относилась ко мне более чем благосклонно; я все выигрывал, и с моим выигрышем росло и мое нервное возбуждение; мало-помалу мое настроение изменилось, и я страстно пожелал проиграть. Должно быть, это было вызвано инстинктивным чувством жалости по отношению бедного Линтона. Он, казалось, обезумел при виде моего счастья и продолжал вести отчаянную игру с осунувшимся лицом и лихорадочными глазами. Остальные игроки обращали меньше внимания на свои проигрыши или, пожалуй, более умело скрывали свое волнение, — но как бы там не было, мне серьезно захотелось, чтобы счастье повернулось в сторону молодого графа. Но мои желания были тщетны. Я выигрывал все больше и больше… наконец, игроки встали, и Линтон поднялся вместе с ними.
— Ну, у меня карманы опустели — объявил он с хриплым смехом. — Я надеюсь, что завтра вы мне дадите реванш, мистер Темпест?
— С удовольствием.
Все посетители обступили меня, уговаривая меня приехать на следующий день: внезапно Лючио встал и обратился к молодому графу.
— Не поиграете ли вы со мной? — спросил он. — Я держу банк, — и он положил на стол две новенькие бумажки в 500 фунтов каждая.
Последовало минутное молчание. Граф в это время жадно пил коньяк с содовой водой; он взглянул на деньги алчными, налитыми кровью, глазами, потом с деланным равнодушием пожал плечами и сказал:
— Я играть больше не могу; не на что, совсем проигрался!
— Садитесь, садитесь, Линтон, — вмешался один из посетителей, — я вам одолжу, сколько нужно.
— Благодарю вас, — отвечал молодой человек; легкий румянец вспыхнул на его исхудалом лице, — но и без того я вам должен много; лучше поиграйте без меня.
— Позвольте мне убедить вас, граф, — сказал Лючио, глядя на него с ослепительной улыбкой, — поиграйте только ради шутки! Если вы, не чувствуете себя вправе играть на деньги, то выберите другую ставку, что-нибудь ничтожное и несущественное, только, чтобы посмотреть, повернется ли счастье в вашу сторону. Вот эта фишка, — продолжал он, — идет за пятьдесят фунтов; пусть на этот раз она изобразит нечто менее ценное денег, — например, вашу душу.