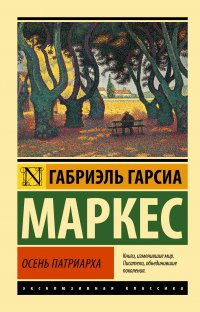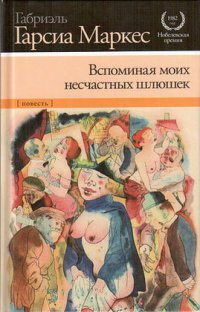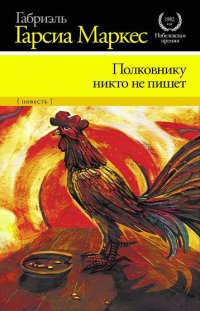Читать онлайн Сто лет одиночества бесплатно
- Все книги автора: Габриэль Гарсиа Маркес
Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндия припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед.
Макондо был тогда небольшим поселком из двадцати глинобитных, с камышовыми кровлями домишек, стоявших на берегу реки, которая несла свои прозрачные воды по ложу из белых, гладких и огромных, как доисторические яйца, валунов. Мир был таким первозданным, что многие вещи не имели названия и на них просто тыкали пальцем. Каждый год в марте месяце лохмотное цыганское племя ставило свой шатер близ поселка, и под звонкое дребезжание бубнов и визготню свистулек пришельцы показывали жителям новейшие изобретения. Вначале они привезли магнит. Коренастый цыган с кудлатой бородой и воробьиными руками-лапками назвал свое имя – Мелькиадес – и стал демонстрировать обомлевшим зрителям не что иное, как восьмое чудо света, сотворенное, по его словам, учеными-алхимиками из Македонии. Цыган ходил из дома в дом, потрясая двумя брусками железа, и люди вздрагивали от ужаса, видя, как тазы, кастрюли, жаровни и ухваты подпрыгивают на месте, как поскрипывают доски, с трудом удерживая рвущиеся из них гвозди и болты, а вещицы, давным-давно исчезнувшие, объявляются именно там, где все было перерыто в их поисках, и скопом несутся к волшебному железу Мелькиадеса. «Всякая вещь – живая, – объявил цыган категорично и сурово. – Надо только суметь разбудить ее душу». Хосе Аркадио Буэндия, чье необузданное воображение превосходило чудотворный гений самой природы и даже силу магии и волшебства, подумал, что неплохо было бы приспособить это в общем никчемное открытие для выуживания золота из земли. Мелькиадес, будучи человеком порядочным, предупредил: «Ничего не получится». Но Хосе Аркадио Буэндия тогда еще не верил в порядочность цыган и променял своего мула и нескольких козлят на две намагниченные железки. Урсула Игуаран, его жена, хотела за счет домашней скотины увеличить скромный семейный достаток, но все ее уговоры были напрасны. «Скоро золотом дом завалим, девать будет некуда», – отвечал муж. Несколько месяцев кряду он усердно отстаивал неопровержимость своих слов. Шаг за шагом прочесывал местность, даже русло реки, таща за собой на веревке два железных бруска и повторяя громким голосом заклинание Мелькиадеса. Единственное, что ему удалось обнаружить в недрах земных, были насквозь проржавевшие военные доспехи пятнадцатого века, глухо звякавшие при постукивании, как сухая тыква, начиненная камнями. Когда Хосе Аркадио Буэндия и его четверо помощников разобрали находку на части, под латами оказался белесый скелет, на темных позвонках которого болталась ладанка с женским локоном.
В марте цыгане пришли опять. На этот раз они принесли подзорную трубу и лупу величиной с бубен и выдавали их за последнее изобретение евреев из Амстердама. Они посадили в другом конце поселка свою цыганку, а трубу поставили у входа в шатер. Уплатив пять реалов, люди прилипали глазом к трубе и видели перед собой цыганку в мельчайших подробностях. «Для науки нет расстояний, – вещал Мелькиадес. – Скоро человек, не выходя из дому, увидит все, что творится в любом уголке земли». Однажды в жаркий полдень цыгане, манипулируя своей огромной лупой, устроили потрясающее зрелище: на охапку сена, брошенного среди улицы, они направили пучок солнечных лучей, и сено полыхнуло огнем. Хосе Аркадио Буэндия, который не мог успокоиться после провала своей затеи с магнитами, тотчас сообразил, что это стекло можно использовать как боевое оружие. Мелькиадес снова попытался отговорить его. Но в конечном счете цыган согласился отдать ему лупу в обмен на два магнита и три золотые колониальные монеты. Урсула рыдала от горя. Эти деньги пришлось вытаскивать из сундучка с золотыми дублонами, которые ее отец копил всю свою жизнь, отказывая себе в лишнем куске, и которые она хранила в дальнем углу под кроватью в надежде, что подвернется счастливый случай для их удачного применения. Хосе Аркадио Буэндия не соизволил даже утешить жену, отдавшись своим нескончаемым экспериментам с пылом истого исследователя и даже с риском для собственной жизни. Стремясь доказать губительное воздействие лупы на живую силу противника, он сфокусировал солнечные лучи на себе самом и получил сильнейшие ожоги, обратившиеся в язвы, которые с трудом заживали. Да что там, – он не пожалел бы и собственный дом, если бы не бурные протесты жены, устрашенной его опасными трюками. Долгие часы проводил Хосе Аркадио в своей комнате, рассчитывая стратегическую боеспособность новейшего оружия, и даже написал наставление, как его применять. Это удивительно доходчивое и неотразимо обоснованное наставление он отправил властям вместе с многочисленными описаниями своих опытов и несколькими рулонами пояснительных чертежей. Его гонец перебрался через горы, чудом вылез из бескрайней трясины, переплыл бурные реки, едва спасся от диких зверей и чуть не погиб от отчаяния и всякой заразы, прежде чем доплелся до дороги, где возили почту на мулах. Хотя поездка в столицу была по тем временам затеей почти нереальной, Хосе Аркадио Буэндия обещал приехать по первому распоряжению Правительства, чтобы продемонстрировать военным властям свое изобретение на практике и лично обучить их сложному искусству солнечных войн. Несколько лет ждал он ответа. Наконец, отчаявшись чего-нибудь дождаться, он поделился с Мелькиадесом своим горем, и тут цыган предъявил неоспоримое доказательство своей порядочности: забрав назад лупу, вернул ему золотые дублоны, да еще дал несколько португальских мореходных карт и кое-какие навигационные приборы. Цыган собственноручно написал для него краткий конспект поучений монаха Германа, как пользоваться астролябией, буссолью и секстантом. Хосе Аркадио Буэндия провел долгие месяцы дождливого сезона, запершись в сарае, специально пристроенном к дому, чтобы никто не мешал ему в его изысканиях. В сухую пору, полностью забросив домашние дела, он проводил ночи напролет в патио, наблюдая за ходом небесных тел, и едва не получил солнечный удар, стараясь точно определить зенит. Когда он в совершенстве овладел знаниями и инструментами, у него появилось блаженное ощущение необъятности пространства, что позволяло ему плавать по незнакомым морям и океанам, бывать на необитаемых землях и вступать в сношения с восхитительными созданиями, не покидая своего научного кабинета. Именно в это время он приобрел привычку разговаривать сам с собой, прохаживаясь по дому и никого не замечая, тогда как Урсула в поте лица своего трудилась с детьми на земле, выращивая маниоку, ямс и малангу, тыквы и баклажаны, ухаживая за бананами. Однако ни с того ни с сего лихорадочная деятельность Хосе Аркадио Буэндии вдруг прекратилась, уступив место странному оцепенению. Несколько дней он сидел как завороженный и непрерывно шевелил губами, словно повторял какую-то поразительную истину и сам не мог поверить себе. Наконец, в один из декабрьских вторников, за обедом он разом сбросил с себя груз тайных переживаний. Его дети до конца жизни будут помнить ту величественную торжественность, с какой их отец занял место во главе стола, трясясь как в лихорадке, изнуренный бессонницей и бешеной работой мозга, и сообщил о сделанном им открытии: «Наша земля кругла, как апельсин». Терпение Урсулы лопнуло: «Если ты хочешь вконец спятить – дело твое. Но детям не забивай мозги цыганской брехней». Хосе Аркадио Буэндия, однако, и глазом не моргнул, когда жена в гневе грохнула астролябию об пол. Он смастерил другую, собрал в сарайчике односельчан и, опираясь на теорию, в которой никто из них ничего не смыслил, рассказал, что, если все время плыть на восток, можно опять оказаться в точке отправления.
Поселок Макондо уже склонялся к тому, что Хосе Аркадио Буэндия сошел с ума, но тут явился Мелькиадес и все расставил по местам. Он публично воздал должное разуму человека, который, наблюдая за ходом небесных светил, теоретически доказал то, что практически уже давно доказано, хотя пока еще и не известно жителям Макондо, и в знак своего восхищения преподнес Хосе Аркадио Буэндии подарок, которому было суждено определить будущее поселка: полный набор алхимической утвари.
К этому времени Мелькиадес уже заметно постарел. В годы первых своих посещений Макондо он выглядел ровесником Хосе Аркадио Буэндии. Но если тот еще не потерял свою силищу, позволявшую ему валить наземь коня, ухватив его за уши, то цыган, казалось, хирел от какой-то неодолимой болезни. На самом же деле это были последствия многих экзотических хворей, подхваченных им в бесчисленных странствиях по белу свету. Он сам рассказывал, помогая Хосе Аркадио Буэндии устраивать свою алхимическую лабораторию, что смерть грозила ему на каждом шагу, хватала за штанину, но никак не решалась добить. Он сумел увильнуть от многих бед и катастроф, казнивших род людской. Спасся от пеллагры в Персии, от цинги в Малайзии, от проказы в Александрии, от бери-бери в Японии, от бубонной чумы в Мадагаскаре, уцелел при землетрясении на Сицилии и при страшнейшем кораблекрушении в Магеллановом проливе. Этот чудодей, который говорил, что знает истоки магии Нострадамуса, был невеселым человеком, навевавшим грусть; его цыганские глаза, казалось, видели насквозь и вещи, и людей. Он носил большую черную шляпу, широкие поля которой колыхались, как крылья ворона, и бархатный жилет, позелененный патиной веков. Но при всей своей глубокой мудрости и непостижимой сути он был плоть от плоти земных существ, застрявших в сетях проблем обыденной жизни. Его донимали старческие недуги, ему портили настроение мелкие денежные траты, он давно уже не мог смеяться из-за того, что цинга вытащила у него все зубы. Хосе Аркадио Буэндия был уверен, что именно в тот душный полдень, когда цыган поведал ему свои секреты, зародилась их тесная дружба. Дети, раскрыв рот, слушали чудесные рассказы. Аурелиано – в ту пору пятилетний малыш – на всю жизнь запомнит Мелькиадеса, который сидел у окна под струями расплавленного солнца и своим низким, звучным, как орган, голосом ясно и понятно говорил о самых темных и непостижимых явлениях природы, а по его вискам ползли вниз горячие капли жирного пота. Хосе Аркадио, старший брат Аурелиано, завещает неизгладимое впечатление, оставленное этим человеком, всему своему потомству. Урсула, напротив, долго будет с отвращением вспоминать о визите цыгана, потому что она вошла в комнату как раз тогда, когда Мелькиадес, взмахнув рукой, разбил пузырек с хлористой ртутью.
– Так пахнет дьявол, – сказала она.
– Ничего подобного, – возразил Мелькиадес. – Доказано, что дьявол попахивает серой, а это просто легкий запах сулемы.
И в продолжение своих откровений он стал было рассказывать о дьявольских свойствах киновари, но Урсула, не слушая его, увела детей молиться Богу. Тошнотворный запах навсегда сольется в ее памяти с образом Мелькиадеса.
Примитивная лаборатория располагала, не считая множества котелков, воронок, реторт и фильтров, маленькой печью, стеклянной колбой с длинным горлышком (некоей имитацией «философского яйца») и дистиллятором, который смастерили сами цыгане, руководствуясь новейшими описаниями трехтрубного перегонного куба Марии Иудейской. Кроме всего прочего, Мелькиадес дал образцы семи металлов, соответствующих семи планетам; показал формулы Моисея и Зосимы для производства золота, оставил рисунки и заметки, раскрывающие секрет Великого осадка и позволяющие тому, кто в них разбирается, сотворить философский камень. Соблазненный простотой формулы получения золота, Хосе Аркадио Буэндия несколько недель и так и эдак подъезжал к Урсуле, чтобы она вытащила на свет Божий все свои золотые монеты и позволила приумножить их число на столько, на сколько капель можно разлить банку ртути. Урсула, как обычно, уступила бычьему упрямству мужа. Хосе Аркадио Буэндия бросает тридцать дублонов в тигель и, добавив медные опилки, аурипигменты, ртуть и свинец, все сплавляет воедино. Полученный слиток кидает в котел с касторовым маслом и кипятит на сильном огне до тех пор, пока масло не превращается в густое вонючее варево, по виду больше похожее на дешевое повидло, чем на драгоценный металл. После опасных и отчаянных опытов по выпариванию жидкости, по привариванию слитка к семи планетарным металлам, по его обработке герметической ртутью и купоросом и после повторной варки в свином сале – за неимением репейного масла – ценнейшее наследство Урсулы обратилось в кусок обугленной поджарки, намертво припекшейся ко дну котла.
Когда цыгане явились снова, Урсула уже успела настроить против них все селение. Но любопытство пересилило страх, ибо на сей раз цыгане остервенело били в бубны и барабаны, а глашатай возвещал о том, что будет выставлено напоказ самое удивительное открытие неких назианцев. И люди повалили к шатру, уплатили по сентаво, и пред ними предстал Мелькиадес – молодцеватый, подтянутый, гладколицый, с белыми блестящими зубами. Тех, кто помнил его изъеденные цингой десны, его ввалившиеся щеки и изжеванные губы, объял суеверный ужас перед этим неопровержимым доказательством сверхъестественных способностей цыгана. Ужас перешел в неописуемое изумление, когда Мелькиадес вытащил изо рта обе челюсти вместе с розовыми деснами и минуту махал ими перед публикой, на эту короткую минуту опять сделавшись потрепанным жизнью стариком, – затем вставил зубы на место и снова широко заулыбался в горделивом сознании своей возвращенной молодости. Даже сам Хосе Аркадио Буэндия подумал, что возможности Мелькиадеса граничат с всесилием сатаны, но на сердце у него полегчало, когда цыган открыл ему секрет вставных зубов. Это оказалось так просто, хотя выглядело так фантастично, что Хосе Аркадио Буэндия сразу же утратил всякий интерес к алхимическим опытам. Его снова одолела хандра, он потерял аппетит и с утра до вечера бесцельно бродил по дому. «В мире творятся невероятные вещи, – говорил он Урсуле. – Даже рядом, на другом конце низины, каких только нет чудесных придумок, а мы тут живем, как стадо ослов». Люди, знавшие его со времен основания Макондо, диву давались, как он изменился под воздействием Мелькиадеса.
Прежде Хосе Аркадио Буэндия был своего рода молодым патриархом, который указывал, когда сеять, советовал, как воспитывать детей и ухаживать за скотиной, и сам помогал другим, не чураясь тяжелой работы, чтобы в общине царили мир и порядок. Поскольку его дом был построен первым, да к тому же добротно и красиво, люди в поселке строили свои жилища по его образцу и подобию. В доме Буэндии была светлая и большая комната для гостей, столовая на террасе, увитой яркими цветами, две спальни, дворик-патио с гигантским каштаном, а возле дома – большой ухоженный огород и корраль, где мирно соседствовали козы, свиньи и куры. В этом доме, как, впрочем, и во всем селении, не держали только одну живность – бойцовых петухов.
В работе Урсула не отставала от мужа. Сноровистая, дотошная, основательная женщина с крепкими нервами, которая не ведала, что такое петь песни, и умела сразу поспевать всюду, с утра и до вечера шуршала в доме своими легкими полотняными юбками. Благодаря ей земляной пол, глинобитные стены, грубая самодельная мебель были идеально чисты, а старые лари, где хранилась одежда, источали слабый аромат альбааки.
Хосе Аркадио Буэндия, который был самым смекалистым человеком в поселке, предложил строить дома в таком порядке, чтобы всем было одинаково удобно спускаться к реке за водой, и так пробить улицы среди деревьев, чтобы в полуденный зной каждый дом не жарился бы на солнце больше, чем соседний. За несколько лет Макондо превратился в самый процветающий и благоустроенный поселок из всех тех, которые когда-либо видели его триста жителей. Это действительно был счастливый поселок, где никому еще не было больше тридцати и где еще никто не умирал. В годы основания Макондо Хосе Аркадио Буэндия стал мастерить клетки и силки. Очень скоро иволги, канарейки, малиновки и синицы заполонили не только его дом, но и все дома поселка. Разноголосые птичьи концерты всех доводили до одури, и Урсула затыкала себе уши пчелиным воском, чтобы от трезвона ум не зашел за разум. Когда в Макондо впервые объявились сородичи Мелькиадеса для продажи стеклянных шариков от головной боли, люди удивились, как это пришельцам удалось разыскать поселок, затерянный среди дремотных болот и лесов, и цыгане признались, что их сюда привел пронзительный птичий гомон.
Однако пристрастие Хосе Аркадио Буэндии к общественной деятельности как-то вдруг исчезло, уступив место магнитной лихорадке, астрономическим вычислениям, старанию изменить природу металлов и жажде познать чудеса света. Деятельный и аккуратный Хосе Аркадио Буэндия превратился в, казалось бы, никчемного, неряшливого человека с лохматой бородой, которую Урсула, прилагая немалые усилия, подрезала кухонным ножом. Кое-кто считал его жертвой черного колдовства. Но даже те, кто был уверен, что он не совсем в себе, бросили работу и дом и последовали за ним, когда он, положив на плечо топор с заступом, обратился к людям с призывом всем вместе пробить тропу из Макондо к великим мировым достижениям.
Хосе Аркадио Буэндия совершенно не разбирался в топографии местности. Он лишь знал, что на востоке тянется неприступная горная цепь, а по ту сторону гор лежит древний город Риоача, где в старые времена – как ему рассказывал его дед, первый Аурелиано Буэндия, – сэр Фрэнсис Дрейк любил стрелять из пушек по крокодилам, которых затем потрошили, подлатывали, набивали соломой и отправляли в дар королеве Елизавете. В юности Хосе Аркадио Буэндия и другие парни, забрав жен, скотину и домашний скарб, сумели перебраться через горы в поисках выхода к морю, но после более чем двухлетних скитаний отказались от своей затеи и основали Макондо, чтобы не тащиться обратно. Поэтому его совсем не манил путь на восток, который мог привести только в прошлое. К югу простиралась болотистая низина, покрытая вечнозеленым живым ковром, и эта необозримая топкая вселенная, по свидетельству цыган, действительно не имела пределов. На западе Великая топь сливалась с безграничной водной стихией, где водились китообразные русалки с нежной кожей, сводившие с ума мореплавателей своими соблазнительно неохватными грудями. Цыгане полгода плыли этим путем, пока достигли полоски твердой земли, где шагали почтовые мулы. По расчетам Хосе Аркадио Буэндии, единственную возможность пробиться к цивилизации давал путь на север. И он снабдил орудиями труда и охотничьими ружьями тех же мужчин, которые возводили Макондо, положил в котомку приборы ориентирования и карты, и отряд пустился в рискованную авантюру.
Первые дни не доставили особых забот. Путники дошли по каменистому берегу реки до того места, где несколько лет назад они наткнулись на старинные доспехи, и оттуда вступили в лес, прокладывая тропку в диких апельсиновых рощах. К концу первой недели убили и зажарили оленя, но съели только половину, а остальное мясо засолили впрок. Надо было по возможности отдалить тот день, когда придется есть синее мясо попугаев-гуакамайо, бьющее в нос мускусом. Затем более десяти дней они не видели солнца. Почва сделалась влажной и мягкой, как вулканический пепел; заросли становились одним сплошным коварством, в их гуще глохли крики птиц и визгливая болтовня обезьян, мир навсегда погружался в печаль. В этом не знавшем первородного греха раю тишины и сырости, где сапоги тонули в маслянистых дымящихся лужах, а мачете крошили золотистых саламандр и кровоточащие ирисы, людей одолевали воспоминания о давным-давно позабытом. Целую неделю шли они вперед, почти молча, как лунатики, сквозь вселенную мрака и скорби, где лишь слабо мерцали светляки, а грудь распирало удушливым духом гнили. Обратно не было хода, потому что прорубленная тропа почти на глазах опять зарастала зеленью. «Не страшно, – говорил Хосе Аркадио Буэндия. – Главное – не сбиться с намеченного пути». Строго следуя компасу, он упрямо вел своих людей к невидимому северу, пока наконец они не выбрались из заколдованных мест. Стояла темная беззвездная ночь, но темь была пропитана новым, свежим воздухом. Изнуренные долгим переходом люди повесили гамаки и впервые за две недели забылись глубоким сном. Когда они проснулись, солнце стояло уже высоко и открывало им совершенно невероятное зрелище. Прямо перед ними в окружении пальм и папоротников, поблескивая дымчатой белизной в тихом утреннем свете, возвышался громадный испанский галион. Корабль слегка накренился на правый борт, и с уцелевших высоких мачт свисали тощие обрывки парусов и увитые роскошными орхидеями снасти. Корпус в панцире из окаменевших моллюсков, расцвеченный бархатным мхом, навеки врос в твердь земную. Казалось, это сооружение стоит в собственном пространстве, в зоне забвения и одиночества, запретной и для капризов времени, и для птичьих гнездовий. Внутри галиона, жадно и тщательно обысканного людьми, не оказалось ничего, кроме непролазного витья цветов.
Встреча с кораблем – свидетельство близости моря – погасила душевное горение Хосе Аркадио Буэндии. Он думал, что его лукавая судьба снова зло над ним посмеялась, как тогда, когда, претерпев массу мук и лишений, он не нашел моря, которое искал, а теперь вдруг встретил это самое море, перекрывшее ему дорогу и ставшее неодолимой преградой на пути. Много лет спустя полковник Аурелиано Буэндия тоже окажется в этих местах, когда здесь пройдет уже обычный почтовый тракт, и увидит обгоревший корабельный остов посреди плантации красных маков. Лишь тогда он убедится, что эта история не была плодом фантазии отца, и спросит себя: «Каким образом галион мог очутиться так далеко от побережья?» Но Хосе Аркадио Буэндию отнюдь не волновал этот вопрос, когда он увидел море на пятый день пути, в двенадцати километрах от галиона. Рухнули его мечты у этой пепельно-серой, пенной и грязной воды, которая не стоила жертв и страданий пройденного пути.
– Мать твою! – вскричал он. – Макондо пропал! Вокруг – вода!
Убеждение в том что Макондо находится на полуострове, господствовало очень долго, основываясь на далеко не бесспорных данных карты, которую составил Хосе Аркадио Буэндия по возвращении из похода. Он нарочно преувеличил трудности прокладки дороги, вложив в чертеж всю злость на себя, словно в наказание за свою недальновидность при выборе места для поселка. «Нам отсюда вовек не вылезти, – жаловался он Урсуле. – Будем гнить тут заживо, не получая пользы от науки». Эта мысль, сверлившая ему мозг не один месяц в сарае-лаборатории, заставила его решиться на перенос Макондо в более удобное место. Но на сей раз Урсула успела помешать его бредовой затее. Трудясь тихо и упорно, как муравей, она настраивала женщин поселка против непостоянства мужчин, которые уже нацелились сменить один дом на другой. Хосе Аркадио Буэндия не заметил, с какого времени и благодаря каким вражьим козням его замыслы стали опутываться сетями сомнений, увиливаний и возражений, пока не превратились для всех в чистейшую мечту. Урсула с невинным видом наблюдала за мужем и в душе испытала даже некоторую жалость к нему, когда однажды утром заметила, как в своем сарае он, что-то бормоча под нос о переезде, укладывает лабораторные приборы в специальные ящики. Она дала ему закончить дело. Дала ему забить гвоздями ящики и на каждом начертить чернилами свои инициалы, не упрекнув его ни единым словом, но прекрасно зная, что и он знает (она это поняла, слушая его ворчливые монологи): мужчины не пойдут за ним из поселка. Лишь тогда, когда он начал снимать в сарайчике дверь с петель, Урсула решилась спросить его, зачем он это делает, и он ответил ей с долей горечи: «Раз никто не желает идти, мы уйдем вдвоем». Урсула пальцем не шевельнула.
– Мы никуда не пойдем, – сказала она. – Мы останемся здесь, потому что здесь у нас родился сын.
– Но у нас в семье еще никто не умер, – сказал он. – Человек – вольная птица, пока мертвец не свяжет его с землей.
Урсула возразила тихо, но твердо:
– Если надо, чтобы я умерла, лишь бы остаться здесь, я умру.
Хосе Аркадио Буэндия не верил в несгибаемость ее воли. Он попытался заворожить жену своей бурной фантазией, обещанием чудесной жизни в мире, где стоит лишь окропить землю волшебной жидкостью, чтобы всякий овощ и фрукт вызревал в мгновение ока и где за бесценок можно купить любое лекарство от всех болезней. Но Урсула не поддавалась его чарам ясновидца.
– Вместо того чтобы пороть чепуху, ты лучше бы занялся своими детьми, – отвечала она. – Посмотри на них, растут, как бурьян, по воле Господа Бога.
Хосе Аркадио Буэндия понял слова жены в буквальном смысле. Он взглянул в окно, увидел на солнечном огороде двух босоногих мальчишек, и ему почудилось, что они появились на свет только сейчас, рожденные вдруг упреком Урсулы. Что-то в нем дрогнуло, что-то необъяснимое и бесповоротное вырвало из настоящего времени и вернуло в непознанную область воспоминаний. Пока Урсула продолжала подметать полы в доме, который – теперь она была уверена – не оставит до конца жизни, Хосе Аркадио Буэндия растерянно глядел на мальчиков, и глаза его увлажнились; он отер веки тыльной стороной руки и издал глубокий вздох самоотречения.
– Ладно, – сказал он. – Пусть придут и помогут мне вытряхнуть вещи из ящиков.
Старшему из сыновей, Хосе Аркадио, исполнилось четырнадцать лет. У него была квадратная голова, взъерошенные волосы и упрямый норов отца. Но хотя он тоже обещал стать могучим мужчиной, сразу было заметно, что силы воображения у него маловато. Он был зачат и рожден во время труднейшего перехода через горы, еще до основания Макондо, и родители воздали хвалу Господу Богу, что ребенок вроде бы ничем не смахивает на звереныша. Аурелиано – второй сын – стал первым существом, родившимся в Макондо, и в этом марте ему исполнялось шесть лет. Он был тих и нелюдим. Заплакал еще во чреве матери и родился с открытыми глазами. Когда ему отрезали пуповину, он крутил головой, оглядывая вещи в комнате, и всматривался в лица людей с любопытством, но без всякого удивления. Потом, не обращая внимания на толпившихся вокруг него, уставился не моргая на кровлю из пальмовых листьев, которая вот-вот должна была рухнуть под напором страшного ливня. Урсула не вспоминала о силе его взгляда до того дня, когда маленький, трехлетний Аурелиано вошел на кухню, а она как раз в ту минуту сняла с огня и поставила на стол горшок с горячей похлебкой. Ребенок, застыв в смущении на пороге, произнес: «Сейчас упадет». Горшок стоял на самой середине стола, но, как только прозвучал голос мальчика, начал неудержимо скользить к краю, словно движимый внутренней энергией, грохнулся на пол. Урсула, испугавшись, рассказала об этом случае мужу, но тот лишь пожал плечами: явление вполне естественное. Отец всегда оставался безучастным и равнодушным к жизни своих сыновей, отчасти потому, что считал детство периодом умственной неполноценности, отчасти потому, что всегда был целиком поглощен собственными химерическими затеями.
Но с того дня, когда Хосе Аркадио Буэндия позвал сыновей помочь ему вынуть из ящиков лабораторные приборы, он стал посвящать им очень много времени. В уединенной пристройке, стены которой постепенно затягивались фантастическими картами и диковинными рисунками, он учил их читать и писать, производить сложение и вычитание, рассказывал им о чудесах света – не только известных ему самому, но и порожденных его мощным воображением. Таким образом дети узнали, что на южной оконечности Африки живут миролюбивые и радушные люди, единственное занятие которых – сидеть и предаваться думам, и что Эгейское море можно перейти посуху, прыгая с острова на остров вплоть до порта Салоники. Эти удивительные рассказы так запечатлелись в памяти детей, что многие годы спустя, перед самым расстрелом, стоя в ожидании команды офицера правительственных войск «Взвод, товьсь, пли!», полковник Аурелиано Буэндия вдруг снова перенесется в тот теплый мартовский день, когда отец, прервав урок физики, застынет на месте с поднятой рукой и остановившимся взглядом, прислушиваясь как зачарованный к далеким звукам флейт, бубнов и барабанов, возвещавших о прибытии в поселок цыган, которые покажут новейшие и поразительные открытия мудрецов Мемфиса.
Это были уже другие цыгане. Молодые мужчины и женщины, говорившие только на своем языке, великолепные экземпляры с лоснящейся от масел кожей и сноровистыми руками. Их музыка и танцы разливали на улицах головокружительное веселье, их радужные попугаи хрипло пели итальянские романсы, а курица несла до сотни золотых яиц без отдыха под аккомпанемент бубна, а ученая обезьяна угадывала мысли, а механическая мельница одновременно пришлепывала пуговицы к одежде и ветерком сгоняла жар при лихорадке, а какой-то насос вытягивал из сердца горькие воспоминания; был там и пластырь, к которому липло потерянное время, и еще тысяча всяких вещей, таких сногсшибательных и необычных, что Хосе Аркадио Буэндии захотелось изобрести машину памяти, чтобы ни о чем не забывать. В мгновение ока цыгане перевернули всю жизнь поселка. Обитатели Макондо блуждали как потерянные, не узнавая своих улиц, где царило ярмарочное светопреставление.
Таща детей за руки, чтобы не потерять их в сумятице, натыкаясь то на жулика с золотой броней на зубах, то на жонглера о шести руках, задыхаясь и одуревая от запахов навоза и сандала, распространяемых толпой, Хосе Аркадио Буэндия шарахался из стороны в сторону в поисках Мелькиадеса, чтобы тот помог ему разобраться в тьме-тьмущей тайн этого феерического кошмара. Он обращался ко многим цыганам, но они не понимали его языка.
Наконец он очутился на том месте, где Мелькиадес обычно ставил свой шатер, но нашел там только меланхоличного цыгана из Армении, который по-испански рекламировал напиток, превращающий человека в невидимку. Цыган только что осушил рюмку какой-то янтарной жидкости, когда Хосе Аркадио Буэндия ринулся к нему, расталкивая жаждущих чуда завороженных зевак, и успел задать ему свой вопрос. Тот объял его рассеянным удивленным взглядом и превратился в лужу вонючей клубящейся смолы, над которой воспарил отзвук слов: «Мелькиадес умер». Хосе Аркадио Буэндия стоял как вкопанный, стараясь осмыслить услышанное, освоиться с горем, пока люди не рассеялись в поисках нового чудодейства, а лужа, оставшаяся от меланхоличного армянина, не выгорела до последней капли. Позже другие цыгане подтвердили, что Мелькиадес погиб от желтой лихорадки в прибрежных топях Сингапура, а его тело брошено в море у берегов Явы в самом глубоком месте. Детей не тронула эта новость. Они приставали к отцу, чтобы он показал им диво дивное мудрецов из Мемфиса, о чем гласила надпись над входом в один из шатров, который, как говорили, принадлежал когда-то царю Соломону. Дети так теребили отца, что Хосе Аркадио Буэндия заплатил тридцать реалов и повел их в шатер, где великан с бритым черепом и волосатым торсом, с медным кольцом в носу и тяжелой цепью на щиколотке охранял большой пиратский сундук. Когда великан открыл крышку, из сундука дохнуло холодом. Внутри лежала одна большая прозрачная глыба, сплошь пронизанная иглами, падая на которые сумеречный свет дробился на мириады многоцветных звезд. Смутившись, зная, что дети ждут разъяснений, Хосе Аркадио Буэндия нерешительно пробормотал:
– Это самый большой в мире бриллиант.
– Нет, – возразил цыган. – Это лед.
Хосе Аркадио Буэндия, ничего не поняв, потянулся к глыбе, желая ее потрогать, но великан отвел его руку. «За это еще пять реалов», – сказал он. Хосе Аркадио Буэндия уплатил деньги, опустил пальцы на лед и держал их так несколько минут, а его сердце наполнялось страхом и восторгом от приобщения к тайне. Не говоря ни слова, он отдал еще десять реалов, чтобы его сыновья познали неописуемо странное ощущение. Хосе Аркадио-младший не захотел. Аурелиано, напротив, шагнул вперед, протянул руку, но сразу же ее отдернул. «Оно жжется!» – воскликнул мальчик в испуге. Но отец его не слышал. Потрясенный реальностью чуда, он в тот момент не помнил ни о крахе своих сумасбродных планов, ни о теле Мелькиадеса, брошенном на съедение спрутам. Он заплатил еще пять реалов, положил ладонь на лед, как на Библию, и, словно давая клятву в суде, произнес:
– Это самое великое творение нашего времени.
Когда пират Фрэнсис Дрейк в XVI веке ударил по Риоаче, прабабушка Урсулы Игуаран так оробела при звуке тревожного набата и пушечных выстрелов, что ноги у нее с перепугу подкосились и она села на раскаленную печку. И от ожогов навсегда перестала быть исправной женой. Сидеть она могла только на правой ягодице или на мягких подушках, и с походкой у нее, наверное, что-то стряслось, потому что на людях она не вставала с места. Перестала общаться с родными и близкими, вбив себе в голову, что от нее пахнет жареным мясом. Часто она сидела в патио до зари, боясь войти в дом и уснуть, потому что ей представлялось, как англичане со своими свирепыми псами врываются через окно в спальню и жгут ей срамные места каленым железом. Ее муж, торговец из Арагона, с которым она прижила двух сыновей, истратил уйму денег на лекарства и врачевание, чтобы избавить ее от страхов и терзаний. В конце концов он закрыл лавку и увез семью подальше от моря к склонам гор, в деревню мирных индейцев, где построил для жены дом со спальней без единого окошка, чтобы к ней не влезали пираты из ее кошмарных снов.
В этой далекой деревушке с давних пор жил креол дон Хосе Аркадио Буэндия, который выращивал табак. Прадед Урсулы вошел к нему в дело, оказавшееся столь доходным, что оба за десяток лет нажили состояние. Несколько веков спустя праправнук креола женился на праправнучке арагонца. И всякий раз, когда Урсуле становилось тошно от мужниных сумасбродств, она вмиг забывала про эти триста лет со всеми их перипетиями и проклинала именно тот час, когда Фрэнсис Дрейк пошел на штурм Риоачи. Но, сказать по правде, она всего лишь облегчала душу, потому что супругов связывали неразрывные, более крепкие, чем любовь, узы: общие угрызения совести. Они были двоюродными братом и сестрой. Вместе выросли в старозаветной деревушке, которую их предки своим трудом и долготерпением превратили в одно из процветающих селений провинции.
Хотя этот брак был предрешен с момента появления обоих на свет, их же собственные родители пытались им помешать, когда они выразили желание пожениться. Родителей одолевал страх, что эти пышущие здоровьем отпрыски двух столетиями варившихся в своем соку родов, к стыду обеих семей, будут производить на свет хвостатых существ. Один такой ужасающий случай уже был. Тетка Урсулы, породнившаяся с дядей Хосе Аркадио Буэндии, родила сына, который всю жизнь носил широкие обвислые штаны и умер от потери крови сорока двух лет невинным, как младенец, потому что родился и вырос с хрящеватым, скрученным в штопор хвостиком, у которого на конце была еще и кисточка. Да, со свиным хвостиком, поглядеть на который не довелось ни одной женщине и который стоил ему жизни, потому что его другу мяснику вздумалось отхватить эту завитушку топором.
Хосе Аркадио Буэндия с беззаботностью своих девятнадцати лет решил проблему одной фразой: «Пусть хоть поросята рождаются, лишь бы не хрюкали, а говорили». Они поженились, на свадьбе три дня гремела музыка и в небе лопались огненные хлопушки. И жить бы им в мире и радости, если бы мать Урсулы не запугала ее всякими жуткими предсказаниями о потомстве и не добилась бы того, что дочь отказалась жить с мужем по-людски. Боясь, что могучий и своевольный супруг станет насиловать ее во сне, Урсула надевала на ночь нечто вроде панталон, сшитых матерью из холстины, перехваченных вдоль и поперек ремнями и запиравшихся на животе массивной железной застежкой. Так прожили молодые не один месяц. Днем он натаскивал своих бойцовых петухов, а она вышивала с матерью на пяльцах. Ночью же они часами изматывали друг друга в неистовом единоборстве, которое вроде бы стало им заменять любовный акт, но народ почуял недоброе, и пошли гулять слухи, будто Урсула после года замужества все еще ходит в девственницах, потому как муж ее ни на что не годен. Дошла сплетня и до Хосе Аркадио Буэндии.
– Слышишь, Урсула, что люди-то говорят? – бесстрастно спросил он жену.
– А пусть языком болтают, – сказала она. – Мы же знаем, что это не так.
И все продолжалось, как было, еще шесть месяцев, до того злополучного воскресенья, когда петух Хосе Аркадио Буэндии в клочья разнес петуха Пруденсио Агиляра. Вне себя от проигрыша, увидев своего любимца в луже крови, Пруденсио Агиляр выскочил на середину круга и, повернувшись к Хосе Аркадио Буэндии, крикнул, чтобы все слышали:
– Поздравляю! Может, этот твой петух наконец ублажит твою жену!
Хосе Аркадио Буэндия преспокойно взял на руки своего петуха.
– Я сейчас вернусь, – сказал он зрителям. И добавил, кивнув Пруденсио Агиляру: – А ты иди домой за оружием, потому что сейчас я тебя убью.
Через десять минут он вернулся с увесистым копьем, хорошо послужившим еще его деду. У ворот арены для петушиных боев, где собралось полдеревни, его ждал Пруденсио Агиляр. Но не успел он и глазом моргнуть, как копье Хосе Аркадио Буэндии, запущенное с бычьей силой и с той невероятной меткостью, с какой Аурелиано Буэндия Первый бил когда-то здешних ягуаров, продырявило ему горло. Этой же ночью на кругу для петушиных боев люди бдели у изголовья покойника, а Хосе Аркадио Буэндия вошел в спальню и увидел, как жена натягивает на себя панталоны целомудрия. Нацелив на нее копье, он приказал: «Скинь». Урсула ни на секунду не усомнилась в решительных намерениях мужа. «За все будешь в ответе сам», – буркнула она. Хосе Аркадио Буэндия всадил копье в земляной пол.
– Родишь игуан, станем растить игуан, – сказал он. – Но в этой деревне из-за тебя больше не будет покойников.
Стояла короткая июньская ночь, прохладная и лунная, они не спали и до рассвета били смертным боем деревянную кровать, не замечая ветра, гулявшего по комнате, тяжелого от слез родственников Пруденсио Агиляра.
Ссора, по общему мнению, закончилась поединком чести, но супругам не давали покоя угрызения совести. Как-то ночью Урсуле не спалось, она вышла в патио попить воды и увидела возле глиняной бадьи Пруденсио Агиляра. Он был страшно бледный, очень грустный и старался куском пакли заткнуть дырку на шее. Урсула испытала не страх, а жалость к нему. Вернувшись в комнату, она рассказала мужу об увиденном, но он только рукой махнул. «Мертвецы не разгуливают по свету, – сказал он. – Вся беда в том, что нас замучила совесть». Спустя две ночи Урсула снова увидела Пруденсио Агиляра, который в банном сарае смывал мочалкой запекшуюся на шее кровь. Потом наступила ночь, когда она увидела его на дворе в струях дождя. Хосе Аркадио Буэндия, раздосадованный галлюцинациями жены, вышел в патио, вооружившись копьем. Там стоял мертвец, печальный, как всегда.
– Сгинь, сучий сын! – взревел Хосе Аркадио Буэндия. – Попробуй еще прийти, я снова убью тебя.
Пруденсио Агиляр не сгинул и не получил удара копьем. Хосе Аркадио Буэндия не отважился, но с тех пор потерял сон и покой. Его терзали воспоминания о безысходном отчаянии, о глубокой тоске по миру живых, светившейся во взгляде мертвеца, который высовывался из дождя или метался по дому в поисках воды, чтобы смочить кусок пакли.
«Очень он мается, бедный, – говорила Урсула супругу. – Жуть, как ему одиноко».
Ей было так его жаль, что, увидев, как мертвец заглядывает в горшки на очаге, она сразу поняла, чего ему надо, и стала расставлять для него миски с водой по всему дому. Однажды ночью Хосе Аркадио Буэндия увидел, как мертвец обтирает свою рану в его спальне, и не выдержал.
– Ладно, Пруденсио, – сказал он. – Мы уйдем из этой деревни хоть на край света и никогда сюда не вернемся. А ты успокой свою душу.
Вот так и начался их долгий переход через горы. Несколько друзей Хосе Аркадио Буэндии, таких же молодых, как он, загорелись желанием познать неведомое, побросали свои дома и, взяв с собой жен и детей, пошли искать землю, отнюдь не обетованную.
Перед уходом Хосе Аркадио Буэндия закопал свое копье в патио и отрубил головы своим великолепным бойцовым петухам, веря, что таким образом он уймет муки Пруденсио Агиляра. Урсула взяла с собой только узел с подвенечным убором, немного домашней утвари и сундучок с золотыми монетами, завещанными ей отцом. Никто не знал, каким путем идти. Надумали отправиться совсем в другую сторону от Риоачи, чтобы и свои следы замести, и знакомых не встретить. Поход оказался зряшной затеей. Спустя четырнадцать месяцев, страшно взбучив живот обезьяньим мясом и похлебками из змеи, Урсула родила сына со всеми положенными человеку частями тела. У нее сильно распухли ноги, а вены лопались, как пузыри. Половину пути она проделала в гамаке, подвешенном к шесту, который тащили на плечах двое мужчин. Хотя и на детей с их вздутыми животами и ввалившимися щеками было грустно смотреть, они переносили трудности пути легче, чем родители, и не переставали с интересом глазеть по сторонам.
Однажды утром, после почти двух лет скитаний, эти люди стали первыми смертными, увидевшими западный склон горной цепи. С подоблачной выси они смотрели на огромную болотную низину, на неохватную топь, распластавшуюся до другого конца земли. К морю они так и не вышли. Как-то ночью, проблуждав несколько месяцев по тряской низине, позабыв, когда в последний раз встречали индейцев на своем пути, маленький отряд разбил лагерь на берегу речки с каменистым дном, бурливо несшей прозрачные холодные воды. Через много лет, во времена второй гражданской войны, полковник Аурелиано Буэндия тоже попытается пробиться с этой стороны, чтобы врасплох захватить Риоачу, но на шестой день пути поймет, что это безумие. Несмотря на все невзгоды, когда отряд остановился на ночлег у реки, а сподвижники отца полковника имели вид потерпевших кораблекрушение, их было числом не меньше, а много больше, чем до похода, и все они собирались (как это и случилось) умереть в весьма преклонном возрасте. Хосе Аркадио Буэндии в ту ночь приснилось, что в этом месте вознесся шумный город с зеркальными стенами домов. Он спросил, что это за город, и услышал название, ему не ведомое, не имевшее смысла, но во сне прозвучавшее колокольным звоном, – Макондо. На следующий день он убедил своих людей, что до моря им никогда не дойти. Приказал валить деревья, чтобы очистить землю у реки, где жара не так тяжела, и там они заложили поселок.
Хосе Аркадио Буэндия не мог понять, зачем ему приснились дома с зеркальными стенами, до того дня, когда он увидел лед. Тогда ему и подумалось, что он разгадал тайный смысл сновидения. Ему представилось, что в недалеком будущем можно будет наделать массу ледяных глыб из такого вездесущего материала, как вода, и построить для всех в поселке новые жилища. Макондо больше не придется жариться на солнце, которое плавит и сгибает задвижки и скобы, и поселок станет прохладнейшим в мире городом. И если Хосе Аркадио Буэндия не оседлал своего нового конька, не стал строить фабрику льда, то лишь потому, что в ту пору серьезно увлекся образованием сыновей, главным образом – Аурелиано, в котором сразу же обнаружился незаурядный талант алхимика. Лаборатория снова ожила. Перечитывая заметки Мелькиадеса, теперь уже вдумчиво, без былой спешки, они вместе долго и терпеливо возились у чана, стараясь выделить золото Урсулы из черного слитка, припаявшегося ко дну. Хосе Аркадио-младший почти не участвовал в их занятиях. Пока отец душой и телом отдавался своей печке, его норовистый первенец, который всегда выглядел старше своего возраста, вымахал в здорового парня. Говорил он хриплым баском. Темный пушок появился над верхней губой и на подбородке. Как-то вечером Урсула вошла к нему в комнату, когда он перед сном скидывал одежду, и испытала сперва смущение, а затем жалость к нему: после мужа она впервые видела нагого мужчину, да к тому же сын был так мощно оснащен для жизни, что она сочла это уродством. Урсула ожидала третьего ребенка, и ее снова охватили страхи, которые она испытывала после свадьбы.
Тем временем в дом Урсулы зачастила резвая, разбитная, говорливая женщина, которая помогала ей по хозяйству и умела гадать на картах. Урсула рассказала ей про сына, про один его невиданный размер, какого у людей наверняка быть не должно, как, скажем, свиного хвостика у ее брата. Женщина взорвалась звонким дребезжащим смехом, словно обрушила на дом лавину битого стекла. «Наоборот, – сказала она, – это принесет ему счастье». Чтобы подтвердить свои слова, вещунья принесла через несколько дней карты и заперлась с Хосе Аркадио в маленькой кладовке возле кухни. Женщина, что-то бормоча, неспешно раскидывала карты на старом верстаке, а юнец стоял рядом со скучающим видом. Вдруг ее рука протянулась и ощупала его. «Ну и ну!» – только и смогла выдохнуть она в искреннем изумлении. Хосе Аркадио почувствовал, что кости у него стали легче пены, грудь сжал томительный страх, и очень захотелось плакать. Женщина больше до него не дотрагивалась. Но Хосе Аркадио всю ночь искал ее в легком запахе гари, которым несло от ее подмышек и который растекся по всей его коже. Ему хотелось все время быть с ней, хотелось, чтобы она была его матерью, чтобы они никогда не выходили из кладовки и чтобы она говорила ему «ну и ну!» и снова бы его щупала и говорила «ну и ну!». Наконец, он не выдержал и пошел к ней в гости. Во время визита чувствовал себя скованно и глупо и сидел в комнате как воды в рот набрав. В эти минуты он ее не хотел. Она виделась ему не такой, совсем не похожей на ту, которая источала тот запах, здесь она была совершенно другой. Хосе Аркадио выпил кофе и ушел в полном расстройстве. Ночью в часы бессонницы на него снова накатило зверское желание, но теперь он хотел не ту, что была в кладовке, а ту, которая сидела с ним нынешним вечером.
Через несколько дней эта женщина ни с того ни с сего позвала Хосе Аркадио к себе домой и увела из комнаты, где была ее мать, в спальню, якобы показать ему карточный фокус. Там она щупала его так напористо, что, сначала вздрогнув от удовольствия, он испытал вдруг разочарование, а потом даже страх. Она пригласила его к себе этой ночью. Он обещал прийти, больше от растерянности, нежели из любопытства. Но, когда наступила ночь, в жаркой постели он понял, что все равно пойдет к ней, даже сам того не желая. Он оделся не глядя, слыша в потемках ровное дыхание брата, сухой кашель отца в соседней комнате, кряхтенье кур с патио, звенящий стон москитов, барабанную дробь своего сердца и другие неуемные шумы жизни, никогда и нигде им не замечаемые. Хосе Аркадио вышел на спящую улицу. Он всей душой желал, чтобы дверь была заперта на засов, а не просто прикрыта, как было обещано. Но дверь оказалась незапертой. Он толкнул ее кончиками пальцев, петли так зловеще и громко скрипнули, что у него похолодело внутри. Едва он вошел, протиснувшись боком и стараясь не шуметь, его окутал тот самый запах. Он остановился в комнатушке, где трое братьев женщины спали в гамаках, которые были подвешены неизвестно где и как, – в темноте было не разобрать, – и ему ничего не оставалось, как прокрасться на ощупь до двери в спальню, а там, войдя, угадать, куда повернуться, чтобы не ошибиться кроватью. Прокрался и вошел. Но сначала наткнулся на веревки, потому что гамаки висели ниже, чем можно было предвидеть, и один из мужчин, оборвав свой храп, во сне перевалился на другой бок и сказал с некоторым сожалением: «Прошла среда». Когда он сунулся в спальню, дверь – что поделать? – чиркнула низом по земляному полу. И тут, в полнейшей тьме, его охватила безысходная тоска: он не знал, куда ступить. В узкой комнатушке спали мать, вторая дочь с мужем и двумя детьми и женщина, которая, возможно, его и не ждала. Он мог бы идти на запах, если бы этот запах не разносился по всему дому, такой неопределенный и в то же время такой узнаваемый, свой, как своя кожа. Он долго и тихо стоял на месте, скованный леденящей беспомощностью, когда вдруг чья-то растопыренная пятерня, шарившая во тьме, прикоснулась к его лицу. Он не удивился, потому что невольно ждал этого прикосновения. И доверился невидимой руке. В состоянии полной подавленности дал довести себя до какого-то непонятного ложа, где с него стащили одежду, свалили наземь, как мешок картошки, ворочали с боку на бок в бездонной тьме, где у него было много рук, где уже пахло не женщиной, а нашатырем и где он старался вспомнить ее лицо, а видел лицо Урсулы, с трудом соображая, что делает то, что ему давно хотелось сделать, но никогда не представлялось, что он сможет это сделать; не зная, как это вдруг получается, потому что не знал, где у него ноги, где голова, чьи это ноги, чья это голова, и был уже больше не в силах сносить холодное шуршание своей поясницы, и вздохи своих кишок, и страх, и только испытывал жуткое желание бежать и в то же время хотел навсегда остаться в этой ожесточенной тиши и в этом страшном одиночестве.
Ее звали Пилар Тернера. Ей пришлось участвовать в знаменитом исходе, который завершился основанием Макондо, но ушла она не по своей охоте, а по воле родителей, хотевших оторвать дочь отчеловека, который изнасиловал ее, четырнадцатилетнюю, и продолжал наведываться к ней еще восемь лет, но никак не решался вязать себя семьей, потому что был он человек непутевый. Обещал разыскать ее хоть на краю света, но немного позже, когда уладит все свои дела, а она все ждала и уже видела его в других мужчинах, высоких и коренастых, блондинах и брюнетах, которых посылали к ней карты – по суше и по морю, через три дня, или через три месяца, или через три года. Ожидание отнимало у нее силу чресел, упругость груди, мечту о ласке, но нетерпение плоти осталось прежним. Обалдевший от чудесной забавы Хосе Аркадио каждую ночь пробирался к ней по лабиринту клетушек. Как-то раз входная дверь оказалась запертой, но он стучал и стучал, решив, что, если хватило смелости стукнуть туда в первый раз, теперь надо, хоть тресни, но достучаться, и действительно, она открыла дверь. Днем сон почти валил его с ног, но втайне он наслаждался мыслями о прошедшей ночи. Однако когда она приходила к ним – болтливая, беспечная вертихвостка – ему не надо было унимать волнение крови, ибо эта женщина, чей взрывчатый смех заставлял вспархивать голубей, не имела никакого отношения к той неведомой силе, которая принуждала его хватать ртом воздух, не выдыхая, и рвала сердце из груди, и открыла ему, отчего мужчины страшатся смерти. Он был так занят своими ощущениями, что даже не понял причину всеобщего ликования, когда его отец и младший брат сотрясли стены дома криками о том, что им удалось раздробить металлический слиток и выковырнуть золото Урсулы.
В самом деле, после долгих и утомительных манипуляций они добились успеха. Урсула была счастлива и даже воздала хвалу Господу за существование алхимии, а жители городка старались протиснуться в лабораторию, возле которой их угощали лепешками с повидлом из гуаявы во имя свершившегося чуда, а Хосе Аркадио Буэндия показывал всем плошку с крупинками золота, словно он сам его создал. Удовлетворив общее любопытство, он наконец оказался лицом к лицу со своим старшим сыном, который в последнее время почти не заглядывал в лабораторию. Отец поднес к его глазам сухую желтоватую массу и спросил: «Что это, а?» Хосе Аркадио чистосердечно ответил:
– Дерьмо. Собачье.
Отец ударил его тыльной стороной руки по губам так, что у парня брызнули сразу и слезы, и кровь. Ночью Пилар Тернера делала ему примочки из арники, ловко орудуя в темноте пузырьком и ватой, а потом выполнила все, что ему хотелось, очень искусно и заботливо, постаравшись «так любить, чтобы охоту не отбить». Они достигли уже такой стадии близости, что через какое-то время невольно заговорили друг с другом тихим шепотом.
– Я хочу быть только с тобой, – заявил он. – Скоро расскажу всем и обо всем, и хватит по углам хорониться.
Она ему не противоречила.
– Хорошо бы, – отвечала она. – Когда будем одни, зажжем лампу, чтобы видеть друг друга, и я смогу кричать так, как захочется, и никто нос не сунет, а ты будешь говорить мне на ухо всякие сладкие гадости, все, что надумаешь.
Такие разговоры, сверлящая душу обида на отца и грядущая дозволенность тайной любви придавали ему храбрости и самоуверенности. Неожиданно, без колебаний, он про все рассказал младшему брату.
Сначала малыш Аурелиано понял только то, что брат подвергает себя немыслимо страшным испытаниям и неизвестно ради какого удовольствия. Но мало-помалу он заражался волнениями Хосе Аркадио. Его стали интересовать мельчайшие подробности, он научился испытывать мучительное томление и минуты блаженства, ощущал страх и счастье. Аурелиано ждал брата до рассвета, вертясь в одиночку на кровати как на раскаленных углях, а затем они разговаривали, не смыкая глаз, до того часа, когда уже пора вставать, а потому днем их постоянно одолевала сонливость, оба испытывали одинаковое презрение к алхимии и отцовской премудрости и искали уединения. «Бродят как очумелые, – говорила Урсула. – У мальчишек глисты, не иначе». Она приготовила тошнотворный чай из резаной пижмы, который они оба выпили с неожиданным мужеством, а позже в одно и то же время садились на горшки по одиннадцать раз на день, вытаскивали из кала розоватых червей и показывали всем с превеликой радостью, ибо таким образом удавалось обхитрить Урсулу, которую озадачивал их упадок сил и отсутствующий взгляд. Аурелиано уже не только многое понимал, но и пытался вжиться в ощущения брата. Однажды, когда тот подробно объяснял ему механику любви, он его прервал вопросом: «А самому тебе как?» Хосе Аркадио, не задумываясь, ответил:
– Как во время землетрясения.
В один из четвергов января около двух часов ночи родилась Амаранта. До того как люди вошли в комнату, Урсула тщательно ее осмотрела. Девочка была скользкая и вертлявая, как ящерка, но выглядела нормальным человеческим детенышем. Аурелиано узнал новость только тогда, когда дом заполнился народом. Воспользовавшись суматохой, он бросился искать брата, которого не было в постели с одиннадцати вечера, и в своем порыве даже не успел сообразить – как же он будет вытаскивать Хосе Аркадио из постели Пилар Тернеры? Несколько часов кружил он у ее дома, свистя на все лады, пока первые лучи солнца не заставили его вернуться. В комнате матери с самым невинным видом строил рожи крохотной сестренке его братец Хосе Аркадио.
Урсула провела в мире и покое дней сорок после родов, когда снова пришли цыгане. Те же самые трюкачи и мошенники, которые показывали лед. В отличие от сородичей Мелькиадеса они выступали не как носители прогресса, а просто как торгаши-лицедеи. Уже тогда, показывая лед, они не говорили о его полезных для жизни свойствах, а являли обычное цирковое чудо. На этот раз, среди прочих любопытных вещей, они представили обитателям Макондо летающее одеяло. Но отнюдь не как серьезный вклад в развитие транспортных средств, а как увеселительную забаву. Тем не менее народ вытряс последнее золотишко, чтобы насладиться минутным полетом над крышами городка. Под крылом упоительной безнаказанности в дни всенародной вакханалии Хосе Аркадио и Пилар Тернера тоже чувствовали себя на седьмом небе. Они были счастливые жених и невеста в веселом кипении толпы и даже стали подумывать, что любовь – это вроде бы чувство более степенное и глубокое, чем сумасшедшее, но скоротечное блаженство их тайных ночей. Пилар, однако, разом покончила с волшебством. Умилившись восторгом, который испытывал Хосе Аркадио в ее обществе, она приняла видимое за подлинное и обрушила вселенную на его бедную голову.
– Теперь ты – настоящий мужчина, – сказала она. А поскольку он не понял, что это должно означать, она повторила медленно и внятно: – У тебя будет сын.
Несколько дней подряд Хосе Аркадио боялся высунуть нос из дому. Стоило ему услышать на кухне трели хохотуньи Пилар, как он сломя голову бросался в лабораторию, где с благословения Урсулы возродились алхимические опыты.
Хосе Аркадио Буэндия раскрыл объятия блудному сыну и приобщил его к поискам философского камня, к которым наконец приступил. Однажды днем братья обомлели при виде летающего одеяла, прошуршавшего мимо окна лаборатории; полет направлял цыган, а сидевшие с ним рядом местные ребятишки бодро махали им рукой, но Хосе Аркадио Буэндия даже не оглянулся. «Пусть тешатся, – сказал он. – Мы будем летать лучше их, по-научному, не на этой половой тряпке».
Несмотря на свой видимый интерес, Хосе Аркадио так и не сумел понять, какой же мощью людей наделяет «философское яйцо», которое казалось ему просто уродливой колбой. Он никак не мог отделаться от тягостных мыслей. Лишился сна и аппетита, впал в уныние, совсем как отец после какого-нибудь неудачного начинания, и так сильно он переживал, что сам Хосе Аркадио Буэндия выгнал его из лаборатории, полагая, что сын слишком близко к сердцу принимает алхимию. Аурелиано, конечно, понимал, что меланхолия брата вызвана отнюдь не поисками философского камня, но никак не мог вызвать того на откровенность. Старший брат не сыпал, как бывало, признаниями. Доверительность и разговорчивость сменились скрытностью и враждебностью. Ищущий одиночества, злящийся на весь белый свет, он однажды ночью вскочил по привычке с кровати, но побежал не к Пилар Тернере, а ринулся в балаганное веселье. После того как он нагляделся на всяческие хитрые штуковины, не проявив интереса ни к одной из них, он вдруг уставился на нечто совсем иное: на юную цыганку, почти девочку, сплошь увешанную бусами и такую красавицу, каких Хосе Аркадио еще в жизни не видывал. Она стояла в толпе, наблюдавшей печальное зрелище – человека, который превратился в змею за то, что ослушался своих родителей.
Хосе Аркадио больше никого и ничего не замечал. Пока на сцене шел допрос с пристрастием бедного человека-змеи о его грехах, он, действуя локтями, добрался до первого ряда, где стояла цыганка, и встал позади нее. Прижался грудью к ее спине. Девочка попыталась отстраниться, но Хосе Аркадио сильнее навалился на нее. Тогда она его почувствовала. Замерла, вздрогнув от неожиданности и страха, еще не веря себе, и наконец взглянула на него вполоборота с боязливой улыбкой. В эту минуту цыгане запихнули человека-змею в клетку и уволокли в шатер. Цыган, распорядитель действа, заявил:
– А теперь, сеньоры, мы покажем вам страшную казнь женщины, которой будут отрубать голову каждый вечер в этот самый час в течение ста пятнадцати лет за то, что она видела то, чего видеть не смела.
Хосе Аркадио и девочка не стали глядеть на обезглавливание. Они прошли к ней в шатер, где стали вдруг яростно целоваться и сбрасывать с себя одежду. Цыганка скинула свои фальшивые лифчики, свои бесчисленные юбки с накрахмаленными кружевами, свой несуразный проволочный корсет и тяжелые нити бус, и от нее практически ничего не осталось. Щуплый лягушонок с пуговками грудей и с тонкими ногами, тоньше рук Хосе Аркадио. Однако упорства и страсти ей было не занимать. Но Хосе Аркадио не мог отвечать тем же, так как они лежали в своего рода общем шатре, куда цыгане заходили за разными цирковыми атрибутами и по всяким делам и даже усаживались рядом с кроватью бросить игральные кости. Лампа, висевшая на центральном шесте, освещала шатер. В один из перерывов между ласками Хосе Аркадио вытянулся голым на кровати, не зная, что ему делать, хотя девочка не уставала его теребить. Тут в шатер вошли цыганка с сочными телесами и какой-то мужчина – не из цыганских комедиантов, но и не из города, – и оба начали раздеваться прямо перед кроватью.
Женщина невольно скользнула взглядом по телу Хосе Аркадио и в немом восхищении уставилась туда, где дремал его величественный зверь.
– Мальчик! – воскликнула она. – Да сохранит тебе его Бог в целости и невредимости!
Подружка Хосе Аркадио попросила оставить их в покое, и пришедшая пара устроилась на полу, возле самой кровати. Их страсть влила желание в Хосе Аркадио. При первом же его броске кости девушки будто рассыпались – с таким же дробным стуком, – как горсть брошенных фишек домино, и ее кожа растворилась в бледном поту, и глаза наполнились слезами, и все ее тело испустило жалобный стон и легкий запах болота. Но она выдерживала прямые попадания с поразительной стойкостью и мужеством. И Хосе Аркадио вдруг почувствовал, что вознесся в блаженстве на облаках, откуда из его души хлынул поток нежнейшего сквернословия, которое вливалось в уши девушки, и те же слова срывались у нее с языка, но на ее цыганском наречии. А в ночь на субботу Хосе Аркадио повязал голову красным платком и ушел с цыганами.
Когда Урсула его хватилась, она обыскала весь городок. На месте цыганских шатров нашла лишь кучи мусора да тлеющие головешки в погасших кострах. Кто-то, ворошивший отбросы в поисках блестящей мишуры, сказал Урсуле, что вчера вечером видел, как ее сын в шумной толпе трюкачей вез тележку с клеткой человека-змеи. «Подался к цыганам!» – крикнула она мужу, который ничуть не встревожился исчезновением старшего сына.
– Хотя бы и так, – сказал Хосе Аркадио Буэндия, продолжая толочь в ступке нечто, тысячу раз толченое и каленое и снова попавшее под пестик. – Научится быть мужчиной.
Урсула разузнала, куда ушли цыгане. По дороге расспрашивала каждого встречного и, веря, что еще успеет их нагнать, уходила от города все дальше и дальше, пока не осознала что зашла так далеко, что не имеет смысла возвращаться. Хосе Аркадио Буэндия обнаружил пропажу жены лишь к восьми вечера, когда, поставив колбу греться в навозе, пошел посмотреть, почему маленькая Амаранта охрипла от рева. За час он сколотил и вооружил отряд, отдал Амаранту женщине, предложившей покормить ее грудью, и бросился протаптывать тропы вслед за Урсулой. Аурелиано ушел с ним. Рыбаки-индейцы, язык которых был им непонятен, на рассвете знаками показали, что никого не видели. На третий день бесплодных исканий отряд вернулся в Макондо.
Несколько недель Хосе Аркадио Буэндия ходил как в воду опущенный. Он по-матерински заботился о маленькой Амаранте. Купал и пеленал ее, носил по четыре раза на день к кормилице и даже пел ей по ночам песни, которые Урсула никогда бы ей не спела. Как-то раз Пилар Тернера предложила ему помочь по хозяйству до возвращения Урсулы. Но Аурелиано, чья непостижимая интуиция еще более обострилась в беде, при виде нее вдруг будто прозрел. Какое-то шестое чувство ему подсказало, что именно она повинна во внезапном бегстве брата и в исчезновении матери, и встретил ее молча, но с такой свирепой неприязнью, что женщина больше не приходила.
Время все вернуло на круги своя. Хосе Аркадио Буэндия и его младший сын, сами не ведая как и когда, снова очутились в лаборатории, смахнули пыль с приборов, разожгли в печи огонь и принялись терпеливо колдовать над веществом, уже долго томившимся в гнезде из навоза. Даже Амаранта, уложенная в корзину из ивовых прутьев, с любопытством взирала на увлеченных своей работой отца и брата в комнатушке, пропитанной парами ртути. Однажды, спустя несколько месяцев после ухода Урсулы, начали происходить странные вещи. Пустая бутыль, давно стоявшая в шкафу, стала такой тяжелой, что ее невозможно было оторвать от пола. Вода в кастрюле, поставленной на рабочий стол, продолжала кипеть без огня еще с полчаса, пока не выкипела до дна. Хосе Аркадио Буэндия и его младший сын наблюдали эти явления с затаенным восторгом, не зная, как их объяснить, но воспринимая как знаки неведомой субстанции. В один прекрасный день ивовая корзина с Амарантой сорвалась с места и облетела комнату, к изумлению Аурелиано, который бросился за ней вдогонку. Но отец и бровью не повел. Схватил ивовую колыбель и привязал к ножке стола в полной уверенности, что теперь непременно случится то, чего они ждут не дождутся. Именно тогда Аурелиано услышал такие его слова:
– Если не боишься Бога, бойся металлов.
Нежданно-негаданно, через пять месяцев после своего исчезновения, вернулась Урсула. Она явилась возбужденная, помолодевшая, в новых одеждах, какие в городе не шили. Хосе Аркадио Буэндию от радости чуть удар не хватил. «Вот оно! – кричал он. – Я знал, что это случится!» И он действительно верил именно в это, потому что в своем упорном затворничестве, возясь с земной материей, он в глубине души желал, чтобы ожидаемым чудом оказалось не сотворение философского камня, не оживление металлов магическим дуновением, не умение обращать в золото домашние задвижки и петли, а то, что теперь произошло, – возвращение Урсулы. Но она словно бы и не замечала его искреннего восторга. Наградила беглым поцелуем, будто отсутствовала час-другой, и сказала:
– Пойди-ка посмотри.
Хосе Аркадио Буэндия вышел из дому и обомлел, увидев на улице толпу людей. Это были не цыгане. Это были такие же мужчины и женщины, как он сам, гладковолосые и светлолицые, говорящие на его языке и страдающие от тех же невзгод. Они привели с собой мулов, навьюченных припасами, и быков с повозками, нагруженными стульями и столами, сковородками и ведрами – чистыми и немудреными предметами домашнего быта, которые можно купить у любого торговца земной обиходностью. Они пришли с той стороны низины, где давно уже выросли большие селения, всего-то в двух днях ходу от Макондо, но куда доставляли почту каждый месяц и привозили всякую полезную всячину. Урсула не догнала цыган, но нашла путь, который не разглядел ее муж, ослепленный феерическими мечтами о великих свершениях.
Сын Пилар Тернеры попал в дом своих предков двух недель от роду. Урсула приняла его скрепя сердце, опять подчинившись воле упрямого мужа, который мысли не мог допустить, чтобы его отпрыск, родной внук, ел чужой хлеб, но, уступив, она настояла на том, чтобы от мальчика скрыли его истинное происхождение. Хотя ему дали имя Хосе Аркадио, вскоре, во избежание недоразумений, стали звать просто Аркадио. В ту пору жизнь в Макондо кипела, у семьи Буэндия прибавилось домашних забот и хлопот, и воспитание детей отошло на второй план. Им в няньки взяли Виситасьон, индианку-гуахиро, которая пришла в поселок вместе со своим братом, унося ноги от страшной болезни – бессонницы, изводившей ее соплеменников уже несколько лет подряд. Брат и сестра были услужливы и трудолюбивы, и Урсула пригласила их для всяких работ по дому. Аркадио и Амаранта заговорили на языке гуахиро раньше, чем на испанском, и стали охотно есть похлебку из ящериц и паучьи яйца, прежде чем Урсула это заметила, увлекшись доходной торговлей леденцовыми зверушками. Макондо изменил свое обличье. Люди, пришедшие сюда с Урсулой, пустили слух о его удачном расположении у края болотистой низины и о плодородии здешних земель, и потому когда-то скромный поселок быстро превратился в оживленный городок с лавками и ремесленными мастерскими, связанный с внешним миром торговым путем, по которому прибыли первые арабы в туфлях-шлепанцах и с серьгами в ушах, менявшие стеклянные ожерелья на попугаев-гуакамайо. Хосе Аркадио Буэндия не знал ни минуты покоя. Окунувшись в действительность, которая теперь казалась ему более фантастичной, чем необъятный мир собственного воображения, он потерял всякий интерес к алхимической лаборатории, дав передышку подопытной материи, изнуренной его манипуляциями, и снова стал, как в молодости, безудержно деятельным человеком, который решал, где пробивать дороги и ставить новые дома, да так, чтобы никто не оставался в обиде и не имел крупных выгод. Он приобрел большой вес среди новоселов, никто не закладывал фундамент и не ставил изгородь, не посоветовавшись с ним, и в его распоряжение отдали раздел земель. Когда снова приехали трюкачи-цыгане со своими ярмарочными балаганами, превращенными теперь в настоящие игорные дома на колесах, их встретили с радостью, потому что ждали возвращения и Хосе Аркадио. Но Хосе Аркадио не вернулся, не было с ними и человека-змеи, который, как полагала Урсула, только один и мог рассказать о сыне, и цыганам не было позволено остановиться в городке и вообще сюда заглядывать, ибо теперь их стали считать носителями разврата и пороков. Однако Хосе Аркадио Буэндия недвусмысленно дал понять согражданам, что для древнего племени Мелькиадеса, внесшего огромный вклад в развитие поселка своей тысячелетней мудростью и диковинными новшествами, ворота Макондо всегда будут открыты. Увы, племя Мелькиадеса, по рассказам бродяг и прочих странников, было стерто с лица земли за то, что преступило пределы человеческих познаний.
Укротив на какое-то время неуемное буйство своей фантазии, Хосе Аркадио Буэндия в короткий срок научил жителей Макондо уважать порядок и труд, разрешив себе только раз проявить своеволие: велел выпустить на свободу всех певчих птиц, которые после основания Макондо возвещали о ходе звезд веселым щебетаньем, и на место клеток поставить во всех домах музыкальные часы.
Это были изумительные часы из полированного дерева, которые выменивались у арабов на попугаев-гуакамайо и которые Хосе Аркадио так точно отрегулировал, что каждые полчаса поселок взбадривался новой музыкальной фразой из одного и того же вальса, а в полдень все часы весело отзванивали в унисон эту мелодию целиком. Именно Хосе Аркадио Буэндия решил тогда же высаживать на улицах поселка миндальные деревья вместо акаций, и именно он, так и не раскрыв никому своего секрета, догадался, каким образом сохранить эти деревья вечно живыми. Пройдет много лет, Макондо станет огромным скопищем деревянных домов, крытых цинковым железом, а вдоль его самых старых улиц еще будут торчать изломанные и запыленные миндали, и никто не будет знать, кто и когда их посадил. Пока его отец наводил порядок в поселке, а его мать старалась крепить благополучие семьи, поспевая делать уйму соблазнительных леденцовых рыбок и петушков, которые дважды в день верхом на бальсовых палочках вырывались из кухни на улицы, Аурелиано часами сидел в заброшенной лаборатории, осваивая для собственного удовольствия ювелирное мастерство. Он так быстро вытянулся, что штаны, доставшиеся от брата, сделались ему коротки, и пришлось надевать отцовские вещи, хотя Виситасьон всегда ушивала ему рубахи и сужала брюки, потому что Аурелиано было далеко до мощной комплекции отца и брата. Юношеский возраст лишил мелодичности его голос, а самого сделал молчаливым и совсем одиноким, но зато вернул ему тот пронзительный взгляд, которым он всех поражал еще в младенчестве. Аурелиано был так поглощен ювелирным делом, что с трудом выбирался из лаборатории в часы трапезы. Обеспокоенный его затворничеством Хосе Аркадио Буэндия дал ему ключи от дома и немного денег, полагая, что ему нужна женщина. Но Аурелиано истратил деньги на соляную кислоту для приготовления царской водки, а ключи взял и позолотил. Однако странности его поведения и в сравнение не шли с тем, что вытворяли Аркадио и Амаранта, у которых уже выпадали молочные зубы, а они день-деньской не отлипали от индейцев и не желали говорить по-испански, обожая язык гуахиро. «Не удивляйся, – говорила Урсула мужу. – Дети наследуют сумасбродство родителей». И когда она однажды проклинала свою судьбу, неколебимо веря в то, что все замеченные у ее потомства странные отклонения так же ужасны, как свиной хвостик, Аурелиано вперил в нее взор, заставивший ее похолодеть.
– Сюда кто-то идет, – сказал он.
Урсула, как всегда, попыталась противопоставить его предсказаниям свое кухонное здравомыслие. Вполне естественно, что кто-то сюда идет. Десятки разных людей проходят каждый день через Макондо, и никто ни на кого не глядит и не разносит благую весть. Однако, вопреки всякому здравому смыслу, Аурелиано продолжал твердить одно и то же:
– Не знаю кто, – повторял он, – но этот человек уже в дороге.
В самом деле, в воскресенье явилась Ребека. Ей было лет одиннадцать. Она проделала тяжелый путь в Макондо из Манауре с торговцами кожей, которые согласились доставить ее вместе с письмом в дом Хосе Аркадио Буэндии, но так и не сумели объяснить, что за человек попросил их об этой услуге. Весь ее багаж состоял из сундучка с одеждой, небольшой размалеванной яркими цветами колыбели-качалки и брезентовой сумки, в которой что-то глухо постукивало: «клуп-клуп», – в ней девочка, того не зная, притащила кости своих родителей. Письмо, адресованное Хосе Аркадио Буэндии, было теплым и ласковым и написано кем-то, кто сердечно любит его, невзирая на время и расстояние, и кто, движимый обычным человеческим состраданием, вверяет его заботам бедную обездоленную сироту, которая приходится Урсуле троюродной сестрой, а также родственницей Хосе Аркадио Буэндии, хотя еще более дальней, ибо она – дочь незабвенного Никанора Ульоа и его досточтимой супруги Ребеки Монтьель, коих Господь Бог взял на небеса и чьи останки прилагаются к этому посланию, дабы их погребли по-христиански. Упомянутые имена и подпись в конце письма были написаны разборчиво, но ни Хосе Аркадио Буэндия, ни Урсула не имели понятия о таких своих родственниках и никогда не слышали имени отправителя письма, тем более жившего в предалеком селении Манауре. От девочки невозможно было добиться никаких разъяснительных сведений. Войдя в дом, она тут же уселась на свою качалку, сунула палец в рот, вылупила на всех большие испуганные глаза и не подавала признаков жизни, о чем бы ее ни спрашивали. На ней было потертое платьице из перекрашенной в черное диагонали и поношенные лаковые ботинки. Два пучка волос, торчавшие за ушами, были перевязаны черными лентами. На шее висела ладанка с выцветшими от пота святыми талисманами, а на правом запястье болтался медный обруч с зубом какого-то хищного зверя – амулет от сглаза. Зеленоватый цвет лица, вздутый и тугой, как барабан, живот говорили о слабом здоровье и о голоде, родившихся раньше нее, но когда ей дали тарелку с едой, тарелка замерла у нее на коленях, а к еде она не притронулась. Можно было подумать, что девочка – глухонемая, но когда индейцы спросили ее на своем языке, не хочет ли она водички, она уставилась на них, будто вдруг их узнала, и мотнула головой в знак согласия.
Ее пришлось приютить, ничего другого не оставалось. Решили назвать Ребекой, как, судя по письму, звалась ее мать, потому что Аурелиано прочитал ей вслух от начала и до конца все святцы, но она не отозвалась ни на одно из имен. Поскольку тогда в Макондо не было кладбища, ибо там еще никто не успел умереть, сумку с костями хранили дома за неимением места для ее достойного погребения и прятали по самым темным закоулкам, а она снова появлялась там, где меньше всего ее ожидали встретить, и нудно кудахтала – «клуп-клуп», – как курица на яйцах. Прошло немало времени, прежде чем Ребека прижилась в доме. Обычно она садилась на свою качалку и сосала палец где-нибудь на задворках. Ничто не выводило ее из оцепенения, кроме музыкальных часов, и когда каждые полчаса они начинали играть, она со страхом озиралась, словно музыка летела с небес. Иногда она по нескольку дней не ела. Никто не мог понять, как ей удается не умереть с голоду, пока слуги-индейцы, все видевшие и все слышавшие, тихо и непрерывно шныряя по дому, не открыли, что Ребека с охотой утоляет аппетит сырой землей из патио и кусочками известки, которые она отколупывает ногтем от стены. Было ясно, что родители или няньки наказывали ее за эту привычку, так как она добывала свои лакомства втайне от всех, видимо, зная, что это – плод запрещенный, и прятала их, чтобы затем поесть в свое удовольствие. С тех пор с нее не спускали глаз. Разливали в патио коровью желчь и натирали стены жгучим красным перцем, надеясь таким способом отучить Ребеку от странной склонности, но она проявила столько находчивости и хитрости в раздобывании чистой земли, что Урсула была вынуждена прибегнуть к более действенным средствам. Она смешала апельсиновый сок с настоем из ревеня, вынесла кастрюлю на ночь под росу, а утром дала Ребеке выпить натощак это снадобье. Хотя Урсуле никто не говорил, что именно такое питье навсегда отбивает губительное желание есть землю, она полагала, что любая сильная горечь на пустой желудок заставит печень заработать в полную силу. Несмотря на свой дохлый вид, Ребека сопротивлялась так остервенело и упорно, что ее связали, как бычка, и постарались влить лекарство в рот, хотя она отчаянно брыкалась, плевалась и кусалась, и притом ухитрялась нести какую-то абракадабру, которая, по словам возмущенных индейцев, оказалась самым крепким ругательством, какое смог породить язык гуахиро. Узнав об этом, Урсула не поскупилась на жестокую порку. Трудно было сказать, что принесло успех – питье или битье или оба средства вместе, – но факт остается фактом: не прошло и двух недель, как Ребека стала подавать признаки выздоровления. Она участвовала в играх Аркадио и Амаранты, которые видели в ней старшую сестру, и уплетала за столом все, что давали, без труда пользуясь ножом и вилкой. Скоро обнаружилось, что она говорит по-испански так же бегло, как на языке индейцев, и что, при желании, все умеет делать, и что она мило напевает песенку собственного сочинения на музыку вальса часов. Таким образом семья Буэндия увеличилась еще на одного члена. Урсулу Ребека любила так сильно, как ту не любили и собственные сыновья, и называла Аркадио и Амаранту братиком и сестричкой, Аурелиано – дядей, Хосе Аркадио Буэндию – дедушкой. В конце концов девочка стала зваться, как они все – Буэндия, и это имя, Ребека Буэндия, единственное, что всегда было с ней и чем она дорожила до самой смерти.
Однажды ночью, когда Ребека уже излечилась от дурной привычки есть землю и ей позволили спать в общей детской, индианка Виситасьон, спавшая там же вместе с детьми, случайно проснулась и услышала в углу странное непрерывное чмоканье. Она в тревоге вскочила, думая, что в спальню пробрался какой-нибудь зверек, и вдруг увидела Ребеку в ее качалке с пальцем во рту. Глаза у девочки светились в темноте, как у кошки. Оцепенев от ужаса, от новой встречи со своим злым роком, Виситасьон поняла: она видит в этих глазах блеск той болезни, которая грозила ей и ее брату на родине и заставила их навсегда покинуть древнее царство и царственную семью. Этой заразной хворью была бессонница.
Индеец Катауре больше ни ночи не оставался в Макондо. Его сестра Виситасьон осталась, ибо ее суеверное сердце говорило ей, что смертельный недуг все равно пойдет за ней по пятам и от него нигде на земле не укрыться. Волнений индианки не понимал никто. «Не будем спать? Тем лучше, – говорил с довольным видом Хосе Аркадио Буэндия. – Продлим себе жизнь». Но Виситасьон объяснила им, что самое страшное в бессонной болезни не то, что нельзя сомкнуть глаз, – ведь тело не устает, – а то, что в конце концов человек предает забвению всех и вся. Она объяснила, что, когда заболевший привыкает к бдению ночью и днем, из его памяти начинают сначала стираться воспоминания детства, потом забываться имена и названия вещей и, наконец, он перестает различать людей, не помнит, кто он сам, и впадает в своего рода маразм, навсегда расставаясь с воспоминаниями о прошлом. Хосе Аркадио Буэндия, чуть не лопнув со смеху, сказал, что речь идет не иначе как об одном из той тьмы злосчастий, которых боятся суеверные индейцы. Но Урсула на всякий случай не стала подпускать Ребеку к другим детям.
По прошествии нескольких недель, когда страхи Виситасьон, казалось, улеглись, Хосе Аркадио Буэндия однажды ночью весь извертелся в постели, но так и не смог заснуть. Урсула тоже не спала и спросила, что с ним, а он ответил: «Да вот, опять думаю о Пруденсио Агиляре». Сон не сморил их ни на минуту, но на следующий день они чувствовали себя так бодро, что забыли о бессонной ночи. Аурелиано с удивлением заметил, придя к завтраку, что голова свежа и ясна, хотя всю ночь напролет он золотил в лаборатории брошь, которую хотел подарить Урсуле ко дню рождения. Двое суток никто не тревожился, однако на третьи сутки, когда пора было идти спать, но никто и не думал о сне, вдруг все сообразили, что они не спят уже пятьдесят часов.
– Дети тоже спать не хотят, – сказала индианка, убежденно веря в судьбу. – Если такая беда входит в дом, никто не убережется.
И действительно, люди заболели бессонной болезнью. Урсула, знавшая от своей матери о целительных свойствах растений, сделала снадобье из аконита и заставила всех выпить, но никто не уснул, хотя днем все будто видели сны наяву. В состоянии яркой полудремоты можно было увидеть не только то, что предстает перед тобой, но и то, что грезится другим. Дом словно кишел людьми. Ребеке, затаившейся на кухне в своей качалке, чудилось, что человек, очень похожий на нее, в белом льняном костюме, в рубашке с воротничком, застегнутым на одну золотую запонку, протягивает ей букет роз. Около него женщина с холеными руками берет одну розу и прикалывает к волосам девочки. Урсула догадалась, что мужчина и женщина – родители Ребеки, но, как ни старалась, не смогла припомнить их лица и пришла к заключению, что никогда их не видела. А в это время, по недосмотру Хосе Аркадио Буэндии, который потом не мог себе такого простить, в городишке шла, как всегда, бойкая торговля леденцовыми фигурками их домашнего приготовления. Дети и взрослые с наслаждением сбрасывали вкусных петушков бессонницы, хрупких розовых рыбок бессонницы и нежных желтых коньков бессонницы, и так вышло, что зарю понедельника все население встретило, забыв о сне. Сначала никто не встревожился. Напротив, люди были рады, что сон пропал, так как дел тогда в Макондо было без числа, без счета и времени на все едва хватало. Работали с таким рвением, что скоро стало уже нечего делать и к трем часам утра люди сидели сложа руки и считали ноты в вальсе часов. Те, кто хотел подремать, не от усталости, а от тоски по сновидениям, всячески старались довести себя до полного изнеможения. Они болтали без умолку, перебивая друг друга, рассказывали до обалдения одни и те же старые анекдоты, участвовали в шутейном действе про белого бычка, а если все молчали, рассказчик говорил, что он просил не молчать, а сказать, хотят ли они слушать сказку про белого бычка, и никто не мог уйти, потому что рассказчик говорил, что он не просил уходить, а лишь ответить, хотят ли они слушать сказку про белого бычка, и так без конца, все ночи напролет, загнав себя в порочный круг пустопорожних фраз.
Когда Хосе Аркадио Буэндия понял, что поветрие распространилось по всему городку, он собрал отцов семейств и рассказал им все, что знал о бессонной болезни, и было решено принять меры, чтобы помешать заразе перекинуться на соседние селения. Тогда сняли с коз колокольца, которые выменивали у арабов на попугаев, и при входе в Макондо вешали их на шею тем, кто, невзирая на добрый совет и предупреждения стражи, непременно хотел войти в городок. Пришлый люд, бродивший в ту пору по улицам Макондо, должен был колокольчиком уведомлять больных, что идет здоровый человек. Пришельцам не давали ни есть, ни пить во время пребывания в городке, ибо никто не сомневался, что зараза передается только через рот и что всякая еда и питье заражены бессонной болезнью. Таким образом эпидемия ограничилась одним Макондо. Карантин оказался таким действенным, что в один прекрасный день все стали воспринимать чрезвычайное положение как жизнь вполне естественную, которая вошла в свою колею, работа снова наладилась, и никто не вспоминал о никчемной привычке спать.
Можно ли было подумать, что именно Аурелиано найдет способ надолго уберечь сограждан от провалов памяти. Открытию помог счастливый случай. Аурелиано, одним из первых поддавшийся бессоннице, в совершенстве овладел ювелирным искусством. Однажды он искал маленькую наковальню, которой пользовался для ковки металла, и не мог вспомнить, как она называется. Отец напомнил: «опора». Аурелиано написал название на клочке бумаги и приклеил к наковальне: «опора». Теперь он был уверен, что всегда будет знать это слово. Ему и не представлялось, что это было лишь первым симптомом опасного осложнения, ибо специальный термин не грех и забыть. Но несколько дней спустя он обнаружил, что никак не может припомнить названия почти всех остальных лабораторных предметов. Тогда он прилепил на них нужные наклейки, и стоило только взглянуть на ярлык, как сразу делалось понятно, что это за штука. Когда отец с тревогой сказал ему, что забыл почти все, даже самые сильные впечатления детства, Аурелиано сообщил ему о своем методе, и Хосе Аркадио Буэндия стал навешивать ярлыки на все домашние вещи, а потом ввел эту практику и во всем городке. Он взял чернила и пометил кисточкой каждый предмет: «стол», «стул», «часы», «дверь», «стена», «кровать», «кастрюля». Пошел в корраль и разрисовал всех животных и растения: «корова», «козел», «свинья», «курица», «маниока», «банан», «маланга». Мало-помалу, отдавая должное беспредельным возможностям забвения, он понял, что может наступить день, когда, знакомясь с вещами по названиям, не будешь знать, для чего они предназначены. Тогда он стал давать краткие, но доходчивые объяснения. Дощечка с надписью, повешенная им на шею корове, может служить типичным примером того, как жители Макондо пытались бороться с забывчивостью: «Это – корова, ее надо доить каждое утро, чтобы иметь молоко, а молоко надо кипятить вместе с кофе, чтобы получился кофе с молоком». Так они жили в ускользающей действительности, которая на мгновение останавливалась словами, чтобы тут же бесследно исчезнуть, как только забудется смысл написанного.
У дороги при выходе из городка поставили столб с указанием: «Макондо», а на главной улице поставили другой, больших размеров, с уведомлением: «Бог существует». Во всех домах имелись списки обозначений предметов и чувств. Однако эта система требовала такого внимания и напряжения, что многие поддались магии воображаемой действительности, ими самими сотворенной, что приносило мало пользы, зато освобождало от всяких хлопот. Привычке к такого рода самообольщению немало содействовала Пилар Тернера, навострившаяся читать по картам прошлое, как прежде читала будущее. Таким образом, лишенные сна люди стали жить в мире, построенном на туманных карточных представлениях, где родной отец виделся неким темноволосым человеком, приезжавшим в начале апреля, а мать – какой-то белокурой женщиной с золотым кольцом на левой руке, и где день рождения вспоминался только как последний вторник, когда пел жаворонок на лавровом дереве. Убитый такими методами примирения с жизнью, Хосе Аркадио Буэндия решил построить машину памяти, такую, как тогда, когда хотел удержать в голове все чудеса цыган. Замысел состоял в том, чтобы каждое утро можно было бы припоминать все то, от начала до конца, чему научился и что познал в течение всей жизни. Это должен был быть вращающийся словарь, страницы которого проходили бы перед глазами человека, который стоит перед осью барабана и, крутя ручку, за час-другой получает необходимые на сегодня знания. Он успел уже написать около сорока тысяч карточек для словаря, когда по дороге со стороны болотистой низины к Макондо притащился изможденный старик, волоча пузатый, перевязанный веревками чемодан и толкая тележку, накрытую черным тряпьем. Грустно позвякивая колокольчиком, мол, я из тех, кто тоже может заснуть, старец направился прямо к дому Хосе Аркадио Буэндии. Виситасьон, открыв дверь, его не узнала и подумала, что явился бродячий торговец, не знающий, что ничего не продают и не покупают в городке, который целиком поглотила забывчивость. Старик был очень дряхл. Но, хотя его голос тоже с опаской подрагивал, а руки, казалось, сомневались в существовании вещей, было видно, что он пришел из того мира, где люди еще могли спать и помнить. Хосе Аркадио Буэндия вышел в залу к гостю, где тот сидел, обмахиваясь видавшей виды черной шляпой, и с сочувственным вниманием читал ярлычки, наклеенные на стены. Хозяин приветствовал гостя с любезной почтительностью, боясь, что, возможно, знал его когда-то и позабыл. Но гость уловил фальшь. Он почувствовал, что забыт и что было это не преходящее беспамятство сердца, а забвение иного рода, более жестокое и необратимое, которое он уже знал, – забывчивость смерти. И он понял, как поступить. Раскрыл чемодан, набитый барахлом, и вытащил оттуда сундучок, наполненный флаконами. Дал выпить Хосе Аркадио Буэндии какое-то снадобье светлого цвета, и у того вдруг прорезалась память. Ослепительная вспышка радости увлажнила ему глаза слезами раньше, чем он увидел себя в идиотской комнате, где все вещи имели ярлычки с названиями; раньше, чем он устыдился всех благоглупостей, начертанных на стенах, и даже раньше, чем узнал пришедшего. А пришел Мелькиадес.
Макондо праздновал возвращение воспоминаний, Хосе Аркадио Буэндия и Мелькиадес стряхивали пыль со своей старой дружбы. Цыган был намерен здесь поселиться. Он действительно побывал за порогом смерти, но возвратился назад, ибо не мог стерпеть одиночества. Отвергнутый своим племенем, лишенный колдовского могущества в наказание за свою приверженность к жизни, он решил найти прибежище на той пяди земли, куда еще не ступала смерть, и посвятить себя искусству дагерротипии.
Хосе Аркадио Буэндия слыхом не слыхивал об этом изобретении. Но когда он увидел себя самого и всех своих домочадцев на веки вечные оттиснутыми на посеребренной металлической пластине, ему стало не по себе. Именно к этому времени относится помутневший дагерротип, с которого сурово и ошарашенно смотрит Хосе Аркадио Буэндия с растрепанными седыми волосами и в рубашке со стоячим воротничком на одной медной запонке. Урсула, давясь смехом, назвала мужа «струхнувшим генералом». В самом деле, Хосе Аркадио Буэндия немало испугался в то ясное декабрьское утро, когда было сделано его дагерротипное изображение, так как ему подумалось, что люди станут хиреть и чахнуть, если их образ будет переходить на металлические пластинки. Как ни удивительно, но на сей раз Урсула горой встала за изобретение и выбила дурь из головы мужа. Она также перечеркнула свое былое неприятие Мелькиадеса и решила, что он будет жить у них в доме, хотя строго-настрого запретила делать ее дагерротип, ибо (по ее собственным словам) не хотела стать посмешищем в глазах внуков. Тем же самым утром она нарядила детей в лучшую одежду, напудрила им лица и дала по ложке варева из мозговых костей, чтобы они были в силах простоять не шевелясь почти две минуты перед величавой фотокамерой Мелькиадеса. На этом единственном семейном отпечатке, который когда-либо существовал, изображен Аурелиано в черном бархатном костюме между Амарантой и Ребекой. У него был такой же безразличный вид и тот же пронзительный взгляд ясновидца, как много лет спустя под дулами ружей перед расстрелом. Но тут он еще не предчувствовал подобного оборота событий. Он был просто искусный умелец, которого ценили и уважали во всей округе за тонкую ювелирную работу. В мастерской, где приютилась и шумливая лаборатория Мелькиадеса, его совсем не было слышно. Аурелиано, казалось, затаился где-то в иных мирах, тогда как его отец и цыган во весь голос комментировали предсказания Нострадамуса под звон бутылей и посуды или стенали над пролитой кислотой и бромистым серебром, загубленным в возне и толкотне. Такая приверженность своей работе, умелое ведение своих дел вскоре позволили Аурелиано зарабатывать больше денег, чем приносила Урсуле ее сладкая леденцовая фауна, но всех удивляло то, что, будучи уже вполне самостоятельным мужчиной, он не обзавелся женщиной. В самом деле – женщины у него не было.
Спустя несколько месяцев снова пришел Франсиско Человек, старый бродяга лет под двести, который часто забредал в Макондо и пел сложенные им самим песни. В них Франсиско Человек с мельчайшими подробностями повествовал обо всем, что происходило в селениях на пути его следования, от Манауре до самых окраин болотистой низины, и таким образом, если кто-то хотел кому-то что-нибудь сообщить или о чем-то оповестить, старцу платили два сентаво и он включал послание в свой репертуар. Так Урсула узнала о смерти своей матери, совершенно случайно, когда слушала песни, надеясь что-нибудь услышать о своем сыне Хосе Аркадио. Франсиско Человек, прозванный так потому, что победил самого дьявола в состязании певцов, слагающих песни на глазах у публики, и чье настоящее имя не знал никто, не появлялся в Макондо во время эпидемии бессонницы и вдруг как-то вечером неожиданно объявился в заведении Катарины. Все от мала до велика пришли послушать о том, что творится на белом свете. На этот раз с ним прибыли две женщины: одна, столь толстая, что ее несли на носилках, как в колыбели, четыре индейца, другая – юная мулатка робкого вида, державшая над толстухой зонтик от солнца. В тот вечер Аурелиано тоже пошел в заведение Катарины. Франсиско Человек стоял, словно высеченный из камня ящер, в толпе любопытных. Он пел новости старческим сиплым голосом, подыгрывая себе на том самом древнем аккордеоне, который ему подарил в Гвиане сэр Уолтер Рэли, и пристукивая в такт своими большими, разъеденными селитрой ступнями вечного странника. У двери в заднюю комнату, куда на время один за другим входили мужчины, молча сидела, обмахиваясь веером, матрона, прибывшая в открытом паланкине. Катарина, с войлочным цветком за ухом, подносила посетителям чашки с перебродившей тростниковой водкой и пользовалась каждым удобным случаем, чтобы прижаться к мужчинам и положить руку туда, куда не следует. К полуночи жара стала нестерпимой. Аурелиано прослушал все новости до конца, но ничего интересного для семьи не услышал. Он уже собрался уходить, когда матрона махнула ему рукой.
– Ты тоже войди, – сказала она. – Всего-навсего двадцать сентаво.
Аурелиано бросил монету в кружку, стоявшую на коленях матроны, и вошел в комнатку сам не зная зачем. Совсем юная мулатка, голая, с сучьими сосочками грудей, лежала на кровати. До Аурелиано этим вечером через комнату прошли шестьдесят три мужчины. Загустевший от непрестанного употребления, отсыревший от пота и сапа воздух в комнате стелился грязным облаком. Девочка сдернула мокрую простыню и попросила Аурелиано взяться за другой конец. Простыня была тяжелой, как из мешковины. Они ее выкручивали и выжимали, держа за концы, пока она не стала значительно легче. Потом перевернули матрац, промокший насквозь. Аурелиано страстно желал, чтобы приготовления никогда не кончались. Он знал теоретическую механику любви, но покачивался на подгибавшихся коленках и, хотя плоть топорщилась и горела, он не смог удержаться, чтобы не разрядить тугой, напрягшийся живот. Когда девочка привела постель в порядок и велела ему раздеться, он стал бормотать что-то невразумительное в свое оправдание: «Меня заставили войти. Мне сказали – брось двадцать сентаво в кружку и не задерживайся». Девочка поняла его замешательство. «Ничего, если бросишь при выходе еще двадцать сентаво, можешь и задержаться», – мягко сказала она. Аурелиано разделся, сгорая от стыда, мучаясь мыслью, что его нагота ни в какое сравнение не идет с наготой его брата. Вопреки всем стараниям девочки, на него неотступно надвигались безучастность и страшное одиночество. «Я брошу еще двадцать сентаво», – проговорил он в отчаянии. Девочка молча и благодарно кивнула. Спина у нее была стерта до крови. Кожа прилипала к ребрам, а прерывистое дыхание выдавало полнейшее изнеможение. Два года тому назад, далеко-далеко отсюда, она заснула, не погасив свечу, и проснулась в сплошном огне. От дома, где она жила с вырастившей ее бабкой, осталась горсть пепла. С тех пор бабка таскала ее из одного поселка в другой и укладывала в постель за двадцать сентаво, чтобы возместить стоимость спаленного дома. По подсчетам девочки, ей осталось еще десять лет по семьдесят мужчин в ночь, так как надо было еще оплачивать путевые издержки, питание их обеих и труд индейцев, тащивших ее толстую бабушку. Когда матрона-бабушка вторично постучала в дверь, Аурелиано вышел из комнаты, ничего не совершив, чуть не плача. Всю ночь он не мог заснуть, думая о девочке и жалея ее. Ему страшно хотелось любить ее и защищать. К рассвету он совсем извелся от бессонницы и томления и всерьез решил жениться на ней, чтобы освободить от бессердечной бабушки и самому получать каждую ночь все то наслаждение, которое получали семь десятков мужчин. Но, подойдя в десять утра к заведению Катарины, он узнал, что девушка уже ушла из Макондо.
Со временем он остыл и бросил думать о своих нелепых намерениях, но ощущение полного провала сделалось острее. Он искал забвения в работе. Покорился своей участи быть мужчиной без женщины, лишь бы не прошел слух о его бесславных потугах. Меж тем Мелькиадес отобразил на своих пластинках все, что можно было отобразить в Макондо, и отрекся от своей дагерротипии в пользу бредового замысла Хосе Аркадио Буэндии, который решил использовать это изобретение для научного доказательства существования Бога. Он не сомневался, что путем сложных разноракурсных комбинаций многих снимков, сделанных в самых разных местах дома, ему удастся рано или поздно уловить образ Бога, если он есть, или раз и навсегда покончить с разговорами о всяком его присутствии. Мелькиадес увяз в толкованиях Нострадамуса. До поздней ночи сидел он, с трудом дыша в тисках своего выцветшего бархатного жилетика, царапая каракули своими усохшими проворными, как воробьи, руками, а перстни на пальцах уже не искрились, как в былые времена. Однажды ночью он вроде бы нашел предсказание о дальнейшей участи Макондо. Это будет сверкающий город с большими домами из стекла, где и духа не останется от рода Буэндии. «Глупости, – сказал Хосе Аркадио Буэндия. – Дома тут будут не из стекла, а изо льда, как мне привиделось, и род Буэндия не иссякнет в веках». В этом обезумевшем доме только Урсула упрямо цеплялась за здравый смысл. К чану для сахарного литья зверушек она пристроила печь, выпекавшую ночами хлеб, корзины хлеба, а также сказочное множество булок, пирожных и бисквитов, которые за считанные часы исчезали на дорогах и тропах низины. Возраст уже давал Урсуле право на отдых, но ее все сильнее одолевала жажда деятельности. Она была так занята обоими удачливыми начинаниями, что, рассеянно взглянув в патио, пока помощница-индианка перемешивала тесто с сахаром, вдруг увидела каких-то двух незнакомых красивых девушек, вышивающих на пяльцах в лучах заката. Это были Ребека и Амаранта. Они недавно сняли траур, который с упорством носили по бабушке целых три года, и, казалось, яркая одежда указала им новое место в мире. Ребека, вопреки ожиданиям, получилась более красивой, чем Амаранта. У нее были огромные глаза с поволокой, нежнейшая кожа и волшебные руки, которые так и бросали из воздуха цветистые узоры на канву. Младшая, Амаранта, не отличалась изяществом, но была натурой возвышенной и обладала чувством собственного достоинства, доставшимся ей от покойной бабушки. Рядом с девицами, хотя в нем уже проглядывала отцовская мужественность, Аркадио казался ребенком. Он с увлечением осваивал ювелирное дело под наблюдением Аурелиано, который научил его, кроме прочего, читать и писать. Урсула неожиданно заметила, что в доме стало тесно, что ее сыновья вот-вот женятся и народят детей и будут вынуждены бросить отцовский дом, где для всех не хватит места. Тогда она взяла деньги, накопленные за годы тяжкого труда, договорилась о ссудах со своими заказчиками и принялась строить новый дом. Приказала сделать две залы: одну, большую, для гостей, другую – попрохладнее и поуютнее – для своих домашних; столовую с большим обеденным столом и дюжиной стульев, где могла бы разместиться вся семья и званые гости; девять спален с окнами в патио и длинную крытую галерею, защищенную от полуденной жары розовыми кустами, а также папоротниками в горшках и бегониями в вазонах, расставленных на перилах. Распорядилась увеличить кухню и сложить две печи, снести старую кладовую, где Пилар Тернера предсказала будущее Хосе Аркадио, и построить другую, вдвое больше, чтобы в доме всегда было вдоволь съестного. Велела поставить под сенью каштана в патио два купальных домика – один для мужчин, другой для женщин, а на задворках – большую конюшню, птичий двор, хлев для дойных коров и большую открытую клетку, где могли бы отдыхать перелетные птицы. В окружении десятков каменщиков и плотников, словно заразившись диким фантазерством мужа, Урсула указывала, откуда должен литься свет и как уменьшить зной, и совсем не считалась с объемами и размерами. Нехитрое жилище времен закладки Макондо было забито орудиями труда, материалами и потными работниками, которые просили всех и каждого не лезть не в свое дело, не ведая, что это дело меньше всего касалось их самих, зло пинавших сумку с человеческими костями, которые все время попадались под руку и глухо постукивали – «клуп-клуп». Никто не мог толком понять, как в полной неразберихе, в зловонии негашеной извести и кипящей смолы вырос из чрева земли дом, не только самый большой в Макондо, но и самый гостеприимный и прохладный на всем просторе низины. Один лишь Хосе Аркадио Буэндия, пытавшийся во время домашнего катаклизма поймать на пластинку Божественное Провидение, не придавал этому значения. Новый дом был почти построен, когда Урсула разом вернула мужа из мира иллюзий на грешную землю и сообщила, что ей велено выкрасить фасад в синий цвет, а не в белый, как им хотелось. Она показала ему бумагу с официальным приказом. Хосе Аркадио Буэндия, не понимая, о чем толкует супруга, впился глазами в подпись.
– Что за тип? – спросил он.
– Коррехидор, – ответила Урсула в полном расстройстве. – Говорят, начальник, присланный сюда правительством.
Дон Аполинар Москоте, коррехидор, прибыл в Макондо без всякой помпы. Он остановился в гостинице «Хакоб», построенной одним из первых арабов, менявших побрякушки на попугаев, и через день снял комнатку с дверью на улицу неподалеку от дома Буэндии. Поставил там стол и стул, купленные в «Хакобе», прибил к стене привезенный герб Республики и написал на двери большими буквами: «КОРРЕХИДОР». Своим первым распоряжением он предписал перекрасить дома в синий цвет к празднованию очередной годовщины национальной независимости. Хосе Аркадио Буэндия, потрясая бумагой, вошел в комнатушку коррехидора, где тот проводил часы сиесты, посапывая в гамаке. «Вы послали эту писанину?» – спросил он. Дон Аполинар Москоте, мужчина в возрасте, застенчивый и тучный, согласно кивнул. «По какому такому праву?» – продолжал допрашивать Хосе Аркадио Буэндия. Дон Аполинар Москоте порылся в ящике стола и помахал перед ним другой бумагой: «Я – коррехидор. Буду управлять городком». Хосе Аркадио Буэндия и взглядом не удостоил официальный документ.
– В этом городе мы обходимся без бумаг, – сказал он, не теряя присутствия духа. – Зарубите себе на носу: нам не нужен никакой управитель, мы сами прекрасно здесь управляемся.
И Хосе Аркадио Буэндия, глядя на невозмутимого дона Аполинара Москоте, так же невозмутимо и подробно рассказал ему, как они основали деревню, как поделили землю, проложили дороги и сделали все, что им требовалось для житья-бытья, ничем не помешав властям и, в свою очередь, не испытав помех ни с чьей стороны. «Мы живем столь тихо и мирно, что даже смерть нас стороной обходит, – сказал он. – Вы сами видите, что тут нет кладбища». На правительство он обиды не держит за то, что им не помогли. Напротив, очень доволен тем, что до сих пор никто не вставлял палки в колеса и что впредь так оно и будет, потому как они основали город не для того, чтобы первый пришлый указывал им, за какие браться дела. Дон Аполинар Москоте аккуратно влез в рукава полотняного кителя, белого, как и брюки, и тщательно застегнулся.
– Так что, если вы желаете здесь остаться и жить, как живут обычные нормальные люди, милости просим, – закончил Хосе Аркадио Буэндия. – Но если вы явились тут беспорядки устраивать, заставлять всех подряд красить дома в синий цвет, собирайте пожитки и ступайте туда, откуда пришли. А дом мой будет белым, как голубок.
Дон Аполинар Москоте побледнел. Отступил на шаг и, сжав зубы, произнес с долей грусти:
– Должен предупредить вас, я вооружен.
Хосе Аркадио Буэндия не приметил, в какой момент его руки налились той молодецкой силой, которая когда-то валила наземь лошадей. Он схватил дона Аполинара Москоте за лацканы и приподнял на высоту своих глаз.
– Я делаю так, – сказал он, – потому что мне легче сейчас протащить вас живым, чем потом всю жизнь таскать за собой мертвеца.
И Хосе Аркадио Буэндия с пол-улицы пронес на вытянутых руках коррехидора, провисшего в собственном кителе, и воткнул ногами в пыльную дорогу, ведущую из городка в низину. Спустя неделю тот возвратился в сопровождении шести босых обтрепанных солдат с ружьями и запряженной быками повозки, где восседали его жена и семь дочерей. Позже прикатили еще две повозки, груженные мебелью, сундуками и домашним скарбом. Семейство обосновалось в гостинице «Хакоб», пока коррехидор подыскивал дом и оборудовал служебное помещение, отныне охраняемое солдатами. Основатели Макондо, решившие изгнать захватчиков, пришли со своими старшими сыновьями к Хосе Аркадио Буэндии, готовые на все. Но он их отговорил, потому что, как он сказал, дон Аполинар Москоте вернулся со своей женой и дочерьми и не мужское это дело бесчестить человека на глазах у его семьи. Было решено уладить дело миром.
Аурелиано пошел с отцом. В эту пору он уже носил черные усы с напомаженными острыми кончиками, а голос становился низким и зычным, что потом так пригодилось ему на войне. Без оружия, не взглянув на стражу, они вошли в зал коррехидора. Дон Аполинар Москоте и глазом не моргнул. Представил гостям двух своих дочек, случайно там оказавшихся: Ампаро, шестнадцати лет, чернявую, как мать, и Ремедиос, десятилетнюю очаровательную девочку с лилейной кожей и зелеными глазами. Обе были изящны и хорошо воспитаны. Как только мужчины вошли, девочки, еще не будучи представлены, подвинули гостям стулья. Но гости предпочли разговаривать стоя.
– Хорошо, приятель, – сказал Хосе Аркадио Буэндия, – мы дозволяем вам остаться здесь, но не потому, что испугались ваших бандюг с аркебузами, а из уважения к вашей сеньоре супруге и дочерям.
Дон Аполинар Москоте замешкался с ответом, и Хосе Аркадио Буэндия его опередил.
– Однако мы выдвигаем два условия, – сказал он. – Во-первых, каждый, кто красит свой дом, выбирает цвет по собственному вкусу; во-вторых, солдаты тотчас выметаются из Макондо. Мы сами будем в ответе за порядок.
Коррехидор поднял правую руку, вытянув вверх пальцы.
– Слово честного человека?
– Слово врага, – сказал Хосе Аркадио Буэндия. И добавил уныло: – Потому что, сказать по правде, мы с вами остаемся врагами.
В тот же вечер солдаты убрались. Через несколько дней Хосе Аркадио Буэндия подыскал дом для семейства коррехидора. Все умиротворились, кроме Аурелиано. При воспоминании о Ремедиос, младшей дочери коррехидора, которой он годился в отцы, у него свербило в одном месте. И при ходьбе он испытывал явное неудобство, как если бы в ботинок попал камешек.
Новый дом, белый, как голубь, открыл свои двери для праздника. Урсула вынашивала мысль устроить бал с того самого дня, когда увидела, что Ребека и Амаранта стали взрослыми девушками, и, можно сказать, главной побудительной причиной грандиозной затеи было ее стремление соорудить им такое жилище, где не стыдно было бы принять любых гостей. Желая задать пир на весь мир, она трудилась как каторжная: и наблюдала за перестройкой дома, и успевала еще до окончания работ обзаводиться дорогими вещами для его украшения и благоустройства, такими, например, как пианола – чудесная новинка, которая должна была поразить весь городок и вызвать бурю восторга у молодежи. Разобранное на части, упакованное в ящики механическое пианино было доставлено вместе с венской мебелью, богемским хрусталем, посудой от «Компании де лас Индиас», скатертями из голландского полотна и великим множеством ламп и шандалов, ваз, покрывал и ковров. Торговый дом-поставщик прислал за свой счет итальянского музыканта, Пьетро Креспи, для установки и настройки пианолы, для обучения хозяев тому, как ею пользоваться и танцевать под модную музыку, которая была записана на шести картонных валиках.
Молодой белокурый Пьетро Креспи был так привлекателен и благовоспитан, что мужчины из Макондо не шли с ним ни в какое сравнение; он так ревностно следил за своей одеждой, что даже в самую жару работал в парчовом жилете и в темном шерстяном сюртучке. Обливаясь потом, сохраняя почтительную дистанцию между собой и хозяевами дома, Пьетро Креспи несколько недель сидел в зале, запершись на ключ, и работал так же самозабвенно, как Аурелиано в своей ювелирной мастерской. Однажды утром, не открыв дверь, не пригласив никого быть свидетелем чуда, он вставил первый валик в пианолу, и разом оборвалось осточертевшее звяканье струн от ударов деревянных молоточков – тишину наполнила гармоничная и чистая музыка. Все кинулись в залу. Хосе Аркадио Буэндия был сражен не красотой мелодии, а самопроизвольными подскоками клавиш, и притащил в зал фотокамеру Мелькиадеса, впервые намереваясь получить дагерротип невидимого исполнителя. В этот день итальянец был приглашен к обеду. Ребека и Амаранта, подававшие на стол, затаив дыхание смотрели, как легко и ловко орудует приборами этот херувим с бледными, свободными от колец и перстней руками. В большой зале, что рядом с гостиной, Пьетро Креспи учил их обеих танцевать. Он показывал им разные па, отнюдь не касаясь их талий, управляя движениями в такт метронома и под благожелательным присмотром Урсулы, которая не покидала залу и не спускала глаз с дочерей во время урока танцев. Пьетро Креспи надевал на занятия нечто вроде лосин в обтяжку и балетные туфли. «Зря ты волнуешься, – говорил Хосе Аркадио Буэндия жене. – Он – не мужчина». Но она была начеку во время обучения и вообще до тех пор, пока итальянец не покинул Макондо. Началась подготовка к празднеству. Урсула составила строгий список приглашенных, и в число избранных попали только отпрыски основателей Макондо, за исключением домочадцев Пилар Тернеры, которая успела вырастить еще двух сыновей от неизвестных отцов. По сути дела, это был кастовый смотр, хотя и обусловленный старой дружбой, ибо счастливцы были вхожи в дом Хосе Аркадио Буэндии еще в старое время до основания Макондо, а их сыновья и внуки были друзьями детства Аурелиано и Аркадио, их дочери – единственными девочками, которых впускали в дом вышивать на пяльцах вместе с Ребекой и Амарантой. Дон Аполинаро Москоте, благодушный правитель Макондо, чья деятельность по скудности средств сводилась к содержанию двух полицейских, вооруженных дубинками, был властью чисто декоративной. Чтобы пополнить домашнюю казну, его дочери открыли швейную мастерскую, где могли также изготовить и цветы из войлока, и всякую снедь из гуаявы, и любовные послания по заказу, но, несмотря на то что они были скромны и трудолюбивы, прослыли первыми красавицами и неподражаемо танцевали новые танцы, их не соизволили пригласить на праздник.
Пока Урсула, Ребека и Амаранта возились с мебелью, вытирали новые вазы и развешивали картины с изображениями дев в переполненных розами лодках, впуская ветер новой жизни в комнаты с голыми каменными стенами, Хосе Аркадио Буэндия перестал ловить изображение Господа Бога, убедившись, что его нигде не найти, и распотрошил пианолу, пытаясь постичь тайну ее волшебства. За два дня до праздника, утонув в ворохах колков и молоточков, путаясь в витках струн, которые, выпрямляясь с одной стороны, тут же скручивались с другой, он кое-как собрал инструмент. В дикой суете и беготне прошли последние перед балом дни, однако новые смоляные лампы зажглись в положенный день и час. Дом распахнул свои двери, еще выдыхая свежесть дерева и сырость известки, и сыны и внуки основателей Макондо обозрели крытую галерею с папоротниками и бегониями, тихие покои, сад в роскошестве роз и собрались в большой гостиной возле загадочной штуковины, накрытой белой простыней. Те, кто уже видел фортепиано в других городках низины, были несколько разочарованы, но их разочарование нельзя сравнить с тем, что испытала Урсула: она была просто обескуражена, когда, поставив первый валик, чтобы Амаранта и Ребека открыли бал, не услышала ни звука. Инструмент безмолвствовал. Мелькиадес, почти слепой, сам едва не распадаясь на части от дряхлости, взывал к своей былой мудрости и мастерству, чтобы починить пианолу. В конце концов Хосе Аркадио Буэндия случайно шевельнул заевшую деталь, и пианола сначала забулькала, а затем разразилась какой-то бешеной какофонией. Молоточки забарабанили напропалую по вкривь и вкось натянутым струнам. Но крепколобые потомки двадцати одного храбреца – тех отважных упрямцев, которые перебрались через горы в поисках моря на западе, – легко одолевали музыкальные препятствия, и бал продолжался до рассвета.
Пьетро Креспи вернулся в Макондо чинить пианолу. Ребека и Амаранта помогали ему разбирать струны и вместе с ним смеялись над дикой путаницей вальсов. Итальянец был в высшей степени галантен и так почтителен, что Урсула сняла наблюдение. Накануне его отъезда был устроен – с участием возрожденной пианолы – прощальный вечер, и он в паре с Ребекой продемонстрировал виртуозное исполнение современных танцев. Аркадио и Амаранта не уступали им в грациозности и мастерстве. Но публичное выступление было прервано скандалом, который учинила Пилар Тернера, стоявшая у дверей в толпе любопытных. Она, рассвирепев, вцепилась в волосы женщине, посмевшей сказать, что у молодого Аркадио задница, как у бабы. К полуночи Пьетро Креспи разразился краткой прочувствованной речью и обещал скоро вернуться. Ребека проводила его до порога, а когда дом заперли и погасили лампы, отправилась в свою комнату и горько заплакала. Безутешные стенания длились несколько дней, и никто не знал причину горя, даже Амаранта. Замкнутость Ребеки никого не удивляла. Казалось бы, общительная и отзывчивая, она была натурой скрытной и сердцем твердой. Ребека превратилась в бесподобную красавицу, стройную и длинноногую, но все еще упрямо втискивалась в свою деревянную качалку, которую когда-то притащила с собой и с которой, не раз уже чинившейся, давно слетели подлокотники. Никто не знал, что даже в этом возрасте она все еще сосет палец. Потому-то ей часто приходилось запираться в купальном домике и спать лицом к стенке. В дождливые дни, вышивая на пяльцах вместе с подругами в крытой галерее возле бегоний, Ребека вдруг обрывала разговор на полуслове, а соль подступавших ностальгических слез щекотала ей нёбо при виде комочков грязи и бороздок сырой земли, проложенных дождевыми червями. Тайное пристрастие, казалось, растворившееся в питье из апельсинового сока с ревенем, вновь проявилось, как только слезы хлынули из глаз. Ребека опять стала есть землю. Сначала она это сделала почти из любопытства, зная, что брезгливость – лучшее средство от искуса. В самом деле, было противно сыпать в рот землю, и ее чуть не вытошнило. Но она снова набила рот землей, стараясь подавить растущую тоску, и мало-помалу к ней вернулись вкус древних предков, тяга к первичной материи, удовлетворенность натуральной пищей без всяких изысков. Она носила землю в карманах и незаметно ела по крупинке со смешанным чувством счастья и злости, обучая своих подруг тонкостям вышивания и рассуждая о мужчинах, которые не заслуживают того, чтобы ради них есть еще известку со стен. Горсти съедаемой земли делали более близким и осязаемым единственного человека, который был достоин такой унизительной жертвы, как если бы почва, по которой ступали его изящные лаковые ботинки, вбирала тяжесть его тела и жар его крови, чтобы передать ей через вкус земли, вызывавшей жжение во рту и умиротворение в сердце.
Однажды ни с того ни с сего Ампаро Москоте попросила разрешения посетить их дом. Амаранта и Ребека были в недоумении и приняли нежданную гостью вежливо, но сухо. Они показали дочери коррехидора свое прелестное жилище, дали послушать пианолу и предложили апельсиновый сок с печеньем. Ампаро явила собой образец женского достоинства, очарования и такого безупречного воспитания, что расположила к себе даже Урсулу за то короткое время, которое хозяйка посвятила гостье. По прошествии двух часов, когда разговор уже клонился к концу, Ампаро в какой-то момент передала Ребеке незаметно от Амаранты письмо. Ребека краем глаза увидела, что конверт адресован глубокоуважаемой сеньорите донье Ребеке Буэндия и что буквы выведены так же аккуратно, теми же зелеными чернилами и составляют такие же ровнехонькие ряды слов, как в рукописной инструкции для пианолы, и, сложив кончиками пальцев письмо, она спрятала его на груди, бросив на Ампаро взгляд с выражением безграничной и бесконечной благодарности и молчаливой клятвой в верности до гроба.
Внезапно вспыхнувшая дружба Ампаро Москоте и Ребеки Буэндия возродила тайные надежды Аурелиано. Мысли о крошке Ремедиос не переставали его мучить, но случай увидеть ее никак не представлялся. Прогуливаясь по городку со своими самыми близкими друзьями, Магнифико Висбалем и Херинельдо Маркесом, носившими, конечно, имена своих отцов, основателей Макондо, он жадно высматривал Ремедиос в швейной мастерской, но находил там только старших сестер. Появление Ампаро Москоте в их доме служило добрым предзнаменованием. «Она должна с ней прийти, – шептал Аурелиано. – Должна прийти». Он столько раз это повторял и с такой убежденностью, что однажды днем, работая над золотой рыбкой, вдруг проникся уверенностью, что она непременно ответит на его зов. И действительно, вскоре Аурелиано услышал детский голосок. Подняв взор и похолодев от тревожного волнения, он увидел в дверях мастерской девочку в платьице из розового муслина и в белых туфельках.
– Туда не ходи, Ремедиос, – сказала Ампаро Москоте из галереи. – Там работают.
Но Аурелиано не дал девочке опомниться. Он покачал золотой рыбкой на тонкой цепочке, продетой через рыбий нос, и сказал:
– Вот, посмотри.
Ремедиос подошла и стала что-то спрашивать о рыбке, но Аурелиано ничего не мог сказать, у него перехватило дыхание. Ему хотелось всегда быть рядом с этой лилейной кожей, с этими изумрудными глазами, рядом с этим голоском, когда каждый вопрос сопровождается почтительным обращением «сеньор», совсем как к родному отцу. Мелькиадес сидел в углу за столом, царапая ему одному понятные каракули. Аурелиано ненавидел старика в те минуты. Ему ничего не оставалось делать, как только сказать Ремедиос, что он хочет подарить ей рыбку, но девочка так испугалась подарка, что стремглав выбежала из мастерской. В тот день Аурелиано утратил то долготерпение, с каким ждал случая ее увидеть. Он забросил рыбок. Не раз призывал ее, отчаянно напрягая всю свою волю, но Ремедиос не откликалась. Он искал ее в мастерской сестер, за занавесками ее окон, в приемной ее отца, но находил только в своих мечтах, которыми заполнял свое страшное одиночество. Он часами сидел с Ребекой в гостиной, слушая игру механического инструмента. Она слушала вальсы, потому что под эту музыку Пьетро Креспи учил ее танцевать.
Аурелиано их слушал просто потому, что решительно все, даже музыка, напоминало ему о Ремедиос.
Дом наполнился любовью. Аурелиано изливал чувство в стихах, не имевших ни конца, ни начала. Он писал их на древнем пергаменте, подаренном ему Мелькиадесом, на стенах купального домика, на коже собственных рук, и везде ему виделась и чудилась Ремедиос: Ремедиос в сонном воздухе жаркого дня, Ремедиос в затаенном дыхании роз, Ремедиос в кружении мошек над водой, Ремедиос в запахе хлеба на рассвете, Ремедиос всюду и Ремедиос навсегда. Ребека ждала свою любовь каждый день в четыре часа, сидя у окна за вышивкой. Она знала, что почтовый мул приходит только раз в две недели, но она упрямо караулила его в уверенности, что почта может прибыть и тогда, когда ее меньше всего ждешь. Но все вышло наоборот: в один прекрасный день мул не появился. Обезумев от тоски, Ребека вскочила в полночь с постели, бросилась в сад и стала есть землю с убийственной жадностью, плача от горя и злости, пережевывая нежных дождевых червей и раздирая до крови десны панцирями улиток. Потом ее тошнило до рассвета. Она впала в состояние полной прострации, тряслась как в лихорадке и никого не узнавала, а сердце облегчалось в безудержных бредовых излияниях. Возмущенная Урсула сбила замок с сундука и нашла на дне шестнадцать надушенных писем, перевязанных розовой ленточкой, и сухие скелетики листьев и цветов, хранившихся в старых книгах, а также останки бабочек, тут же распавшихся в прах.
Аурелиано был единственным, кто мог понять безмерную скорбь Ребеки. В тот же день, когда Урсула старалась вывести ее из дремучих галлюцинаций, он вместе с Магнифико Висбалем и Херинельдо Маркесом пошел в заведение Катарины. К дому там была пристроена галерея, разделенная деревянными перегородками на комнатушки, где жили одинокие женщины, пахнувшие увядшими цветами. Оркестрик – аккордеон и барабаны – играл песни Франсиско Человека, который вот уже несколько лет не появлялся в Макондо. Трое друзей пили крепкую тростниковую водку. Магнифико и Херинельдо – ровесники Аурелиано, но уже поднаторевшие в таких делах, – попивали гуарапо, посадив женщин себе на колени. Одна из них, не первой свежести, с золотыми коронками, слишком ретиво приласкала Аурелиано. Он ее оттолкнул. Ему открылось, что чем больше он пьет, тем ярче вспоминается Ремедиос, но пытка воспоминаниями переносится легче. Он не заметил, с какого времени вокруг все поплыло. Видел своих друзей и женщин, плавающих в мутном отсвете лампы, невесомых и неосязаемых, говорящих слова, не разжимая губ, и подающих тайные знаки, не делая жестов. Катарина положила ему руку на спину и сказала: «Скоро одиннадцать». Аурелиано повернул голову, увидел огромную перекошенную физиономию с мохнатым цветком за ухом и с этого момента потерял память, как во время эпидемии забвения, и снова обрел себя одним ранним утром, в совсем незнакомой комнате, где стояла Пилар Тернера в рубашке, босая, растрепанная, поднося к нему фонарь и не веря собственным глазам:
– Аурелиано!
Аурелиано удержался на ногах и вскинул голову. Он не знал, как попал сюда, но знал, с каким намерением, потому что еще с детских пор оно затаилось в самом укромном углу его сердца.
– Я пришел. Спать с вами, – сказал он.
Вся его одежда была в грязи и блевотине. Пилар Тернера, которая жила тогда одна со своими младшими сыновьями, не сказала ни слова. Уложила в постель и обтерла ему лицо сырой тряпкой. Раздела его и разделась сама донага под москитной сеткой, чтобы не увидели дети, если проснутся. Она устала ждать мужчину, который остался в старой деревне, и мужчин, которые от нее уходили, и тех бесчисленных мужчин, которые не нашли к ней дороги, сбитые с толку неясным смыслом карточной ворожбы. За годы ожидания поблекла кожа, усохли груди, остыло сердце. Она во тьме нащупала Аурелиано, положила ему руку на живот и поцеловала в шею с материнской нежностью. «Бедный мой детеныш», – шепнула она. Аурелиано дернулся всем телом. Дальше пошло гладко и ловко, позади остались крутые пороги страданий, и он утонул в Ремедиос, которая раскинулась перед ним бескрайней топью, пахла загнанным животным и свежевыглаженным бельем. Когда он вынырнул на поверхность, у него по лицу катились слезы. Сначала были непроизвольные короткие всхлипы. Затем он излился буйным ручьем, чувствуя, как внутри прорвалось что-то набухшее и распиравшее до боли. Она ждала, почесывая ему голову кончиками пальцев, пока его тело освобождалось от темной материи, мешавшей существовать. Позже Пилар Тернера спросила: «Кто она?» И Аурелиано ей рассказал. Она запрокинула голову в смехе, который когда-то пугал голубей, а теперь даже не разбудил мальчишек. «Тебе сначала надо вырастить ее», – смеялась она. Но за всплеском издевки Аурелиано нашел глубокую заводь понимания. Когда он выходил из комнаты, оставив там не только сомнение в своих мужских качествах, но также и горькую тяжесть, столько месяцев давившую на сердце, Пилар Тернера вдруг пообещала ему:
– Я поговорю с девочкой, – сказала она. – Поднесу тебе ее на блюде. Увидишь.
И сдержала слово. Только выбрала неудачное время, ибо дом Буэндии лишился былого покоя. Узнав о страсти Ребеки, которая в бреду выдала свою тайну, Амаранта вдруг свалилась в горячке. И в ее сердце тоже вонзился шип одинокой страсти. Закрывшись в купальном домике, она терзала себя несчастной любовью, писала пылкие письма и, не отсылая их, прятала на дне своего сундучка. Урсула металась от одной заболевшей к другой. Ей никак не удавалось, несмотря на все уговоры и каверзные вопросы, выведать у Амаранты причину ее расстройства. Наконец на нее вторично снизошло озарение, она бросилась к сундуку Амаранты и обнаружила там письма, перевязанные розовой ленточкой, пухлые от вложенных в них свежих лилий и отсыревшие от слез, адресованные Пьетро Креспи, но так к нему и не попавшие. Плача от злости, Урсула прокляла день и час, когда ей вздумалось купить пианолу, запретила уроки вышивания и объявила бессрочный траур – без покойника, но по пустым надеждам, от которых должны избавиться обе дочери. Напрасно успокаивал ее Хосе Аркадио Буэндия, который отрекся от своего первого впечатления о Пьетро Креспи и теперь восхищался его умением настраивать механические пианино. Так что, когда Пилар Тернера сказала Аурелиано, что Ремедиос согласна выйти за него замуж, он подумал, что эта новость доконает его родителей. Однако решился бросить вызов судьбе. Приглашенные в гостиную для серьезного разговора Хосе Аркадио Буэндия и Урсула стоически восприняли слова сына о намерении жениться. Но, услышав имя невесты, Хосе Аркадио Буэндия побагровел от возмущения. «Напасть какая-то, а не любовь! – гневался он. – Столько вокруг красивых и порядочных девушек, а тебе приспичило жениться именно на дочке нашего недруга». Но Урсула не возражала против выбора сына. Она призналась, что ей нравятся все семь дочерей Москоте своей миловидностью, прилежанием, скромностью и хорошими манерами, и похвалила сына за удачный выбор. Сраженный красноречием супруги, Хосе Аркадио Буэндия выдвинул одно условие: Ребека, которая пользуется в своей любви взаимностью, должна выйти замуж за Пьетро Креспи. Урсула, когда сможет, отвезет Амаранту в столицу провинции, чтобы дочь в новом обществе забыла о своих огорчениях. Ребека тотчас выздоровела, узнав о таком решении, и вне себя от радости написала с дозволения родителей письмо жениху и самолично отправилась на почту. Амаранта сделала вид, что со всем согласна и мало-помалу справилась с приступами нервной лихорадки, но втайне поклялась, что Ребека выйдет замуж, только перешагнув через ее труп.
В следующую субботу Хосе Аркадио Буэндия – в темном шерстяном костюме и целлулоидном воротничке, замшевых ботинках, которые впервые надел на бал, – отправился просить для сына руки Ремедиос Москоте. Коррехидор и его супруга были польщены и смущены неожиданным посещением, не зная, чем оно вызвано, а узнав о целях визита, предположили что гость явно перепутал имена. Чтобы рассеять сомнение, мать разбудила Ремедиос и принесла ее, полусонную, на руках в залу. У девочки спросили, правда ли, что она решила выйти замуж, и она в ответ, всхлипывая, пробормотала, что хочет спать и больше ничего. Хосе Аркадио Буэндия, понимая растерянность супругов Москоте, вернулся домой переговорить с Аурелиано. Когда он снова пришел сватать, чета Москоте встретила его уже прифрантившись, расставив по-другому мебель в гостиной, украсив вазы свежими цветами и созвав всех своих старших дочерей. Чувствуя себя неловко в их присутствии и очень неудобно в жестком воротничке, Хосе Аркадио Буэндия подтвердил, что – да, избранницей стала Ремедиос. «Не вижу смысла, – печально заметил дон Аполинар Москоте. – У нас шесть взрослых дочерей, все незамужние и вполне приличного возраста. Каждая охотно согласилась бы стать достойной супругой такого серьезного и работящего кабальеро, как ваш сын, но Аурелиано почему-то выбрал именно ту, которая еще мочится в постель». Жена коррехидора, хорошо сохранившаяся томная сеньора с тяжелыми веками, упрекнула его за вульгарность. Когда покончили с фруктовым кремом, родители невесты дали согласие на предложение Аурелиано. Правда, сеньора Москоте попросила оказать ей одну любезность – предоставить возможность наедине поговорить с Урсулой. Урсула, сгорая от любопытства, сначала отнекивалась, – мол, нечего матери жениха соваться в сыновние дела, но на самом деле она просто робела от волнения и на следующий день посетила дом Москоте. Через полчаса Урсула вернулась с новостью: Ремедиос еще не достигла возраста половой зрелости. Аурелиано не счел это серьезным препятствием. Он очень долго ждал и мог ждать еще столько, сколько надо, пока невеста подрастет и будет способна зачать.
Вновь обретенная домашняя гармония была нарушена лишь смертью Мелькиадеса. Хотя это событие было неминуемо, ему предшествовали непредвиденные обстоятельства. Спустя несколько месяцев по возвращении процесс дряхления стал таким быстрым и резким, что скоро на старика стали смотреть, как на одно из этих никчемных допотопных существ, которые, словно тени, бродят по комнатам, волоча ноги, громко вспоминая добрые старые времена, и о которых никто не печется и не вспоминает до того дня, когда рассвет застанет их мертвыми в своей постели. Вначале Хосе Аркадио Буэндия приобщился к занятиям старого цыгана, увлекшись новизной дагерротипии и прорицаниями Нострадамуса. Но со временем предоставил Мелькиадеса его одиночеству, потому что им становилось все труднее понимать друг друга. Теряя зрение и слух, цыган, казалось, принимал собеседников за людей, которых знал чуть ли не на заре человечества, и отвечал на вопросы, смешивая воедино разные языки и наречия. Он двигался, ощупывая воздух, хотя обходил каждую вещь с необъяснимой легкостью, будто ему был дан инстинкт ориентации как дар сиюсекундного предвидения. Однажды он забыл вставить искусственные челюсти, положенные вечером в стакан с водой возле постели, да так больше ими и не пользовался. Когда Урсула затеяла перестройку дома, ему сложили отдельную комнату, рядом с мастерской Аурелиано, подальше от домашней толкотни и болтовни, с окном, озаренным солнцем, и рядами полок, где она собственноручно расставила книги, источенные жучками и временем, хрупкие пергаменты, испещренные непонятными знаками, и стакан с водой для искусственных зубов, где плавали какие-то водоросли с крохотными желтыми цветами. Новое жилище, наверное, пришлось Мелькиадесу по душе, и он перестал показываться даже в столовой. Заходил только в мастерскую к Аурелиано, где часами сидел за своими таинственными письменами на жестких пергаментах, которые приносил с собой и стопка которых походила на слоеный пирог. Там же он и ел то, что ему приносила Виситасьон дважды в день, хотя в последнее время он потерял аппетит и довольствовался овощами. И потому стал выглядеть хилым, как вегетарианец. Кожа покрылась налетом той же плесени, которая залила весь его вековечный жилет, будто сросшийся с телом, а его дыхание смердило, как коровье стойло. Аурелиано в конце концов забыл о нем, погруженный в сочинение стихов, но иногда улавливал смысл в его бессвязных монологах и оглядывался на него. По правде говоря, единственные слова, которые то и дело выбивались из его неровной речи и долбили слух несносным молоточком, были итальянское слово «равноденствие, равноденствие» и имя – Александр фон Гумбольдт. Аркадио, помогая Аурелиано в ювелирном деле, пытался сблизиться со стариком. Но Мелькиадес отвечал ему фразами на испанском, не имевшими ни малейшего отношения к действительности. Однажды на него нашло просветление, и он взволновался. Годы спустя, глядя перед расстрелом в дула ружей, Аркадио вспомнил, как Мелькиадес, трясясь всем телом, прочитал ему вслух несколько страниц из своих заумных писаний, которые, конечно, были ему непонятны и показались похожими на энциклики, произносимые нараспев. Потом Мелькиадес улыбнулся, впервые за много месяцев, и сказал: «Когда я умру, три дня плавьте ртуть в моей комнате». Аркадио сообщил об этом Хосе Аркадио Буэндии, и тот попробовал добиться более понятного наказа, но ответ был краток: «Я достиг бессмертия». Когда изо рта Мелькиадеса стало совсем дурно пахнуть, Аркадио водил его утром по четвергам мыться в реке. Старику стало лучше. Он раздевался донага и плескался вместе с мальчишками, а его удивительное ощущение пространства не давало ему оступиться или попасть в омут. «Мы ведь вышли из воды», – сказал он однажды. Много времени утекло с тех пор, как его видели в доме, разве что тогда, когда он трогательно старался исправить пианолу или когда шел с Аркадио купаться, неся под мышкой тотуму и комочек пальмового мыла, завернутые в полотенце. В один из четвергов, перед тем как идти к реке, Аурелиано услышал такие его слова: «Я умер от лихорадки в болотах Сингапура». В этот день Мелькиадес неудачно ступил в воду, и его нашли только на следующее утро, в нескольких километрах вниз по течению. Он лежал на светлой отмели в излучине реки, а на животе у него сидел одинокий стервятник. Несмотря на бурные возражения Урсулы, которая пролила над ним слез больше, чем над родным отцом, Хосе Аркадио Буэндия не давал его хоронить. «Мелькиадес – бессмертен, он сам открыл формулу своего воскрешения», – сказал Хосе Аркадио Буэндия, разжег давным-давно заброшенную печь и поставил на огонь котелок с ртутью рядом с трупом, который мало-помалу стал покрываться голубыми волдырями. Дон Аполинар Москоте осмелился напомнить, что не преданный земле утопленник становится опасен для здоровья людей. «Ничего подобного, ибо он жив», – отрезал Хосе Аркадио Буэндия и продолжал ровно семьдесят два часа накачивать дом парами ртути, пока на трупе не стали лопаться с таким свистом, как почки в мертвенном цветении, волдыри, наполняя дом адским зловонием. Только тогда он позволил схоронить Мелькиадеса, но не просто так, а со всеми почестями, каких достоин истинный благодетель Макондо. Здесь это были первые похороны, и народу собралось видимо-невидимо – не намного меньше, чем веком позже на траурный карнавал в честь Мамы-Гранде. Его закопали в могиле, вырытой в центре недавно заложенного кладбища, и короткая надпись на памятнике гласила: «МЕЛЬКИАДЕС» – все, что о нем знали. Девять ночей, как полагается, совершался обряд бдения. Среди оживленной суеты в патио, где пили кофе, рассказывали анекдоты и играли в карты, Амаранта успела признаться в любви Пьетро Креспи, который несколько недель назад огласил свою помолвку с Ребекой и теперь строил магазин музыкальных инструментов и заводных игрушек на том самом месте, которое некогда облюбовали арабы для обмена безделушек на попугаев и которое народ прозвал «Турецкой улицей». Итальянец, чья шевелюра в рыжих завитках вызывала у женщин неодолимую потребность вздыхать, ответил Амаранте, как капризной девочке, которую не стоит принимать всерьез:
– У меня есть младший брат, – сказал он. – Брат скоро приедет помогать мне в делах.
Амаранта посчитала себя униженной и сказала Пьетро Креспи зло и язвительно, что все равно не допустит свадьбы сестры, даже если ей придется лечь костьми в дверях церкви. Итальянца так впечатлил драматизм угрозы, что он поддался искушению рассказать обо всем Ребеке. И потому отъезд Амаранты, который все время откладывался из-за Урсулы, занятой по хозяйству, был подготовлен менее чем за одну неделю. Амаранта не противилась, но когда Ребека целовала ее на прощание, она шепнула той на ухо:
– Не радуйся. Пусть меня увезут хоть на край света, я не дам тебе выйти за него замуж и убью, если надо.
В отсутствие Урсулы, в невидимом присутствии Мелькиадеса, который все так же неслышно бродил по комнатам, дом казался особенно большим и пустынным. Ребека вела домашнее хозяйство, а индианка распоряжалась в пекарне. К вечеру являлся Пьетро Креспи, распространяя свежий аромат лаванды и всякий раз преподнося невесте в подарок игрушку, а она принимала гостя в большой гостиной с дверями и окнами нараспашку, чтобы не давать повода для сплетен. Это была излишняя предосторожность, ибо итальянец проявлял почтительность сверх меры, даже не пытаясь прикоснуться к руке той, что менее чем через год должна была стать его супругой. Эти визиты наполняли дом чудесными игрушками. Заводные балерины, музыкальные шкатулки, обезьянки-акробаты, коньки-скакунки, шуты-барабанщики и масса представителей богатейшей механической фауны, приносимых Пьетро Креспи, рассеяли горе Хосе Аркадио Буэндии, причиненное смертью Мелькиадеса, и снова вернули в забытые времена алхимии. Он переселился в рай выпотрошенных зверят и разобранных механизмов, где пытался усовершенствовать их, снабдив вечным двигателем, устроенным по принципу маятника. Аурелиано же забросил мастерскую, обучая грамоте крошку Ремедиос. Сначала девочка не желала расставаться с куклами ради этого человека, который приходил ежедневно после полудня и из-за которого надо было бросать игру, умываться, наряжаться и ждать его в гостиной. Но терпение и тихая настойчивость Аурелиано победили ее неприязнь, и она уже проводила с ним часы, постигая смысл букв и рисуя в тетрадке цветными карандашами коров в хлеву и круглолицые солнца с желтыми лучиками, глядящие из-за холмов.
Одна Ребека не находила себе места, помня угрозу Амаранты. Она знала характер своей сестры, ее норовистость, и страшилась ее нескрываемой злобы. Она часами сидела в купальном домике и сосала палец, сдерживая себя изо всех сил, чтобы не съесть земли. Не зная, чем заглушить страх, она попросила Пилар Тернеру погадать ей на картах. Наговорив уйму обычных маловразумительных слов, Пилар Тернера объявила:
– Не будет тебе счастья, пока не предадут земле твоих родителей.
Ребека содрогнулась. Будто воскрешая старый сон, она увидела маленькую девочку, себя, входящую в дом с сундучком, с деревянной колыбелью-качалкой и с сумкой, содержимое которой было ей неведомо. Ей привиделся лысый сеньор в полотняном костюме и рубашке с золотой запонкой на воротничке, который ничего общего не имел с червонным королем. Ей привиделась очень молодая и очень красивая женщина с мягкими пахучими руками, совсем не похожими на хищные лапки червонной дамы, и эта женщина вплетала ей в волосы цветы и вела днем гулять по зеленым улицам городка.
– Я не понимаю, – сказала она.
Пилар Тернера пришла в некоторое замешательство:
– Я тоже, но так говорят карты.
Ребеку очень встревожило загадочное предсказание, и она рассказала об этом Хосе Аркадио Буэндии. Тот строго отчитал ее за то, что она верит картам, однако сам принялся втихомолку копаться в шкафах и в сундуках, передвигать мебель, заглядывать под матрацы и поднимать половые доски в поисках сумки с костями.
Вспомнил, что не натыкался на нее со времен перестройки дома. Тайком расспросил каменщиков, и один из них признался, что замуровал суму в стену какой-то спальни, так как она все время мешалась у него под ногами. Несколько дней они простукивали стены, пока наконец ухо не уловило глухое «клуп-клуп». Разобрали стену, и там, целы и невредимы, лежали кости в своей сумке. В тот же самый день их закопали в могиле без всякого памятника, рядом с последним приютом Мелькиадеса, и Хосе Аркадио Буэндия вернулся домой с полегчавшим сердцем, словно сбросив камень, такой же тяжелый, как воспоминание о Пруденсио Агиляре. Зайдя на кухню, он поцеловал Ребеку в лоб.
– Не забивай голову всякой дрянью, – сказал он ей. – Ты найдешь свое счастье.
Дружба с Ребекой распахнула перед Пилар Тернерой двери, которые для нее по велению Урсулы были закрыты после рождения Аркадио. Теперь она вламывалась в дом, как стадо коз, в любое время и обрушивала свой кипучий темперамент на самую тяжелую работу. Порой она заходила в мастерскую и помогала Аркадио проявлять дагерротипные пластины, и делала это с таким умением и с такой нежной заботой, что он начинал робеть. Его смущала эта женщина. Жар ее тела, легкий запах гари, всполохи ее смеха в темной комнате отвлекали его от дела, мешали сосредоточиться.
Однажды в мастерской оказался Аурелиано, скучавший по своим ювелирным поделкам, и Пилар Тернера, опершись на стол, молча любовалась его кропотливой работой. И тут все выявилось. Аурелиано, убедившись, что Аркадио находится в темной комнате, поднял взор и встретился глазами с Пилар Тернерой: ее намерение высказаться было ясно как Божий день.
– Ну, – сказал Аурелиано, – говори, что стряслось? Пилар Тернера закусила губы и грустно усмехнулась:
– А то, что тебе место на войне, – сказала она. – Куда метишь, туда и влепишь.
Аурелиано смирился с тем, что предсказание сбывается. И снова углубился в работу, будто ничего не случилось, а голос его был спокоен и тверд.
– Я его признаю, – сказал он. – Будет носить мое имя.
Хосе Аркадио Буэндия добился наконец своего: приладил к заводной балерине часовой механизм, и она танцевала без передышки под собственную музыку целых три дня. Этот успех вдохновил его больше, чем осуществление любой из его прежних сумасбродных затей. Он перестал есть. Перестал спать. Освободившись от надзора и опеки Урсулы, всецело отдался своим фантазиям и потерял чувство реальности, к которой уже никогда не мог вернуться. Ночи напролет он мерил шагами комнату, вслух размышляя, ища способ использовать принцип маятника в устройстве повозок, плугов, всего того, что приносит пользу в движении. Он был так измучен лихорадочной работой мысли, гнавшей сон прочь, что однажды на рассвете не смог узнать седовласого старца, который, пошатываясь, вошел в его спальню. Это был Пруденсио Агиляр. Когда же наконец Хосе Аркадио Буэндия, потрясенный тем, что умершие тоже стареют, узнал гостя, его взволновали давние воспоминания. «Пруденсио, – воскликнул он, – как ты попал сюда?» После долгих лет небытия тоска по живым стала такой жгучей, потребность в обществе людей – такой неодолимой, близость другой смерти, существующей в этой смерти, так пугала, что Пруденсио Агиляр в конце концов полюбил своего злейшего врага. Он очень долго искал его. Расспрашивал о нем мертвых из Риоачи, мертвых, приходивших из Валье-дель-Упар, из всей низины, но никто не мог ему ничего сказать о Хосе Аркадио Буэндии, ибо умершие не знали о Макондо до тех пор, пока не прибыл Мелькиадес и не обозначил городок черной точкой на пестрых картах смерти. Хосе Аркадио Буэндия разговаривал с Пруденсио Агиляром до самой зари. Несколько часов спустя, измученный бессонницей, он вошел в лабораторию Аурелиано и спросил: «Какой сегодня день?» Аурелиано ответил, что вторник. «Я тоже так думал, – сказал Хосе Аркадио Буэндия. – Но вдруг понял, что продолжается вчерашний понедельник. Посмотри на небо, посмотри на стены, посмотри на бегонии. Сегодня тоже понедельник». Привыкший к его бредням, Аурелиано не стал слушать. На следующий день, в среду, Хосе Аркадио Буэндия снова посетил лабораторию. «Просто беда, – сказал он. – Взгляни на воздух, послушай, как жужжит солнце, в точности как вчера и позавчера. Сегодня тоже понедельник». Вечером Пьетро Креспи нашел его в галерее, где тот заливался пустыми стариковскими слезами, оплакивая Пруденсио Агиляра, Мелькиадеса, родителей Ребеки, своих папу и маму, всех, кого мог вспомнить и кто в смерти своей был одинок. Итальянец подарил ему заводного медведя, который ходил на двух лапах по проволоке, но это не отвлекло старика от неодолимого желания плакать. Итальянец спросил его о проекте, о котором тот недавно рассказывал и осуществление которого даст возможность построить двигатель-маятник и позволит человеку летать, а старик ответил, что ничего не получится, так как маятник может запустить в воздух любой предмет, но только не самого себя. В четверг он снова появился в лаборатории и выглядел, как жалкий холмик земли, размытый дождем. «Машина времени испортилась, – почти рыдал он, – а Урсулы и Амаранты все нет». Аурелиано отчитал его, как ребенка, и старик покорно затих. Шесть часов подряд Хосе Аркадио Буэндия разглядывал вещи, стараясь определить, чем они отличаются от тех, какими они были вчера, пытаясь найти в них какие-нибудь изменения, которые говорили бы о ходе времени. Всю ночь он провел в постели, не смыкая глаз, призывая Пруденсио Агиляра, Мелькиадеса, всех усопших помочь ему в его мучительных исканиях. Но никто не откликнулся. В пятницу, пока все еще спали, он снова и снова выискивал сдвиги в природе, пока окончательно не убедился, что вокруг – понедельник. Тогда он вытащил из двери засов и в диком неистовстве, обретя былую страшную силу, стал крушить алхимические приборы, дагерротипные приспособления и ювелирную мастерскую, выкрикивая как одержимый заклинания на совершенно непонятном языке. Он уже собрался разнести вдребезги весь дом, но Аурелиано обратился за помощью к соседям. Потребовалось десять человек, чтобы свалить старика, четырнадцать, чтобы связать его, двадцать, чтобы прикрутить к каштану в патио, где он долго колотился спиной о ствол. Вопия на чужом языке, взбивая губами зеленую пену. Когда вернулись Урсула и Амаранта, он все еще был привязан за руки и за ноги к дереву, промок под дождем до нитки и абсолютно ничего не понимал. Они заговорили с ним, а он смотрел на них, не узнавая, и нес какую-то околесицу. Урсула сняла веревки с его запястий и щиколоток, но он как был привязан к каштану по пояс, так там и остался. Позже для него соорудили навес из пальмовых веток, чтобы защитить от солнца и дождя.
Аурелиано Буэндия и Ремедиос Москоте сочетались браком в одно из мартовских воскресений перед алтарем, который падре Никанор Рейна велел установить в большой гостиной. Этим событием завершили месяц великих треволнений в доме Москоте, ибо маленькая Ремедиос достигла половой зрелости раньше, чем простилась со своими игрушками. Хотя мать посвящала ее в секреты девичьего возраста, однажды вечером, в феврале, она ворвалась с дикими воплями в залу, где ее сестры беседовали с Аурелиано, и показала им панталончики, измазанные вроде бы густым какао. Был назначен месяц свадьбы. К этому времени успели научить Ремедиос самостоятельно мыться и одеваться и кое-что делать по дому. Ее сажали на теплые кирпичи, чтобы она отвыкла мочиться в постели. С трудом уговорили хранить таинство супружеских отношений, ибо, узнав некоторые подробности, Ремедиос была так поражена и вместе с тем пришла в такое восхищение, что сразу же захотела широко обсудить все детали первой ночи. Сил на нее было положено много, зато к назначенному дню свадьбы девочка разбиралась в житейских вопросах не хуже своих сестер. Дон Аполинар Москоте вел ее за руку по улице, украшенной цветами и гирляндами, гремела музыка нескольких оркестров и трещали хлопушки, а она помахивала ручкой и благодарила улыбкой тех, кто из окон желал ей счастья. Аурелиано в черном костюме и в лаковых ботинках с металлическими застежками, в тех самых, что он надел несколько лет спустя перед расстрелом, страшно бледный, онемевший от волнения, встретил невесту в дверях своего дома и повел к алтарю. Она держалась так непринужденно и спокойно, что не потеряла самообладания даже тогда, когда Аурелиано, приступая к обряду, уронил кольцо. Гости зашептались, всколыхнулись, а она продолжала стоять, вытянув руку в кружевной митенке и оттопырив безымянный палец, пока жених не прихлопнул ботинком кольцо, катившееся к двери, и не вернулся к алтарю, багровый от смущения. Мать и сестры ужасно боялись, как бы девочка не нарушила ход церемонии, и к концу так разнервничались, что сами допустили досадную оплошность, заставив ее поцеловать жениха. В этот день она проявила ту заботливость о других, природную смекалку и самообладание, которые и впредь отличали Ремедиос в щекотливых ситуациях. Именно она по собственной инициативе отрезала лучший кусок от свадебного пирога, припрятала, а потом отнесла на тарелке с вилкой Хосе Аркадио Буэндии. Привязанный к стволу каштана, выбеленный дождем и солнцем старец-великан, прикорнувший на деревянной скамеечке под пальмовым навесом, чуть улыбнулся в знак благодарности и взял пирог обеими руками, пришептывая какой-то псалом. Единственным несчастным человеком на этом бесподобном пиршестве, которое длилось с воскресенья всю ночь до рассвета, была Ребека Буэндия. Она тоже могла быть героиней праздника. С согласия Урсулы, ее свадьба должна была состояться в этот же самый день, но Пьетро Креспи получил в пятницу письмо, извещавшее, что его мать при смерти. Бракосочетание было отложено. Ровно через час по получении письма Пьетро Креспи отправился в столицу провинции, а по дороге чуть было не встретился со своей матерью, которая приехала в Макондо точнехонько к вечеру в субботу и пропела на свадьбе Аурелиано какую-то печальную итальянскую арию, разученную ею к свадьбе сына. Пьетро Креспи вернулся в воскресенье ночью – на поминки своего торжества, загнав пять лошадей в стремлении вовремя успеть к алтарю. Так и не удалось узнать, кто написал это письмо. В ответ на пристрастный допрос Урсулы Амаранта даже всплакнула от негодования и поклялась в своей невиновности перед алтарем, который плотники еще не разобрали до конца.
Падре Никанор Рейна – которого дон Аполинар Москоте привез откуда-то из низины для совершения бракосочетания – был духовно закален своим неблагодарным трудом. Тощий, если не костлявый старик, он, однако, имел заметное круглое брюшко, а выражением лица – скорее наивным, чем кротким – походил на престарелого ангела. Падре думал вернуться после свадьбы к своим прихожанам, но его ввергла в ужас душевная закоснелость жителей Макондо, которые благоденствовали в грехах и пороках, подчинялись только законам природы и ни детей не крестили, ни святых праздников не справляли. Уразумев, что нигде на земле сеятель Божий не принесет больше пользы, чем здесь, он решил остаться еще на неделю, чтобы крестить обрезанных и неверных, узаконить сожительства и отпустить грехи умирающим. Но никому до него не было дела. Ему отвечали, что испокон веков обходятся без священника, вымаливая спасение душ своих непосредственно у Господа Бога, и отнюдь не страшатся Судного дня. Устав вопиять в пустыне, падре Никанор вознамерился построить храм, самый большой в мире, с образами святых в натуральную величину и с цветными витражами снизу доверху, дабы из самого Рима приходил сюда народ славить Бога в этом средоточии безбожников. Он бродил по всему городу с медной плошкой, прося подаяние. Ему давали немало, но он желал больше, ибо храму нужен был такой колокол, чтобы от его трезвона всплывали утопленники. Падре Никанор взывал к щедрости так усердно, что сорвал голос. Ноги начинали гудеть от ходьбы. Однажды в субботу, увидев, что денег не набралось даже на двери храма, он с отчаяния не выдержал искуса. Соорудил на площади алтарь и в воскресенье обошел весь городок, позванивая колокольчиком, как звонили пришельцы во время эпидемии бессонницы, и созывая людей к мессе на свежем воздухе. Одни пришли из любопытства. Другие с тоски. Третьи – побаивались, как бы Бог не счел личным оскорблением невнимательное отношение к своему служителю. Таким образом, к восьми утра полгородка собралось на площади, где падре Никанор читал Евангелие осипшим от просьб о подаянии голосом. Наконец, когда присутствующие стали понемногу расходиться, он поднял руки, прося внимания.
– Одну минуту, – сказал он. – Сейчас вам будет предъявлено неоспоримое доказательство всемогущества нашего Господа Бога.
Мальчик, помогавший при богослужении, подал ему чашку густого дымящегося шоколада, падре Никанор залпом осушил ее, обтер губы платком, извлеченным из сутаны, распростер руки и зажмурился. И все увидели, что падре Никанор воспарил в двенадцати сантиметрах над поверхностью земли. Это был убедительный довод. Несколько дней подряд падре ходил по домам, повторяя свой опыт с левитацией после чашки шоколада, а служка тем временем набирал в мешок столько денег, что менее чем через месяц началось строительство храма. Никто не ставил под сомнение святость чуда, за исключением Хосе Аркадио Буэндии, который с полным безразличием взирал на людей, которые однажды собрались возле каштана, чтобы еще раз поглядеть на невиданное зрелище. Он лишь слегка потянулся, сидя на своей скамеечке, и пожал плечами, когда падре Никанор начал отрываться от земли вместе со стулом, на котором сидел.
– Hoc est simplicissimum, – сказал Хосе Аркадио Буэндия. – Homo iste statum quartum materie invenit[1].
Падре Никанор взмахнул рукой, и тут же все четыре ножки стула рухнули наземь.
– Nego, – сказал он. – Factum hoc existentiam Dei probat sinedubio[2].
Вот так стало известно, что дьявольская бессмыслица, которую нес Хосе Аркадио Буэндия, всего-навсего латынь. Падре Никанор воспользовался тем обстоятельством, что оказался единственным человеком, который может общаться с ним, и решил наставить на путь истинный эту заблудшую овцу. Каждый день он садился под каштаном и рассуждал по латыни о вере, но Хосе Аркадио Буэндия не поддавался воздействию ни риторических красот, ни шоколадных доказательств и в качестве единственного аргумента допускал только дагерротипный отпечаток Господа Бога. Падре Никанор приносил ему и образки, и оттиски с гравюр, и даже репродукцию платка Вероники, но Хосе Аркадио Буэндия глядеть не желал на эти ремесленные поделки, не имеющие отношения к науке. Он так твердо стоял на своем, что падре Никанор отказался от намерений обратить его в христианство и продолжал приходить к нему из чисто человеческих побуждений. Тут Хосе Аркадио Буэндия взял инициативу в свои руки и попытался рационалистическими хитросплетениями подорвать веру священника. Однажды падре Никанор принес с собой игральную доску и предложил сыграть в шашки. Хосе Аркадио Буэндия отказался, ибо, как он заявил, никогда не видел смысла в борьбе двух противников, если у них нет принципиальных разногласий. Падре Никанор, которому не случалось оценивать шашки с такой стороны, и здесь не смог его переубедить. С каждым разом все более удивляясь ясности ума Хосе Аркадио Буэндии, он спросил, почему того привязали к дереву.
– Hoc est simplicissimum, – был ответ. – Потому что я – безумец.
С той поры, опасаясь за собственную веру, священник перестал его навещать и все силы отдавал скорейшему возведению церкви. Ребека воспрянула духом. Ее замужество стало прямо зависеть от окончания строительства после одного воскресного обеда в их доме, когда падре Никанор и вся семья заранее восторгалась торжественностью и пышностью предстоящих богослужений в новом храме. «Ребеке первой выпадет счастье», – сказала Амаранта. Поскольку Ребека не поняла, что она этим хотела сказать, Амаранта пояснила с милой улыбкой:
– Ведь ты откроешь церковь своей свадьбой.
Ребека воздержалась от комментариев на эту тему.
Если строительство будет идти так, как шло, оно не завершится и через десять лет. Падре Никанор не согласился: щедрость верующих растет ото дня ко дню и позволяет надеяться на лучшее. Несмотря на тихую ярость Ребеки, которая больше не смогла проглотить за столом ни куска, Урсула одобрила мысль Амаранты и обещала внести солидный вклад для ускорения работ. Падре Никанор заметил, что будь еще одно такое благотворение, и храм воссияет через три года. С этого дня Ребека ни единым словом не обмолвилась с Амарантой, так как была убеждена, что за ее невинными словами кроется коварство. «Хорошо еще, что я чего-нибудь похуже не придумала, – сказала Амаранта в жестокой словесной перепалке, состоявшейся между ними ночью. – По крайней мере, мне не придется убивать тебя в ближайшие три года». Ребеке осталось принять вызов.
Когда Пьетро Креспи узнал о новой отсрочке, свет ему показался не мил, но Ребека представила неопровержимое доказательство своей верности. «Мы сбежим, когда ты захочешь», – сказала она. Пьетро Креспи, однако, не был так безрассуден. Он не обладал пылким нравом своей невесты и дорожил сделанным предложением так же, как богатством, которое грешно бросать на ветер. Тогда Ребека отважилась пойти судьбе наперекор. Таинственный ветер тушил лампы в большой гостиной, и Урсула заставала жениха и невесту за жаркими поцелуями в потемках. Пьетро Креспи что-то бормотал в свое оправдание о плохом качестве новейших масляных ламп и даже помогал ей оборудовать гостиную более надежными светильниками. Но назавтра либо масло кончалось, либо фитили обгорали, и Урсула опять застигала Ребеку на коленях жениха. В конце концов она перестала требовать объяснений. Возложила на индианку все заботы по хлебопечению и, сидя в кресле-качалке, следила за поведением молодых людей, полная решимости не дать провести себя фокусами, устаревшими еще в дни ее молодости. «Бедная мама, – говорила с досадливой усмешкой Ребека, глядя, как зевает Урсула в сонной атмосфере визитов. – Видно, и на том свете не расстаться ей с этой качалкой».
На исходе третьего месяца, потеряв всякое терпение при виде вяло растущей церкви, на которую он любовался каждый день, Пьетро Креспи решил дать падре Никанору денег для завершения постройки. Амаранта на это никак не реагировала. Болтая с подругами, которые ежедневно приходили рукодельничать в галерее, она вынашивала новые злокозненные планы. Один из них, по видимости наиболее действенный, нечаянно сорвался. Она вынула из комода все шарики нафталина, которые Ребека положила на свое подвенечное платье. И сделала это почти за два месяца до завершения работ в храме. Но Ребека, предвкушая скорую свадьбу и сгорая от нетерпения, решила заняться нарядом раньше, чем предполагала Амаранта. Выдвинув ящик комода, развернув сначала бумагу, а затем холст, она увидела, что все платье, кружево фаты и даже венок из флердоранжа изъедены молью. Хотя она была уверена, что положила в сверток две горсти нафталиновых шариков, беда так смахивала на несчастный случай, что она не решилась обвинить Амаранту. До свадьбы оставалось менее месяца, но Ампаро Москоте обещала сшить новый наряд за неделю. У Амаранты чуть не подкосились ноги, когда в один пасмурный полдень Ампаро внесла в дом пенное облако кружев для последней примерки платья. Амаранта лишилась дара речи, и струйка холодного пота поползла по ложбинке позвоночника. Многие месяцы она дрожала от страха в ожидании рокового часа, ибо твердо знала: если не удастся поставить непреодолимую препону на пути свадьбы Ребеки и исчерпана вся ее изобретательность, то в последний момент она найдет в себе силы отравить Ребеку. В этот день, когда Ребека млела от жары в атласном панцире, который Ампаро Москоте закрепляла на ней с помощью тысячи булавок и с превеликим терпением, Амаранта успела не раз испортить вышивку и уколоть палец иглой, но с ужасающим спокойствием установила срок – последняя пятница до свадьбы и способ – добрая доза морфия в чашку кофе.
Но тут сама собой возникла преграда, внезапная и неотвратимая, и снова отодвинула бракосочетание на неопределенное время. За неделю до свадьбы маленькая Ремедиос проснулась в полночь, обливаясь горячей жижей, которая клокотала внутри нее и которую она срыгивала в страшных конвульсиях, а через три дня она погибла, отравленная собственной кровью и с двумя близнецами, заблудившимися в ее чреве. Амаранта чуть не умерла от угрызений совести. Ведь она пылко просила Бога сотворить нечто страшное, чтобы не надо было убивать Ребеку, и теперь чувствовала себя виноватой в смерти Ремедиос. Нет, не о такой препоне она молила. Ремедиос впорхнула в дом, как дуновение радости. Она устроилась с мужем в комнате рядом с мастерской, где поселились также куклы и игрушки ее вчерашнего детства, а ее восторженное жизнелюбие вырывалось из четырех стен спальни и, как пышущий здоровьем и радостью ветерок, неслось по галерее с бегониями. Она пела с самой зари. Одна она отваживалась вмешиваться в ссоры Ребеки и Амаранты. Она взяла на себя тяжкий труд ухаживать за Хосе Аркадио Буэндией. Приносила еду, помогала ему отправлять ежедневные надобности, мыла его мочалкой с мылом, вычесывала вшей и гнид из бороды и волос на голове, следила за навесом, накрывая пальмовые листья брезентом в дни бурь и дождей. В последние месяцы она уже могла обмениваться с ним фразами на примитивной латыни. Когда родился сын Аурелиано от Пилар Тернеры и был принят в семью, крещен в отчем доме и наречен Аурелиано Хосе, Ремедиос решила, что он будет ее старшим сыном. Сила ее материнского инстинкта приводила Урсулу в изумление. Аурелиано, со своей стороны, обрел в жене смысл жизни, ради которого стоило жить. Все дни напролет он работал в мастерской, а Ремедиос носила ему туда по утрам черный кофе. Каждый вечер они навещали семейство Москоте. Аурелиано с тестем без конца играли в домино, Ремедиос болтала с сестрами о пустяках или разговаривала с матерью о делах хозяйственных. Родственная связь с семьей Буэндия укрепила в городке авторитет дона Аполинара Москоте. Во время частых посещений главного города провинции он добился того, что власти построили школу и поручили преподавание Аркадио, который унаследовал склонность своего деда к поучениям и наставлениям. Дон Аполинар сумел убедить большинство жителей покрасить дома в синий цвет ко дню национальной независимости. Велел по ходатайству падре Никанора перенести заведение Катарины на окраинную улицу и ликвидировал немало злачных мест в центре городка. Однажды он привез с собой из столицы шестерых полицейских с ружьями и возложил на них обязанность следить за порядком, и никто даже не вспомнил о его стародавнем обете не держать в Макондо вооруженную стражу. Аурелиано нравилась домовитость тестя. «Ты станешь таким же дородным, как он», – говорили ему друзья. Но от сидячего образа жизни у него лишь рельефнее обозначились скулы, а пламя в глазах разгорелось ярче, но его вес не увеличился и не изменилась его рассудительная натура, хотя твердая линия плотно сжатых губ говорила о долгих одиноких раздумьях и непреклонной решимости. Любовь, которую он и его супруга сумели пробудить к себе в обеих семьях, была такой сильной, что даже Ребека и Амаранта временно прекратили перебранки, когда Ремедиос объявила, что ждет ребенка, и принялись вязать приданое – из голубой шерсти, если будет мальчик, и из розовой шерсти, если родится девочка. Она была последней в ряду тех, о ком вспомнил Аркадио несколько лет спустя, стоя у стены перед расстрелом.
Урсула соблюдала траур, держа на запоре и окна и двери: никто не смел ни входить и ни выходить из дому, кроме как по безотлагательным делам; она запретила громко говорить в течение года и установила дагерротип Ремедиос на том месте, где стоял гроб во время бдения, прикрыла угол снимка черной лентой и зажгла пред ним вечную лампадку. Будущие поколения, всегда поддерживавшие этот огонек, с недоумением взирали на девочку в плиссированных юбках, белых башмачках и с муслиновым бантом на волосах, которая в представлении потомков никак не вязалась с каноническим образом прабабушки. Амаранта взяла на себя заботу об Аурелиано Хосе. Она видела в нем сына, который скрасит ей одиночество и избавит от проклятого морфия, который ее безрассудная мольба бросила в кофе Ремедиос. По вечерам в дом на цыпочках входил Пьетро Креспи с черной лентой на шляпе, чтобы нанести молчаливый визит так называемой невесте, от которой, казалось, скоро останется одно имя в черном платье с длинными, до пальцев, рукавами. Сама мысль о назначении нового дня свадьбы представлялась такой кощунственной, что помолвка стала неким обычным состоянием, всем надоевшей любовью, которой уже никто не интересовался, будто влюбленные, когда-то нарочно гасившие лампы, чтобы целоваться во мгле, были отданы на откуп смерти. Потеряв всякую надежду, совершенно пав духом, Ребека снова стала есть землю.
Неожиданно – когда траур длился уже так долго, что возобновились обычные сборища вышивальщиц крестиком, – кто-то в два часа дня среди жаркой мертвенной тишины с такой силой двинул с улицы в дверь, что в доме задрожали стены. Амаранта с подругами в галерее, Ребека, сосавшая палец в спальне, Урсула на кухне, Аурелиано в мастерской и даже Хосе Аркадио Буэндия под своим одиноким каштаном подумали, что дом содрогнулся от подземного толчка. Вошел диковинный человек. Его квадратные плечи едва протиснулись в дверь. На бычьей шее болтался образок святой Девы Ремедиос, руки и грудь были сплошь изукрашены странной татуировкой, а правое запястье схвачено широким медным браслетом. Кожа, дубленная всеми ветрами, волосы, короткие и жесткие, как грива у мула, мощные челюсти и грустный взгляд. На нем был пояс вдвое толще лошадиной подпруги и кованные железом ботфорты со шпорами, а его вторжение в дом очень походило на начало землетрясения. Он пересек прихожую и гостиную, таща на плече потрепанные сумы, и громыханьем шагов потряс до основания галерею с бегониями, где Амаранта и ее подруги застыли с иглами в поднятых руках. «Здрасьте», – сказал он им устало, бросил сумы на рабочий стол и пошел дальше, в глубь дома. «Здрасьте», – сказал он испуганной Ребеке, проходя мимо двери ее спальни. «Здрасьте», – сказал он Аурелиано, который всеми пятью чувствами был погружен в ювелирную работу. Человек нигде не останавливался. Шел прямо на кухню и там, в конце пути, который начался на другом конце света, впервые остановился. «Здрасьте», – сказал он. Урсула на долю секунды замерла с растопыренными пальцами, взглянула ему в глаза, вскрикнула и повисла у него на шее, охая и плача от радости. Это был Хосе Аркадио. Он вернулся с тем, с чем ушел, Урсуле даже пришлось дать ему два песо расплатиться за лошадь. Его речь была нашпигована словами из жаргона моряков. У него спросили, где он побывал, он кратко ответил: «Да там». Повесил гамак в отведенной ему комнате и проспал три дня подряд. Потом проснулся, съел шестнадцать крутых яиц и прямо направился к заведению Катарины, где его исполинская фигура вызвала у женщин паническое любопытство. Он заказал музыку и спиртное на всех. Поспорил, что пятерым мужчинам не под силу согнуть ему руку. «Не сладить, – согласились они, убедившись, что рука не поддается. – У него колдовской браслет». Катарина, видевшая в силовых трюках один обман, поспорила на двенадцать песо, что он не сдвинет с места стойку. Хосе Аркадио оторвал стойку от пола, поднял над головой и вышвырнул на улицу. Одиннадцать человек едва втащили ее обратно. В разгар вечеринки он положил на стойку свою потрясающую мужскую принадлежность, сплошь покрытую татуировкой – плотной вязью красных и синих автографов на разных языках. Женщин, у которых глаза разгорелись от вожделения, он спросил, кто из них может дать кучу денег? Только у одной нашлось больше, чем у других: двадцать песо. Тогда он предложил женщинам разыграть его в лотерею и каждой внести по десять песо в качестве ставки. Это была безумная цена, потому что самая расхожая женщина зарабатывала восемь песо за целую ночь, но все согласились. Они написали свои имена на четырнадцати бумажках, бросили их в шляпу и затем вытаскивали по одной бумажке. Когда в шляпе осталось две записки, были оглашены означенные в них имена.
– Пусть обе накинут еще по пять песо, – предложил Хосе Аркадио, – и я ублажу обеих.
Этим он жил. До того сумел шестьдесят пять раз обернуться вокруг земли, завербовавшись в команду морских бродяг. Женщины, переспавшие с ним той ночью в заведении Катарины, втащили его нагим в танцевальную залу, чтобы все видели, что у него на теле нет живого местечка без татуировки, ни сзади, ни спереди, от шеи и до самых пят. Он не очень старался войти в семью. Днем спал, а по ночам прирабатывал в веселых домах, пуская в ход свою силищу. В редких случаях, когда Урсуле удавалось посадить его за стол, он завладевал всеобщим вниманием, особенно когда рассказывал о своих приключениях в дальних странах. Как-то, после кораблекрушения, ему пришлось две недели дрейфовать на плоту в Японском море и питаться мясом умершего от солнечного удара товарища, чье мясо, просоленное и пересоленное волнами и провяленное под солнцем, было жестким, но сладким на вкус. Однажды в Бенгальском заливе в жаркий полуденный час его корабль пришиб морского дракона, в чьем брюхе люди нашли шлем, пряжки и оружие крестоносца. В Карибском море он видел призрак пиратского брига Виктора Юга с парусами, истрепанными ветром смерти, с мачтами, источенными морскими тараканами, обреченного на то, чтобы сбиваться с курса и никогда не дойти до Гваделупы. Урсула плакала за столом, будто читала письма, которые так и не попали домой, где Хосе Аркадио повествовал о своих подвигах и злоключениях. «А дома-то столько места, сынок, – всхлипывала она. – И столько еды кидаем свиньям!» Но она никак не могла свыкнуться с мыслью, что мальчик, ушедший с цыганами, стал вот этим неотесанным верзилой, который за обедом съедает полпоросенка и от кишечных выхлопов которого вянут цветы. Нечто подобное испытывали и остальные домочадцы. Амаранта не могла скрыть отвращения, которое у нее вызывало его смачное рыгание за столом. Аркадио, не знавший и не узнавший тайны своего усыновления, едва успевал отвечать на вопросы, которые задавал ему Хосе Аркадио, стараясь завоевать его симпатию. Аурелиано пытался напомнить брату о временах, когда они спали в одной комнате, старался воскресить былые отношения друзей-сообщников, но Хосе Аркадио начисто о них забыл, потому что морская стихия доверху загрузила его память другими вещами. Одна Ребека была сражена с первой минуты. В тот самый день, когда он прошагал мимо открытой двери ее спальни, ей вдруг подумалось, что Пьетро Креспи – просто кренделек из сладкого теста в сравнении с этим самцом-громовержцем, чье жаркое дыхание накалило весь дом. Она то и дело попадалась ему на глаза. Как-то раз Хосе Аркадио оглядел ее без стеснения с головы до ног и заметил: «Ты – баба хоть куда, сестренка». Ребека совсем потеряла голову. Она опять стала жадно есть землю и известку, как раньше, и сосала палец с таким усердием, что натерла на нем мозоль. Ее рвало зеленой слизью с дохлыми пиявками. Она не спала ночами, дрожа как в лихорадке, борясь с наваждением, ожидая, когда же опять содрогнется дом на рассвете, впуская Хосе Аркадио. Однажды, в часы сиесты, когда все спали, она не выдержала и вошла к нему в комнату. Он не спал, лежал в одних коротких подштанниках на брезентовом гамаке, привязанном к крюкам канатами, которыми швартуют корабли. Ее так поразила эта массивная расписная нагота, что она чуть не отпрянула от порога. «Извините, – стала она оправдываться. – Я не знала, что вы здесь». Но понизила голос, чтобы никто не проснулся. «Иди сюда», – сказал он. Ребека повиновалась. Она прижалась к гамаку, исходя ледяным потом, ощущая схватки в кишках, а Хосе Аркадио поглаживал ей кончиками пальцев щиколотки, потом икры, потом ляжки, приговаривая: «Ох, сестренка, ох, сестренка». Невероятным усилием воли она заставила себя остаться в живых, когда ураганная, но очень целеустремленная сила взметнула ее вверх, подхватив за талию, и тремя зверскими рывками содрала с нее белье, и раздавила ее, как цыпленка. Она едва успела сказать Богу спасибо за то, что родилась, и тут же обезумела от невероятного наслаждения и невыносимой боли, в паркой трясине чавкающего гамака, который впитывал, подобно промокашке, выплески ее крови. Три дня спустя они сочетались браком на мессе в пять часов вечера. Накануне Хосе Аркадио зашел в магазин Пьетро Креспи. Тот давал урок игры на цитре, но гость и не подумал отозвать его в сторону. «Я женюсь на Ребеке», – сказал Хосе Аркадио. Пьетро Креспи побелел, отдал цитру одному из учеников и сказал, что урок окончен. Когда они остались одни в салоне, полном музыкальных инструментов и заводных игрушек, Пьетро Креспи сказал:
– Она ваша сестра.
– Мне все равно, – сказал Хосе Аркадио. Пьетро Креспи вытер лоб платком, благоухающим лавандой.
– Это – вопреки природе, – объяснил он, – и, кроме того, запрещено законом. Стыд и срам.
Хосе Аркадио взбесила не столько ученость, сколько бледность Пьетро Креспи.
– На срам я… на стыд – тьфу! И не суйтесь к Ребеке ни с какими расспросами. Вот что я вам скажу.
Его шумная ярость поутихла, когда он заметил слезы в глазах Пьетро Креспи.
– Ладно, – продолжил он примирительно, – если вам очень по вкусу наша семья, остается еще Амаранта.
Падре Никанор объявил в своей воскресной проповеди, что Хосе Аркадио и Ребека – не брат и сестра. Урсула же не могла им простить такого, как она считала, бесстыдного попрания домашних устоев и, когда молодые вернулись из церкви, не пустила их на порог. Для нее они перестали существовать. Им пришлось снять домик рядом с кладбищем и устроить там себе жилье, а гамак Хосе Аркадио служил кроватью. Вечером после свадьбы Ребеку укусил скорпион, забравшийся в ночную туфлю. У нее отнялся язык, но это не помешало им неистово тешиться в медовый месяц. Соседей пугали вопли, будившие весь квартал раз по восемь за ночь и до трех раз после дневной сиесты: люди молили Бога, чтобы такая бешеная страсть не нарушила покой мертвых на кладбище.
Из родных только Аурелиано позаботился о них. Купил им кое-что из мебели и ссужал их деньгами, пока Хосе Аркадио не пришел в себя и не взялся за ум, принявшись возделывать пустырь по соседству с домом. Амаранта, вопреки всему, так и не смогла превозмочь свою ненависть к Ребеке, хотя жизнь возместила ей страдания таким подарком, о котором она и не мечтала. По настоянию Урсулы, которая не знала, чем поправить положение, Пьетро Креспи, как и прежде, обедал по вторникам в доме Буэндии, пережив горе со спокойным достоинством. В знак уважения к семейству он не снял черную ленту со шляпы и утешался тем, что выражал свою глубокую симпатию Урсуле, делая ей разные экзотические подношения – то португальские сардины, то мармелад из турецких роз, а однажды преподнес прелестную шаль из Манилы. Амаранта относилась к нему с нежным вниманием. Угадывала его желания, сдувала пылинки с манжет рубашки и ко дню рождения вышила его инициалы на дюжине носовых платков. Когда она рукодельничала в галерее, он – по вторникам после обеда – развлекал ее разговорами. Для Пьетро Креспи эта девушка, с которой он всегда обращался, как с ребенком, стала открытием. Хотя она не отличалась особой женственностью, ей были присущи и тонкость восприятия, и глубина чувств. В один из вторников, когда никто уже не сомневался в том, что это рано или поздно произойдет, Пьетро Креспи попросил ее выйти за него замуж. Она не оторвала глаз от вышивания. Подождала, пока схлынет жаркая краска с ушей, и постаралась ответить в назидательно-спокойном тоне зрелой женщины.
– Я не возражаю, Креспи, – сказала она, – но нам следует лучше узнать друг друга. В таких делах не стоит торопиться.
Урсула была в растерянности. Хотя она очень уважала Пьетро Креспи, ее терзали сомнения: было ли его решение с точки зрения морали приемлемым или нет, после столь долгой и нашумевшей помолвки с Ребекой. Кончилось тем, что она стала считать помолвку Амаранты просто свершившимся фактом, ибо никто не разделял ее мучений. Аурелиано, который стал хозяином дома, отнюдь не успокоил ее своим загадочным и категоричным суждением:
– Сейчас не время забивать голову свадьбами.
Эти слова, смысл которых Урсула поняла только месяцы спустя, правдиво отражали в тот момент отношение Аурелиано не только к свадьбам, но ко всему, что не касалось войны. Он сам, глядя в дула ружей перед расстрелом, не сможет толком понять, как соединились в неразрывную цепь мелкие, но неотвратимые случайности, которые довели его до беды. Смерть Ремедиос не обернулась таким потрясением, какого он страшился. Скорее вызвала глубокий гневный протест, постепенно растворившийся в тихом и тоскливом чувстве обманутых надежд, которое походило на то, что он испытал, когда решил прожить жизнь без женщины. Он снова ушел с головой в работу, но не оставил привычку играть в домино со своим тестем. В доме, который траур окутал тишиной, ночные беседы крепче сдружили обоих мужчин. «Женись еще раз, Аурелиано, – говорил ему тесть. – У меня шесть дочерей, одна другой лучше». Однажды, в канун выборов, дон Аполинар Москоте вернулся из своей очередной поездки, немало озабоченный политическим положением в стране. Либералы собрались идти войной на консерваторов. Поскольку Аурелиано в те времена смутно представлял себе, чем различаются консерваторы и либералы, тесть просвещал его словами краткими и вразумительными. Либералы, говорил коррехидор, это масоны, плохие люди, готовые вешать на деревья священников, позволить гражданский брак и развод, наделить незаконнорожденных такими же правами, как и законных детей, и разорвать страну на куски, объявить ее федерацией, чтобы не было никакой высшей власти. Консерваторы, которые получили власть непосредственно от Бога, напротив, борются за строгий порядок в обществе и за крепкие семейные устои; они всегда были защитниками веры Христовой и единой верховной власти и не намерены позволить, чтобы страну разобрали на автономные части. Исходя из принципа гуманности, Аурелиано был солидарен с либералами в отношении прав для незаконнорожденных, но не мог понять, зачем надо впадать в такую крайность, как война, из-за вещей, которых нельзя потрогать руками. Он считал совершенно никчемной затею тестя вызвать еще шесть солдат с ружьями под командой сержанта наблюдать за выборами в городке, чуждом всяких политических страстей. Как только солдаты прибыли в Макондо, они тут же стали шнырять по домам и конфисковывать охотничьи принадлежности, мачете и даже кухонные ножи, а потом раздали мужчинам старше двадцати одного года голубые бумажки с именами кандидатов от консерваторов и красные бумажки с именами кандидатов от либералов. Накануне выборов, в субботу, дон Аполинар Москоте лично зачитал указ, запрещавший с полуночи и в течение двух последующих суток продавать алкогольные напитки и собираться более чем по трое, если это не члены одной семьи. Выборы прошли без инцидентов. Около восьми утра в воскресенье на площади была установлена деревянная урна, охраняемая шестью солдатами. Голосовали абсолютно свободно, в чем вполне мог убедиться сам Аурелиано, который провел весь день вместе со своим тестем, следя за тем, чтобы никто не проголосовал более одного раза. В четыре часа дня громкая барабанная дробь на площади возвестила об окончании процедуры, и дон Аполинар Москоте опечатал урну бумажкой со своей подписью. В тот же самый вечер, играя в домино с Аурелиано, коррехидор велел сержанту сорвать наклейку и пересчитать голоса. Красных бумажек и голубых оказалось почти поровну, но сержант оставил только десять красных, а вместо остальных положил голубые. Затем урна была снова опечатана бумажкой и поутру отвезена в столицу провинции. «Либералы уж точно пойдут воевать», – сказал Аурелиано. Дон Аполинар не отрывал взгляда от своих фишек. «Если имеешь в виду подмену бюллетеней, не пойдут, – сказал он. – Там оставлено несколько красных, чтобы не дать им повода». Аурелиано понял, как тяжко приходится оппозиции. «Если бы я был либералом, – сказал он, – я пошел бы воевать из-за этого трюка с бумажками». Тесть посмотрел на него поверх очков.
– Эх, Аурелиано, – сказал он, – если бы ты был либералом, то, хоть ты мне зять, не видать бы тебе подмены бюллетеней как своих ушей.
Городок привели в волнение вовсе не результаты выборов, а то, что солдаты не вернули назад ни ножей, ни ружей. Толпа женщин насела на Аурелиано с просьбой добиться от тестя разрешения получить кухонные ножи. Дон Аполинар Москоте сообщил зятю под строжайшим секретом, что солдаты увезли с собой конфискованное оружие в качестве доказательства того, что либералы готовятся к войне. Аурелиано оторопел от циничного откровения. Он ничего не сказал, но однажды вечером, когда в его присутствии Херинельдо Маркес и Магнифико Висбаль обсуждали с друзьями пропажу кухонных ножей, ему был задан вопрос: ты кто, либерал или консерватор? Аурелиано, не колеблясь, ответил:
– Если надо быть кем-то, я стал бы либералом, – сказал он, – потому что консерваторы – жулики.
На следующий день по настоянию друзей Аурелиано пошел на прием к доктору Алирио Ногере, чтобы тот избавил его якобы от колик в печени. Он даже не знал, в чем истинный смысл этой затеи. Доктор Алирио Ногера приехал в Макондо несколько лет назад с саквояжем таблеток без вкуса и запаха и с врачебным девизом, который звучал настораживающе: «Клин клином вышибай». В действительности он был просто очковтиратель. Невинное обличье безвестного медика маскировало террориста, который высокими ботинками прикрывал на щиколотке шрамы, оставшиеся от кандалов, которые он таскал пять лет. Его схватили во время первой федералистской вылазки, но он сумел бежать на остров Кюрасао, облачившись в ненавистную ему одежду – сутану. К концу своего продолжительного изгнания, взбудораженный волнующими известиями, которые доставляли на Кюрасао беженцы из всех карибских государств, он отплыл оттуда на шхуне контрабандистов и объявился в Риоаче с кучей своих пилюлек, которые были не более чем кусочками сахара-рафинада, и с дипломом Лейпцигского университета, собственноручно им изготовленным. И от разочарования пролил слезы. Весь пыл федералистов, который представлялся беглецам огнем бикфордова шнура, угас вместе с зыбкими предвыборными надеждами. Убитый горем, жаждущий только одного – прибиться к тихой пристани, где можно скоротать годы старости, мнимый гомеопат обосновался в Макондо. И жил там уже несколько лет в маленькой, заваленной пустыми пузырьками комнатушке за счет неизлечимых больных, которые, испробовав все средства, утешались сахарными пилюльками. Его агитаторские таланты дремали, пока представитель власти, дон Аполинар Москоте, был чисто декоративной фигурой. Все свободное время доктора Ногеры уходило на яркие воспоминания и на борьбу с собственной астмой. Близость выборов стала той путеводной нитью, за которую он снова уцепился, чтобы размотать клубок подрывных настроений. Доктор установил контакты с молодыми людьми городка, политически не искушенными, и развернул тайную подстрекательскую кампанию. Многочисленные красные бюллетени, брошенные в урну, – что дон Аполинар Москоте отнес за счет безответственности, свойственной молодым, – составили часть его плана; он погнал своих учеников голосовать, дабы они сами убедились: выборы – сплошной фарс. «Единственно действенный способ борьбы, – говорил он, – насилие». Большинство приятелей Аурелиано вдохновились идеей разрушить консервативный строй, но никто не решался доверить ему свои мечты, и не только из-за родственных связей с коррехидором, а из-за его уклончивости и замкнутости. Кроме того, все знали, что по наущению тестя Аурелиано опустил в ящик голубой бюллетень. Таким образом, лишь простая случайность выявила его истинные политические пристрастия и только чистое любопытство побудило пойти на такую глупую авантюру, как посещение врача с целью пожаловаться на придуманную болезнь. В грязной тесной клетушке, где пахло затхлостью и камфарой, его встретило существо, похожее на замшелую игуану, легкие которой тихо посвистывали при вдохе и выдохе. Ничего не спрашивая, доктор подвел Аурелиано к окну, оттянул ему нижнее веко и стал внимательно рассматривать. «Не тут, – сказал Аурелиано, как его научили. Нажал кончиками пальцев на печень и добавил: – Вот здесь. Так болит, что я ночи не сплю». Тогда доктор Ногера занавесил окно – мол, слишком жарит солнце – и простыми словами объяснил, почему долг всех патриотов – уничтожить всех консерваторов. В течение нескольких дней Аурелиано носил в кармане флакончик. Каждые два часа открывал пробку, вытряхивал на ладонь три пилюли, кидал их на язык и медленно сосал. Дон Аполинар Москоте подсмеивался над его верой в гомеопатию, но зато заговорщики видели, что это свой человек. Почти все взрослые отпрыски основателей Макондо впутались в это дело, хотя никто из них не знал, какова конкретная цель заговора, который их сплотил. Однако, когда доктор открыл эту тайну Аурелиано, тот сразу поставил крест на своем участии. Хотя он был убежден в необходимости быстрейшим образом покончить с режимом консерваторов, план действий его ужаснул. Доктор Ногера был фанатичным сторонником индивидуального террора. Его стратегия сводилась к такой организации отдельных покушений, чтобы в итоге нанести единый мощный удар государственного масштаба и разом убрать всех правительственных чиновников вместе с их семьями, а главное – прихлопнуть детей, вырвать консерваторов с корнями. Дон Аполинар Москоте, его супруга и шесть их дочерей, конечно, значились в списках.