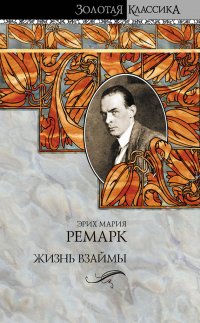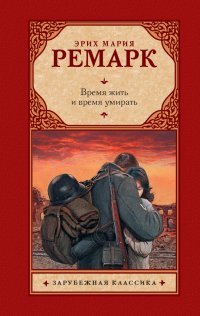Читать онлайн Ночь в Лиссабоне бесплатно
- Все книги автора: Эрих Мария Ремарк
Erich Maria Remarque
DIE NACHT VON LISSABON
Печатается с разрешения The Estate of the Late Paulette Remarque и литературных агентств Mohrbooks AG Literary Agency и Synopsis Literary Agency.
© The Estate of the late Paulette Remarque, 1962
© Перевод. Н. Н. Федорова, 2017
© Издание на русском языке AST Publishers, 2017
Исключительные права на публикацию книги на русском языке принадлежат издательству AST Publishers.
Любое использование материала данной книги, полностью или частично, без разрешения правообладателя запрещается.
***
Эрих Мария Ремарк прожил яркую жизнь: воевал на фронтах Первой мировой войны, но остался цел, увлекался автогонками, не не разбился, избежал нацистских преследований, хотя его сестра была казнена фашистами, а его книги жгли на кострах.
Им зачитывались многие поколения читателей по всему миру, но Нобелевскую премию он так и не получил. Романы со знаменитыми актрисами, среди которых была сама Марлен Дитрих, бесконечные переезды из Германии в США, из США в Швейцарию, писательство, критика, журналистика…
В России Ремарка любили и читали всегда. Пожалуй, и до сих пор он – самый популярный зарубежный писатель XX века в России.
1
Я не сводил глаз с корабля. Ярко освещенный, он стоял поодаль от набережной, на Тежу. В Лиссабоне я находился уже неделю, но пока еще не привык к беспечному свету этого города. В тех краях, откуда я приехал, города по ночам тонули во мраке, черные, как угольные копи, а фонарь в темноте был опаснее чумы в Средние века. Я приехал из Европы двадцатого столетия.
Корабль – пассажирский пароход – стоял на погрузке. Я знал, что в море он должен выйти завтра вечером. В резком свете голых электрических ламп в трюмы загружали мясо, рыбу, консервы, хлеб и овощи; докеры тащили на борт багаж, а кран так бесшумно подносил ящики и тюки, будто они ничего не весили. Пароход готовился к рейсу, как ковчег времен потопа. Да это и был ковчег. Любой корабль, покидавший Европу в эти месяцы 1942 года, был ковчегом. Горой Арарат была Америка, а воды потопа день ото дня поднимались. Они давным-давно поглотили Германию и Австрию, затопили Польшу и Прагу; Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло и Париж уже ушли на дно, города Италии пахли потопом, да и в Испании стало небезопасно. Побережье Португалии сделалось последним пристанищем для беглецов, которые превыше родины и существования ценили справедливость, свободу и терпимость. Для того, кто не мог добраться отсюда в обетованную землю, в Америку, все было кончено. Ему назначено обессилеть в дебрях отказов во въездных и выездных визах, недостижимых разрешений на работу и жительство, лагерей для интернированных, бюрократии, одиночества, чужбины и страшного всеобщего безразличия к судьбе одиночки, какое неизбежно порождают война, страх и нищета. Человек в это время был уже ничем, действительный паспорт – всем.
После обеда я играл в казино, в Эшториле[1]. Мой костюм выглядел пока вполне прилично, и меня туда пропустили. То была последняя, отчаянная попытка подкупить судьбу. Через несколько дней португальское разрешение на жительство истекало, а других виз мы с Рут не имели. Корабль, стоящий на Тежу, – последний, и во Франции мы надеялись отправиться на нем в Нью-Йорк; но все билеты оказались распроданы много месяцев назад, а нам, кроме американской въездной визы, недоставало еще и трехсот с лишним долларов на переезд. Я пытался достать хотя бы денег, единственным способом, какой здесь пока что был возможен, – игрой. Попытка бессмысленная, ведь даже если б я выиграл, попасть на корабль мы могли бы только чудом. Но отчаяние и опасность учат беглеца верить в чудеса – иначе-то не выживешь. Из шестидесяти двух долларов, какие у нас еще оставались, пятьдесят шесть я проиграл.
Поздней ночью набережная была почти безлюдна. Однако немного погодя я заметил мужчину, который бесцельно расхаживал туда-сюда, останавливался и, как и я, смотрел на корабль. Наверно, тоже один из многих потерпевших крушение, подумал я и уже не обращал на него внимания, пока не почувствовал, что он глядит на меня. Страх перед полицией не покидает беглеца никогда, даже во сне, даже когда бояться нечего, – поэтому я тотчас скучливо отвернулся и не спеша пошел прочь, как человек, которому совершенно нечего опасаться.
Вскоре я услышал за спиной шаги. Но продолжал идти не спеша, раздумывая, как бы известить Рут, если меня арестуют. Пастельные дома, которые спали в конце набережной, точно мотыльки в ночи, были еще слишком далеко, чтобы я без риска получить пулю добежал до них и исчез в переулках.
Незнакомец поравнялся со мной. Ростом он был чуть ниже меня.
– Вы немец? – спросил он по-немецки.
Не останавливаясь, я покачал головой.
– Австриец?
Я не ответил. Смотрел на пастельные дома, приближавшиеся слишком медленно. Знал ведь, что некоторые португальские полицейские прекрасно говорят по-немецки.
– Я не полицейский, – сказал мужчина.
Я ему не поверил. Он был в штатском, но в Европе меня раз пять задерживали жандармы в штатском. Сейчас документы у меня есть, причем неплохие, сделанные в Париже пражским профессором математики, но не вполне подлинные.
– Вы смотрели на корабль, – сказал мужчина. – Вот я и подумал…
Я смерил его равнодушным взглядом. На полицейского не похож; впрочем, последний жандарм, сцапавший меня в Бордо, выглядел жалостно, прямо как Лазарь после трех дней во гробе, а оказался самым безжалостным из всех. Взял меня под арест, хотя знал, что через день в Бордо войдут немецкие войска и тогда все, спета моя песенка, но, к счастью, через несколько часов жалостливый директор тюрьмы отпустил меня на свободу.
– Хотите в Нью-Йорк? – спросил мужчина.
Я не ответил. Еще двадцать метров – и при необходимости можно оттолкнуть его и смыться.
– У меня есть два билета на пароход, который стоит вон там, – сказал мужчина и полез в карман.
В самом деле билеты. Хотя в тусклом освещении ничего не прочтешь. Но мы уже достаточно близко от домов. Можно рискнуть и остановиться.
– Что все это значит? – спросил я по-португальски. На несколько слов моих познаний хватало.
– Вы можете их получить, – сказал он. – Мне они не нужны.
– Не нужны? Что это значит?
– Больше не нужны.
Я смотрел на незнакомца. И не понимал его. Кажется, он и вправду не полицейский. Чтобы арестовать меня, в таких нелепых уловках нет необходимости. Но если билеты подлинные, то почему он не может ими воспользоваться? И почему предложил их мне? Чтобы продать? Что-то во мне затрепетало.
– Я не могу их купить, – в конце концов сказал я по-немецки. – Они стоят целое состояние. В Лиссабоне, говорят, есть богатые эмигранты, они заплатят вам, сколько запросите. Вы обратились не по адресу. У меня денег нет.
– Я не хочу их продавать, – сказал он.
Я опять посмотрел на билеты:
– Они настоящие?
Ни слова не говоря, он протянул их мне. Они хрустнули в моих руках. Настоящие. Обладание ими – рывок от гибели к спасению. Я, правда, не мог ими воспользоваться, потому что у нас не было американских виз, но мог завтра утром еще попробовать с их помощью получить визы… или хотя бы продать их. Это означало лишних шесть месяцев жизни. Я не понимал этого человека.
– Я вас не понимаю, – сказал я.
– Вы можете получить их, – отвечал он. – Даром. Завтра утром я уеду из Лиссабона. Но у меня есть одно условие.
Я опустил руки. Так и знал, это не может быть правдой.
– Какое же? – спросил я.
– Мне бы не хотелось оставаться этой ночью одному.
– Вы хотите, чтобы я был с вами?
– Да. До завтрашнего утра.
– И все?
– Все.
– Больше ничего?
– Ничего.
Я недоверчиво смотрел на него. Привык, конечно, что люди вроде нас порой не выдерживали, часто не могли оставаться одни, страдали агорафобией, как те, кому уже нигде нет места, и товарищ в ночи, пусть даже совершенно незнакомый, может спасти от самоубийства, но в таких случаях помогать друг другу вполне естественно, и никакую цену за это не назначали. Тем паче такую.
– Где вы живете? – спросил я.
Он отмахнулся.
– Туда я не хочу. Здесь найдется ресторанчик, где можно посидеть?
– Наверняка найдется.
– А нет такого, чтоб для эмигрантов? Вроде парижского кафе «Роза»?
Кафе «Роза» я знал. Две недели мы с Рут там ночевали. Хозяин позволял, если закажешь кофе. Приносишь газеты и устраиваешься на полу. На столах я не спал никогда; с полу не упадешь.
– Такого я не знаю. – Вообще-то я знал один, но человека, у которого есть два билета на пароход, не водят туда, где народ глаз себе выколет, лишь бы их заполучить.
– Я знаю здесь только одно заведение, – сказал незнакомец. – Но можно попытаться. Вдруг там еще открыто.
Он подозвал одинокое такси, взглянул на меня.
– Ладно, – сказал я.
Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Хорошо бы сообщить Рут, что этой ночью я не вернусь; но, когда я садился в дурно пахнущее, темное такси, меня вдруг захлестнула такая отчаянная, жуткая надежда, что я едва устоял на ногах. Может, все это и в самом деле правда, может, наша жизнь еще не кончилась и невозможное сбудется – наше спасение. Я уже не решался ни на миг оставить незнакомца одного.
Мы объехали театральную кулису площади Праса-ду-Комерсиу и немного погодя очутились в лабиринте лестниц и переулков, ведущих в гору. Эта часть Лиссабона была для меня незнакомой; как обычно, я знал главным образом церкви да музеи – не потому, что так сильно любил Бога или искусство, а просто потому, что в церквах и музеях не спрашивали документы. Перед Распятым и мастерами искусства ты покамест оставался человеком, а не индивидом с сомнительными бумагами.
Мы вышли из такси и зашагали вверх по лестницам и путаным переулкам. Пахло рыбой, чесноком, ночными цветами, мертвым солнцем и сном. Сбоку под восходящей луной вырастал из ночи замок Святого Георгия, и свет, словно водопад, каскадами струился вниз по множеству ступеней. Я обернулся, посмотрел на гавань. Внизу лежала река, и река эта была свободой, жизнью, она впадала в море, а море было Америкой.
Я остановился:
– Надеюсь, вы не шутите.
– Нет, – ответил незнакомец.
– То есть не шутите насчет билетов на пароход?
На набережной он снова спрятал их в карман.
– Нет, не шучу. – Он кивнул на маленькую площадь, окаймленную деревьями. – Вон там находится кафе, о котором я говорил. Пока открыто. Мы не привлечем внимания. Кроме иностранцев, туда мало кто заходит. Нас примут за людей, которые завтра уедут. Как и все прочие, что отмечают там свою последнюю ночь в Португалии, а наутро садятся на корабль.
Кафе оказалось чем-то вроде бара, с маленькой площадочкой для танцев и террасой – заведение, рассчитанное на туристов. Слышались звуки гитары, в глубине виднелась певица, исполнительница фаду. Несколько столиков на террасе занимали иностранцы. Среди них женщина в вечернем платье и мужчина в белом смокинге. Мы устроились в конце террасы. Оттуда открывался вид на Лиссабон, на церкви в блеклом свете, на освещенные улицы, гавань, доки и корабль, который был ковчегом.
– Вы верите в жизнь после смерти? – спросил человек с билетами.
Я поднял взгляд. Вот так вопрос! Я ожидал чего угодно, только не этого.
– Не знаю, – в конце концов ответил я. – В последние годы меня слишком занимала жизнь до смерти. Доберусь до Америки, тогда с удовольствием подумаю об этом, – добавил я, напоминая, что он обещал мне билеты.
– А я в нее не верю, – сказал он.
Я облегченно вздохнул. Был готов выслушать несчастливца, но вести философские дискуссии вовсе не хотел. Спокойствия недоставало. На реке стоял корабль.
Некоторое время незнакомец словно бы спал с открытыми глазами. Однако когда на террасу вышел гитарист, он встрепенулся.
– Мое имя Шварц, – сообщил он. – Не настоящее, конечно, а то, что значится в паспорте. Но я привык к нему, и на сегодняшнюю ночь его достаточно. Вы долго жили во Франции?
– Пока мог.
– Интернированы?
– Когда началась война. Как все остальные.
Мужчина кивнул.
– Мы тоже. Я был счастлив, – неожиданно сказал он, тихо и быстро, опустив голову, глядя в сторону. – Очень счастлив. Даже не представлял себе, что могу быть так счастлив.
Я с удивлением обернулся. В самом деле, по нему никак не скажешь. Он производил впечатление человека вполне заурядного, причем довольно робкого.
– Когда? – спросил я. – Неужели в лагере?
– В последнее лето.
– В тридцать девятом? Во Франции?
– Да. В предвоенное лето. Я и сейчас не понимаю, как все вышло. Вот почему мне необходимо с кем-нибудь об этом поговорить. Я никого здесь не знаю. А если поговорю об этом с кем-нибудь, оно снова оживет. И станет тогда совершенно ясным. И сохранится. Нужно только еще раз… – Он осекся. А немного погодя спросил: – Понимаете?
– Да, – ответил я и осторожно добавил: – Понять несложно, господин Шварц.
– Это вообще невозможно понять! – возразил он, неожиданно резко и страстно. – Она лежит там, внизу, в комнате с закрытыми окнами, в мерзком деревянном гробу, мертвая, уже не существующая! Кто может это понять? Никто! Ни вы, ни я, никто, а тот, кто говорит, что понимает, лжет!
Я молча ждал. Не раз мне доводилось сидеть вот так с разными людьми. Когда у тебя нет родной страны, утраты пережить труднее. Тогда нет опоры, и чужбина становится до ужаса чужой. Я пережил такое в Швейцарии, когда получил известие, что моих родителей в Германии убили в концлагере и сожгли. Я постоянно думал о глазах матери в огне печи. Эта картина преследовала меня до сих пор.
– Полагаю, вы знаете, что такое эмигрантское безумие, – уже спокойнее сказал Шварц.
Я кивнул. Официант принес мисочку креветок. Я вдруг почувствовал, что очень проголодался, и вспомнил, что с полудня ничего не ел. Нерешительно посмотрел на Шварца.
– Ешьте, – сказал он. – Я подожду.
Он заказал вино и сигареты. Я торопливо ел. Креветки были свежие и пряные.
– Извините, – сказал я, – я правда очень проголодался.
Я ел и смотрел на Шварца. Он спокойно сидел, глядя вниз, на театральный город, без нетерпения и досады. Во мне шевельнулось что-то вроде симпатии. Как видно, он покончил с заповедями ложного благоприличия и знал, что человек может быть голодным и не откажется от еды, хотя кто-то рядом страдает, и бесчувственность здесь ни при чем. Если сделать для ближнего ничего не можешь, нет ничего дурного в том, чтобы утолить голод его хлебом, пока не отняли. Кто знает, когда отнимут.
Я отодвинул тарелку, взял сигарету. Давно не курил. Экономил деньги, чтобы на сегодняшнюю игру побольше осталось.
– Эмигрантское безумие одолело меня весной тридцать девятого, – сказал Шварц. – После пяти с лишним лет в эмиграции. Вы где были осенью тридцать восьмого?
– В Париже.
– Я тоже. В ту пору я вконец пал духом. Накануне Мюнхенского соглашения. Агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но уже поставил точку. Будет война, придут немцы и заберут меня. Такова моя судьба. Я смирился.
Я кивнул:
– Это было время самоубийств. Странно, когда через полтора года в самом деле пришли немцы, самоубийства случались реже.
– Потом заключили Мюнхенские соглашения, – сказал Шварц. – Тогда, осенью тридцать восьмого, нам вдруг снова подарили жизнь! Она казалась такой легкой, что люди забывали об осторожности. В Париже даже второй раз зацвели каштаны, помните? Я стал настолько легкомыслен, что чувствовал себя человеком и, увы, так себя и вел. Полиция схватила меня и по причине повторного недозволенного въезда засадила на месяц под арест. Потом началась старая игра: под Базелем швейцарцы выдворили меня назад, за границу, французы в другом месте опять выпихнули в Швейцарию, арестовали… Ну, вы же знаете эти шахматы с людьми…
– Знаю. Зимой было не до шуток. Самые лучшие тюрьмы – швейцарские. Теплые, как гостиницы.
Я опять взялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть кое-что хорошее: они убеждают, что ты счастлив, пусть даже секундой раньше думал, что отнюдь нет. У счастья много степеней. Кто это понимает, редко бывает совсем несчастлив. Я был счастлив в швейцарских тюрьмах, потому что они были не немецкие. Но передо мной-то сидел человек, утверждавший, что владел счастьем, хотя где-то в Лиссабоне, в душной комнате, стоял деревянный гроб.
– Когда меня последний раз выпустили на волю, то пригрозили выдворить в Германию, если снова поймают без документов, – сказал Шварц. – Всего-навсего угроза, но я испугался. Начал обдумывать, что мне делать, если так случится на самом деле. Потом мне ночами стало сниться, что я вправду там и за мной охотится СС. Этот сон повторялся так часто, что в конце концов я и заснуть боялся. Вам и это тоже знакомо?
– Впору диссертацию писать, – ответил я. – К сожалению.
– Однажды ночью мне приснилось, будто я в Оснабрюке, в городе, где раньше жил сам и где по-прежнему жила моя жена. Я стоял в ее комнате и видел, что она хворает. Она очень исхудала и плакала. В испуге я проснулся. Больше пяти лет я не видел ее и ничего о ней не слышал. И никогда ей не писал, потому что не знал, досматривают ли ее почту. Перед бегством она обещала мне подать на развод. Это убережет ее от неприятностей. Несколько лет я был уверен, что она так и поступила.
Шварц помолчал. Я не спрашивал, почему он покинул Германию. Причин для этого хватало. И интереса они не представляли, поскольку любая была несправедлива. Быть жертвой неинтересно. Он либо еврей, либо состоял в политической партии, враждебной нынешнему режиму, либо имел врагов, которые вдруг стали влиятельными, – существовали десятки причин, чтобы угодить в Германии в концлагерь или лишиться жизни.
– Мне удалось снова добраться до Парижа, – сказал Шварц. – Но тот сон не оставлял меня. Снился снова и снова. Одновременно пошла прахом и иллюзия Мюнхенских соглашений. Весной стало ясно, что война неизбежна. Ее чуяли, как чуют пожар задолго до того, как увидят его. Лишь мировая дипломатия беспомощно закрывала глаза и предавалась несбыточным мечтаниям – о втором и третьем Мюнхене, обо всем, только не о войне. Никогда вера в чудо не была так велика, как в наше время, когда никаких чудес уже не случается.
– Случаются, – возразил я. – Иначе бы никто из нас не остался в живых.
Шварц кивнул:
– Вы правы. Частные чудеса. Я сам пережил одно такое. Все началось в Париже. Я неожиданно получил в наследство действительный паспорт. Этот самый, на имя Шварца. Принадлежал он австрийцу, с которым я познакомился в кафе «Роза». Он умер и завещал мне свой паспорт и деньги. Во Францию он приехал всего три месяца назад. Мы встретились в Лувре… перед полотнами импрессионистов. Я тогда проводил там много времени, чтобы успокоиться. Когда стоишь перед этими напоенными солнцем, мирными пейзажами, не верится, что вид животных, способный создать такое, одновременно способен планировать убийственную войну, – иллюзия, конечно, однако ж она на часок слегка понижает кровяное давление.
Человек с паспортом на имя Шварца часто сидел перед картинами Моне, изображающими кувшинки и соборы. Мы разговорились, и он рассказал, что после того, как власть в Австрии захватили нацисты, ему удалось освободиться и покинуть страну, отказавшись от своего состояния. А заключалось оно в коллекции импрессионистов, которая отошла государству. Он не жалел. Пока в музеях выставлены картины, он может любоваться ими как своими собственными, вдобавок не тревожась о пожаре и краже. Да и картины во французских музеях получше тех, какими владел он. Коллекционер прикован к своему ограниченному собранию, как отец к семейству, с обязательством отдавать предпочтение своим и, стало быть, находиться под их влиянием, теперь же ему принадлежали все картины открытых собраний, причем для этого даже пальцем шевелить незачем. Странный человек, тихий, кроткий и веселый, невзирая на все, что пережил. Денег он смог вывезти очень мало, но спас некоторое количество старинных почтовых марок. Почтовые марки спрятать несложно, легче, нежели брильянты. С брильянтами ходить неудобно, когда они спрятаны в ботинках, а тебя ведут на допрос. Да и продать их невозможно без больших потерь и массы вопросов. Марки же интересны для коллекционеров. А коллекционеры не очень-то задают вопросы.
– Как же он их вывез? – спросил я с профессиональным любопытством эмигранта.
– Взял с собой старые, невинные, вскрытые письма и сунул марки под подкладку конвертов. Таможенники досматривали письма, но не конверты.
– Ловко, – сказал я.
– Кроме того, он прихватил еще два маленьких портрета работы Энгра. Карандашные рисунки. Вложил их в широкие паспарту и безвкусные якобы золоченые рамки и сказал, что это портреты его родителей. С изнанки паспарту он незаметно вклеил два рисунка Дега.
– Ловко, – опять сказал я.
– В апреле у него случился сердечный приступ, и он отдал мне свой паспорт, остатки марок и рисунки. Дал и адреса людей, которые купят марки. Когда я зашел к нему следующим утром, он лежал в постели мертвый, и я едва узнал его, так он изменился в упокоении. Я забрал деньги, которые у него оставались, костюм и немного белья. Накануне он сказал, чтобы я это сделал, пусть вещи достанутся товарищам по несчастью, а не квартирному хозяину.
– Вы что-то меняли в паспорте?
– Только фото и год рождения. Шварц был на двадцать пять лет старше меня. А имена у нас одинаковые.
– И кто это сделал? Брюннер?
– Кто-то из Мюнхена.
– Тогда наверняка Брюннер, паспортный доктор. Очень дельный человек.
Брюннер славился хорошей работой. Многим помог, но, когда был арестован, сам документов не имел, по причине суеверия: думал, что раз он честный и делает добрые дела, то ничего с ним случиться не может, пока он не использует свое искусство ради себя самого. До эмиграции у него была в Мюнхене маленькая типография.
– Где он теперь? – спросил я.
– А разве не здесь, в Лиссабоне?
Я не знал. Хотя вполне возможно, если он еще жив.
– Так странно было иметь паспорт, – сказал Шварц-второй. – Я не решался им пользоваться. И так-то несколько дней потребовалось, чтобы привыкнуть к новой фамилии. Я все время твердил ее про себя. Шел по Елисейским Полям и бормотал фамилию, новую дату и место рождения. Сидел в музее перед Ренуаром и, если был один, шептал воображаемый диалог… резким голосом: «Шварц!», чтобы тотчас вскочить и ответить: «Я!»… или рявкал: «Фамилия!», чтобы тотчас автоматически отбарабанить: «Йозеф Шварц, родился в Винер-Нойштадте двадцать второго июня тысяча восемьсот девяносто восьмого года». Даже вечером перед сном тренировался. Вдруг ночью меня поднимет на ноги полиция, а я спросонья брякну не то, что надо. Хотел забыть свое прежнее имя. Вот в чем разница между отсутствием паспорта и обладанием фальшивым паспортом. Фальшивый опаснее.
Рисунки Энгра я продал. Дали за них меньше, чем я рассчитывал, но неожиданно у меня появились деньги, давно я не видал такой суммы.
И вот однажды ночью мне пришла в голову мысль, которая потом уже не отпускала. Нельзя ли с этим паспортом съездить в Германию? Он ведь почти действительный, так почему на границе непременно что-нибудь заподозрят? Тогда я смогу повидать жену. Смогу унять страх за нее. Смогу…
Шварц посмотрел на меня.
– Вам это наверняка знакомо! Эмигрантское безумие в чистейшем виде. Спазм в желудке, в горле и в глазницах. То, что пять лет кряду втаптывал в землю, старался забыть, избегал как чумы, поднимается вновь – смертельное воспоминание, рак души для эмигранта!
Я пытался освободиться. Ходил, как прежде, к картинам мира и тишины, к Сислею, к Писсарро, к Ренуару, часами сидел в музее… но теперь они действовали на меня иначе. Уже не успокаивали, наоборот, стали звать, требовать, напоминать… о стране, которую еще не затопила коричневая чума, о вечерах в переулках, где над каменными оградами свисали гроздья сирени, о золотых сумерках старинного города, о его зеленых церковных башнях, вокруг которых вились ласточки… и о жене.
Я человек заурядный, особенных качеств не имею. Прожил с женой четыре года, как живут обычно: без сложностей, приятно, но и без большой страсти. После первых месяцев наши отношения стали тем, что принято называть хорошим браком, – узами, связующими людей, которые сознают, что взаимное уважение есть основа спокойной совместной жизни. Мечтаниями мы не увлекались. По крайней мере, мне так казалось. Были разумными людьми. И искренне любили друг друга.
Теперь все изменилось. Я стал винить себя, что вел в браке такую заурядную жизнь. Все упустил. Ради чего жил? Что делал теперь? Прятался, прозябал. Долго ли так будет продолжаться? И чем кончится? Начнется война, и победит наверное Германия. Единственная страна, которая вооружена до зубов. Что тогда будет? Куда я спрячусь, если еще будет время и дыхание? В каком лагере умру с голоду? У какой стены меня убьют выстрелом в затылок, если повезет?
Паспорт, который должен бы успокаивать, доводил меня до отчаяния. Я метался по улицам, пока от усталости едва не падал с ног, но и спать не мог, а если засыпал, сны вновь будили меня. Я видел жену в подвале гестапо, слышал, как она зовет на помощь с заднего двора гостиницы, а однажды, когда я вошел в кафе «Роза», в зеркале, висевшем наискосок против входа, мне почудилось ее лицо, на миг оно обернулось ко мне, бледное, с безутешным взглядом, и тотчас скользнуло прочь. Видение было необычайно отчетливым, я решил, что она там, и поспешил в заднее помещение. Как всегда, там было полно народу, но ее я не нашел.
Несколько дней меня преследовала эта навязчивая идея: она приехала сюда и ищет меня. Сотни раз я видел, как она сворачивает за угол, как сидит на скамейках Люксембургского сада, а когда подходил ближе, мне навстречу с удивлением смотрело чужое лицо; она пересекла площадь Согласия, за секунду до того, как поток автомобилей вновь сорвался с места, и на сей раз это вправду была она – ее походка, ее осанка, даже платье показалось мне знакомым, но когда регулировщик наконец опять остановил движение и я бросился за ней вдогонку, она исчезла, поглощенная черным зевом метро, а когда я добрался до платформы, то увидел в темноте лишь глумливые хвостовые огни отъехавшего поезда.
Я доверился одному из знакомых. Звали его Лёзер, он торговал чулками, но раньше был врачом в Бреслау. Он посоветовал мне меньше сидеть в одиночестве. Сказал: «Найдите себе женщину».
Без толку. Вы же знаете эти романы по необходимости, от одиночества, от страха, порыв к хоть какому-то теплу, к голосу, телу… пробуждение в убогой комнатенке в чужой стране, словно рухнул под землю, а потом унылая благодарность за то, что слышишь рядом чужое дыхание… но много ли это значит в сравнении с могучим напором фантазии, которая пьет кровь и заставляет человека просыпаться утром с мутным ощущением, что он себя изнасиловал?
Сейчас, когда я рассказываю, все это выглядит нелепо и противоречиво; тогда было иначе. После всех борений оставалось только одно: надо вернуться. Надо еще раз увидеть жену. Возможно, она давным-давно живет с другим. Но какая разница? Я должен ее увидеть. Это казалось мне совершенно логичным.
Вести о предстоящей войне множились. Каждый видел, что Гитлер, который сразу нарушил свое обещание занять лишь Судетскую область, а не всю Чехословакию, теперь затевает то же самое с Польшей. Война неизбежна. Союзные договоры Франции и Англии с Польшей иного не допускали. И это был уже не вопрос месяцев, а вопрос считаных недель. Как и для меня. Как и для моей жизни. Надо было решаться. И я решился. Поеду туда. Что делать потом, я не знал. И не думал об этом. Если грянет война, мне все равно конец. Так почему бы не совершить безумный поступок?
В последние дни меня охватило странное веселье. Стоял май, клумбы на Рон-Пуан пестрели тюльпанами. Ранние вечера уже полнились серебристым светом импрессионистов, голубели тенями, и высокое светло-зеленое небо служило фоном холодному газовому свету первых уличных фонарей и беспокойным красным лентам неоновых надписей на крышах зданий газет, которые возвещали о войне каждому, кто умел их прочесть.
Сначала я поехал в Швейцарию. Хотел опробовать свой паспорт на безопасной территории, прежде чем поверить в него. Французский таможенник равнодушно вернул его мне, как я и ожидал. Сложности с выездом чинят только в диктаторских странах. Но когда появился швейцарец, я почувствовал, как что-то внутри у меня свело судорогой. Я изо всех сил старался сидеть спокойно, но мне казалось, будто края моих легких дрожат, как порой в полном безветрии один листок на дереве трепещет, словно безумный.
Он рассматривал мой паспорт. Огромный, широкоплечий таможенник, пахнувший трубочным дымом. Стоя в купе, он заслонил окно, и на миг меня захлестнуло гнетущее ощущение, что он перекрыл небо и свободу – будто купе уже стало тюремной камерой. Потом он вернул мне паспорт.
«Вы забыли поставить штамп», – сам того не желая, быстро сказал я, в приливе облегчения.
Таможенник усмехнулся: «Успеется. Вам это так важно?»
«Да нет. Просто он тогда будет своего рода сувениром».
Он поставил в паспорт штамп и ушел. Я прикусил губу. До чего же нервным я стал! Потом мне подумалось, что со штампом паспорт выглядит несколько более настоящим.
В Швейцарии я целый день раздумывал, не стоит ли и в Германию поехать поездом, однако не решился. Вдобавок неизвестно, вдруг они проверяют возвращенцев с особой тщательностью, даже тех, кто родом из бывшей Австрии. Вряд ли, конечно, но на всякий случай лучше перейти границу нелегально.
Поэтому в Цюрихе, как и раньше, я первым делом отправился на главный почтамт. У окошка корреспонденции до востребования там обычно можно встретить знакомых – таких же скитальцев без разрешения на жительство, которые могут сообщить какую-нибудь информацию. Оттуда я пошел в кафе «Грайф», тамошний вариант кафе «Роза». Повстречал разных людей, которые ходили через границу, но никто из них не знал в точности, где можно пробраться в Германию. Оно и понятно. Кому, кроме меня, охота в Германию? Я замечал, как они смотрели на меня, а потом, уразумев, что я говорю всерьез, торопились отойти. Раз человек хочет вернуться, он наверняка перебежчик; ведь возвращение предполагает и приятие режима, не так ли? И что еще он сделает, если готов на такое? Кого предаст? Что выболтает?
Я вдруг остался один. Меня избегали, как избегают убийцу. Ведь и объяснить я ничего не мог; временами меня самого охватывала такая жуткая паника, что я по́том обливался при мысли о своей затее, – где уж тут объяснять другим!
На третий день, в шесть утра, пришел полицейский, поднял меня с постели. Принялся дотошно расспрашивать. Я сразу сообразил, что донес на меня один из знакомых. Недоверчиво изучив мой паспорт, полицейский забрал меня на допрос. Штамп в паспорте теперь в самом деле был удачей. Я мог доказать, что въехал в страну легально и нахожусь здесь всего три дня. Как сейчас помню раннее утро, когда шел с полицейским по улицам. День выдался ясный, башни и крыши города четко, словно вырезанные из металла, проступали на фоне неба. Из какой-то пекарни пахло свежим хлебом, и казалось, в этом запахе сосредоточено все на свете утешение. Вам это знакомо?
Я кивнул.
– Мир вокруг видится как никогда прекрасным в тот миг, когда тебя арестуют. Перед тем, как ты его покинешь. Вот бы всегда чувствовать его таким! Наверно, для этого просто не хватает времени. И покоя.
Шварц покачал головой:
– Покой тут ни при чем. Я так чувствовал.
– И могли удержать это чувство? – спросил я.
– Не знаю, – медленно проговорил Шварц. – Именно это я и должен выяснить. Оно выскользнуло у меня из рук… но было ли целиком моим, когда я держал его? Может быть, теперь у меня есть шанс вернуть его еще более сильным и удержать навсегда? Теперь, когда оно не меняется? Разве беспрерывно не теряешь то, что как будто бы держишь, именно потому, что оно двигается? И разве оно не останавливается только тогда, когда уже не существует и не может меняться? Может быть, лишь тогда оно и становится твоим?
Его неподвижный взгляд был устремлен на меня. Впервые он смотрел мне прямо в глаза. Зрачки расширены. Фанатик или безумец, вдруг подумал я.
– Мне это незнакомо, – сказал я. – Но ведь этого хочет каждый? Удержать то, что удержать невозможно? И покинуть то, что не желает тебя покинуть?
Сидевшая за соседним столиком женщина в вечернем платье встала. Взглянула с веранды вниз, на город и гавань.
– Дорогой, ну почему нам надо возвращаться? – сказала она мужчине в белом смокинге. – Если б мы могли остаться! Мне совсем не хочется обратно в Америку.
2
– Цюрихская полиция продержала меня под арестом всего один день, – сказал Шварц. – Но для меня он был тяжким. Я боялся, что они проверят мой паспорт. Достаточно позвонить по телефону в Вену или поручить специалисту проверить подправленные данные.
К вечеру я успокоился. Смотрел на предстоящее как на этакий Божий суд. Меня как бы избавили от необходимости принимать решение. Если посадят в тюрьму, я не попытаюсь попасть в Германию. Однако вечером меня выпустили и настоятельно рекомендовали как можно скорее выехать из Швейцарии.
Я решил ехать через Австрию. Тамошнюю границу я немного знал, и охраняют ее наверняка не так тщательно, как немецкую. Да и зачем их вообще тщательно охранять? Кто туда пойдет? Но, вероятно, многие хотели уйти оттуда.
Я поехал в Оберрит, чтобы попробовать где-нибудь там перейти границу. Лучше бы дождаться дождливой погоды, однако целых два дня было ясно. На третью ночь я отправился в путь, чтобы не привлекать внимание обитателей городка к своей персоне.
Ночь выдалась звездная. Кругом царило такое безмолвие, что мне казалось, я слышу тихие шорохи роста. Вы знаете, при опасности зрение меняется… не то чтобы взгляд становится острее, фокусируется, скорее зрячим становится все тело, ты как бы видишь кожей, особенно ночью. Шорохи и те делаются прямо-таки зримыми, настолько и слух перемещается на кожу. Открываешь рот и слушаешь, и рот тоже словно бы видит и слышит.
Мне никогда не забыть ту ночь. Я полностью сознавал себя, все мои чувства были широко распахнуты, я приготовился ко всему, но абсолютно не испытывал страха. Словно бы шел по высокому мосту, с одного берега своей жизни к другому, и знал, что за моей спиной этот мост растает, как серебряный дым, и вернуться я никогда не смогу. Шел от разума в чувство, от надежности в авантюру, от рационального в иллюзорное. Я был совершенно один, но на сей раз одиночество не мучило, в нем сквозило прямо-таки что-то мистическое.
Я вышел к Рейну, в этом месте еще юному и не очень широкому. Разделся, связал одежду в узел, чтобы держать над головой. Странное ощущение овладело мной, когда я нагишом погрузился в воду. Она была черная, очень холодная и чужая, я будто окунулся в Лету, чтобы испить забвения. Вдобавок необходимость плыть нагишом показалась мне символом, что я все оставляю позади.
На берегу я обсушился и продолжил путь. Проходя мимо какой-то деревни, услышал, как залаяла собака. Я не знал, где именно проходит граница, и потому держался на обочине дороги, которая вела вдоль опушки рощи. Долгое время я не встречал ни души. Так и шел до утра. Внезапно пала сильная роса, и на краю просеки появилась косуля. А я все шел, пока не услышал громыханье первых крестьянских телег. И тогда спрятался поблизости от дороги. Не хотел вызывать подозрений, ведь был на ногах в такую рань да еще и шел со стороны границы. Позднее я увидел двух таможенников, кативших на велосипедах по проселку. Узнал их мундиры. Я находился в Австрии. В ту пору Австрия уже год принадлежала к Германии.
Женщина в вечернем платье и ее спутник ушли с террасы. Плечи женщины покрывал густой загар, и ростом она была выше своего кавалера. Еще несколько туристов не спеша спускались вниз по лестницам. Все они шли как люди, которых никто и никогда не преследовал. Ни один не оглянулся.
– Я захватил с собой бутерброды, – продолжал Шварц, – и отыскал ручей, чтобы напиться. В полдень отправился дальше. Шел я в городок Фельдкирх, зная, что летом его посещают отпускники, а потому надеялся не привлечь там особого внимания. Там и поезда останавливались. В конце концов я добрался до Фельдкирха. И ближайшим поездом поехал прочь от границы, подальше от самой опасной зоны. Вошел в купе – и увидел двух штурмовиков в форме.
По-моему, в этот миг мне помогли тренировки с европейской полицией, иначе я бы, наверно, отпрянул назад. Словом, я вошел и сел в уголке возле мужчины в грубошерстном костюме и с ружьем.
Вот так впервые после пятилетнего перерыва я столкнулся со всем тем, что для меня олицетворяло мерзость. В минувшие недели я часто представлял себе эту встречу, но реальность оказалась иной. Среагировало тело, а не голова; желудок, ставший камнем, рот, обернувшийся рашпилем.
Охотник и штурмовики вели разговор о некой вдове Пфунднер. Она, судя по всему, была особа весьма бойкая, потому что все трое перечисляли ее интрижки. Потом они стали закусывать. Бутербродами с ветчиной. «Куда направляетесь, сосед?» – спросил у меня охотник.
«В Брегенц возвращаюсь», – ответил я.
«Вы, стало быть, не местный?»
«Верно, я в отпуске».
«И откуда же вы будете?»
Секунду я помедлил. Если скажу, что из Вены, как значится в паспорте, все трое, пожалуй, заметят, что говорю я не на мягком венском диалекте. «Из Ганновера, – сказал я. – Больше тридцати лет там живу».
«Из Ганновера! Далеконько».
«Что правда, то правда. Но ведь в отпуске не хочется торчать дома».
Охотник рассмеялся: «Это верно. И с погодкой вам повезло!»
Я чувствовал, что рубашка прилипла к телу. «Отличная погода, – кивнул я, – только жарковато, будто лето уже в разгаре».
Троица опять принялась перемывать косточки вдове Пфунднер. Через несколько остановок они сошли, и я остался в купе один. Теперь поезд проезжал один из красивейших ландшафтов Европы, но я мало что видел. На меня вдруг накатил почти невыносимый приступ сожаления, страха и отчаяния. Я уже совершенно не понимал, зачем перешел границу. Не шевелясь, сидел в углу и смотрел в окно. Я попал в ловушку, причем сам захлопнул за собой дверцу. Раз десять порывался сойти и ночью попробовать вернуться в Швейцарию.
Но не сошел. Левая рука крепко сжимала в кармане паспорт покойного Шварца, словно он мог придать мне силы. Я твердил себе, что теперь уже все равно, задержусь я вблизи границы или нет, и чем дальше я уезжаю в глубь страны, тем меньше опасность. Я решил и ночь провести в вагоне. В поездах меньше интересуются документами, чем в гостинице.
Типично, что, поддавшись панике, думаешь, будто отовсюду на тебя нацелены прожектора и миру делать больше нечего, кроме как искать тебя. Не можешь отделаться от ощущения, будто все клетки тела хотят стать самостоятельными, ноги хотят создать дергающееся ножное царство, руки – быть только сопротивлением и ударом, и даже губы и рот, трепеща, способны лишь сдержать невнятный крик.
Я закрыл глаза. Соблазн уступить панике усиливался, оттого что я был в купе один. Но я знал: каждый сантиметр отступления обернется метром, если я действительно окажусь в опасности. И сказал себе, что никто меня не ищет, что режиму я интересен не более, чем лопата песку в пустыне, и что никто по мне ничего заметить не может. Конечно, так оно и было. Я мало отличался от окружающих. Белокурый ариец – германская легенда, но не факт. Взгляните на Гитлера, Геббельса, Гесса и остальное правительство – собственно, все они суть доказательство их собственной иллюзии.
В Мюнхене я впервые покинул защиту вокзалов и заставил себя целый час гулять. Города я не знал и потому считал, что и меня никто не знает. Зашел поесть во «Францисканскую пивную». Народу там было полно. В одиночестве я сидел за столиком, слушал. Немного погодя ко мне подсел потный толстяк. Он заказал пиво и говядину, развернул газету, стал читать. Сам я до этой минуты еще не додумался почитать немецкие газеты и теперь купил сразу две. Не один год минул с тех пор, как я последний раз читал по-немецки, да и к тому, что вокруг говорят по-немецки, пока что не вполне привык.
Передовицы в газетах были ужасающие. Лживые, кровожадные, заносчивые. Мир за пределами Германии представал в них выродившимся, коварным, глупым, пригодным лишь на то, чтобы им завладела Германия. Газеты были не местные и раньше имели хорошую репутацию. Не только их содержание, но и стиль просто в голове не укладывались.
Я посмотрел на соседа. Он ел, пил и с удовольствием читал. Оглядевшись вокруг, я нигде не заметил на лицах читателей ни тени возмущения, они привыкли к своей ежедневной духовной пище, как к пиву.
Я продолжал чтение, пока не нашел среди мелких заметок одну про Оснабрюк. На Лоттерштрассе сгорел дом. Эта улица сразу возникла у меня перед глазами. По валам выходишь к Хегертор, а оттуда – на Лоттерштрассе, которая ведет из города. Я сложил газету. Неожиданно навалилось такое одиночество, какого я даже за пределами Германии не испытывал.
Мало-помалу я привык к постоянным сменам потрясений и фаталистической апатии. Привык и чувствовать себя увереннее, чем раньше. Я понимал, с приближением к Оснабрюку опасность возрастет. Там есть люди, которые знали меня по прежним временам.
Чтобы не привлекать внимания в гостиницах, я купил дешевый чемоданчик, немного белья и вещи, необходимые в короткой поездке. Потом поехал дальше. Я еще не придумал, как встретиться с женой, и каждый час менял планы. Придется уповать на случай, я ведь даже не знал, не уступила ли она своей родне, которая безоговорочно поддерживала режим, и не вышла ли за другого. Прочитав газеты, я уже не был уверен, что требуется много времени, чтобы поверить всему там написанному, особенно если нет возможности для сравнения. Иностранные газеты подвергались в Германии жестокой цензуре.
В Мюнстере я остановился в гостинице средней руки. Не мог все время по ночам бодрствовать, а днем где-нибудь спать; пришлось пойти на риск, что немецкая гостиница зарегистрирует меня в полиции. Вы знаете Мюнстер?
– Поверхностно, – ответил я. – Кажется, это старинный город с множеством церквей, где был подписан Вестфальский мир?
Шварц кивнул:
– В Мюнстере и Оснабрюке, в тысяча шестьсот сорок восьмом году. После Тридцатилетней войны. Кто знает, как долго продлится эта?
– Если и дальше так пойдет, то недолго. Немцам понадобилось четыре недели, чтобы захватить Францию.
Подошел официант, сообщил, что заведение закрывается. Мы – последние посетители.
– А есть какое-нибудь другое, которое еще открыто? – спросил Шварц.
Официант объяснил, что Лиссабон не из тех городов, где процветает ночная жизнь. Но когда Шварц дал ему на чай, он вспомнил одно кафе, тайное, по его словам, русский ночной клуб.
– Весьма шикарный, – добавил он.
– Нас туда пустят? – спросил я.
– Конечно, сударь. Я только хотел сказать, что там шикарные женщины. Всех национальностей. В том числе немки.
– У них долго открыто?
– Пока есть посетители. А сейчас посетители есть всегда. Много немцев-то, сударь.
– Каких немцев?
– Ну, немцев же.
– С деньгами?
– Ясное дело, с деньгами. – Официант засмеялся. – Заведение не из дешевых. Но весьма веселое. Вы могли бы сказать им, что отсюда вас прислал Мануэл? Тогда больше ничего сообщать не надо.
– А разве надо что-нибудь сообщать?
– Да нет, ничего. Портье запишет вас на вымышленное имя как члена клуба. Для проформы.
– Хорошо.
Шварц расплатился по счету. Мы медленно пошли вниз по уличным лестницам. Блеклые дома спали, прислонясь друг к другу. Из окон доносились вздохи, храп и дыхание людей, которые не тревожились по поводу паспортов. Наши шаги звучали громче, чем днем.
– Свет, – сказал Шварц. – Вас он тоже удивляет?
– Да. Мы ведь привыкли к затемненной Европе. Здесь думаешь, что кто-то забыл выключить свет, а в следующий миг грянет воздушный налет.
Шварц остановился.
– Мы получили этот подарок, потому что в нас есть что-то от Бога, – вдруг патетически произнес он. – А теперь прячем его, потому что убиваем эту частицу Бога в нас.
– Насколько я помню предания, огонь мы получили не в подарок, Прометей украл его, – возразил я. – За это боги одарили его хроническим циррозом печени. По-моему, это больше под стать нашему характеру.
Шварц посмотрел на меня.
– Я давно перестал иронизировать. И отбросил страх перед высокими словами. Пока иронизируешь и боишься, пытаешься свести вещи к меньшему масштабу, нежели реальный.
– Пожалуй, – сказал я. – Но стоит ли все время таращиться на невозможное и твердить: это невозможно? Не лучше ли уменьшить его и тем самым впустить лучик надежды?
– Вы правы! Простите меня. Я забыл, что вы спасаетесь бегством. В такой ситуации не до размышлений о пропорциях.
– А вы разве не спасаетесь бегством?
Шварц покачал головой:
– Уже нет. Я второй раз возвращаюсь.
– Куда? – с удивлением спросил я. Не мог поверить, что он опять возвращается в Германию.
– Обратно, – ответил он. – Я объясню вам.
3
Ночной клуб оказался одним из типичных заведений, какими управляют русские белоэмигранты, после революции 1917 года их повсюду в Европе великое множество, от Берлина до Лиссабона. Повсюду те же официанты, в прошлом аристократы, те же хоры из бывших гвардейских офицеров, те же высокие цены и то же меланхолическое настроение.
И освещение повсюду одинаковое, приглушенное, на какое я и рассчитывал. Немцы, о которых говорил официант, явно не были эмигрантами. Вероятно, шпионы, сотрудники посольства или служащие немецких фирм.
– Русские устроились получше, чем мы, – сказал Шварц. – Правда, они стали эмигрантами на пятнадцать лет раньше. А пятнадцать лет несчастья – долгий срок, много опыта накопишь.
– Они были первой волной эмиграции, – заметил я. – Им еще сочувствовали. Разрешали работать, выдавали документы. Нансеновские паспорта. Когда эмигрантами стали мы, мир давным-давно израсходовал свое сочувствие. Мы были докучливы, как термиты, и почти никто за нас не вступался. Мы не вправе работать, не вправе существовать, и документов у нас нет как нет.
С первой же минуты в клубе я занервничал. Вероятно, объяснялось это изолированностью помещения с множеством занавесей, сознанием, что здесь присутствуют немцы, и тем, что сидел я слишком далеко от двери – не убежишь, а я привык всюду сидеть рядом с выходом. Вдобавок я больше не видел парохода, что опять-таки усиливало нервозность. Кто знает, вдруг он снимется с якоря ночью, раньше объявленного срока, по причине непредвиденных обстоятельств.
Шварц, похоже, это почувствовал. Слазил в карман, положил билеты передо мной:
– Возьмите. Я не работорговец. Возьмите их и уходите, если хочется.
Сгорая от стыда, я посмотрел на него:
– Вы превратно меня поняли. У меня есть время. Сколько угодно.
Шварц не ответил. Ждал. Я взял билеты, спрятал в карман.
– Я постарался найти поезд, который прибывал в Оснабрюк под вечер, – продолжал он как ни в чем не бывало. – Меня вдруг охватило ощущение, будто я только теперь пересеку границу. Все прежнее было еще чужбиной, даже Германия, но теперь каждое дерево мало-помалу заговорило. Мы проезжали через знакомые деревни, я бывал там в школьных походах, бывал с Хелен в первые недели нашего знакомства, любил эти места, как любил и сам город с его домами и садами.
До сих пор мое отвращение было абстрактным монолитом. Случившееся оцепенило все во мне, превратило в камень. У меня никогда не возникало потребности, более того, я боялся анализировать его и детализовать. А теперь, нежданно-негаданно, заговорили вещи, имеющие к этому отношение, но никак со всем этим не связанные.
Ландшафт не изменился. Остался прежним. Церковные башни стояли, как раньше, все так же мягко зеленели патиной на фоне наступающего вечера; река, как всегда, отражала небо. Мне вспомнилось время, когда я ловил там рыбу и мечтал о приключениях в дальних странах – позднее приключений хватало, но не таких, какие я представлял себе тогда. Луга с мотыльками и стрекозами и склоны холмов с деревьями и полевыми цветами не изменились, остались прежними, как во времена моей юности, в них и была моя юность – погребенная, если угодно, или сбереженная, если посмотреть иначе.
И ничто не нарушало эту картину. Людей из окна поезда я видел мало, а мундиров – вообще ни одного. Я видел только вечер, который медленно окутывал ландшафт. В крохотных садиках у домишек железнодорожных смотрителей уже распускались розы, и георгины, и лилии, как всегда; эта проказа их не тронула, они свисали с деревянных заборчиков, как и во Франции, а на лугах паслись коровы, как и на лугах в Швейцарии, бурые, черные, белые – без свастики, – с теми же, как обычно, терпеливыми глазами. Видел я и щелкающего клювом аиста на каком-то крестьянском доме, и ласточки летали, как летают везде и всегда. Только люди стали другими, я знал, но в этот вечер не мог ни увидеть, ни понять.
Да и другими они были не на один манер, как мне бездумно представлялось до сих пор. Купе заполнялось, пустело и заполнялось вновь. Людей в форме среди пассажиров было в этот час совсем немного, почти сплошь самый обыкновенный народ, с разговорами вроде тех, какие я слыхал во Франции и в Швейцарии, – о погоде, об урожае, о событиях дня и страхе перед войной. Они боялись ее, только вот за пределами Германии все знали, что войны хочет Германия, а здесь я слышал, что заграница навязывает ее Германии. Почти каждый был за мир, как всегда накануне катастрофы.
Поезд остановился. Вместе с толпой других пассажиров я протиснулся через турникет. Зал ожидания не изменился с тех пор, как я видел его последний раз, только казался меньше и запыленнее, чем в памяти.
Едва я ступил на Вокзальную площадь, все, что я думал прежде, разом отпало. Вокруг было сумеречно и сыро, как после дождя, ландшафта я уже не видел, внезапно все во мне затрепетало, и я понял, что с этой минуты нахожусь в большой опасности. Одновременно меня не оставляло ощущение, что ничего со мной случиться не может. Я как бы стоял под стеклянным колпаком, который защищал меня, но в любую минуту мог разбиться.
Я вернулся в здание вокзала, к кассе, чтобы купить обратный билет до Мюнстера, – жить-то мне в Оснабрюке нельзя. Слишком опасно. «Когда отходит последний поезд?» – спросил я у служащего, который, сверкая лысиной, сидел в желтом свете за окошком, словно этакий захолустный будда, уверенный и неуязвимый.
«Один – в двадцать два двадцать, второй – в двадцать три двенадцать».
Я пошел к автомату, вытянул перронный билет. Пусть будет под рукой, на случай, если придется по-быстрому исчезнуть, в то время, когда мой билет еще не действует. Как правило, перроны – укрытия никудышные, но их хотя бы несколько (в Оснабрюке три), и можно вскочить в любой отъезжающий поезд, объяснить кондуктору, что ошибся, оплатить проезд и сойти на следующей остановке.
Я решил позвонить давнему другу, зная, что он не сторонник режима. По телефону выясню, сможет ли он мне посодействовать. Позвонить прямо жене я не рискнул, потому что не знал, живет ли она одна.
Я стоял в стеклянной кабинке, перед телефонным справочником и аппаратом. Пока листал страницы с замусоленными и загнутыми уголками, сердце так колотилось, что я прямо слышал его стук, опасался даже, что его слышат и другие, и нагнул голову пониже, чтобы меня не узнали. Не раздумывая, я открыл страницу на ту букву, с которой начиналась моя прежняя фамилия. И нашел свою жену, телефон был тот же, но адрес изменился. Рисмюллер-плац называлась теперь Гитлер-плац.
Когда я увидел адрес, мне почудилось, будто тусклая лампочка в кабинке вспыхнула стократ сильнее. Я поднял голову, настолько отчетливым было ощущение, что глубокой ночью я стою в ярко освещенной стеклянной коробке… или на меня снаружи направлен прожектор. И мне вновь полностью открылось все безумие моей затеи.
Я вышел из кабинки, зашагал через полутемный зал ожидания. Плакаты общества «Сила через радость» и рекламы немецких курортов грозили мне своими синими небесами и радостными людьми. По-видимому, прибыло несколько поездов – толпа пассажиров поднималась по лестнице. От одной группы отделился эсэсовец. Пошел мне навстречу.
Я не побежал. Возможно, эсэсовец шел вовсе не ко мне. Однако он остановился перед мной, посмотрел на меня:
«Простите, огоньку не найдется?»
«Огоньку? – переспросил я и тотчас быстро добавил: – Ну конечно! Спички!»
Я пошарил в кармане.
«Зачем спички? – удивился эсэсовец. – Вы же курите сигарету!»
А я и не знал, что закурил. Протянул ему свою сигарету. Он поднес свою к ее тлеющему кончику, потянул. «Что за сигарета у вас? Пахнет прямо как сигара!»
Это была французская «Голуаз». Собираясь через границу, я захватил с собой несколько пачек. «Подарок друга, – объяснил я. – Французский табачок. Черный. Привезен оттуда. На мой вкус, они чересчур крепкие».
Эсэсовец засмеялся. «Лучше совсем бросить курить, а? Как фюрер. Но кто сможет, особенно в нынешние времена?» Он козырнул и отошел.
Шварц слабо усмехнулся:
– В бытность человеком, который еще имел право ходить где угодно, я часто сомневался, читая, как писатели описывают страх и испуг… у жертвы, мол, замирает сердце, она стоит в оцепенении, купается в поту, по спине и по жилам пробегает мороз… я считал это штампами и дурным стилем… возможно, так оно и есть, но притом это чистая правда. Я на себе испытал, все правильно, хотя раньше, когда понятия об этом не имел, только смеялся.
Подошел официант:
– Не желаете компании, господа?
– Нет.
Он наклонился ко мне:
– Не хотите ли, прежде чем отказываться, взглянуть на двух дам у стойки?
Я посмотрел туда. Одна весьма хорошо сложена. Обе в вечерних платьях. Лиц не разглядеть.
– Нет, – повторил я.
– Это же дамы, – сказал официант. – Та, что справа, немка.
– Она вас сюда послала?
– Нет, сударь, – ответил официант с очаровательно невинной улыбкой. – Это моя идея.
– Ладно. Забудьте свою идею. Лучше принесите нам закусить.
– Чего он хотел? – спросил Шварц.
– Свести нас с внучкой Маты Хари. Наверно, вы дали ему чересчур много чаевых.
– Я пока не платил. Думаете, они шпионки?
– Возможно. Но в пользу единственного интернационала на свете: денег.
– Немки?
– Одна, по словам официанта.
– Как считаете, она здесь затем, чтобы заманивать немцев обратно?
– Вряд ли. В похищениях людей сейчас больше наторели русские.
Официант принес тарелку бутербродов. Я заказал их, потому что чувствовал действие вина. Хотел сохранить ясность мысли.
– Не хотите поесть? – спросил я у Шварца.
Он рассеянно покачал головой:
– Я не подумал, что эти сигареты могут меня выдать. И еще раз проверил все, что имел при себе. Спички, тоже французские, я выбросил вместе с оставшимися сигаретами и купил немецкие. Потом вспомнил, что в паспорте у меня стоят французский въездной штамп и виза и, стало быть, в случае обыска французские сигареты были бы вполне оправданны. Мокрый от пота, злясь на себя и свой страх, я вернулся к телефонной кабинке.
Пришлось ждать. Женщина с большим партийным значком позвонила по двум номерам, пролаяла приказания. Третий номер не ответил, и она, злая и властная, вышла из кабинки.
Я позвонил другу. Ответил женский голос. «Будьте добры, можно поговорить с доктором Мартенсом? – спросил я и заметил, что охрип. «Кто у аппарата?» – осведомилась женщина.
«Друг доктора Мартенса». Назвать свое имя я не мог. Не знал, кто у телефона – его жена или прислуга, но ни той ни другой выдать себя не мог.
«Ваше имя, пожалуйста», – сказала женщина.
«Я друг доктора Мартенса, – повторил я. – Так ему и скажите. По срочному делу».
«Сожалею, – сказал женский голос. – Если вы не назовете свое имя, я не смогу вас записать».
«Вам придется сделать исключение… – сказал я. – Доктор Мартенс ждет моего звонка».
«Если так, вы можете сказать мне свое имя…»
Я лихорадочно размышлял. Потом услышал, как положили трубку.
Я стоял на сквозняке, в сером здании вокзала. Первая попытка, казавшаяся мне очень простой, не удалась, и я уже не знал, как быть дальше. Может, надо было все-таки позвонить самой Хелен, пойти на риск, что кто-нибудь из ее семейства узнает меня по голосу. Я мог назвать и другое имя, но какое? Доктор Мартенс – никто иной мне сейчас в голову не приходил. Я все еще мешкал, когда в мозгу вдруг сверкнула мысль, до которой в десять лет я наверняка бы додумался первым делом. Почему бы не позвонить Мартенсу от имени брата жены? Он знал его и еще десять лет назад на дух не выносил.
Так я и сделал, не откладывая. По телефону снова ответил тот женский голос. «Георг Юргенс, – решительно произнес я. – Доктора Мартенса, пожалуйста».
«Это вы только что звонили?»
«Штурмбаннфюрер Юргенс. Мне нужно поговорить с доктором Мартенсом. Немедля!»
«Да-да, – сказала женщина. – Минуточку! Сейчас!»
Шварц посмотрел на меня:
– Вам знаком этот ужасный, тихий шум в трубке, когда ждешь у телефона свою жизнь?
Я кивнул:
– Не обязательно жизнь. Может быть, пытаешься призвать Ничто.
– Наконец я услышал: «Доктор Мартенс у аппарата», – сказал Шварц. – И опять почувствовал то самое, над чем раньше смеялся. В горле пересохло.
«Рудольф», – наконец прошептал я.
«Как вы сказали?»
«Рудольф, – повторил я. – Звонит родственник Хелен Юргенс».
«Не понимаю. Вы разве не штурмбаннфюрер Юргенс?»
«Я назвался его именем, Рудольф. И звоню насчет Хелен Юргенс. Теперь понимаешь?»
«Нет, совершенно не понимаю, – раздраженно сказал человек на другом конце линии. – У меня идет прием…»
«Я могу зайти к тебе на прием, Рудольф? Ты очень занят?»
«Позвольте! Я вас не знаю, а вы…»
«Олд Шеттерхенд», – сказал я.
Наконец-то я вспомнил, как мы мальчишками называли друг друга, когда играли в индейцев. Именами из романов Карла Мая. В двенадцать лет мы буквально глотали эти книжки. Секунду в трубке молчали. Потом Мартенс тихо сказал: «Что?»
«Виннету, – продолжал я. – Ты забыл давние имена? Это же любимые книги фюрера».
«Верно», – сказал он. Все знали, что человек, развязавший Вторую мировую войну, для чтения на сон грядущий держал у себя в спальне тридцать с лишним томов про индейцев, трапперов и охотников, которые уже пятнадцатилетний мальчишка начинает воспринимать слегка иронически.
«Виннету?» – недоверчиво повторил Мартенс.
«Да. Мне нужно повидать тебя».
«Не понимаю. Где вы находитесь?»
«Здесь. В Оснабрюке. Где мы можем встретиться?»
«У меня сейчас прием пациентов», – машинально сказал Мартенс.
«Я болен. Могу прийти на прием».
«Ничего не понимаю, – сказал Мартенс, вполне решительно. – Если вы больны, приходите на прием. Зачем по телефону-то звонить?»
«Когда?»
«Лучше всего в семь тридцать. В семь тридцать, – повторил он. – Не раньше!»
«Ладно, в семь тридцать».
Я положил трубку. Опять весь в поту. Медленно направился к выходу. На улице нет-нет выглядывал из-за туч бледный месяц. Через неделю новолуние, подумалось мне. Хорошее время для перехода границы. Я посмотрел на часы. В моем распоряжении еще сорок пять минут. С вокзала надо уходить. Подозрительно, когда слишком долго там слоняешься. Я зашагал по той улице, что была самой темной и малолюдной. Она вела к старым городским валам. Часть их сровняли и засадили высокими деревьями; другая часть сохранилась и шла вдоль реки. Я двинулся в ту сторону, через площадь, мимо церкви Сердца Христова.
С верхнего вала виднелись городские крыши и башни на другом берегу. Барочный купол собора поблескивал в неверном свете. Я знал эту панораму, воспроизведенную на тысячах почтовых открыток. Знал запах воды и запах липовой аллеи, тянувшейся вдоль вала.
На лавочках в аллее сидели влюбленные пары, а лавочки были поставлены так, чтобы смотреть на реку и на город; я сел на свободную, чтобы подождать полчасика, а затем пойти к Мартенсу.
Зазвонили колокола собора. Я был настолько взбудоражен, что физически ощущал эти удары, будто они возникали в незримом теннисном матче двух игроков, бросавших их друг другу. Один игрок – мое давнее «я», знакомое мне, испуганное, охваченное страхом и не смеющее обдумать свое положение, а другой – второе, новое, не желавшее размышлять, дерзкое, рискующее собой, словно иначе и быть не может… странная шизофрения, в которой участвовал еще и третий, зритель, бесстрастный, как арбитр, пассивный, но желающий победы новому «я».
Я хорошо помню эти полчаса. Помню даже, что удивлялся, ощущая самого себя так остраненно. Мне казалось, я стоял в комнате, где на стенах друг против друга висят зеркала; они отбрасывали мой образ в даль пустой бесконечности, и за каждым отражением я видел еще одно, выглядывавшее из-за плеча первого. Зеркала казались старыми, потемневшими, и я не мог разглядеть выражение лица – вопросительное, печальное или полное надежды. Все они угасали в серебристой тьме.
Какая-то женщина села рядом со мной. Я понятия не имел, чего она хотела, да и как знать, может, варварский режим успел давным-давно перевести и эти вещи в разряд военных учений. Поэтому я встал и пошел прочь. За спиной послышался смех женщины, я никогда его не забуду – тихий, слегка презрительный и сочувственный смех незнакомки на валу Херрентайхсвалль в Оснабрюке.
4
Приемная была пуста. Растения с длинными кожистыми листьями стояли на жардиньерке у окна. На столе лежали иллюстрированные журналы с фотографиями чиновных бонз режима, солдат и марширующего отряда гитлерюгенда на обложках. Потом я услыхал быстрые шаги. В дверях появился Мартенс. Пристально посмотрел на меня, снял очки, прищурил глаза. Свет в приемной был тусклый. И узнал он меня не сразу, вероятно из-за усов.
«Это я, Рудольф, – сказал я. – Йозеф».
Он поднял руку, зна́ком призывая к молчанию. Прошептал: «Откуда ты?»
Я пожал плечами. Какая разница? «Вот, приехал, – сказал я. – Ты должен мне помочь».
Он взглянул на меня. В тусклом освещении близорукие глаза походили на рыбьи за толстым стеклом аквариума. «Тебе разрешено находиться здесь?»
«Я сам себе разрешил».
«Как ты перешел границу?»
«Не все ли равно. Я приехал увидеть Хелен».
Он неотрывно глядел на меня. «Ты приехал ради этого?»
«Да», – ответил я.
Внезапно мной овладело спокойствие. Пока был один, меня снедала тревога. Но теперь волнения разом улетучились, потому что я обдумывал, как успокоить человека, которого застал врасплох.
«Ради этого?» – снова спросил он.
«Да, ради этого. И ты должен мне помочь».
«Господи!» – сказал он.
«Она умерла?» – спросил я.
«Нет, не умерла».
«Она в городе?»
«Да. Была в городе. По крайней мере, неделю назад».
«Мы можем говорить здесь?» – спросил я.
Мартенс кивнул. «Я отослал помощницу. Если придут пациенты, отошлю и их тоже. Ко мне в квартиру нельзя. Я женился. Два года назад. Ты понимаешь…»
Я понимал. В Тысячелетнем рейхе даже родственникам давно нельзя доверять. Спасители Германии ежедневно восхваляли доносы как национальную добродетель. Я испытал это на собственном опыте. На меня донес брат жены.
«Моя жена в партии не состоит, – быстро сказал Мартенс. – Но мы никогда не говорили… – он в замешательстве посмотрел на меня, – о подобных ситуациях. Я не знаю точно, что́ она может подумать. Заходи».
Он открыл дверь кабинета и запер ее за нами. «Оставь открытой, – сказал я. – Запертый кабинет подозрительнее, чем если нас увидят».
Он опять повернул ключ, посмотрел на меня. «Йозеф, ради бога, что ты здесь делаешь? Ты приехал украдкой?»
«Да. И тебе не нужно меня прятать. Я живу в гостинице за городом. А к тебе пришел просто потому, что не знаю никого другого, кто сообщил бы Хелен, что я здесь. Пять лет я ничего о ней не слышал. Не знаю, что с ней и как. Не знаю, вышла ли она снова замуж. Если вышла…»
«Ты поэтому и приехал?»
«Да, – удивленно ответил я. – Почему же еще?»
«Тебя надо спрятать, – сказал он. – Сегодня можешь переночевать здесь, в кабинете, на кушетке. Утром до семи я тебя разбужу. В семь придет уборщица. После восьми ты сможешь вернуться. Пациенты явятся не раньше одиннадцати».
«Она замужем?» – спросил я.
«Хелен? – Он покачал головой. – Думаю, она с тобой даже не разводилась».
«Где она живет? В старой квартире?»
«Должно быть».
«Там с ней живет кто-нибудь еще?»
«Кто?»
«Мать. Сестра. Брат. Кто-нибудь еще из родни».
«Этого я точно не знаю».
«Тогда узнай, – сказал я. – И скажи ей, что я здесь».
«Почему ты сам не скажешь? – спросил Мартенс. – Телефон к твоим услугам».
«А если она не одна? Если там брат, который однажды уже донес на меня?»
«Ты прав. Она, наверно, растеряется, как я. И тем себя выдаст».
«Я даже не знаю, как она ко мне относится, Рудольф. Пять лет прошло, а до того мы прожили в браке всего четыре года. Пять лет больше, чем четыре… а отсутствие вдесятеро длиннее совместной жизни». Он кивнул, потом сказал:
«Не понимаю я тебя».
«Вполне возможно. Я и сам себя не понимаю. Мы живем разными жизнями».
«Почему ты ей не писал?»
«Сейчас я не могу тебе объяснить, Рудольф. Сходи к Хелен. Поговори с ней. Разузнай, что она думает. Если сочтешь нужным, скажи ей, что я здесь, и спроси, как бы нам повидаться».
«Когда мне идти?»
«Прямо сейчас, – с удивлением сказал я. – Когда же еще?»
Он огляделся по сторонам. «А ты где будешь в это время? Здесь небезопасно. Жена пошлет вниз служанку, если я не появлюсь. Она привыкла, что, закончив прием, я поднимаюсь в квартиру. Или мне придется запереть тебя, но это опять-таки привлечет внимание».
«Я не хочу сидеть под замком, – сказал я. – Разве ты не можешь сказать жене, что должен навестить пациента?»
«Это я ей потом скажу. Так проще».
В его глазах блеснул огонек, и мне почудилось, будто левый на секунду слегка прищурился. Прямо как в детстве. «Пойду пока в собор, – сказал я. – Церкви сейчас еще более-менее безопасны, точно в Средневековье. Когда тебе позвонить?»
«Через час. Назовись Отто Штурмом. Но как я тебя найду? Может, все-таки пойдешь куда-нибудь, где есть телефон?»
«Где телефон, там и опасность».
«Да, пожалуй. – Секунду он стоял в нерешительности. – Да, пожалуй, ты прав. Если я к тому времени не вернусь, перезвони еще разок… или оставь сообщение, где находишься».
«Ладно».
Я взял шляпу.
«Йозеф», – сказал он.
Я обернулся.
«Как там, за границей? – спросил он. – Ну… безо всего…»
«Безо всего? Примерно так: безо всего. Почти. А как здесь? Со всем, кроме одного?»
«Паршиво, – сказал он. – Паршиво, Йозеф. Но с виду блестяще».
Самыми малолюдными улицами я направился к собору. Идти было недалеко. На Кранштрассе мимо прошагала рота солдат. Они пели какуюто незнакомую песню. На Соборной площади я опять увидел солдат. Чуть дальше, перед тремя крестами Малой церкви, стояли вплотную друг к другу сотни две-три людей. Почти все в партийной форме. Я услышал голос и поискал оратора, но не нашел. Лишь немного погодя углядел на возвышении черный громкоговоритель. Он стоял там – освещенный, голый, сиротливый автомат – и кричал о праве на возвращение всех германских земель, о большой Германии, о возмездии и о том, что миру будет гарантирован мир, если он поступит так, как хочет Германия, и это справедливо.
Вновь задул ветер, качающиеся ветви бросали свои беспокойные тени на лица, на кричащую машину и безмолвные каменные скульптуры на церковной стене у них за спиной – распятого Христа и двух разбойников. Лица у слушателей были сосредоточенные и просветленные. Они верили всему, что им кричал автомат, и, что характерно для странного гипноза, который здесь происходил, аплодировали тому, кто не мог ни слышать их, ни видеть, аплодировали как человеку. Мне это показалось характерным и для пустой, мрачной одержимости нашего времени, которое в страхе и истерике следует лозунгам, безразлично, выкрикивает ли их представитель левых или правых, главное, чтобы крикун избавлял массу от тягостных размышлений и от ответственности, что придется выступить за то, чего она боится и чего не избежит.
Я не ожидал застать в соборе столько народу. Лишь немного погодя сообразил, что на дворе конец мая, а в этом месяце богослужение совершают каждый вечер. Секунду я прикидывал, не лучше ли пойти в одну из протестантских церквей, но не знал, открыты ли они вечером. Неподалеку от входа я протиснулся в пустую скамью. У алтаря мерцали свечи; в остальном храм был освещен слабо, и узнать меня будет нелегко.
Священник медленно прохаживался взад-вперед возле алтаря, в облаке ладана, парчи и света, в окружении служек в красных облачениях и белых стихарях, с дымящимся кадилом. Я слышал орган и пение хора, и вдруг мне почудилось, будто я вижу те же восторженные лица, что и на улице, глаза, тоже словно находящиеся в отрешенном сне наяву, полные веры без вопросов и жажды безопасности и безответственности. Все здесь было кротко и мягче, нежели за стенами, но эта религия любви к Господу и ближнему не всегда была столь кроткой: на протяжении темных веков она тоже стоила большой крови. А когда ее самое уже не преследовали, она тоже начала преследовать – кострами инквизиции, мечом и пыткой. Брат Хелен, глумливо смеясь, объяснил мне это в лагере: «Мы заимствовали методы у вашей церкви. Ваша инквизиция с камерами пыток во имя Господа научила нас, как надо обращаться с врагами веры. Мы даже менее фанатичны, заживо сжигаем очень редко». Пока он это объяснял, я висел на кресте – то был один из довольно безобидных способов выжать из арестантов имена.
Священник у алтаря поднял золотой ковчег, благословил толпу. Я сидел очень тихо, но мне казалось, будто я плыву в прохладном потоке дыма, утешения и света. Затем запели последний хорал: «Будь ночью мне защитою и стражем». Я пел его в детстве, и в ту пору опасностью казалась мне ночная тьма, теперь же опасностью был свет.
Верующие начали расходиться. Мне оставалось ждать еще четверть часа, и я отодвинулся в угол, к большой колонне из тех, что подпирали свод.
В тот же миг я увидел Хелен. Сперва как этакий вихрь среди выходящих. Кто-то там пробирался против течения, раздвигал людей, проскальзывал между ними. Секунду-другую я видел светлое, сердитое и решительное лицо и подумал: вот женщина что-то забыла. Я не сразу узнал ее, потому что никак не ожидал здесь увидеть. Только когда она оказалась чуть впереди меня, там, где толпа поредела, по движению плеча, которым она разделяла людской поток, я понял, что это она. Она словно бы никого не толкала, проскальзывая меж людьми, и скоро стояла почти свободно в широком центральном проходе перед свечами, на фоне сине-алой тьмы высоких романских окон, внезапно худенькая и маленькая, уже, считай, совсем одна, потерянная.
Я встал, чтобы привлечь ее внимание. Помахать рукой не смел. Народу было еще слишком много, в церкви такой жест бросится в глаза. Она жива – вот о чем я подумал в первую очередь. Не умерла и не больна! Странно, в нашей ситуации всегда первым делом думаешь именно об этом! Диву даешься, что какие-то вещи не изменились… что кто-то по-прежнему жив.
Она шла дальше, быстрыми шагами, к хорам. Я вылез из скамьи, пошел следом. У скамьи причащающихся она остановилась, обернулась. Присмотрелась к людям, которые еще преклоняли колени в скамьях, потом медленно пошла по проходу обратно. Я остановился. Она была настолько уверена, что найдет меня в одной из скамей, что прошла вплотную мимо меня, почти задела плечом. Я последовал за ней. «Хелен, – сказал я, когда она опять остановилась, сказал прямо ей в ухо. – Не оборачивайся! Выйди на улицу! Я пойду за тобой. Здесь нас не должны увидеть».
Она вздрогнула, как от удара, пошла дальше. Зачем только она явилась сюда? Мы очень рисковали быть узнанными. Хотя я ведь тоже не знал, что здесь будет столько народу.
Я смотрел, как она идет впереди, но не чувствовал ничего, кроме тревоги: надо как можно скорее выбраться из церкви. Хелен была в черном костюме и крохотной шляпке, голову она держала очень высоко, чуть-чуть склонив набок, словно прислушивалась к моим шагам. Я немного отстал, но так, чтобы не потерять ее из виду; я по опыту знал, что человека нередко опознаю́т только оттого, что он стоит слишком близко от другого.
Она прошла мимо каменной чаши со святой водой, через большой портал и сразу свернула налево. Вдоль стены собора вела широкая, вымощенная плитами дорожка, отделенная от большой соборной площади чугунными цепями на столбиках из песчаника. Она перепрыгнула через цепи, прошла несколько шагов в темноту и обернулась. Не могу объяснить, что́ я почувствовал в этот миг. Если скажу, что там, впереди, шла вся моя жизнь, как бы уходила прочь и вдруг обернулась и посмотрела на меня… это опять будет штамп, правда и неправда, но я все равно чувствовал так, и не только. Я пошел навстречу Хелен, навстречу ее тонкой темной фигурке, бледному лицу, глазам, губам, и оставил позади все, что было. Время, проведенное в разлуке, не исчезло, осталось, но казалось чем-то, что я прочитал, но не пережил.
«Откуда ты взялся?» – спросила Хелен чуть ли не враждебно, пока я шел к ней.
«Из Франции».
«Они тебя впустили?»
«Нет. Я пересек границу нелегально».
Вопросы почти те же, какие задавал Мартенс.
«Почему?» – спросила она.
«Чтобы увидеть тебя».
«Тебе не следовало приезжать!»
«Знаю. Я твердил себе это каждый день».
«И почему же приехал?»
«Если б знал, меня бы здесь не было».
Я не смел поцеловать ее. Она стояла совсем близко, но так неподвижно, будто разобьется, если дотронешься. Я не знал, о чем она думает, но снова увидел ее, она была жива, и теперь я мог уйти или ждать, что произойдет.
«Ты не знаешь?» – спросила она.
«Завтра буду знать. Или через неделю. Или позднее».
Я смотрел на нее. Что тут надо знать? Знание – всего лишь клочок пены, пляшущий на волне. Любой ветерок мог его сдуть, а волна оставалась.
«Ты приехал», – сказала Хелен, и лицо ее утратило неподвижность, стало нежным, она шагнула поближе. Я держал ее за плечи, ее ладони упирались мне в грудь, словно она хотела оттолкнуть меня. Казалось, мы давно уже стоим вот так вдвоем, друг против друга, на черной, ветреной Соборной площади, а уличный шум достигает нас лишь издалека, приглушенно, словно сквозь звукопоглощающую стеклянную стену. Слева, в сотне шагов, через площадь, высился ярко освещенный городской театр с широкими белыми ступенями, и я до сих пор помню, как на мгновение смутно удивился, что там еще играют спектакли, а не устроили казарму или тюрьму.
Мимо прошла группа людей. Кто-то засмеялся, некоторые оглянулись на нас.
«Идем, – шепнула Хелен. – Нельзя здесь оставаться».
«Куда же мы пойдем?»
«В твою квартиру».
Мне показалось, я ослышался.
«Куда?» – переспросил я.
«В твою квартиру. Куда же еще?»
«Меня могут узнать в подъезде! Разве жильцы в доме не те, что раньше?»
«Тебя не увидят».
«А прислуга?»
«Я отошлю ее на сегодняшний вечер».
«А завтра утром?»
Хелен посмотрела на меня.
«Ты приехал из такой дали, чтобы задавать мне эти вопросы?»
«Я приехал не затем, чтобы меня схватили, а тебя посадили в лагерь, Хелен».
Она вдруг улыбнулась:
«Йозеф, ты не изменился. Как ты только сумел добраться сюда?»
«Сам не знаю. – Невольно я тоже улыбнулся. Воспоминание о том, что́ она, бывало, наполовину с гневом, наполовину с отчаянием говорила о моей осмотрительности, разом стерло опасность. – Но я здесь».
Она покачала головой, и я увидел, что ее глаза полны слез.
«Пока нет, – возразила она. – Пока нет! А теперь идем, или нас в самом деле арестуют, ведь со стороны кажется, будто я закатываю тебе скандал».
Мы пошли через площадь. «Я не могу сразу идти с тобой, – сказал я. – Сперва ты должна отослать прислугу! Я снял номер в одной из мюнстерских гостиниц. Там меня никто не знает. Собирался пожить там».
Она остановилась. «Как долго?»
«Не знаю, – ответил я. – Я не мог думать вперед, думал только о том, что хочу увидеть тебя, а потом как-нибудь вернуться».
«Через границу?»
«Куда же еще, Хелен?»
Она наклонила голову, пошла дальше. Я думал, что сейчас мне положено быть очень счастливым, но ничего такого не чувствовал. Наверно, по-настоящему всегда чувствуешь это лишь задним числом. Теперь… теперь я знаю, что был счастлив.
«Мне надо позвонить Мартенсу», – сказал я.
«Можешь позвонить из своей квартиры», – ответила Хелен. Всякий раз, когда она упоминала про мою квартиру, меня словно током ударяло. Она делала так нарочно. Не знаю почему.
«Я обещал Мартенсу позвонить через час, – сказал я. – Пора. Если не позвоню, он решит, что-то случилось. И глядишь, совершит какую-нибудь оплошность».
«Он знает, что я пошла за тобой».
Я взглянул на часы. Со звонком я опоздал уже на четверть часа. «Я могу позвонить из ближайшего кафе, – сказал я. – Минутное дело».
«Господи, Йозеф! – рассердилась Хелен. – Ты и правда не изменился. Стал еще бо́льшим педантом».
«Это не педантизм. Это опыт. Я слишком часто видел, сколько бед может случиться, когда забывают о мелочах. И слишком хорошо знаю, что значит ожидание под угрозой опасности. – Я взял ее под руку. – Без такого педантизма меня бы уже не было в живых, Хелен».
Она крепко стиснула мое плечо и пробормотала: «Я знаю. Разве ты не видишь, что мне страшно, как бы чего не случилось, если я хоть на секунду оставлю тебя одного?»
Я ощутил все тепло мира. «Ничего не случится, Хелен. В это тоже можно верить. При всем педантизме».
Она улыбнулась, подняла бледное лицо: «Иди звони! Но не из кафе. Вон там есть телефонная будка. Ее установили, пока тебя не было. Там безопаснее, чем в кафе».
Я зашел в стеклянную будку. Хелен осталась снаружи. Позвонил Мартенсу. Занято. Немного подождал, позвонил еще раз. Монета с дребезжанием выпала, номер был по-прежнему занят. Я встревожился. Сквозь стекло я видел Хелен: она сосредоточенно расхаживала взад-вперед. Я сделал ей знак, но она на меня не глядела. Наблюдала за улицей, вытянув шею, всматриваясь, но стараясь не слишком это показывать, страж и ангел-хранитель одновременно, в превосходно сидящем костюме, как я теперь заметил. Пока ждал, заметил и что она подкрасила губы. В желтом свете они казались черными. А я вдруг вспомнил, что косметика и губная помада в новой Германии не приветствовались.
На третий раз я дозвонился до Мартенса.
«Жена говорила по телефону, – сказал он. – Почти полчаса. Я не мог ее прервать. О платьях, войне и детях».
«Где она сейчас?»
«На кухне. Пришлось дать ей поговорить. Понимаешь?»
«Да. Все в порядке. Спасибо, Рудольф. Забудь про все».
«Ты где?»
«На улице. Спасибо тебе, Рудольф. Больше мне ничего не требуется. Я все нашел. Мы вместе».
Сквозь стекло я смотрел на Хелен, хотел положить трубку. «Крыша над головой у тебя есть?» – спросил Мартенс.
«Думаю, да. Не беспокойся. Забудь этот вечер, как сон».
«Если я могу сделать еще что-нибудь, – помедлив, сказал он, – сообщи. Сегодня я просто был слишком ошеломлен. Понимаешь…»
«Да, Рудольф, понимаю. И если мне что-то понадобится, сообщу».
«Если захочешь тут переночевать… мы бы могли еще поговорить…»
Я улыбнулся: «Посмотрим. Сейчас мне пора закругляться…»
«Да, конечно, – поспешно сказал он. – Извини. Удачи, Йозеф! В самом деле!»
«Спасибо, Рудольф».
Я вышел из душной будки. Порыв ветра налетел на меня, едва не сорвал шляпу. Хелен быстро подошла. «Идем домой! Ты заразил меня своей осторожностью. Не могу отделаться от ощущения, будто из темноты пялятся сотни глаз».
«Прислуга у тебя все та же?»
«Лена? Нет, она шпионила для моего брата. Он хотел знать, пишешь ли ты мне. Или я тебе».
«А нынешняя?»
«Глупая и равнодушная. Я могу отослать ее, она только обрадуется и раздумывать не станет».
«Ты ее еще не отослала?»
Она улыбнулась и вдруг очень похорошела. «Сперва я должна была убедиться, что ты вправду здесь».
«Отошли ее до моего прихода, – сказал я. – Она не должна нас видеть. Может, пойдем куда-нибудь в другое место?»
«Куда?»
Действительно, куда? Хелен вдруг рассмеялась: «Стоим тут как подростки, которые вынуждены встречаться тайком, потому что родители считают их слишком маленькими! Куда мы можем пойти? В дворцовый парк? Его в восемь закрывают. Посидеть на лавочке где-нибудь в городском сквере? В кондитерскую? Слишком уж опасно!»
Она была права. Мелочи, которых я не предусмотрел… их никогда не предугадаешь. «Да, – сказал я. – Мы как подростки. Нас словно отбросило назад, в юность».
Я посмотрел на нее. Ей было двадцать девять, но казалась она той же, какой я ее знал. Минувшие пять лет как бы исчезли, стекли, как вода с молодого тюленя. «Я и приехал сюда как подросток, – сказал я. – Все говорило против этого, но я, как подросток, не думал вперед. Не знал даже, не живешь ли ты давным-давно с кем-нибудь другим».
Она не ответила. Каштановые волосы блестели в свете фонаря. «Я пойду первой и отошлю прислугу, – сказала она. – Но мне ненавистно оставлять тебя одного на улице. Вдруг ты опять исчезнешь… как и появился. Где побудешь?»
«Там, где ты меня нашла. В какой-нибудь церкви. Могу вернуться в собор. Церкви безопасны, Хелен. Я стал большим знатоком французских, швейцарских и итальянских церквей и музеев».
«Приходи через полчаса, – шепнула она. – Помнишь окна нашей квартиры?
«Да», – ответил я.
«Если угловое окно будет открыто, значит, все в порядке, и ты можешь подняться наверх. Если оно будет закрыто, дождись, когда я его открою».
Я невольно вспомнил Мартенса и детство, когда мы играли в индейцев. Тогда сигналом служила свеча в окне… сигналом для Кожаного Чулка или Виннету, ожидавшего внизу. Все повторяется? Неужели что-то в самом деле повторяется?
«Хорошо», – сказал я, собираясь уходить.
«Куда пойдешь?»
«Погляжу, открыта ли еще церковь Девы Марии. Помнится, это прекрасный образец готического зодчества. Я научился ценить такие вещи».
«Перестань! – сказала она. – Достаточно и того, что я должна оставить тебя одного».
«Хелен, – сказал я. – Я умею быть осторожным».
Она покачала головой. Лицо вдруг утратило все претензии на храбрость. «Недостаточно, – сказала она. – Недостаточно. Что мне делать, если ты не придешь?»
«Ничего. Телефон у тебя тот же?»
«Да».
Я тронул ее плечо. «Хелен, все будет хорошо».
Она кивнула: «Я провожу тебя до церкви Девы Марии. Хочу убедиться, что там ты в безопасности».
Мы молча зашагали по улице. Идти было недалеко. Хелен покинула меня, не сказав ни слова. Я смотрел ей вслед, пока она шла через Рыночную площадь. Шла быстро, не оглядываясь.
Я остановился в тени портала. Справа в тени была ратуша, только на каменных лицах старинных изваяний поблескивала полоска лунного света. С этого крыльца в 1648 году объявили об окончании Тридцатилетней войны, а в 1933-м – о начале Тысячелетнего рейха. Интересно, доживу ли я до той поры, когда отсюда же объявят о его конце. Вряд ли, надежды маловато.
Войти в церковь я не пытался. Мне вдруг стало противно прятаться. Разумеется, я не хотел действовать неосторожно, но, увидев Хелен, более не желал без нужды быть загнанным зверем.
Чтобы не привлекать внимания, я пошел дальше. Город, прежде опасный, знакомый и вместе чужой, теперь стал оживать. Я это чувствовал, потому что оживал сам. Анонимное существование последних лет, по сути всего-навсего выживание, бесплодное прозябание от одного дня к другому, вдруг показалось мне уже не столь бесполезным. Оно сформировало меня, и, словно утлый цветок, распустившийся тайком, неожиданно возникло чувство жизни, мне ранее неведомое. Оно не имело отношения к романтике, но было таким новым и волнующим, как огромный, сияющий тропический цветок, точно по волшебству явившийся на заурядном кусте, от которого ожидали разве что несколько скромных, заурядных бутончиков. Я вышел к реке и остановился на мосту, глядя через парапет на воду. Слева от меня стояла средневековая сторожевая башня, где теперь устроили прачечную. Окна были освещены, девушки еще работали. Свет широкими отблесками бежал внизу по воде. Черный вал с липами рисовался на фоне высокого неба, а справа – сады и силуэт собора над ними.
Я стоял очень тихо, совершенно расслабившись. Слышался только плеск воды и приглушенные голоса прачек за окнами. Я не мог разобрать, о чем они говорят. Слышал просто человеческие звуки, еще не ставшие словами. Всего лишь знаки, что рядом люди, – но покуда не знаки лжи, обмана, глупости и адского одиночества, что содержались бы в них, готовых словах, как обертоны чисто запланированной мелодии.
Я дышал, и мне казалось, я дышу в том же ритме, что и вода. На мгновение, на вневременное мгновение, мне даже почудилось, будто я часть моста и вода течет, как мое дыхание, течет сквозь меня. Я полагал это естественным и не удивлялся. И не думал, мысли мои стали столь же бессознательными, как дыхание и вода.
Прикрытый огонек быстро двигался по черной липовой аллее слева от меня. Я следил за ним взглядом, потом опять услышал голоса прачек. Сообразил, что некоторое время их не слышал. Теперь я снова почуял и запах лип. Легкий ветерок нес его по-над водой.
Подвижный огонек погас, одновременно погасли и окна у меня за спиной. С минуту вода была черной и смолистой, потом возникли узкие отблески луны, которых прежде не было видно из-за более яркого света прачечной. Теперь, оставшись одни, они заиграли нежнее и многообразнее, чем давешний резкий желтый свет. Я думал о своей жизни, где много лет назад тоже угас огонь, и спрашивал себя, не появится ли и в ней множество мягких огоньков, которых я раньше никогда не видел, вот как сейчас отблески луны на воде. До сих пор я ощущал лишь утрату, мне и в голову не приходило, что, может статься, благодаря этому я кое-что и обрел.
Я покинул мост и прогуливался по валу, пока не истекли полчаса ожидания. Запах лип в ночи набирал силу, луна осыпала серебром кровли и башни. Город как бы отчаянно стремился доказать мне, что я создал себе ложное представление… что нигде меня не караулит опасность… что после долгих блужданий я спокойно могу вернуться и снова быть самим собой.
Сопротивляться этому не было нужды. Что-то во мне автоматически стояло на страже, охраняло со всех сторон. Слишком часто меня именно в такой ситуации брали под арест в Париже, в Риме и в других городах – погруженного в красоту, убаюканного безопасностью создаваемой ею обманчивой иллюзии любви, понимания и забвения. Полицейские не забывали. И доносчики не становились святыми от лунного света и аромата лип.
Я направился к Гитлер-плац, осторожно, все мои чувства были напряжены, как крылья летучей мыши. Дом стоял на углу, где одна из улиц вливалась в площадь. Улица еще носила давнее название.
Окно было открыто. Мне вдруг вспомнились легенда о Геро и Леандре и сказка о королевских детях, где монахиня погасила свечу и королевский сын утонул, – я не королевский сын, думал я, а у немцев много очень красивых сказок и, несмотря на это или, возможно, как раз поэтому – самые страшные концлагеря на свете. Я спокойно пересек улицу, ведь это был не Геллеспонт и не северное море.
В подъезде кто-то был, шел мне навстречу. Повернуть назад я уже не мог, продолжал идти к лестнице, будто знал, куда мне надо. Это оказалась пожилая женщина, которой я по прежним временам не знал. Сердце у меня сжалось, – Шварц улыбнулся, – вот вам опять штамп, которому веришь, только когда изведаешь на собственном опыте. Я не оглянулся, услышал, как захлопнулась входная дверь, и быстро поднялся наверх.
Дверь была чуть-чуть приоткрыта. Я толкнул ее и очутился лицом к лицу с Хелен. «Тебя кто-нибудь видел?» – спросила она.
«Да, пожилая женщина».
«Без шляпы?»
«Да, без шляпы».
«Должно быть, моя прислуга. У нее комната в мансарде. Я сказала, что она свободна до вечера понедельника, и она, видимо, замешкалась у себя. Служанки считают, людям на улице больше делать нечего, кроме как критиковать их одежду».
«К черту прислугу, – сказал я. – Кто бы эта женщина ни была, меня она не узнала. Я сразу чую, когда меня узнают».
Хелен забрала у меня плащ и шляпу, хотела повесить на вешалку. «Не здесь, – сказал я. – В шкаф. Вдруг кто-нибудь придет и увидит».
«Никто не придет», – сказала Хелен и впереди меня прошла в комнату.
Я обернулся и повернул в замке ключ. Потом последовал за ней.
В первые годы эмиграции я часто думал о своей квартире, позднее же старался ее забыть. Теперь, находясь в ней, я мало что почувствовал. Она была словно картина, которой я некогда владел и которая напоминала мне об определенном периоде моей жизни. Я стоял в дверях, глядя по сторонам. Почти ничего не изменилось. Диван и кресла обиты заново.
«Раньше они, кажется, были зелеными?» – спросил я.
«Голубыми», – ответила Хелен.
Шварц повернулся ко мне:
– У вещей своя жизнь, и просто страх берет, когда сравниваешь ее со своей собственной.
– А зачем сравнивать? – спросил я.
– Вы не сравниваете?
– Сравниваю, но не на разных уровнях. Ограничиваюсь самим собой. Когда голодный стою возле порта, сравниваю себя с воображаемым «я», которое вдобавок болеет раком. И тогда на минуту бываю счастлив, потому что не болею раком, только голоден.
– Рак, – сказал Шварц, пристально глядя на меня. – Почему рак?
– Я мог бы сказать и сифилис. Или туберкулез. Рак – самое первое, что приходит в голову.
– Самое первое? – Шварц по-прежнему не сводил с меня глаз. – А по-моему, самое последнее! Самое последнее! – повторил он.
– Ладно, – уступил я. – Пусть самое последнее. Я упомянул его просто для примера.
– Он самое последнее и потому непостижимое.
– Такова любая смертельная болезнь, господин Шварц. Всегда.
Он молча кивнул. Потом спросил:
– Вы еще голодны?
– Нет. А что?
– Вы что-то сказали об этом.
– Опять-таки для примера. Сегодня благодаря вам я уже дважды поужинал.
Он поднял голову.
– Как звучит! Ужинать! Как утешительно! Как недостижимо, когда все минует!
Я молчал. Немного погодя он уже спокойнее сказал:
– Желтые кресла. Их заново обтянули, вот и все, за те пять лет, когда мое бытие проделало десяток иронических сальто. Порой все как-то не сходится, вот что я имел в виду.
– Да. Человек умирает, а кровать остается. Дом остается. Вещи остаются. Хочется и их уничтожить.
– Нет, если они тебе безразличны.
– Не стоит их уничтожать, – сказал я. – Человек не настолько важен.
– Вот как? – отозвался Шварц, повернув ко мне неожиданно растерянное лицо. – Не важен? Ну конечно! Но скажите мне: что же важно, коль скоро не важна жизнь?
– Ничто, – ответил я, зная, что это и правда, и неправда. – Только одни мы придаем ей важность.
Шварц поспешно отхлебнул темного вина.
– А почему? – громко спросил он. – Вы можете мне сказать, почему нам не стоит придавать ей важность?
– Нет, не могу. Это просто глупая болтовня. Я и сам считаю жизнь достаточно важной.
Я взглянул на часы. Начало третьего. Оркестр играл танцевальную музыку, танго, и короткие приглушенные возгласы корнета напомнили мне далекие гудки отплывающего корабля. Еще несколько часов, подумал я, и наступит рассвет, тогда я смогу уйти. Ощупал карман. Билеты на месте. А я было решил, что их там нет; непривычная музыка, вино, занавешенные помещения и голос Шварца убаюкивали, казались нереальными.
– Я так и стоял в дверях гостиной, – продолжал Шварц. – Хелен посмотрела на меня, спросила: «Твоя квартира стала для тебя настолько чужой?»
Я покачал головой, сделал несколько шагов вперед. Странное смущение охватило меня. Вещи словно хотели прикоснуться ко мне, но для них я перестал быть своим. Меня пронзил ужас: вдруг я и для Хелен уже чужой? «Все, как было, – поспешно сказал я, с отчаянием и с жаром. – Все, как было, Хелен».
«Нет, – возразила она. – Все теперь иначе. Почему ты вернулся? Поэтому? Чтобы все было как раньше?»
«Нет, – сказал я. – Знаю, так не бывает. Но разве мы не жили здесь? Где все это?»
«Не здесь. И не в старой одежде, которую мы выбросили. Ты об этом?»
«Нет. Я спрашиваю не о себе. Но ты все время была здесь. Я спрашиваю о тебе».
Хелен как-то странно посмотрела на меня. «Почему ты раньше никогда не спрашивал?» – помолчав, сказала она.
«Раньше? – недоуменно спросил я. – Почему раньше? Я не мог приехать».
«Раньше. До того, как уехал».
Я не понимал ее. «О чем я должен был спросить, Хелен?»
Она помолчала. «Почему ты не спросил, поеду ли я с тобой?» – наконец сказала она.
Я уставился на нее. «Со мной? Отсюда? От твоей семьи? От всего, что ты любила?»
«Я ненавижу свою семью».
Я вконец растерялся. «Ты не знаешь, что такое чужбина», – наконец пробормотал я.
«В ту пору ты тоже не знал».
Это правда. «Я не хотел увозить тебя отсюда», – неуверенно ответил я.
«Ненавижу. Все здесь ненавижу! Почему ты вернулся?»
«Тогда ты все это не ненавидела».
«Почему ты вернулся?» – повторила она.
Она стояла в другом конце комнаты, и разделяло нас нечто большее, чем желтые кресла, и нечто большее, чем пять лет времени. Внезапно мне навстречу хлынули враждебность и явное разочарование, и я смутно ощутил, что своим, как мне казалось, вполне естественным желанием не обрекать ее на тяготы, пожалуй, очень ее обидел: сам бежал, а ее оставил.
«Почему ты вернулся, Йозеф?» – спросила Хелен.
Я бы с радостью ответил, что вернулся из-за нее, но в ту минуту не смог дать такой ответ. Все не так-то просто. Я вдруг понял – понял лишь в ту минуту, – что назад меня гнало спокойное, ясное отчаяние. Все мои резервы были истрачены, а простой воли выжить никак не хватит, чтобы и дальше противостоять стуже одиночества. Я оказался неспособен выстроить себе новую жизнь. Да, по сути, никогда по-настоящему и не хотел. С прошлой своей жизнью и с той отнюдь не совладал, не смог ни покинуть ее, ни преодолеть, началась гангрена, и мне осталось только сделать выбор: сдохнуть в смраде гангрены или вернуться и попробовать ее излечить.
Я никогда особо не задумывался об этом, да и сейчас уяснил себе лишь в общих чертах, но ощутил как избавление, что хотя бы это теперь знаю. Тяжесть и смущение отступили. Теперь я понимал, почему приехал. После пяти лет эмиграции я привез сюда лишь обостренность восприятия, готовность жить и осторожность и опыт беглого преступника. Все прочее потерпело крах. Множество ночей меж границами, чудовищная тоска бытия, которому дозволено бороться лишь за крохи еды да несколько часов сна, подпольное, кротовье существование – все исчезло без следа, пока я стоял на пороге своей квартиры. Я потерпел крах, обанкротился, но долгов за мной не осталось. Я был свободен. «Я» тех лет покончило самоубийством, когда я пересек границу. Это не возвращение. Я умер, жило другое «я», жило даровым временем. Ответственности больше не было. Бремя отпало.
Шварц повернулся ко мне:
– Вы понимаете, о чем я? Я повторяюсь и рассуждаю противоречиво.
– Думаю, да, понимаю, – ответил я. – Возможность самоубийства – это милость, какую редко осознаешь. Она дает человеку иллюзию свободной воли. И вероятно, мы совершаем больше самоубийств, чем полагаем. Просто не знаем об этом.
– Вот именно! – оживленно сказал Шварц. – Если б мы только осознали их как самоубийства! Тогда были бы способны воскресать из мертвых. Могли бы прожить несколько жизней, а не тащить от кризиса к кризису язвы опыта и в конце концов погибать от них.
– Хелен я этого, конечно, объяснить не мог, – продолжал он. – Да и нужды не было. При той легкости, какую вдруг ощутил, я даже потребности такой не испытывал. Напротив, чувствовал, что объяснения лишь запутают. Вероятно, ей хотелось услышать, что я вернулся ради нее, но я, с моей новой проницательностью, понимал, что этим себя погублю. Тогда прошлое навалится на нас со всеми своими аргументами насчет вины, и ошибки, и обиженной любви, и мы никогда из этого не выберемся. Если идея духовного самоубийства, теперь чуть ли не радостная, имеет смысл, то ей надлежит быть еще и полной и охватывать не только годы эмиграции, но и годы до нее, иначе будет опасность второй гангрены, даже более застарелой, и она немедля проявится. Хелен стояла там как враг, готовый нанести удар любовью и точным знанием моих уязвимых мест, а я был в настолько невыгодном положении, что вообще не имел шансов. Если раньше я испытывал избавительное ощущение смерти, то теперь оно обернется мучительным моральным издыханием – уже не смертью и воскресением, но полнейшим уничтожением. Женщинам ничего объяснять не стоит, надо действовать.