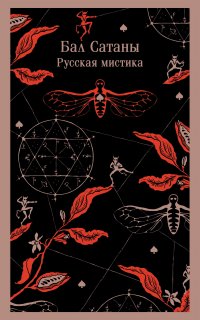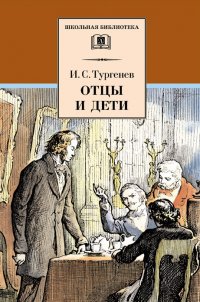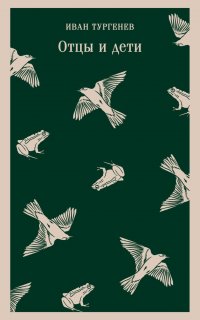Читать онлайн Записки охотника бесплатно
- Все книги автора: Иван Тургенев
Текст печатается по изданию: Тургенев И. С. Полное собрание сочинений и писем в 30-ти томах. Т. 3. – М.: Наука, 1979.
Главный редактор: Сергей Турко
Руководитель проекта: Елена Кунина
Корректоры: Мария Прянишникова-Перепелюк, Татьяна Редькина
Компьютерная верстка: Кирилл Свищёв
Художественное оформление и макет: Юрий Буга
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Зубков К., предисловие, 2022
© ООО «Альпина Паблишер», 2024
* * *
Иван Тургенев. Дагеротип О. Биссона.
Париж, 1847–1850 годы[1]
Предисловие «Полки»
Цикл рассказов, которые сделали Тургенева знаменитым и научили русскую литературу говорить о крестьянстве без фальши и упрощения.
Кирилл Зубков
О ЧЕМ ЭТА КНИГА?
О жизни русской провинции, показанной глазами странствующего охотника – образованного и проницательного человека. В книге мы встречаем представителей самых разных слоев общества – от знатных дворян до нищих крестьян. Именно изображение простонародья сделало книгу знаменитой: современники воспринимали ее как этапное событие в истории русской литературы о крестьянах.
КОГДА ОНА НАПИСАНА?
Хронологически первый рассказ из «Записок охотника» – «Хорь и Калиныч», опубликованный в первом номере «Современника» за 1847 год. Судя по всему, в это время Тургенев еще не собирался писать целую книгу, а рассказ сочинил по просьбе редакции. Во главе «Современника» как раз в этот момент оказались старые знакомые Тургенева – Николай Некрасов и Иван Панаев. Успех нового рассказа – и нового журнала – побудил Тургенева создать целый цикл, публиковавшийся в «Современнике». В подзаголовке этих публикаций и появляется формулировка «Записки охотника».
В 1852 году выходит отдельное издание тургеневского цикла. Книга имела еще больший успех и была переведена на несколько языков. В 1870-е Тургенев дополнил цикл рассказами «Конец Чертопханова», «Живые мощи» и «Стучит!», которые, однако, довольно сильно отличаются от ранних рассказов. Современники писателя по большей части были не в восторге от этих дополнений, однако Тургенев включил их в состав книги.
Иван Крамской. Портрет Николая Некрасова. 1877 год[2]
КАК ОНА НАПИСАНА?
В «Записках охотника» Тургенев пытался решить одну из наиболее сложных литературных проблем своего времени: как с помощью приемов, в большинстве своем заимствованных из западной литературы, изобразить российскую провинцию, далекую и чуждую этой культуре? Из критиков – современников Тургенева наиболее развернуто высказался об этой проблеме Павел Анненков, в будущем близкий друг и многолетний корреспондент писателя, в своей статье «По поводу романов и рассказов из простонародного быта» (1854). Статья вышла уже после «Записок охотника» и во многом опиралась на тургеневский опыт. Анненков писал, что базовые принципы изображения человека, привычные для западноевропейской и русской литературы, к жизни народа неприложимы: «Простонародная жизнь не может быть введена в литературу во всей своей полноте без малейшего ущерба для истины». Так, попытка представить драматичные конфликты в крестьянской жизни, с точки зрения критика, неизбежно приводит к искажению реальной жизни народа.
Этот важнейший для русской литературы XIX века культурный разрыв между вестернизированной образованной публикой и массой людей, мысливших совершенно иными категориями, и пытается преодолеть Тургенев в «Записках охотника». Эта книга, конечно, рассчитана на образованного читателя, а не на крестьянина, но крестьянин в ней показан с помощью тех же категорий и приемов, которыми пользовались для описания вестернизированных обитателей столиц.
Большинство рассказов не отличаются динамичным сюжетом – это просто житейские сцены, случайно попавшиеся на глаза рассказчику. Некоторые персонажи переходят из одного рассказа в другой (таков, например, охотник Ермолай), некоторые мелькают только один раз. Порой кажется, что перед нами просто охотничий анекдот (таков, скажем, «Льгов»), дополненный подробными портретами персонажей. В то же время никому не придет в голову считать рассказы Тургенева байками неискушенного и наивного охотника – это сложная и серьезная литература. Рассказчик блестяще владеет литературным языком, проводит аналогии с западноевропейской литературой (чудаковатый помещик Чертопханов сравнивается с героями Шекспира). Своих героев Тургенев в большинстве случаев не сводит к общественным типам – он показывает психологические коллизии, которые у крестьян не проще, чем у представителей других сословий (например, в «Ермолае и мельничихе»). Для литературы того времени о простых людях все это было необычно.
КАК ОНА БЫЛА ОПУБЛИКОВАНА?
«Записки охотника», за исключением трех добавленных в 1870-е годы рассказов, печатались на страницах некрасовского «Современника» и во многом способствовали успеху журнала. Судя по всему, сначала рассказ «Хорь и Калиныч» не задумывался как серьезное литературное произведение. По воспоминаниям Тургенева, Панаев попросил его прислать материал для отдела «Смесь», где обычно печатались небольшие бытовые очерки, юмористические произведения, интересные новости и т. п. Однако очень быстро цикл стал восприниматься как важное литературное и общественное событие.
Особенно это относится к его отдельному изданию, вышедшему в то время, когда Тургенев был под арестом в своем имении за публикацию запрещенного цензурой некролога Николаю Гоголю. Цензор, разрешивший публикацию «Записок охотника», князь Владимир Львов, был отправлен в отставку: его начальство увидело в книге острую критику дворянского общества и идеализацию народа. После этого «Записки охотника» неоднократно переиздавались при жизни Тургенева, который слегка корректировал состав и композицию книги.
ЧТО НА НЕЕ ПОВЛИЯЛО?
В 1840-е натуральная школа – направление, поддержанное главным критиком эпохи Виссарионом Белинским, – активно интересуется устройством и противоречиями современного городского общества. В Россию приходит жанр физиологического очерка – в таких очерках изображаются типичные представители городских сообществ. Например, в сборнике «Физиология Петербурга» можно встретить тексты «Петербургские шарманщики» или «Петербургский дворник». Было только вопросом времени, когда натуральная школа обратится к изображению деревенских обитателей. Сам Тургенев, например, в 1845 году выпустил физиологический очерк в стихах – «Помещик», а за год до появления «Хоря и Калиныча» Дмитрий Григорович опубликовал повесть «Деревня» (1846). Произведение Григоровича построено на изображении страданий обычного крестьянина, против которого и общественные условия, и неудачное стечение обстоятельств. «Деревня» в первую очередь вызывала у читателя сочувствие к его положению. «Записки охотника» более объективны и сдержанны. Влияние натуральной школы чувствуется в установке некоторых рассказов, особенно самых первых, на «научное» описание человека и общества. Показательна первая фраза «Хоря и Калиныча»: «Кому случалось из Волховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой». Деление людей на «породы» по географическому принципу было вполне в духе науки того времени.
В то же время на Тургенева явно повлияли западные тексты, в первую очередь проза Жорж Санд (многие рассказы из «Записок охотника» Тургенев написал во Франции). Жорж Санд известна прежде всего как автор романов, посвященных теме женской эмансипации, но это не все, что ее интересовало: в романе «Чертово болото» и повести «Франсуа-найденыш» французская писательница изобразила культурный конфликт между «цивилизованными» классами общества (носителями литературного языка и сознания) и простонародьем, чуждым, по ее мнению, этим культурным формам и близким к природе.
Значим для Тургенева был и опыт немецкого прозаика Бертольда Ауэрбаха, автора цикла «Шварцвальдские деревенские рассказы». Теперь Ауэрбах прочно забыт, но в свое время он был одним из самых известных европейских писателей: например, Михаил Салтыков-Щедрин ставил его в пример всей русской литературе. Его самое объемное и известное произведение, посвященное жизни простонародья, Тургенев не мог не учитывать.
КАК ЕЕ ПРИНЯЛИ?
Современники сочли «Записки охотника» несомненной удачей. До появления романа «Рудин» (1856) Тургенев воспринимался прежде всего как создатель «Записок». Рассказы широко обсуждались; в июне 1847 года Некрасов сообщал Тургеневу, что «Записки», по мнению читателей, не уступают «Обыкновенной истории» Гончарова и «Кто виноват?» Герцена: «Успех Ваших рассказов повторился еще в большой степени в Москве – все знакомые Вам москвичи от них в восторге и утверждают, что о них говорят с восторгом и в московской публике. Нисколько не преувеличу, сказав Вам, что эти рассказы сделали такой же эффект, как романы Герцена и Гончарова и статья Кавелина, – этого, кажись, довольно! В самом деле, это настоящее Ваше дело».
Цензурные сложности помешали широкому обсуждению в печати их книжного издания, однако отдельные рассказы вызывали серьезные дискуссии в критике. Большинство писателей очень высоко оценили рассказы Тургенева: известны похвальные отзывы, например, Белинского и его идейных противников славянофилов Аксаковых. Впрочем, высказывались и претензии: так, критики журнала «Москвитянин» упрекали писателя в идеализации простонародного быта – чуждого, по их мнению, Тургеневу.
ЧТО БЫЛО ДАЛЬШЕ?
«Записки охотника» стали своеобразным стандартом изображения народа в русской литературе. Те, кто пытался создать новые формы его описания, отталкивались именно от книги Тургенева: в 1850-е годы это Алексей Писемский, автор цикла рассказов и повестей из народного быта, на рубеже 1850–1860-х годов – радикально настроенные разночинцы Николай Успенский, Василий Слепцов и другие, в 1870-е – такие писатели-народники, как Николай Златовратский. В большинстве своем они воспринимали Тургенева как создателя идеализированных крестьянских образов и пытались работать в более «трезвом» духе, изображая крестьян менее «поэтическими» и более забитыми и ограниченными.
Еще при жизни Тургенева книга была переведена на английский, французский и немецкий языки. На Западе ее поняли как непредвзятое изображение российского общества и его проблем. Особенно актуальными «Записки охотника» оказались во время Крымской войны: французская публика восприняла их как свидетельство внутренней слабости России, не способной эффективно вести боевые действия. Тургенева такое прочтение, судя по всему, не устраивало, как и чрезмерно «эффектный» перевод. Зато похвальные отзывы Проспера Мериме, Жорж Санд и других писателей не только были приятны автору «Записок охотника», но и способствовали созданию его репутации за рубежом как первого современного русского писателя.
Еще до революции отдельные рассказы включались в школьные хрестоматии и программы, в том числе благодаря небольшому объему. Известен запрещенный советской цензурой за «формализм»[3] и позже уничтоженный во время Великой Отечественной войны фильм Сергея Эйзенштейна «Бежин луг», от которого осталось несколько кадров. Судя по всему, впрочем, в рассказе и фильме общего было очень немного: действие эйзенштейновского «Бежина луга» происходило в советской деревне времен коллективизации. Несколько рассказов из книги были также экранизированы в 1970-е. Среди театральных постановок стоит отметить много лет не сходящий со сцены спектакль Вениамина Фильштинского «Муму», в котором одноименный тургеневский рассказ обрамлен сценами из «Записок».
ПРИ ЧЕМ ТУТ СПОР ЗАПАДНИКОВ И СЛАВЯНОФИЛОВ?
Некрасов в письме к Тургеневу сравнивает «Записки охотника» со статьей Кавелина. Имеется в виду знаменитое выступление историка и юриста Константина Кавелина «Взгляд на юридический быт древней России» – один из манифестов западничества. Основания для такого сопоставления были: современники воспринимали рассказы Тургенева как выражение «западнического» отношения к России и русской истории. Прямая полемика со славянофильством встречается в рассказе «Однодворец Овсяников», где представитель патриархального простонародья с пренебрежением отзывается о некоем барине Любозвонове:
Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужички поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаич. Смотрят мужики – что за диво! – Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой; рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской; бороду отпустил, а на голове така шапонька мудреная, и лицо такое мудреное, – пьян, не пьян, а и не в своем уме. ‹…› Стал он им речь держать: «Я-де русский, говорит, и вы русские; я русское все люблю… русская, дескать, у меня душа и кровь тоже русская…» Да вдруг как скомандует: «А ну, детки, спойте-ка русскую, народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись; вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался… ‹…› Что за чудеса такие, батюшка, скажите?.. Или я глуп стал, состарелся, что ли, – не понимаю.
Я отвечал Овсяникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен.
Любозвонов – это, конечно, пародия на славянофила (вероятно, на Константина Аксакова), и даже его попытки одеться «по-народному» вызывают у мужиков не сочувствие, а ужас и непонимание.
Однако спор со славянофильством в «Записках охотника» ведется и на более глубоком уровне. Славянофилы считали крестьянство в первую очередь носителем традиции, хранителем духовного и религиозного опыта русского народа, чуждого западному индивидуализму. Тургенев же показал, что исторические перемены, в том числе петровские реформы, далеко не чужды русскому крестьянину, который открыт новому и готов поучиться у Запада. Именно так рассказчик характеризует Хоря:
Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов.
Хорь, как и Калиныч, – яркая индивидуальность и в то же время обычный русский крестьянин. Идеи, что в представителях «народа» живет сильнейшее личностное начало, что реформы Петра Первого совершенно органичны для русской истории и крестьянства, относятся к основополагающим идеям западничества и прямо выражены в том числе в статье Кавелина.
Для середины XIX века поиск национальной идентичности – попытки определить, что такое русский народ, каковы его сущностные свойства и чем он отличается от других народов, – был исключительно серьезной проблемой, беспокоившей большинство образованных людей. Многие русские писатели, например Достоевский, предлагали «интеллигенции» искать образец подлинно национальных чувств и мыслей среди простонародья. Тургенев относится к крестьянам несколько иначе. Для него «простой народ», при всем своеобразии, органическая часть русского общества и истории. Тургеневских крестьян, по сути, занимают те же проблемы, что и образованных людей: уже в «Хоре и Калиныче» простые мужики всерьез задумываются об отношениях России и Запада или конфликте сословий, а рассказчик угадывает в их действиях связь с петровскими реформами. Образованным людям Тургенев предлагает не восхищаться крестьянами и не презирать их, а научиться их понимать; не считать их образцом для подражания и истоком народного духа или, наоборот, забитыми и жалкими варварами, а увидеть в них обычных людей, правда со своеобразным языком и собственной культурой. Рассказчик в «Записках охотника» описывает мужиков в таких категориях, в каких никому до него не пришло бы в голову о них думать: «Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных». Работа по «переводу» между простонародным и вестернизированным языком, которой занимается тургеневский охотник, способна хотя бы ослабить социальные противоречия и установить контакты между разными общественными слоями.
КТО ТАКОЙ ОХОТНИК И ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
Рассказы Тургенева объединяет образ охотника, который странствует по разным губерниям и общается со встречными. Охота в книге Тургенева – не просто хобби: это занятие, которое позволяет человеку оказаться ближе к природе и в то же время понять жизнь самых разных слоев населения. В рецензии на «Записки ружейного охотника» Сергея Аксакова Тургенев представил своеобразную «диалектику» общечеловеческих и собственно «охотничьих» черт:
Да не подумают читатели, что «Записки ружейного охотника» имеют цену для одних охотников: всякий, кто только любит природу во всем ее разнообразии, во всей ее красоте и силе, всякий, кому дорого проявление жизни всеобщей, среди которой сам человек стоит, как звено живое, высшее, но тесно связанное с другими звеньями, – не оторвется от сочинения г. А-ва; оно станет его настольной книгой, он будет ее с наслаждением читать и перечитывать; естествоиспытатель придет от нее в восторг…
Однако из его собственной книги понятно, что настоящий охотник должен интересоваться и «жизнью всеобщей», и волнующими «естествоиспытателя» вопросами. Например, в рассказе «Лес и степь» охотник замечает:
Охота с ружьем и собакой прекрасна сама по себе, für sich, как говаривали в старину; но, положим, вы не родились охотником: вы все-таки любите природу; вы, следовательно, не можете не завидовать нашему брату…
Охотником в этом смысле может стать кто угодно: и автор, и читатель книги, и барин, и мужик. Герои «Записок охотника» вообще неоднократно отмечают, что рассказчик, как бы хорошо он ни понимал крестьянина, все же барин. Даже его страсть к охоте осуждают такие, например, герои, как Касьян с Красивой Мечи или Лукерья из «Живых мощей», по религиозным соображениям не одобряющие ненужных убийств. Однако многие крестьяне разделяют увлечение рассказчика, особенно его верный спутник Ермолай, присутствующий во множестве рассказов.
Формальная функция охотника – связывать самые различные эпизоды и представлять их читателю. В этом смысле он чем-то похож на традиционного героя плутовского романа, который предоставляет читателю возможность посмотреть на жизнь разных людей, с которыми общается (наподобие гоголевского Чичикова). Охотник в «Записках» очень мало делает, он скорее не действует, а наблюдает – не случайно очень часто он спит или притворяется спящим и благодаря этому становится свидетелем значимых событий и характерных эпизодов, таких как свидание крестьянки с камердинером (в рассказе, который так и называется – «Свидание») или ночной разговор мальчиков, стерегущих табун (составляющий основное содержание «Бежина луга»).
КАКАЯ СВЯЗЬ МЕЖДУ РАССКАЗЧИКОМ И ТУРГЕНЕВЫМ?
Тургенев, как и многие его известные современники, действительно увлекался охотой. Это, конечно, не значит, что рассказчик книги и ее автор тождественны, однако их объединяют многие черты – далеко не только склонность пострелять птиц. Вообще охотники, как известно, любят рассказывать забавные и увлекательные истории из своего опыта – некое «литературное» начало в охоте присутствует. Тургеневский охотник пишет, собственно, совершенно так же, как и сам Тургенев, – на стилистическом уровне никакой дистанции между автором и рассказчиком заметить не удается.
Елизавета Бем. Иллюстрация к рассказу «Ермолай и мельничиха». 1883 год[4]
В этом отношении охотник – достойный собеседник образованного читателя, выписывающего толстые журналы и интересующегося современной русской литературой.
Однако в то же время охотник легко находит общий язык и с крестьянами, и с чудаковатыми сельскими помещиками, и с дворовыми – со всеми теми людьми, которых трудно заподозрить в серьезных литературных интересах. Ему удается разговорить замкнутого и недолюбливающего дворян Хоря, молчаливого и мрачного героя рассказа «Бирюк» и даже загадочного Касьяна – по всей видимости, сектанта, не желающего выдавать своих секретов барину. В этом смысле охота становится поиском не только дичи, но и новых людей, за которыми герой любит наблюдать.
КАК ЖИВЕТСЯ В ПРОВИНЦИИ ОБРАЗОВАННЫМ ЛЮДЯМ?
Положение охотника в книге Тургенева исключительно: он единственный в западном смысле образованный человек, который легко уживается в русской провинции. Остальным людям, разбирающимся, например, в немецкой философии (это была своеобразная визитная карточка московских студентов, в том числе молодого Тургенева), в российской глубинке не место. Наиболее последовательно эта мысль проводится в «Гамлете Щигровского уезда» – главный герой этого рассказа совершенно безжалостно доказывает, что отличное образование не только не помогает ему, но и делает его совершенно лишним в жизни человеком:
– Вы, милостивый государь, войдите в мое положение… Посудите сами, какую, ну, какую, скажите на милость, какую пользу мог я извлечь из энциклопедии Гегеля? Что общего, скажите, между этой энциклопедией и русской жизнью? И как прикажете применить ее к нашему быту, да не ее одну, энциклопедию, а вообще немецкую философию… скажу более – науку?
Он подпрыгнул на постели и забормотал вполголоса, злобно стиснув зубы:
– А, вот как, вот как!.. Так зачем же ты таскался за границу? Зачем не сидел дома да не изучал окружающей тебя жизни на месте? Ты бы и потребности ее знал, и будущность, и насчет своего, так сказать, призвания тоже в ясность бы пришел… Да помилуйте, – продолжал он, опять переменив голос, словно оправдываясь и робея, – где же нашему брату изучать то, чего еще ни один умница в книгу не вписал! Я бы и рад был брать у ней уроки, у русской жизни-то, – да молчит она, моя голубушка.
Проблемы, которые поднимает «энциклопедия Гегеля», здоровому русскому человеку не нужны: герой сам объясняет, что в жизни ему нужно было бы не размышлять о своем положении, а действовать. Даже принимая решение жениться, он руководствуется своего рода «философией», похожей на ту, что изучал в Германии, – он любит не саму невесту, а свои мысли о ней: «Софья мне более всего нравилась, когда я сидел к ней спиной или еще, пожалуй, когда я думал или более мечтал о ней, особенно вечером, на террасе». Болезненная рефлексия «Гамлета» совершенно не похожа, например, на рефлексию романтического героя типа Печорина: она не свидетельствует ни об оригинальности, ни о внутренней силе героя. Тот и сам отрекается от собственного имени и от претензий на индивидуальность:
…Не спрашивайте моего имени ни у меня, ни у других. Пусть я останусь для вас неизвестным существом, пришибленным судьбою Васильем Васильевичем. Притом же я, как человек неоригинальный, и не заслуживаю особенного имени… А уж если вы непременно хотите мне дать какую-нибудь кличку, так назовите… назовите меня Гамлетом Щигровского уезда. Таких Гамлетов во всяком уезде много, но, может быть, вы с другими не сталкивались…
Какая-то злая судьба преследует всех образованных героев цикла Тургенева: «образованная, умная, начитанная» героиня рассказа «Уездный лекарь» умирает от непонятной болезни, несмотря на все усилия врача; чахотка губит студента Авенира Сорокоумова из рассказа «Смерть», который «любопытствовал знать, что, дескать, до чего дошли теперь великие умы». Очевидно, учение в Германии и чтение Гегеля не очень-то хороший способ найти себе место в провинциальной России. Еще печальнее результат поверхностного усвоения западной культуры: отвратительную пародию на «культурного человека» являет собой, например, камердинер из «Свидания», невероятно пекущийся о своей внешности. Его «красные и кривые пальцы», украшенные «серебряными и золотыми кольцами с незабудками из бирюзы», составляют уродливый контраст живым незабудкам, принесенным на свидание простой и искренней крестьянской девушкой, которую он бросает без сожаления и, не обращая внимания на ее слезы, кичится перед ней своим, по его представлениям, культурным преимуществом: «В деревне – зимой – ты сама знаешь – просто скверность. То ли дело в Петербурге! Там просто такие чудеса, каких ты, глупая, и во сне себе представить не можешь. Дома какие, улицы, а обчество, образованье – просто удивленье!..»
Петр Соколов. Иллюстрация к рассказу «Льгов». 1890-е годы[5]
КАК ОХОТНИК ОТНОСИТСЯ К СУЕВЕРИЯМ?
В рассказе «Бежин луг» тургеневский охотник рассказывает образованному читателю о народных суевериях. Рассказчик становится свидетелем разговора между крестьянскими мальчиками, обсуждающими различные сверхъестественные явления. Разумеется, образованный охотник (и, видимо, его читатель) не верит в русалку и лешего. Однако он не пытается «разоблачать» суеверия, напротив, в рассказе природа описана таким образом, что как бы объясняет веру мальчиков в сверхъестественное:
Между тем ночь приближалась и росла, как грозовая туча; казалось, вместе с вечерними парами отовсюду поднималась и даже с вышины лилась темнота. Мне попалась какая-то неторная, заросшая дорожка; я отправился по ней, внимательно поглядывая вперед. Всё кругом быстро чернело и утихало, – одни перепела изредка кричали. Небольшая ночная птица, неслышно и низко мчавшаяся на своих мягких крыльях, почти наткнулась на меня и пугливо нырнула в сторону. Я вышел на опушку кустов и побрел по полю межой. Уже я с трудом различал отдаленные предметы; поле неясно белело вокруг; за ним, с каждым мгновением надвигаясь, громадными клубами вздымался угрюмый мрак. Глухо отдавались мои шаги в застывающем воздухе. Побледневшее небо стало опять синеть – но то уже была синева ночи. Звездочки замелькали, зашевелились на нем.
Такое ощущение, что в самой природе есть загадки и тайны, непостижимые даже для вполне культурного охотника. Конечно, вряд ли его «водил леший», однако какая-то сила сбивает рассказчика с пути и не дает ему найти верную дорогу. Вера в тайны природы, которые нельзя познать до конца, оказывается как бы аналогом крестьянских суеверий. Охотник не «снисходит» до суеверных мальчиков, а находит в сознании современного городского человека явления, во многом схожие с их убеждениями. Финал рассказа – гибель пастушка, услышавшего голос водяного, – еще больше усиливает фантастическое впечатление: читатель не может понять, идет ли речь о случайном совпадении или о каком-то загадочном, непостижимом предчувствии, которое представитель «простого народа» воспринимает как действие нечистой силы.
КАК ОТРАЖЕНО В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА» КРЕПОСТНОЕ ПРАВО?
В воспоминаниях Тургенев утверждал, что ключевая проблематика рассказов – это крепостничество:
Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был – крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца, с чем я поклялся никогда не примиряться… ‹…› «Записки охотника», эти, в свое время новые, впоследствии далеко опереженные этюды, были написаны мною за границей; некоторые из них – в тяжелые минуты раздумья о том: вернуться ли мне на родину, или нет?
Современники действительно видели в книге отчетливо заявленный антикрепостнический пафос. Например, Герцен писал:
У Тургенева есть свой предмет ненависти, он не подбирал крохи за Гоголем, он преследовал другую добычу – помещика, его супругу, его приближенных, его бурмистра и деревенского старосту. Никогда еще внутренняя жизнь помещичьего дома не подвергалась такому всеобщему осмеянию, не вызывала такого отвращения и ненависти. При этом надо отметить, что Тургенев никогда не сгущает краски, не употребляет энергических выражений, напротив, он рассказывает совершенно невозмутимо, пользуясь только изящным слогом, что необычайно усиливает впечатление от этого поэтически написанного обвинительного акта против крепостничества.
Тургеневское отношение к крепостному праву очень последовательно заявлено во многих его рассказах. Так, в «Малиновой воде» показано, как угнетают крестьян разные поколения графского семейства: вольноотпущенный по прозвищу Туман, восхищающийся барским величием старого графа екатерининских времен Петра Ильича, упоминает, что тот разорился из-за «матресок», то есть своих подневольных любовниц, которые, в свою очередь, злоупотребляют полученной властью:
Ох, уж эти матрески, прости Господи! Оне-то его и разорили. И ведь всё больше из низкого сословия выбирал. ‹…› Особенно одна: Акулиной ее называли; теперь она покойница, – Царство ей Небесное! Девка была простая, ситовского десятского дочь, да такая злющая! По щекам, бывало, графа бьет. Околдовала его совсем. Племяннику моему лоб забрила: на новое платье щеколат ей обронил… и не одному ему забрила лоб. Да… А все-таки хорошее было времечко!
Тут же оказывается, что сын и наследник графа Валериан Петрович отказывается простить мужика Власа, который не может вносить оброк: прежде деньги ему доставал недавно умерший сын.
Мужики у Тургенева не просто несчастны: условия жизни калечат их психику. Туман, напомним, искренне восхищается старыми временами, когда жили на широкую ногу. В рассказе «Два помещика» охотник прямо упрекает помещика Мардария Аполлоныча, который выселил своих крестьян в скверные, тесные избенки без единого деревца вокруг, отнимает у них последнее и порет почем зря. Однако выпоротый буфетчик стоит за своего барина горой: «А поделом, батюшка, поделом. У нас по пустякам не наказывают; такого заведенья у нас нету – ни, ни. У нас барин не такой; у нас барин… такого барина в целой губернии не сыщешь».
КАК ИЗОБРАЖАЮТСЯ В КНИГЕ ДВОРЯНЕ?
Принято говорить, что «Записки охотника» посвящены жизни «простого народа». Это не совсем точно: среди героев книги встречаются далеко не только крестьяне, но и люди другого общественного положения, в том числе дворяне. При этом далеко не всегда просто провести границы между «народом» и «ненародом»: однодворец Овсяников, например, явно психологически близок к крестьянину, но сам к крестьянам не относится; бедные помещики подчас живут почти так же, как их крестьяне. Относительно некоторых персонажей довольно трудно сказать, к какому сословию они относятся, – таков, например, Дикий-Барин из «Певцов». Видимо, культурные различия здесь важнее, чем сословная принадлежность.
Тургеневский рассказчик, сам будучи носителем вестернизированной дворянской культуры, готов с пониманием и интересом отнестись к людям другого образования и воспитания, чем он сам. Однако провинциальные помещики, которые, в принципе, не слишком сильно отличаются от самого охотника, обычно вызывают у него беспощадную иронию. Часто они изображаются как нелепые и странные чудаки, привычки которых далеко не безобидны. Например, барыне из рассказа «Петр Петрович Каратаев» приходит фантазия женить соседа на своей компаньонке, а когда оказывается, что он влюблен в ее крестьянку, она делает все от нее зависящее, чтобы помешать их счастью, и в итоге разрушает их жизнь. Чудовищный паноптикум таких чудаков представлен в первой половине «Гамлета Щигровского уезда». «Вечный студент» Войницын, например, изображен не просто как человек слабовольный или неумный. Анекдот о том, как он неудачно сдает экзамены, написан так, чтобы продемонстрировать полное отсутствие чувства самоуважения, готовность и способность унижаться безо всякого смысла и перспективы:
Войницын, который до того времени неподвижно и прямо сидел на своей лавке, с ног до головы обливаясь горячей испариной и медленно, но бессмысленно поводя кругом глазами, – вставал, торопливо застегивал свой вицмундир доверху и пробирался боком к экзаменаторскому столу. ‹…› «Прочтите билет», – говорят ему. Войницын подносит обеими руками билет к самому своему носу, медленно читает и медленно опускает руки. «Ну-с, извольте отвечать», – лениво произносит тот же профессор, закидывая туловище назад и скрещивая на груди руки. Воцаряется гробовое молчание. ‹…› «Однако ж это странно, – замечает другой экзаменатор, – что же вы, как немой, стоите? ну, не знаете, что ли? Так так и скажите». – «Позвольте другой билет взять», – глухо произносит несчастный. Профессора переглядываются. «Ну, извольте», – махнув рукой, отвечает главный экзаменатор. Войницын снова берет билет, снова идет к окну, снова возвращается к столу и снова молчит как убитый. Посторонний старичок в состоянии съесть его живого. Наконец его прогоняют и ставят нуль. Вы думаете: теперь он, по крайней мере, уйдет? Как бы не так! Он возвращается на свое место, так же неподвижно сидит до конца экзамена, а уходя восклицает: «Ну баня! экая задача!» И ходит он целый тот день по Москве, изредка хватаясь за голову и горько проклиная свою бесталанную участь. За книгу он, разумеется, не берется, и на другое утро та же повторяется история.
КАК РАССКАЗЧИК ОТНОСИТСЯ К ЖИВОТНЫМ?
Тургеневский охотник, да и многие его спутники, наделен впечатляющими знаниями о природе: он легко опознаёт множество видов птиц и растений, которые большинству читателей нашего времени, выросших не в собственном поместье, а в городе, вряд ли будут знакомы. В то же время его способность сочувственно и тонко воспринимать природу иногда подается не без иронии. Особенно это заметно в постоянных попытках рассказчика понять смысл действий и психологию охотничьей собаки. Конечно, интересоваться собаками для охотника нормально, но тургеневский герой думает и говорит о них буквально теми же словами, что и о людях, в результате чего описываются, например, сложная мимика и серьезный внутренний мир собак. В «Хоре и Калиныче» «Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги»; в «Ермолае и мельничихе», следующем рассказе цикла, эта странная деталь объясняется, впрочем, не вполне ловко: «Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться». В других рассказах собаки тоже встречаются постоянно, и зачастую в довольно комичном контексте: например, во «Льгове» упомянуто их «благородное самоотвержение», состоящее в попытках принести подстреленную дичь.
Описания животных бывают у Тургенева почти антропоморфными, и наоборот. Вот, например, портрет собаки охотника Ермолая: «Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете… Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность». А вот портрет самого Ермолая – почти зооморфный: «Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. ‹…› …мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры…»
В жуткой сцене убийства лошади из «Конца Чертопханова», где герой, охваченный собственными страхами (он уверен, что его любимого коня подменили), в упор стреляет в верно служащее ему животное, конь вызывает у повествователя серьезное сочувствие, а человек, ставящий собственные фантазии выше живого существа, явно осуждается.
КАК СВЯЗАНЫ ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В «ЗАПИСКАХ ОХОТНИКА»?
Едва ли не самое знаменитое качество «Записок охотника» – обилие пространных пейзажных зарисовок, часто прямо не связанных с сюжетом (школьные учителя, как известно, очень любят их использовать в качестве материала для диктантов). Тургеневские описания природы выполняют в книге множество функций. С одной стороны, это всегда типично русская природа, на фоне которой действуют типично русские люди. На ее фоне как бы сглаживаются социальные противоречия и остаются только общие для всех персонажей «Записок охотника» национальные чувства. С другой стороны, природа – источник универсальных, общих чувств и проблем. Пример обеих тенденций – рассказ «Смерть», где постепенное умирание старых деревьев явно ассоциируется с тем, как «умирают русские люди», причем и крестьяне, и студенты. Интересно, что охотник описывает свои впечатления от гибели старой рощи словами поэта Алексея Кольцова, который часто воспринимался именно как выразитель простонародного духа:
- Где ж девалася
- Речь высокая,
- Сила гордая,
- Доблесть царская?
- Где ж теперь твоя
- Мочь зеленая?..
Русский человек крестьянин Архип спокойно относится к гибели леса, что предвещает изображаемое в рассказе «русское» равнодушие к собственной гибели, зато сентиментальный немецкий управляющий громогласно выражает сожаление, что всеми присутствующими воспринимается с иронией. В «Трех смертях» Льва Толстого, например, чуждым природе и народу оказывается барская жизнь, у Тургенева же, напротив, русского барина и русского крестьянина все же больше связывает, чем разъединяет.
Наконец, способность эстетически любоваться природой у Тургенева присуща и образованному барину, и простой девке. Русские леса и степи вызывают восторг не только у посвящающего им множество страниц охотника, но и у искалеченной Лукерьи из «Живых мощей», и даже у простой девушки Акулины, героини «Свидания», которая сначала говорит о практической пользе от некоторых растений, а потом переходит к красоте природы и собственной любви:
«Это я полевой рябинки нарвала, – продолжала она, несколько оживившись, – это для телят хорошо. А это вот череда – против золотухи. Вот поглядите-ка, какой чудный цветик; такого чудного цветика я еще отродясь не видала. Вот незабудки, а вот маткина-душка… А вот это я для вас, – прибавила она, доставая из-под желтой рябинки небольшой пучок голубеньких васильков, перевязанных тоненькой травкой, – хотите?»
Природа ассоциируется у Тургенева со смертью и красотой – силами, которые в мире писателя вызывают схожую эмоциональную реакцию едва ли не всех русских людей, кроме окончательно и безнадежно испорченных (наподобие возлюбленного Акулины Виктора), – именно это и дает рассказчику надежду на то, что пропасть между образованными и необразованными, помещиками и крестьянами, «идеалистами» и «реалистами» все же можно преодолеть.
Хорь и Калиныч
Кому случалось из Болховского уезда перебираться в Жиздринский, того, вероятно, поражала резкая разница между породой людей в Орловской губернии и калужской породой. Орловский мужик невелик ростом, сутуловат, угрюм, глядит исподлобья, живет в дрянных осиновых избенках, ходит на барщину, торговлей не занимается, ест плохо, носит лапти; калужский оброчный мужик обитает в просторных сосновых избах, высок ростом, глядит смело и весело, лицом чист и бел, торгует маслом и дегтем и по праздникам ходит в сапогах. Орловская деревня (мы говорим о восточной части Орловской губернии) обыкновенно расположена среди распаханных полей, близ оврага, кое-как превращенного в грязный пруд. Кроме немногих ракит, всегда готовых к услугам, да двух-трех тощих берез, деревца на версту кругом не увидишь; изба лепится к избе, крыши закиданы гнилой соломой… Калужская деревня, напротив, большею частью окружена лесом; избы стоят вольней и прямей, крыты тесом; ворота плотно запираются, плетень на задворке не разметан и не вывалился наружу, не зовет в гости всякую прохожую свинью… И для охотника в Калужской губернии лучше. В Орловской губернии последние леса и площадя[6] исчезнут лет через пять, а болот и в помине нет; в Калужской, напротив, засеки тянутся на сотни, болота на десятки верст, и не перевелась еще благородная птица тетерев, водится добродушный дупель, и хлопотунья куропатка своим порывистым взлетом веселит и пугает стрелка и собаку.
В качестве охотника посещая Жиздринский уезд, сошелся я в поле и познакомился с одним калужским мелким помещиком, Полутыкиным, страстным охотником и, следовательно, отличным человеком. Водились за ним, правда, некоторые слабости: он, например, сватался за всех богатых невест в губернии и, получив отказ от руки и от дому, с сокрушенным сердцем доверял свое горе всем друзьям и знакомым, а родителям невест продолжал посылать в подарок кислые персики и другие сырые произведения своего сада; любил повторять один и тот же анекдот, который, несмотря на уважение г-на Полутыкина к его достоинствам, решительно никогда никого не смешил; хвалил сочинения Акима Нахимова и повесть Пинну; заикался; называл свою собаку Астрономом; вместо однако говорил одначе и завел у себя в доме французскую кухню, тайна которой, по понятиям его повара, состояла в полном изменении естественного вкуса каждого кушанья: мясо у этого искусника отзывалось рыбой, рыба – грибами, макароны – порохом; зато ни одна морковка не попадала в суп, не приняв вида ромба или трапеции. Но, за исключением этих немногих и незначительных недостатков, г-н Полутыкин был, как уже сказано, отличный человек.
В первый же день моего знакомства с г. Полутыкиным он пригласил меня на ночь к себе.
– До меня верст пять будет, – прибавил он, – пешком идти далеко; зайдемте сперва к Хорю. (Читатель позволит мне не передавать его заиканья.)
– А кто такой Хорь?
– А мой мужик… Он отсюда близехонько.
Мы отправились к нему. Посреди леса, на расчищенной и разработанной поляне, возвышалась одинокая усадьба Хоря. Она состояла из нескольких сосновых срубов, соединенных заборами; перед главной избой тянулся навес, подпертый тоненькими столбиками. Мы вошли. Нас встретил молодой парень, лет двадцати, высокий и красивый.
– А, Федя! Дома Хорь? – спросил его г-н Полутыкин.
– Нет, Хорь в город уехал, – отвечал парень, улыбаясь и показывая ряд белых, как снег, зубов. – Тележку заложить прикажете?
– Да, брат, тележку. Да принеси нам квасу.
Мы вошли в избу. Ни одна суздальская картина не залепляла чистых бревенчатых стен; в углу, перед тяжелым образом в серебряном окладе, теплилась лампадка; липовый стол недавно был выскоблен и вымыт; между бревнами и по косякам окон не скиталось резвых прусаков, не скрывалось задумчивых тараканов. Молодой парень скоро появился с большой белой кружкой, наполненной хорошим квасом, с огромным ломтем пшеничного хлеба и с дюжиной соленых огурцов в деревянной миске. Он поставил все эти припасы на стол, прислонился к двери и начал с улыбкой на нас поглядывать. Не успели мы доесть нашей закуски, как уже телега застучала перед крыльцом. Мы вышли. Мальчик лет пятнадцати, кудрявый и краснощекий, сидел кучером и с трудом удерживал сытого пегого жеребца. Кругом телеги стояло человек шесть молодых великанов, очень похожих друг на друга и на Федю. «Всё дети Хоря!» – заметил Полутыкин. «Всё Хорьки, – подхватил Федя, который вышел вслед за нами на крыльцо, – да еще не все: Потап в лесу, а Сидор уехал со старым Хорем в город… Смотри же, Вася, – продолжал он, обращаясь к кучеру, – духом сомчи: барина везешь. Только на толчках-то, смотри, потише: и телегу-то попортишь, да и барское черево обеспокоишь!» Остальные Хорьки усмехнулись от выходки Феди. «Подсадить Астронома!» – торжественно воскликнул г-н Полутыкин. Федя, не без удовольствия, поднял на воздух принужденно улыбавшуюся собаку и положил ее на дно телеги. Вася дал вожжи лошади. Мы покатили. «А вот это моя контора, – сказал мне вдруг г-н Полутыкин, указывая на небольшой низенький домик, – хотите зайти?» – «Извольте». – «Она теперь упразднена, – заметил он, слезая, – а всё посмотреть стоит». Контора состояла из двух пустых комнат. Сторож, кривой старик, прибежал с задворья. «Здравствуй, Миняич, – проговорил г-н Полутыкин, – а где же вода?» Кривой старик исчез и тотчас вернулся с бутылкой воды и двумя стаканами. «Отведайте, – сказал мне Полутыкин, – это у меня хорошая, ключевая вода». Мы выпили по стакану, причем старик нам кланялся в пояс. «Ну, теперь, кажется, мы можем ехать, – заметил мой новый приятель. – В этой конторе продал купцу Аллилуеву четыре десятины лесу за выгодную цену». Мы сели в телегу и через полчаса уже въезжали на двор господского дома.
– Скажите, пожалуйста, – спросил я Полутыкина за ужином, – отчего у вас Хорь живет отдельно от прочих ваших мужиков?
– А вот отчего: он у меня мужик умный. Лет двадцать пять тому назад изба у него сгорела; вот и пришел он к моему покойному батюшке и говорит: дескать, позвольте мне, Николай Кузьмич, поселиться у вас в лесу на болоте. Я вам стану оброк платить хороший. – «Да зачем тебе селиться на болоте?» – «Да уж так; только вы, батюшка, Николай Кузьмич, ни в какую работу употреблять меня уж не извольте, а оброк положите, какой сами знаете». – «Пятьдесят рублев в год!» – «Извольте». – «Да без недоимок у меня, смотри!» – «Известно, без недоимок…» Вот он и поселился на болоте. С тех пор Хорем его и прозвали.
– Ну, и разбогател? – спросил я.
– Разбогател. Теперь он мне сто целковых оброка платит, да еще я, пожалуй, накину. Я уж ему не раз говорил: «Откупись, Хорь, эй, откупись!..» А он, бестия, меня уверяет, что нечем; денег, дескать, нету… Да, как бы не так!..
На другой день мы тотчас после чаю опять отправились на охоту. Проезжая через деревню, г-н Полутыкин велел кучеру остановиться у низенькой избы и звучно воскликнул: «Калиныч!» – «Сейчас, батюшка, сейчас, – раздался голос со двора, – лапоть подвязываю». Мы поехали шагом; за деревней догнал нас человек лет сорока, высокого роста, худой, с небольшой загнутой назад головкой. Это был Калиныч. Его добродушное смуглое лицо, кое-где отмеченное рябинами, мне понравилось с первого взгляда. Калиныч (как узнал я после) каждый день ходил с барином на охоту, носил его сумку, иногда и ружье, замечал, где садится птица, доставал воды, набирал земляники, устроивал шалаши, бегал за дрожками; без него г-н Полутыкин шагу ступить не мог. Калиныч был человек самого веселого, самого кроткого нрава, беспрестанно попевал вполголоса, беззаботно поглядывал во все стороны, говорил немного в нос, улыбаясь, прищуривал свои светло-голубые глаза и часто брался рукою за свою жидкую, клиновидную бороду. Ходил он нескоро, но большими шагами, слегка подпираясь длинной и тонкой палкой. В течение дня он не раз заговаривал со мною, услуживал мне без раболепства, но за барином наблюдал, как за ребенком. Когда невыносимый полуденный зной заставил нас искать убежища, он свел нас на свою пасеку, в самую глушь леса. Калиныч отворил нам избушку, увешанную пучками сухих душистых трав, уложил нас на свежем сене, а сам надел на голову род мешка с сеткой, взял нож, горшок и головешку и отправился на пасеку вырезать нам сот. Мы запили прозрачный теплый мед ключевой водой и заснули под однообразное жужжанье пчел и болтливый лепет листьев.
Легкий порыв ветерка разбудил меня… Я открыл глаза и увидел Калиныча: он сидел на пороге полураскрытой двери и ножом вырезывал ложку. Я долго любовался его лицом, кротким и ясным, как вечернее небо. Г-н Полутыкин тоже проснулся. Мы не тотчас встали. Приятно после долгой ходьбы и глубокого сна лежать неподвижно на сене: тело нежится и томится, легким жаром пышет лицо, сладкая лень смыкает глаза. Наконец мы встали и опять пошли бродить до вечера. За ужином я заговорил опять о Хоре да о Калиныче. «Калиныч – добрый мужик, – сказал мне г. Полутыкин, – усердный и услужливый мужик; хозяйство в исправности, одначе, содержать не может: я его все оттягиваю. Каждый день со мной на охоту ходит… Какое уж тут хозяйство, – посудите сами». Я с ним согласился, и мы легли спать.
На другой день г-н Полутыкин принужден был отправиться в город по делу с соседом Пичуковым. Сосед Пичуков запахал у него землю и на запаханной земле высек его же бабу. На охоту поехал я один и перед вечером завернул к Хорю. На пороге избы встретил меня старик – лысый, низкого роста, плечистый и плотный – сам Хорь. Я с любопытством посмотрел на этого Хоря. Склад его лица напоминал Сократа: такой же высокий, шишковатый лоб, такие же маленькие глазки, такой же курносый нос. Мы вошли вместе в избу. Тот же Федя принес мне молока с черным хлебом. Хорь присел на скамью и, преспокойно поглаживая свою курчавую бороду, вступил со мною в разговор. Он, казалось, чувствовал свое достоинство, говорил и двигался медленно, изредка посмеивался из-под длинных своих усов.
Мы с ним толковали о посеве, об урожае, о крестьянском быте… Он со мной все как будто соглашался; только потом мне становилось совестно, и я чувствовал, что говорю не то… Так оно как-то странно выходило. Хорь выражался иногда мудрено, должно быть, из осторожности… Вот вам образчик нашего разговора:
– Послушай-ка, Хорь, – говорил я ему, – отчего ты не откупишься от своего барина?
– А для чего мне откупаться? Теперь я своего барина знаю и оброк свой знаю… барин у нас хороший.
– Все же лучше на свободе, – заметил я.
Хорь посмотрел на меня сбоку.
– Вестимо, – проговорил он.
– Ну, так отчего же ты не откупаешься?
Хорь покрутил головой.
– Чем, батюшка, откупиться прикажешь?
– Ну, полно, старина…
– Попал Хорь в вольные люди, – продолжал он вполголоса, как будто про себя, – кто без бороды живет, тот Хорю и на́больший.
– А ты сам бороду сбрей.
– Что борода? борода – трава: скосить можно.
– Ну, так что ж?
– А, знать, Хорь прямо в купцы попадет; купцам-то жизнь хорошая, да и те в бородах.
– А что, ведь ты тоже торговлей занимаешься? – спросил я его.
– Торгуем помаленьку маслишком да дегтишком… Что же, тележку, батюшка, прикажешь заложить?
«Крепок ты на язык и человек себе на уме», – подумал я.
– Нет, – сказал я вслух, – тележки мне не надо; я завтра около твоей усадьбы похожу и, если позволишь, останусь ночевать у тебя в сенном сарае.
– Милости просим. Да покойно ли тебе будет в сарае? Я прикажу бабам постлать тебе простыню и положить подушку. Эй, бабы! – вскричал он, поднимаясь с места, – сюда, бабы!.. А ты, Федя, поди с ними. Бабы ведь народ глупый.
Четверть часа спустя Федя с фонарем проводил меня в сарай. Я бросился на душистое сено, собака свернулась у ног моих; Федя пожелал мне доброй ночи, дверь заскрипела и захлопнулась. Я довольно долго не мог заснуть. Корова подошла к двери, шумно дохнула раза два; собака с достоинством на нее зарычала; свинья прошла мимо, задумчиво хрюкая; лошадь где-то в близости стала жевать сено и фыркать… Я, наконец, задремал.
На заре Федя разбудил меня. Этот веселый, бойкий парень очень мне нравился; да и, сколько я мог заметить, у старого Хоря он тоже был любимцем. Они оба весьма любезно друг над другом подтрунивали. Старик вышел ко мне навстречу. Оттого ли, что я провел ночь под его кровом, по другой ли какой причине, только Хорь гораздо ласковее вчерашнего обошелся со мной.
– Самовар тебе готов, – сказал он мне с улыбкой, – пойдем чай пить.
Мы уселись около стола. Здоровая баба, одна из его невесток, принесла горшок с молоком. Все его сыновья поочередно входили в избу.
– Что у тебя за рослый народ! – заметил я старику.
– Да, – промолвил он, откусывая крошечный кусок сахару, – на меня да на мою старуху жаловаться, кажись, им нечего.
– И все с тобой живут?
– Все. Сами хотят, так и живут.
– И все женаты?
– Вон один, пострел, не женится, – отвечал он, указывая на Федю, который по-прежнему прислонился к двери. – Васька, тот еще молод, тому погодить можно.
– А что мне жениться? – возразил Федя, – мне и так хорошо. На что мне жена? Лаяться с ней, что ли?
– Ну, уж ты… уж я тебя знаю! кольца серебряные носишь… Тебе бы все с дворовыми девками нюхаться… «Полноте, бесстыдники!» – продолжал старик, передразнивая горничных. – Уж я тебя знаю, белоручка ты этакой!
– А в бабе-то что хорошего?
– Баба – работница, – важно заметил Хорь. – Баба мужику слуга.
– Да на что мне работница?
– То-то, чужими руками жар загребать любишь. Знаем мы вашего брата.
– Ну, жени меня, коли так. А? что! Что ж ты молчишь?
– Ну, полно, полно, балагур. Вишь, барина мы с тобой беспокоим. Женю, небось… А ты, батюшка, не гневись: дитятко, видишь, малое, разуму не успело набраться.
Федя покачал головой…
– Дома Хорь? – раздался за дверью знакомый голос, – и Калиныч вошел в избу с пучком полевой земляники в руках, которую нарвал он для своего друга, Хоря. Старик радушно его приветствовал. Я с изумлением поглядел на Калиныча: признаюсь, я не ожидал таких «нежностей» от мужика.
Я в этот день пошел на охоту часами четырьмя позднее обыкновенного и следующие три дня провел у Хоря. Меня занимали новые мои знакомцы. Не знаю, чем я заслужил их доверие, но они непринужденно разговаривали со мной. Я с удовольствием слушал их и наблюдал за ними. Оба приятеля нисколько не походили друг на друга. Хорь был человек положительный, практический, административная голова, рационалист; Калиныч, напротив, принадлежал к числу идеалистов, романтиков, людей восторженных и мечтательных. Хорь понимал действительность, то есть: обстроился, накопил деньжонку, ладил с барином и с прочими властями; Калиныч ходил в лаптях и перебивался кое-как. Хорь расплодил большое семейство, покорное и единодушное; у Калиныча была когда-то жена, которой он боялся, а детей и не бывало вовсе. Хорь насквозь видел г-на Полутыкина; Калиныч благоговел перед своим господином. Хорь любил Калиныча и оказывал ему покровительство; Калиныч любил и уважал Хоря. Хорь говорил мало, посмеивался и разумел про себя; Калиныч объяснялся с жаром, хотя и не пел соловьем, как бойкий фабричный человек… Но Калиныч был одарен преимуществами, которые признавал сам Хорь, например: он заговаривал кровь, испуг, бешенство, выгонял червей; пчелы ему дались, рука у него была легкая. Хорь при мне попросил его ввести в конюшню новокупленную лошадь, и Калиныч с добросовестною важностью исполнил просьбу старого скептика. Калиныч стоял ближе к природе; Хорь же – к людям, к обществу; Калиныч не любил рассуждать и всему верил слепо; Хорь возвышался даже до иронической точки зрения на жизнь. Он много видел, много знал, и от него я многому научился. Например, из его рассказов узнал я, что каждое лето, перед покосом, появляется в деревнях небольшая тележка особенного вида. В этой тележке сидит человек в кафтане и продает косы. На наличные деньги он берет рубль двадцать пять копеек – полтора рубля ассигнациями; в долг – три рубля и целковый. Все мужики, разумеется, берут у него в долг. Через две-три недели он появляется снова и требует денег. У мужика овес только что скошен, стало быть, заплатить есть чем; он идет с купцом в кабак и там уже расплачивается. Иные помещики вздумали было покупать сами косы на наличные деньги и раздавать в долг мужикам по той же цене; но мужики оказались недовольными и даже впали в уныние; их лишали удовольствия щелкать по косе, прислушиваться, перевертывать ее в руках и раз двадцать спросить у плутоватого мещанина-продавца: «А что, малый, коса-то не больно того?» Те же самые проделки происходят и при покупке серпов, с тою только разницей, что тут бабы вмешиваются в дело и доводят иногда самого продавца до необходимости, для их же пользы, поколотить их. Но более всего страдают бабы вот при каком случае. Поставщики материала на бумажные фабрики поручают закупку тряпья особенного рода людям, которые в иных уездах называются «орлами». Такой «орел» получает от купца рублей двести ассигнациями и отправляется на добычу. Но, в противность благородной птице, от которой он получил свое имя, он не нападает открыто и смело: напротив, «орел» прибегает к хитрости и лукавству. Он оставляет свою тележку где-нибудь в кустах около деревни, а сам отправляется по задворьям да по задам, словно прохожий какой-нибудь или просто праздношатающийся. Бабы чутьем угадывают его приближенье и крадутся к нему навстречу. Второпях совершается торговая сделка. За несколько медных грошей баба отдает «орлу» не только всякую ненужную тряпицу, но часто даже мужнину рубаху и собственную паневу. В последнее время бабы нашли выгодным красть у самих себя и сбывать таким образом пеньку, в особенности «замашки», – важное распространение и усовершенствование промышленности «орлов»! Но зато мужики, в свою очередь, навострились и при малейшем подозрении, при одном отдаленном слухе о появлении «орла» быстро и живо приступают к исправительным и предохранительным мерам. И в самом деле, не обидно ли? Пеньку продавать их дело, и они ее точно продают, не в городе, – в город надо самим тащиться, – а приезжим торгашам, которые, за неимением безмена, считают пуд в сорок горстей – а вы знаете, что за горсть и что за ладонь у русского человека, особенно когда он «усердствует»!
Таких рассказов я, человек неопытный и в деревне не «живалый» (как у нас в Орле говорится), наслушался вдоволь. Но Хорь не все рассказывал, он сам меня расспрашивал о многом. Узнал он, что я бывал за границей, и любопытство его разгорелось… Калиныч от него не отставал; но Калиныча более трогали описания природы, гор, водопадов, необыкновенных зданий, больших городов; Хоря занимали вопросы административные и государственные. Он перебирал все по порядку: «Что, у них это там есть так же, как у нас, аль иначе?.. Ну, говори, батюшка, – как же?..» – «А! ах, Господи, твоя воля!» – восклицал Калиныч во время моего рассказа; Хорь молчал, хмурил густые брови и лишь изредка замечал, что, «дескать, это у нас не шло бы, а вот это хорошо – это порядок». Всех его расспросов я передать вам не могу, да и незачем; но из наших разговоров я вынес одно убежденье, которого, вероятно, никак не ожидают читатели, – убежденье, что Петр Великий был по преимуществу русский человек, русский именно в своих преобразованиях. Русский человек так уверен в своей силе и крепости, что он не прочь и поломать себя: он мало занимается своим прошедшим и смело глядит вперед. Что хорошо – то ему и нравится, что разумно – того ему и подавай, а откуда оно идет, – ему все равно. Его здравый смысл охотно подтрунит над сухопарым немецким рассудком; но немцы, по словам Хоря, любопытный народец, и поучиться у них он готов. Благодаря исключительности своего положенья, своей фактической независимости, Хорь говорил со мной о многом, чего из другого рычагом не выворотишь, как выражаются мужики, жерновом не вымелешь. Он действительно понимал свое положенье. Толкуя с Хорем, я в первый раз услышал простую, умную речь русского мужика. Его познанья были довольно, по-своему, обширны, но читать он не умел; Калиныч – умел. «Этому шалопаю грамота далась, – заметил Хорь, – у него и пчелы отродясь не мерли». – «А детей ты своих выучил грамоте?» Хорь помолчал. «Федя знает». – «А другие?» – «Другие не знают». – «А чтó?» Старик не отвечал и переменил разговор. Впрочем, как он умен ни был, водились и за ним многие предрассудки и предубеждения. Баб он, например, презирал от глубины души, а в веселый час тешился и издевался над ними. Жена его, старая и сварливая, целый день не сходила с печи и беспрестанно ворчала и бранилась; сыновья не обращали на нее внимания, но невесток она содержала в страхе Божием. Недаром в русской песенке свекровь поет: «Какой ты мне сын, какой семьянин! Не бьешь ты жены, не бьешь молодой…» Я раз было вздумал заступиться за невесток, попытался возбудить сострадание Хоря; но он спокойно возразил мне, что «охота-де вам такими… пустяками заниматься, – пускай бабы ссорятся… Их что разнимать – то хуже, да и рук марать не стоит». Иногда злая старуха слезала с печи, вызывала из сеней дворовую собаку, приговаривая: «Сюды, сюды, собачка!» – и била ее по худой спине кочергой или становилась под навес и «лаялась», как выражался Хорь, со всеми проходящими. Мужа своего она, однако же, боялась и, по его приказанию, убиралась к себе на печь. Но особенно любопытно было послушать спор Калиныча с Хорем, когда дело доходило до г-на Полутыкина. «Уж ты, Хорь, у меня его не трогай», – говорил Калиныч. «А что ж он тебе сапогов не сошьет?» – возражал тот. «Эка, сапоги!.. на что мне сапоги? Я мужик…» – «Да вот и я мужик, а вишь…» При этом слове Хорь поднимал свою ногу и показывал Калинычу сапог, скроенный, вероятно, из мамонтовой кожи. «Эх, да ты разве наш брат!» – отвечал Калиныч. «Ну, хоть бы на лапти дал: ведь ты с ним на охоту ходишь; чай, что день, то лапти». – «Он мне дает на лапти». – «Да, в прошлом году гривенник пожаловал». Калиныч с досадой отворачивался, а Хорь заливался смехом, причем его маленькие глазки исчезали совершенно.
Калиныч пел довольно приятно и поигрывал на балалайке. Хорь слушал, слушал его, загибал вдруг голову набок и начинал подтягивать жалобным голосом. Особенно любил он песню: «Доля ты моя, доля!» Федя не упускал случая подтрунить над отцом. «Чего, старик, разжалобился?» Но Хорь подпирал щеку рукой, закрывал глаза и продолжал жаловаться на свою долю… Зато, в другое время, не было человека деятельнее его: вечно над чем-нибудь копается – телегу чинит, забор подпирает, сбрую пересматривает. Особенной чистоты он, однако, не придерживался и на мои замечания отвечал мне однажды, что «надо-де избе жильем пахнуть».
– Посмотри-ка, – возразил я ему, – как у Калиныча на пасеке чисто.
– Пчелы бы жить не стали, батюшка, – сказал он со вздохом.
«А что, – спросил он меня в другой раз, – у тебя своя вотчина есть?» – «Есть». – «Далеко отсюда?» – «Верст сто». – «Что же ты, батюшка, живешь в своей вотчине?» – «Живу». – «А больше, чай, ружьем пробавляешься?» – «Признаться, да». – «И хорошо, батюшка, делаешь; стреляй себе на здоровье тетеревов да старосту меняй почаще».
На четвертый день, вечером, г. Полутыкин прислал за мной. Жаль мне было расставаться с стариком. Вместе с Калинычем сел я в телегу. «Ну, прощай, Хорь, будь здоров, – сказал я… – Прощай, Федя». – «Прощай, батюшка, прощай, не забывай нас». Мы поехали; заря только что разгоралась. «Славная погода завтра будет», – заметил я, глядя на светлое небо. «Нет, дождь пойдет, – возразил мне Калиныч, – утки вон плещутся, да и трава больно сильно пахнет». Мы въехали в кусты. Калиныч запел вполголоса, подпрыгивая на облучке, и все глядел да глядел на зарю…
На другой день я покинул гостеприимный кров г-на Полутыкина.
Ермолай и мельничиха
Вечером мы с охотником Ермолаем отправились на «тягу»… Но, может быть, не все мои читатели знают, что такое тяга. Слушайте же, господа.
За четверть часа до захождения солнца, весной, вы входите в рощу, с ружьем, без собаки. Вы отыскиваете себе место где-нибудь подле опушки, оглядываетесь, осматриваете пистон, перемигиваетесь с товарищем. Четверть часа прошло. Солнце село, но в лесу еще светло; воздух чист и прозрачен; птицы болтливо лепечут; молодая трава блестит веселым блеском изумруда… Вы ждете. Внутренность леса постепенно темнеет; алый свет вечерней зари медленно скользит по корням и стволам деревьев, поднимается все выше и выше, переходит от нижних, почти еще голых, веток к неподвижным, засыпающим верхушкам… Вот и самые верхушки потускнели; румяное небо синеет. Лесной запах усиливается, слегка повеяло теплой сыростью; влетевший ветер около вас замирает. Птицы засыпают – не все вдруг – по породам: вот затихли зяблики, через несколько мгновений малиновки, за ними овсянки. В лесу все темней да темней. Деревья сливаются в большие чернеющие массы; на синем небе робко выступают первые звездочки. Все птицы спят. Горихвостки, маленькие дятли одни еще сонливо посвистывают… Вот и они умолкли. Еще раз прозвенел над вами звонкий голос пеночки; где-то печально прокричала иволга, соловей щелкнул в первый раз. Сердце ваше томится ожиданьем, и вдруг – но одни охотники поймут меня, – вдруг в глубокой тишине раздается особого рода карканье и шипенье, слышится мерный взмах проворных крыл, – и вальдшнеп, красиво наклонив свой длинный нос, плавно вылетает из-за темной березы навстречу вашему выстрелу.
Вот что значит «стоять на тяге».
Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; но извините, господа: я должен вас сперва познакомить с Ермолаем.
Вообразите себе человека лет сорока пяти, высокого, худого, с длинным и тонким носом, узким лбом, серыми глазками, взъерошенными волосами и широкими насмешливыми губами. Этот человек ходил и зиму и лето в желтоватом нанковом кафтане немецкого покроя, но подпоясывался кушаком; носил синие шаровары и шапку со смушками, подаренную ему, в веселый час, разорившимся помещиком. К кушаку привязывались два мешка, один спереди, искусно перекрученный на две половины, для пороху и для дроби, другой сзади – для дичи; хло́пки же Ермолай доставал из собственной, по-видимому неистощимой, шапки. Он бы легко мог на деньги, вырученные им за проданную дичь, купить себе патронташ и суму, но ни разу даже не подумал о подобной покупке и продолжал заряжать свое ружье по-прежнему, возбуждая изумление зрителей искусством, с каким он избегал опасности просыпать или смешать дробь и порох. Ружье у него было одноствольное, с кремнем, одаренное притом скверной привычкой жестоко «отдавать», отчего у Ермолая правая щека всегда была пухлее левой. Как он попадал из этого ружья – и хитрому человеку не придумать, но попадал. Была у него и легавая собака, по прозванью Валетка, преудивительное созданье. Ермолай никогда ее не кормил. «Стану я пса кормить, – рассуждал он, – притом пес – животное умное, сам найдет себе пропитанье». И действительно: хотя Валетка поражал даже равнодушного прохожего своей чрезмерной худобой, но жил, и долго жил; даже, несмотря на свое бедственное положенье, ни разу не пропадал и не изъявлял желанья покинуть своего хозяина. Раз как-то, в юные годы, он отлучился на два дня, увлеченный любовью; но эта дурь скоро с него соскочила. Замечательнейшим свойством Валетки было его непостижимое равнодушие ко всему на свете… Если б речь шла не о собаке, я бы употребил слово: разочарованность. Он обыкновенно сидел, подвернувши под себя свой куцый хвост, хмурился, вздрагивал по временам и никогда не улыбался. (Известно, что собаки имеют способность улыбаться, и даже очень мило улыбаться.) Он был крайне безобразен, и ни один праздный дворовый человек не упускал случая ядовито насмеяться над его наружностью; но все эти насмешки и даже удары Валетка переносил с удивительным хладнокровием. Особенное удовольствие доставлял он поварам, которые тотчас отрывались от дела и с криком и бранью пускались за ним в погоню, когда он, по слабости, свойственной не одним собакам, просовывал свое голодное рыло в полурастворенную дверь соблазнительно теплой и благовонной кухни. На охоте он отличался неутомимостью и чутье имел порядочное; но если случайно догонял подраненного зайца, то уж и съедал его с наслажденьем всего, до последней косточки, где-нибудь в прохладной тени, под зеленым кустом, в почтительном отдалении от Ермолая, ругавшегося на всех известных и неизвестных диалектах.
Ермолай принадлежал одному из моих соседей, помещику старинного покроя. Помещики старинного покроя не любят «куликов» и придерживаются домашней живности. Разве только в необыкновенных случаях, как-то: во дни рождений, именин и выборов, повара старинных помещиков приступают к изготовлению долгоносых птиц и, войдя в азарт, свойственный русскому человеку, когда он сам хорошенько не знает, что делает, придумывают к ним такие мудреные приправы, что гости большей частью с любопытством и вниманием рассматривают поданные яства, но отведать их никак не решаются. Ермолаю было приказано доставлять на господскую кухню раз в месяц пары две тетеревей и куропаток, а в прочем позволялось ему жить где хочет и чем хочет. От него отказались, как от человека ни на какую работу не годного – «лядащего», как говорится у нас в Орле. Пороху и дроби, разумеется, ему не выдавали, следуя точно тем же правилам, в силу которых и он не кормил своей собаки. Ермолай был человек престранного рода: беззаботен, как птица, довольно говорлив, рассеян и неловок с виду; сильно любил выпить, не уживался на месте, на ходу шмыгал ногами и переваливался с боку на бок – и, шмыгая и переваливаясь, улепетывал верст шестьдесят в сутки. Он подвергался самым разнообразным приключениям: ночевал в болотах, на деревьях, на крышах, под мостами, сиживал не раз взаперти на чердаках, в погребах и сараях, лишался ружья, собаки, самых необходимых одеяний, бывал бит сильно и долго – и все-таки, через несколько времени, возвращался домой, одетый, с ружьем и с собакой. Нельзя было назвать его человеком веселым, хотя он почти всегда находился в довольно изрядном расположении духа; он вообще смотрел чудаком. Ермолай любил покалякать с хорошим человеком, особенно за чаркой, но и то недолго: встанет, бывало, и пойдет. «Да куда ты, черт, идешь? Ночь на дворе». – «А в Чаплино». – «Да на что тебе тащиться в Чаплино, за десять верст?» – «А там у Софрона-мужичка переночевать». – «Да ночуй здесь». – «Нет уж, нельзя». И пойдет Ермолай с своим Валеткой в темную ночь, через кусты да водомоины, а мужичок Софрон его, пожалуй, к себе на двор не пустит, да еще, чего доброго, шею ему намнет: не беспокой-де честных людей. Зато никто не мог сравниться с Ермолаем в искусстве ловить весной, в полую воду, рыбу, доставать руками раков, отыскивать по чутью дичь, подманивать перепелов, вынашивать ястребов, добывать соловьев с «лешевой дудкой», с «кукушкиным перелетом»…[7] Одного он не умел: дрессировать собак; терпенья недоставало. Была у него и жена. Он ходил к ней раз в неделю. Жила она в дрянной, полуразвалившейся избенке, перебивалась кое-как и кое-чем, никогда не знала накануне, будет ли сыта завтра, и вообще терпела участь горькую. Ермолай, этот беззаботный и добродушный человек, обходился с ней жестко и грубо, принимал у себя дома грозный и суровый вид, – и бедная его жена не знала, чем угодить ему, трепетала от его взгляда, на последнюю копейку покупала ему вина и подобострастно покрывала его своим тулупом, когда он, величественно развалясь на печи, засыпал богатырским сном. Мне самому не раз случалось подмечать в нем невольные проявления какой-то угрюмой свирепости: мне не нравилось выражение его лица, когда он прикусывал подстреленную птицу. Но Ермолай никогда больше дня не оставался дома; а на чужой стороне превращался опять в «Ермолку», как его прозвали на сто верст кругом и как он сам себя называл подчас. Последний дворовый человек чувствовал свое превосходство над этим бродягой – и, может быть, потому именно и обращался с ним дружелюбно; а мужики сначала с удовольствием загоняли и ловили его, как зайца в поле, но потом отпускали с Богом и, раз узнавши чудака, уже не трогали его, даже давали ему хлеба и вступали с ним в разговоры… Этого-то человека я взял к себе в охотники, и с ним-то я отправился на тягу в большую березовую рощу, на берегу Исты.
У многих русских рек, наподобие Волги, один берег горный, другой луговой; у Исты тоже. Эта небольшая речка вьется чрезвычайно прихотливо, ползет змеей, ни на полверсты не течет прямо, и в ином месте, с высоты крутого холма, видна верст на десять с своими плотинами, прудами, мельницами, огородами, окруженными ракитником и гусиными стадами. Рыбы в Исте бездна, особливо головлей (мужики достают их в жар из-под кустов руками). Маленькие кулички-песочники со свистом перелетывают вдоль каменистых берегов, испещренных холодными и светлыми ключами; дикие утки выплывают на середину прудов и осторожно озираются; цапли торчат в тени, в заливах, под обрывами… Мы стояли на тяге около часу, убили две пары вальдшнепов и, желая до восхода солнца опять попытать нашего счастия (на тягу можно также ходить поутру), решились переночевать в ближайшей мельнице. Мы вышли из рощи, спустились с холма. Река катила темно-синие волны; воздух густел, отягченный ночной влагой. Мы постучались в ворота. Собаки залились на дворе. «Кто тут?» – раздался сиплый и заспанный голос. «Охотники: пусти переночевать». Ответа не было. «Мы заплатим». – «Пойду скажу хозяину… Цыц, проклятые!.. Эк на вас погибели нет!» Мы слышали, как работник вошел в избу; он скоро вернулся к воротам. «Нет, – говорит, – хозяин не велит пускать». – «Отчего не велит?» – «Да боится; вы охотники: чего доброго, мельницу зажжете; вишь, у вас снаряды какие». – «Да что за вздор!» – «У нас и так в запрошлом году мельница сгорела: прасолы переночевали, да, знать, как-нибудь и подожгли». – «Да как же, брат, не ночевать же нам на дворе!» – «Как знаете…» Он ушел, стуча сапогами.