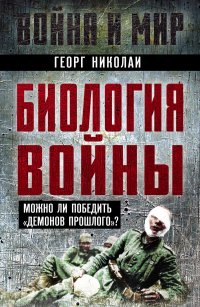
Читать онлайн Биология войны. Можно ли победить «демонов прошлого»? бесплатно
- Все книги автора: Георг Николаи
© Николаи Г. (Nicolai G.), правообладатели
© Перевод с немецкого Г. Генкеля, 2023
© ООО «Издательство Родина», 2023
Предисловие
В этой книге я постарался нелицеприятно осветить войну – явление, к которому я раньше относился совершенно безразлично, видя в нем нечто чуждое мне, нечто давно преодоленное моим миросозерцанием и моим мышлением. Ныне я знаю, что такое война. Теперь мне ведомо, какова власть демонов прошлого даже над нами, людьми нового времени, и отныне я ненавижу войну!
Эта книга написана мною под гнетом обстоятельств, которые я ощущал почти с физическою болью. Я счел себя вынужденным протестовать против явления, которое, сперва к моему крайнему изумлению, а затем и глубокому негодованию, уничтожило все, что до этого я благоговейно почитал.
Войну можно любить или ненавидеть: можно чувствовать «неприязнь к борьбе» или подчеркивать свое «сочувствие к борьбе»; но если не одобряешь войны в принципе, то нельзя стараться и оправдать ее указаниями на разные привходящие обстоятельства. Слишком открыто лгали люди или слишком легковерно поддавались мы обману; нигде не замечалось хотя бы стремления к истине. Люди желали воодушевиться и добровольно соглашались на обман: значимостью обладало настроение, а не обоснование, инстинкт, а не свободная воля.
Мы выделялись среди массы интеллигентов, которые, не задумываясь, отстранились от всего специфически человеческого. Расчет на сознательную культурность этих кругов оказался ошибочным. При таких обстоятельствах я счел своей обязанностью высказать и обосновать, по мере своего разумения, как свое личное мнение то, в чем я усматривал справедливость и строгую неизбежность.
Это предварительное объяснение представлялось мне необходимым для того, чтобы определить характер данной книги. Я старался по возможности объективно подобрать материал; последний я использовал затем под углом зрения одной руководящей идеи – идеи гуманности. Если угодно, и эту идею можно формулировать объективно таким образом: фактически существует только genus humanum (род людской), и этот род людской, как доказано, представляет собой единый организм.
Впрочем, установление этого факта означало бы антиципацию данной книги, позитивное содержание которой определяется доказательством этой объективной основы, идеей гуманности.
Часть 1. Воинственные инстинкты
Значение инстинктов
В течение тысячелетий войну ненавидели. Ни один мыслящий человек никогда не сказал о ней ни одного доброго слова, по крайней мере в тех случаях, когда он излагал свои мысли письменно. Между тем сейчас почти все любят и восхваляют войну. Ясно, тут что-то неладно: или образованные люди всех времен, или нынешние интеллигенты просто-напросто ошиблись.
В действительности ошиблись и те, и другие: разум никогда не сможет оправдать войну, и попытки наших современников все-таки сделать это потерпели жалкое фиаско. Это знали люди древности, и потому они проклинали войну. Но они не знали, как силен инстинкт войны у человека, инстинкт, сидящий в нем глубже всякого разума. Это современники воочию пережили отчасти с содроганием, отчасти с изумлением. Но и они ошибаются, думая, что, так как во всех нас силен инстинкт, его надо восхвалять.
Правильная оценка войны может быть лишь результатом такого двойственного познания. Дело в том, что даже из уст самого откровенного противника войны раздается какой-то возглас в пользу войны. Природное влечение, нечто такое, что напоминает самые потайные источники человеческой силы, заставляет нас любить войну.
Любовь к войне содержится в самой крови народа подобно скрытому инстинкту, и с наступлением подходящего случая она оживает и дает о себе знать. В мирные времена такое опьянение требует искусственного стимула. Выпив свое пиво, баварец дерется; английский матрос, уничтожив достаточное количество виски, приступает к боксу; упоенный водкою русский лезет в рукопашную; наконец, итальянец, насладившись всласть вином, хватается за нож.
Когда народами овладевает опьянение войной, тогда драка-бокс, ножовщина становятся всеобщими. Тогда французы перестают быть «декадентствующими болтунами», британцы – «самодовольно-флегматичными коровами», русские – «нежными мечтателями», итальянцы – «увлекающимися влюбленными», немцы – «опьяненными гуманностью идеалистами». Все тогда превращаются в людей дела. Именно эта универсальность увлечения войною доказывает, что мы имеем здесь дело со врожденным роду человеческому инстинктом, всегда готовым обнаружиться.
И вот, так как любовь к войне является инстинктом, независимым от какого-либо размышления, она и кажется священною. Нас учили: «Инстинкты представляют самое ценное в человеке; как только народ утрачивает свои истинные инстинкты и следует ложным, он погибает».
Собственно говоря, второе утверждение аннулирует первое: хотя и существуют инстинкты ложные, мы не можем слепо следовать каждому инстинкту, а должны всякий раз справляться, с нашим рассудком.
Итак, если рассудок в конечном счете является здесь решающим моментом, можно было бы думать, что весь вопрос об инстинктах не имеет для нас, людей, никакого практического значения. Между тем это отнюдь не так. Человеческие инстинкты имеют для поступков человека гораздо большее значение, чем принято думать. Рассудок может, конечно, делать известный выбор, может развивать один инстинкт и подавлять другой, но сила действования вырастает из недр неведомых нам инстинктов. И хотя мы признаем воинственные инстинкты тысячу раз неправильными, мы все-таки сумеем только преодолеть их, заменив их иными, более миролюбивыми инстинктами! Посмотрим теперь, что, в сущности, представляет собой инстинкт вообще и как развились инстинкты воинственности в частности.
Понятие инстинкта является центральной, узловой точкой всего нашего знания о жизни души. Без анализа инстинктов невозможно распознать человеческую психику, а следовательно, и страстное влечение человека к войне. Так как из инстинктов нами овладели наиболее необыкновенные, ложные и потому труднее всего постижимые, то полузнание окутало все инстинкты вообще вуалью мистики. Но для того, чтобы точно узнать положение вещей, необходимо начать с простейших инстинктов. В этих целях мы позволяем себе следующее небольшое отступление.
Инстинктивным мы называем такой акт, который выполняется животным с чисто механической, машинной закономерностью и бессознательно, например сосание молока у матери, опускание век при грозящей опасности поранения глаза и т. п. Так как поразительное большинство инстинктивных действий обнаруживает прямо-таки ошеломляющую «целесообразность», далеко превышающую мыслительные способности данного животного, то возникло мнение, будто всякий инстинкт безразлично целесообразен.
Заметили, как птица, никогда не видевшая процесса сооружения гнезда, исполняет эту трудную работу без всякого наставника и как она, не имея никакого представления о будущем существовании своих птенцов, устраивает это гнездо именно для их удобства. Наблюдали, как перелетные птицы в определенное время устремляются на юг и как пчелы строят себе шестиугольные ячейки, относительно которых только современная наука вычислила, что это наиболее целесообразная из всех возможных конструкций.
Итак, инстинкт животных превосходит человеческий интеллект, он более верен, устойчив и, по-видимому, точно предусматривает грядущее, почему Жан-Поль Рихтер и называет его «чувством будущего».
У низших животных все действия носят автоматический характер. Подобно тому как свет, падающий на камень, заставляет его всегда равномерно расширяться, этот же свет принуждает определенные простейшие организмы (например, бактерии) либо обращаться к нему (так называемый положительный гелиотропизм), либо отворачиваться от него (отрицательный гелиотропизм). Аналогичным образом всевозможные воздействия вызывают у таких низших животных совершенно определенные, обязательные реакции. Сами по себе эти реакции только закономерны, но отнюдь не целесообразны или не нецелесообразны. Если же они оказываются для данного животного вредными, то соответствующая порода скоро вымирает. Отсюда вытекает, что сохранились только те виды животных, природа которых была такова, что они тяготели к полезному и удалялись от вредного для них. Равным образом возникли и сложные инстинкты высших животных, и не следует удивляться тому, что они отличаются целесообразностью.
Некоторые из этих реакций настолько важны для жизни, что они должны быть одинаково присущи всем животным; ни одно, например, животное не могло бы уцелеть, если бы оно инстинктивно тяготело к поглощению ядовитых веществ. Следовательно, совершенно понятно, что возникла только такая протоплазма (а в процессе дальнейшего развития возникли и соответственные животные), которая воспринимает нужные для ее питания элементы и невольно отворачивается от ядовитых веществ. Поэтому мы не должны удивляться тому, что все животные избегают ядовитых для них растений.
Изменение инстинктов
Между тем, если животное с верными инстинктами изъять из его обычной обстановки и переместить в такую местность, где попадаются неведомые ему растения, нередко бывает, что животное поедает растения для него вредные, и от этого погибает. При изменившихся условиях «верный инстинкт» превращается таким образом, в ложный.
Подобные явления встречаются в природе нередко. Если, например, моль летит на свет или если самка дрозда кормит молодую кукушку, пока последняя не выбросит ее собственных птенцов из гнезда, то это инстинкты вредные. Но таковыми они были не всегда. Стремление моли к источнику света возникло в такое время, когда еще не существовало ламп и направление полета к солнцу и вверх было не только безопасно, но даже полезно. Кормление птенцов – инстинкт, без наличия которого развитие птиц вообще было бы немыслимо. То же обстоятельство, что время от времени в гнезде дрозда оказывается яйцо кукушки, не может и не должно изменить инстинкты дрозда.
Итак, в природе, наряду со многими полезными, обнаруживаются и некоторые вредные инстинкты. Во всяком случае, факт, что какое-нибудь действие совершается инстинктивно, сам по себе еще не доказывает, чтобы оно при данных обстоятельствах было целесообразно. Но, с другой стороны, мы можем с уверенностью сказать, что это действие в то время, когда возник данный инстинкт, было полезно.
Следовательно, если человек обладает воинственными инстинктами, то это доказывает, что ведение войны было когда-то необходимо, но отнюдь еще не доказывает, что война и теперь необходима. Как это можно вывести из примера летящей на свет моли, инстинкты чрезвычайно консервативны и продолжают существовать, несмотря на то что вызвавшие их условия давно исчезли. Таких «рудиментарных инстинктов» существует бесчисленное множество. И собака была когда-то злым разбойником, но отказалась от своих разбойничьих свойств раньше своего хозяина, так что может казаться будто кнут лучший воспитатель, чем этические требования.
Как бы то ни было, но с тех времен унаследована (до сих пор прославляемая как признак великого ума волков) привычка зарывать в землю свои экскременты. Это было вполне целесообразно тогда, когда бродивший по ночам хищник старался по возможности уничтожить явные следы своего пребывания. Но подобно тому, как он тогда не имел никакого представления о целесообразности этой меры, так и поныне пес, несмотря на свой теперь гораздо более миролюбивый образ жизни, сохранил эту свою бессознательную привычку. Смешно видеть, как наши уличные собаки, покончив со своими делами на асфальтовой мостовой современных городов, делают ряд царапающих движений задними лапами. Вот вам пример бессмысленного и бесцельного инстинкта!
Приходится признать, что и у людей существуют рудиментарные инстинкты. Когда древняя обезьяна шла на противника, она сначала, как поступают многие животные, показывала для «устрашения» свое оружие. Приподняв верхнюю губу, она обнажала свои передние зубы и грозила сжатым кулаком. И по сей день еще, когда мы, цивилизованные европейцы не кусающиеся и едва ли пускающие в ход свои кулаки, свирепеем, мы в аффекте вздергиваем верхнюю губу и сжимаем кулак, как это делал и наш предок древняя лесная обезьяна.
Итак, ни один инстинкт сам по себе не полезен. Право на существование он сохраняет лишь до тех пор, пока не изменились окружающие его условия. Подобно тому как животное, тысячелетиями переселявшееся к северу, постепенно приобретало более густую шерсть, ему приходится воспринимать другие привычки и усваивать иные инстинкты. К нам, людям, сказанное приложимо еще в гораздо большей степени. Так как нам предоставлена возможность в значительно большей мере, чем всем животным, самостоятельно изменять окружающую нас среду, то мы легче и чаще оказываемся вынужденными жить при изменившихся условиях. Поэтому на нас возлагается обязанность приспособления наших привычек (инстинктов) к нами самими созданным условиям жизни.
Это трудно, потому что, как было уже отмечено, инстинкты отличаются упорным консерватизмом. Со времени изобретения оружия нам уже не приходится при наших стычках с врагами пускать в ход наши зубы; тем не менее на протяжении ряда тысячелетий мы не перестаем показывать им свои зубы. Когда мы постигли пользу мировой организации, наступила как будто бы пора подавить и некогда ценный воинственный инстинкт. Я не сетую на то, что это подвигается весьма медленно, но (да простят меня!) люди, доселе восторженно отдающиеся своим воинственным наклонностям, всегда вызывают в моей памяти картину собак на асфальтовой мостовой!
Необходимо подчеркнуть (и я с особенной радостью делаю это), что инстинкты важны для человека, важнее многого, что мы делаем разумно. Ведь все необходимейшее для жизни определенно не поддается регулированию столь легко вводимого в заблуждение рассудка; хотя мы и осознаем голод и жажду, половое влечение, материнскую любовь и т. п., но все это регулируется инстинктами. Нечто еще более важное, например биение сердца, дыхание, пищеварение, несомненно функционирует помимо нашего ведома. Рассудок может ошибаться, инстинкт же никогда, по крайней мере тогда, когда (как в вышеприведенных примерах) его влияние простирается на такие явления, которые, основываясь на строении человеческого тела, почти неизменны.
Однако необоснованное обобщение этого положения побудило многих отрицать мировой прогресс. Бактерия действует всегда правильно, человек же в большинстве случаев неправильно. К чему, следовательно, вся эволюция от основной клеточки до человека? Но и этот взгляд (я сказал бы, к счастью) покоится лишь на полузнании. Хотя инстинкт и непогрешим, и в этом его преимущество, но он слеп и не в состоянии учиться, и в этом его роковое свойство. Если животное попадает в новую среду, обладая несоответствующими последней инстинктами, оно в силу своей природы все еще продолжает действовать правильно, но погибает при этом. Так погибли целые ряды поколений животных, потому что они не могли измениться. Неужели же погибнуть и человеку, потому что он не желает измениться?
Человек ведь мог бы измениться. Ему не нужно, подобно бактерии, делать постоянно только то, что «соответствует его природе»; он может поступать и иначе и постоянно приспособляться. Один только человек в силах совершить невозможное; он выбирает, и в своем выборе он, конечно, может ошибаться. Но это проклятие заблуждения есть неизбежное следствие свободы и порождает благодатную способность изменяться, т. е. учиться. Воистину древняя Библия поступает умнее всех фанатиков инстинкта, приурочивая грехопадение к моменту возникновения человека: условием нравственности человека является предоставленная ему свобода грешить или не грешить. Животное не может поступать греховно; но именно потому оно и не в силах поступать этично. Хотя человек и заблуждается, стремясь вперед но он вместе с тем знает, что если бы не было заблуждений, то не было бы и стремлений: тому, кто, следуя своему определенному инстинкту, движется по пути своему, не приходится отыскивать себе верную дорогу.
На протяжении тысячелетий гармоничный человек является нашим идеалом. Тем не менее мы не смогли отрешиться от таких чисто плотских инстинктов, как вздергивание верхней губы. С более сложными духовными инстинктами дело обстоит еще хуже: человеку свойственно считать все подобные унаследованные привычки, особенно такие, которые не представляются чисто физическими, весьма почтенными.
Такая традиционная переоценка всего древнего в конечном итоге основывается, хотя мы этого и не сознаем, именно на том, что здесь дело идет об унаследованных, ставших священными инстинктах. Последние и без того обладают тенденциею к самосохранению; а так как мы не отдаем себе в этом ясного отчета, а лишь смутно это предполагаем, то мы думаем, что оберегаем вечные истины, когда, в сущности, охраняем старину. На основании такой недостаточной осведомленности нам представляется более достойным быть по-старинному людьми воинственными, чем по-современному миролюбивыми.
В нашем мировоззрении все еще сильна древняя индоевропейская мысль, будто каста воинов выше каст купцов и земледельцев. Средневековое «pigrum et iners videtur sudore adquirere, quod possis sanguine parare» (признаком лени и бездеятельности кажется добывание потом того, что можно добыть ценою крови) и сейчас находит своих рыцарских поклонников-романтиков. Их ослепляет блеск оружия, и потому они не замечают, что всюду рост культуры сопровождается повышением оценки труда.
После всего сказанного ясно, что значение нынешних воинственных инстинктов можно правильно определить лишь в том случае, если знать условия, в свое время породившие эту воинственность. Если эти условия сейчас иные, то к ним не подходит и прежний инстинкт; если же они превратились в прямую противоположность былому, то данный инстинкт становится даже вредным. В этом отношении он похож на нашу рудиментарную слепую кишку, некогда также игравшую большую роль, сейчас же не только бесполезную, но вызывающую болезни.
Собственно, это самоочевидно и давно уже признано и другими «историческими» науками. Так, например, Рошер заявляет, что только тот может правильно судить, где, когда и почему должны быть упразднены устаревшие установления, кто вполне понял, отчего в свое время их пришлось ввести.
Нам теперь надлежит без всякой предвзятости уяснить себе историю развития воинственных инстинктов и вообще войны. Это само собою послужит указанием, как следует в настоящее время относиться к войне.
Стадные инстинкты людей
Не трудно доказать, что воинственные инстинкты вовсе не представляют необходимых или хотя бы характерных свойств рода человеческого, а напротив, знаменуют извращение мысли о человечестве. Ведь человек по своей природе с самого начала существо мирное и общительное. Это вытекает уже из анатомического строения его тела. Его облик направляет его к миролюбию, а не к разбойному убийству и опустошению. Человек самое беззащитное животное, какое только мы знаем: у него нет ни рогов, ни клыков, ни когтей, ни чешуи, ни ядовитых желез. Его безоружные предки, обезьяны, могли сохраниться лишь благодаря тому, что, хотя бы несколько ограждая себя, избирали местом своего пребывания ветви высоких деревьев.
Человеком, шествующим с выпрямленным позвоночником, ступая по земле, развил себе ноги. То обстоятельство, что с тех пор только задние конечности стали служить для передвижения, освободило передние конечности. Пятипалую примитивную руку имели уже древнейшие позвоночные, напр. лягушка; но эта рука у всех животных преобразовалась или, если угодно, усовершенствовалась в специальный орган, большею частью в оружие (лапу или копыто). Только у беззащитных обезьян она осталась рукою, упражнявшейся в хватании ветвей. Эта по своему происхождению миролюбивая рука, не умевшая ни бить, ни царапать, а только ловить и держать, оказалась лишней при передвижении обезьяны по земле; она поэтому освободилась и оказалась в состоянии хватать нечто иное, чем ветви; и вот она схватила оружие и тем самым стала средством и символом всего будущего величия человечества.
Но важнее этого неоспоримого факта нечто другое. Если бы человек в те времена, когда он собирался покинуть безопасные верхушки деревьев, был существом одиноким, он вовсе не смог бы предпринять этого шага: он безусловно был бы уничтожен своими значительно более сильными и вдобавок вооруженными природою врагами. То обстоятельство, что он все-таки рискнул сделать этот решительный шаг, в результате которого он подчинил себе всю землю, доказывает, что он уже тогда должен был обладать оружием. Найдя камень, ставший для него топором, лишь на земле, он усмотрел свое «могучее оружие» только в мысли, что единичная слабая личность черпает силу во взаимопомощи. Лишь оттого, что он был социальным существом, он и мог победить!
Против этого социального происхождения человеческой расы серьезных возражений быть не может. Единственное известное мне возражение (а именно, что человекообразные обезьяны, т. е. орангутанги, шимпанзе, гориллы, живут только семьями, а не социальными группами) покоится на ошибочно приписывавшемся Дарвину и давно уже опровергнутом мнении, будто человек ведет свое происхождение именно от этих обезьян. Ныне мы знаем, что антропоиды приходятся нам двоюродными братьями и что нашими прямыми предками были гораздо ниже стоящие обезьяны. Все эти низшие породы обезьян живут ордами. Известны их совместные нападения на плантации (причем они выставляют даже дозорных) и их общие усилия, когда приходится сдвигать тяжелые камни и доставать из-под них копошащихся там червей и т. п.
Итак, мы происходим от социальных, стадных животных и были существами общественными задолго до возникновения семьи, на которую люди, ослепленные традиционною святостью семьи, некогда смотрели как на первоисточник всех наших социальных и государственных установлений. Если бы они были правы, то общественное стремление людей действительно носило бы второстепенный характер. Между тем дело обстоит иначе: не человек произвольно создал себе ту или другую общественность (напр, сперва семью, затем род племя, общину и т. д.), а предварительно существовавшая общественность превратила обезьяну в человека.
Фактически все низшие племена, бушмены, жители Огненной Земли, эскимосы и др., живут всегда ордами, не зная даже зачатков семейного быта. Сообразно с этим и все их обычаи могут быть сведены к стадным инстинктам. Так, напр., упоминаемые всеми путешественниками болтовня и гримасничанье дикарей весьма живо напоминают аналогичные явления у стадных животных (обезьян и попугаев); среди первоначально одиноко живших пород эти явления никогда не могли бы развиться. Вообще дикари чрезвычайно общительны; в одиночестве они физически и духовно погибают. Недаром одиночное заключение является одним из тягчайших наказаний – даже для самых культурных европейцев.
Равным образом определенно и категорически подтверждают первоначальное существование орд тщеславие и подражательные способности дикарей: пред кем одинокий отшельник стал бы проявлять свое тщеславие, кому мог бы он подражать, с кем болтать? Как далеко можно проследить это стадное свойство и вытекающие из него привычки в ряде человеческих поколений, доказывает хотя бы древнейший скелет, найденный в пещере Ле-Мустье, скелет человека, стоявшего на низшей ступени развития. По мнению Клаача, этот скелет обнаруживает следы тщательного погребения. Те, которые так усердно заботились о своих умерших, непременно должны были как-нибудь заботиться и о своих живых товарищах, т. е. должны были быть существами социальными.
Все эти первобытные качества мы снова встречаем, как и следовало ожидать, у ребенка. Мы знаем, что всякая отдельная особь проходит через все эволюционные этапы, которые проделали ее предки. В связи с этим первые проявления детской психики выражаются в таких формах, которые мы находим и у взрослого дикаря, а именно в тщеславии, подражании и болтовне (в лепете ребенка).
Быть может, наиболее ярким доказательством первоначальной стадности рода человеческого является язык. Никто не сомневается и даже не может сомневаться в том, что человек без речи не человек и что, следовательно, умение говорить совпадает, по крайней мере, с превращением животного в человека, вероятнее же всего предшествует ему. Вполне очевидно, что речь никогда не может возникнуть у особей, живущих одиноко, а всегда возникает лишь как результат общения.
И на самом деле мы наблюдаем речь (или возможность соответствующей дрессировки) только у стадных животных вроде попугаев и аистов, уток и кур, собак и лошадей, тюленей и коров. Напротив, все одиноко живущие животные, даже обладающие относительно высокоразвитым мозгом (напр., хищные птицы, кошки и киты), остаются немыми или в лучшем случае обладают только звуками любовного призыва (мяуканье кошек) или звуками устрашения (рев льва). Другими словами, они начинают издавать звуки лишь тогда, когда вступают в сношения с другими зверями. Речь предполагает существование известных взаимоотношений, и тот факт, что человек говорит, доказывает, что подобные взаимоотношения существовали с самого начала.
Следовательно, как это утверждал еще Аристотель, человек по природе своей животное общественное. Общее братство людей древнее и первоначальнее их взаимной борьбы, которую человечество познало гораздо позже.
Часть 2. Война и собственность
Миролюбие животных
Когда волк бросается на овцу или лев на газель, то это не связано для нападающих ни с какою опасностью; вообще животные, которых уничтожают другие звери, становятся опасными для своих преследователей лишь в исключительных случаях. Когда же животное нападает на своего сородича, оно всегда рискует быть побежденным своим более сильным противником.
Следовательно, не безопасно вступать в драку с себе подобными. Так как каждое животное инстинктивно боится боли, то вполне естественно, что борьба или война между однородными животными происходит чрезвычайно редко. Это бывает так редко, что можно почти утверждать, что война, подобно многому другому, представляет собой изобретение человека. В пользу этого как будто говорит и впервые высказанная англичанином Пай-Смитом гипотеза, что наблюдаемая только у человека праворукость есть следствие его воинственных привычек (сражаются правою рукою, чтобы ограждать левою «левый бок, в котором слышится учащенное биение сердца»). Уже древние изумлялись явному миролюбию или, по крайней мере, невоинственному образу жизни хищных зверей.
Сравнивая душевные качества животных с человеческими, Монтень высказывает такой же взгляд. Он заявляет, что война – свойство, специфически присущее людям, причем отнюдь нельзя усматривать в нем их преимущества. Это скорее признак человеческой глупости и несовершенства. Ему лично, во всяком случае, кажется, что самоусовершенствование в искусстве взаимного истребления и тем самым уничтожения собственной расы отнюдь не может быть признано желательным. Равным образом Шефтсбери указывает на несостоятельность положения «homo homini lupus» (человек человеку – волк), «если принять во внимание, что волки очень нежно относятся к волкам».
И действительно, знаменательно, что лишь некоторые виды животных ведут настоящие войны. У большинства же животных, напр. у щенят и котят, возня сводится лишь к игре в войну, имеющей, разумеется совершенно иное значение, чем настоящая борьба Тут вовсе не преследуется цель причинения вреда товарищу по игре, а происходят лишь упражнения и подготовка к будущей борьбе с животными иной породы. Следовательно, эти явления можно сравнить со спортивными состязаниями людей.
Настоящие войны со своими сородичами ведут только олени, муравьи, пчелы и некоторые птицы. Теперь необходимо объяснить, каким образом эти немногие виды животных, ведущие стадный образ жизни, пришли к тому, чтобы уничтожать друг друга (что, как мы увидим ниже, противоречит общим законам жизни). С самого начала ясно одно: так как борьба с себе подобными опасна, то награда, могущая быть результатом победы, должна соответствовать риску, во всяком случае, если даже допустить неумение животного точно оценивать условия, должна существовать какая-нибудь возможная награда, побуждающая к борьбе. Но что может побудить тигра выступить против тигра? Тигр не пожирает себе подобных, и вообще лишь ничтожное число животных поедает своих сородичей.
Каннибализм, подобно войне, является культурным достижением, свойственным одним людям. Но, кроме своего тела, тигр не располагает ничем, что могло бы прельстить другого тигра. Те районы охоты, над которыми он властвует, не принадлежат ему, и если другой тигр пожелает воспользоваться ими, то он начинает там же охотиться; если второй оказывается проворнее первого и благодаря этому перехватывает у первого всю добычу, последний принужден, если не желает погибнуть с голода, покинуть данное место; если же первый тигр проворнее, то приходится удалиться пришельцу.
Таким образом, борьба между ними протекает без уничтожения противника. Настоящее достояние тигра (его силу, проворство и другие телесные свойства) никакой противник отнять у него не может: все это умирает вместе с ним.
Собственность, война и рабство
Итак, для того чтобы война была вообще мыслима среди сородичей, им приходится быть либо каннибалами, либо владеть чем-нибудь, что стоило бы похитить. Последнее обстоятельство гораздо важнее первого. Следовательно, война действительно признак культуры: человек или животное должны при этом достичь, по крайней мере, такой степени развития, чтобы осознать право собственности на что-нибудь, будь то старая кость, которую собака припрятала для себя и которую она защищает столь же энергично, как человек свой кошель с деньгами, или же самка, за обладание которою олени и петухи борются совсем как люди.
Настоящие войны начались только тогда, когда культура положила начало накоплению собственности. Поэтому в мире животных наблюдаются войны почти только у муравьев и пчел, которые ведут их ради жилищ, пищевых запасов и меда. Ради подобного же воюет и первобытный человек. Тут собственность может состоять в так или иначе возделанных полях, в оружии или орудиях; речь может идти также о стадах или женщинах (в качестве рабочей силы или для удовлетворения половых потребностей), наконец, и о самом человеке, в качестве раба становящемся собственностью победителя.
Где ничего нельзя добыть, там нет и борьбы. Юм справедливо замечает, что дикарь редко впадает в искушение прогнать дикаря из его хижины или похитить у него его копье: у него самого уже имеется и то, и другое. Поэтому наиболее миролюбивы те животные, которые собственности не имеют. Самые свирепые хищники среди зверей борются друг с другом лишь в редчайших, исключительных случаях, которые обычно и рассматриваются как признаки их вырождения.
Итак, первобытные люди несомненно отличались миролюбием, и сейчас еще дикие племена никогда не бывают воинственны в нашем смысле слова. А мы, цивилизованные люди, также отличались бы миролюбием, если бы мы, подобно нашим отдаленным предкам, не знали собственности. О, если бы человек запомнил раз навсегда: война не заключает в себе ничего естественного, великого и благородного, являясь лишь одним из бесчисленных последствий института собственности! По существу своему она такое же предприятие, как и тысячи других; только она нечестна и применяет насилие. Это, разумеется, ничего не изменяет на практике. Еще не столь давно глава торгового дома, как и предводитель военного отряда, назывался капитаном (capitano); поэтому современному подпоручику нечего глядеть свысока на приказчика: они сродни друг другу, и их титулы происходят от одного и того же корня (латинского capere – брать).
Каковы бы ни были цели и результаты войны, здесь всегда дело идет об эксплуатации человека, выражающейся в том, что захватывают избыток его труда или стремятся присвоить себе продукты его будущей работы.
Итак, всякая война, если она вообще ведет к практическим результатам и не является излишней, по необходимости влечет за собой порабощение некоторой части человечества. Из этого следует, что война лишь до тех пор имела законное основание, пока люди считали себя вправе требовать от побежденных, чтобы они прислуживали им в качестве рабов в какой бы то ни было форме. Далее, из того же вытекает, что война целесообразна лишь до тех пор, пока люди в состоянии насильственно установить подобное порабощение.
Даже при беглом, поверхностном рассмотрении мы без труда заметим, что современные мирные договоры все еще стремятся к своего рода порабощению. Что представляет собой военная контрибуция, как не часть труда побежденного противника, которой мы его насильственно лишаем? Гёте совершенно был прав, заявив, что «честные», но взимающие контрибуцию солдаты почти ничем не отличаются от воровской шайки. В настоящее время заботятся об ограждении частной собственности. Если это и так, то она ограждается лишь путем того, что отдельную личность грабят не прямо, а косвенно, облагая всю массу побежденного народа.
Далее, может ли присоединение какой-нибудь провинции иметь иной смысл, как не тот, что мы желаем воспользоваться проделанной там бывшим неприятелем работой, т. е. опять-таки занимаемся эксплуатациею? Это, разумеется, имеет место и в том случае, когда мы усматриваем в завоеванной провинции только область для колонизации и расширения нашего национального могущества. Правда, здесь играет роль не единичная личность, а весь коллектив в целом, и вопрос касается не только материальных благ, но и культурных. В принципе, однако, тут нет никакой разницы.
Другой вопрос, осуществима ли вышеуказанная эксплуатация путем войны. Во всяком случае, она – цель войны. Следовательно, если бы рабство фактически было упразднено, война стала бы бесцельною; она действительно постольку и бесцельна, поскольку упразднено рабство. А так как современными законами рабство запрещено и в силу фактических условий отчасти действительно стало невозможным, то война вдвойне утратила свое право на существование. De jure она столь же безнравственна, как и рабство, a de facto с нею не может быть связана большая польза, чем с рабством.
Конечно, на деле до сих пор сохранилось еще много пережитков рабства (эксплуатация), и с этой точки зрения войну и теперь можно было бы признать целесообразною. Но пусть каждый, отстаивающий войну во что бы то ни стало, ведает, что тем самым он отстаивает рабство. Ведь в священной триаде (капитализм, война и рабство) ни одна составная часть не отделима от другой.
Преодоление капиталистической триады
Вообще эта внутренне неразрывная связь указывает, между прочим, на то, что война (подобно рабству) некогда была полезна. Несомненно, в известную эпоху культурного развития человечества было не только полезно, но и крайне необходимо заставить большинство людей работать на других. Жизнь животного почти целиком заполняется отыскиванием пищи. Травоядным приходится пожирать бесконечное количество пищи; остальное время уходит у них на переваривание или пережевывание последней. Равным образом и хищный зверь проводит свой день за охотою, едою и сном, знаменующим для него отдых в целях восстановления сил для новых хищнических набегов. Если к этому присоединить время, потребное животному для его сексуальной жизни и некоторого ухода за своим телом, то навряд ли у него останется какой-либо досуг.
Первобытный человек едва ли вел другой образ жизни. И у него весь день без остатка уходил на удовлетворение телесных потребностей. Между тем, в противоположность животному, у культурного человека имеются и духовные потребности. Когда последние стали проявляться сильнее, в то время как люди были вынуждены почти целый день трудиться над добыванием средств пропитания, возникла необходимость для большинства работать несколько усиленнее, чем это было нужно для него самого: благодаря этому некоторое меньшинство, само не работая, могло за счет избытка добытых другими благ спокойно заниматься на досуге насаждением культуры.
Равным образом следует признать необходимым и полезным тот факт, что некоторые народы жили за счет избытков труда прочих народов, чтобы также иметь досуг для культурных занятий. Изумительная античная культура была бы совершенно необъяснима при отсутствии рабства. Но и в Германии возникновение первоначально чисто рыцарской духовной культуры было бы невозможно, если бы развившееся в XII веке разделение труда не повело к новому социальному расчленению на классы, если бы крепостные и крестьяне не работали на дворянина-помещика; затем возникла буржуазия, а ныне к ним присоединяется пролетариат.
Это произошло так потому, что иного рода организация сделала излишним насильственный, вынужденный, рабский труд. Все общество добровольно отказалось от части своих доходов, чтобы за их счет создавать культурные ценности, ибо если государство уделяет часть своих налоговых поступлений на нужды министерства просвещения, то тем самым восполняется культурный фактор рабства. И вот, как некогда благодаря рабству, горсть избранных имеет теперь возможность жить за счет всех.
К этому следует присоединить еще и то обстоятельство, что (по крайней мере, принципиально) значительную часть работы, которая раньше лежала на рабах, могут в наше время выполнять машины. Если бы, в связи с техническими усовершенствованиями, наши потребности не возросли, к сожалению, в такой мере, что они все еще превосходят размеры машинного производства, если бы мы могли удовлетвориться утроенным количеством продуктов рабского труда греко-римской эпохи (что само по себе было бы не так плохо), то нашим рабочим приходилось бы трудиться лишь несколько часов в день.
Машины наши производят работу примерно в десять раз большую, чем та, которую могли бы произвести обслуживающие их люди; следовательно, для того, чтобы создать только в три раза столько, сколько создал бы голый человеческий труд машинам пришлось бы быть в ходу лишь в течение одной трети того времени, какое они работают теперь. Следовательно, и рабочим пришлось бы работать примерно в три раза меньше, чем теперь. Но потребности растут и искусственно раздуваются, и этот рост потребностей до сих пор поощряет рабство в виде эксплуатации трудящихся и в форме войны.
Подобно тому как собственность вызвала воровство, она породила и войну, а вслед за ней и все пороки. Конечно, для некоторых лиц она является и источником добродетели: тем слабовольным людям, которые действуют только тогда, когда они могут рассчитывать на конкретное обогащение, собственность служит единственным стимулом к труду.
Грабеж вызвал любостяжание, а последнее, в свою очередь, вызвало гнев и месть. И гомеровская Илиада, и древнегерманский эпос, свидетельствуя о правильном понимании жизненной правды, провозглашают целью войны месть и грабеж. Лишь изредка кучка людей как будто боролась за какую-нибудь чистую идею (таковы, например, альбигойцы). Но мне сдается, что и это одна лишь видимость и что при более детальном рассмотрении тут также обнаружились бы совершенно иные мотивы. Я решительно не могу себе представить возможности обнажения меча за чистую идею, совершенно свободную от всякой примеси элементов власти.
Даже за чистую идею отечества можно бороться, стараясь в себе самом (и тем самым соблюдая и интересы всех прочих), по возможности, развивать хорошие наклонности и стремления своего народа: но навряд ли будет полезно для этой чистой идеи отечества, если мы, защищая ее, пустим в ход пушки.
Итак, война, собственность и рабство теснейшим образом связаны друг с другом.
Часть 3. Борьба за существование и война
Дарвинизм
При рассмотрении первоначальных инстинктов войны обнаружилось, что поводом к возникновению ее было стремление к собственности. Это, однако, отнюдь не значит, что и по сей день еще смысл войны тот же: с течением времени характер того или иного явления меняется. Подобное «изменение функций» встречается у многих органов человеческого тела. Напр, когда наши отдаленнейшие предки еще плавали в прудах, их легкие, которыми мы теперь пользуемся для дыхания, исполняли роль плавательных пузырей. Позже, когда наши предки жили уже на деревьях, руки, которыми современный человек хватается за молот, грифель, топор и меч, служили для лазанья. И все наши установления с течением времени видоизменялись: брак и театр, ныне являющиеся нравственными институтами, возникли из стремления к обладанию собственностью (брак) и из потребности в движении (пляска – музыка – трагедия).
Нечто подобное можно, пожалуй, сказать и о войне. Если бы даже удалось выяснить ее теперешнюю непригодность как средство к грабежу и доказать, что война в крайнем случае полезна только небольшим группам людей, то это еще не говорило бы о бесполезности войны вообще; ведь и она могла испытать «изменение функций»: некогда полезная для легкого обогащения война, быть может, в конце концов действительно стала, как это охотно утверждают ее современные адепты, необходимым средством для отбора и усовершенствования народов; быть может, таково было ее влияние с самого начала, хотя человек и не культивировал ее специально с этой целью. Во всяком случае, необходимо рассмотреть ее и под этим углом зрения.
Война, несомненно, изменила человека Первоначально возникшее в человеке стремление к собственности только объясняет, как мы, в противоположность нашим мирным прародителям, пришли к тому, чтобы впервые начать войну. После этого война уже перестала быть только «действием»; она превратилась в «фактор воспитания». Мы совершаем действия, а затем мы зависим от них. Убив своего брата Авеля, Каин стал иным, чем он был раньше, и от печати Каина человечество не освободилось до сего дня. В этом отношении война ничем не отличается от всех других человеческих деяний. Мы создали язык, земледелие, технику и многое другое; теперь же они воспитывают нас. Мы когда-то поедали людей, держали рабов, поклонялись идолам, и все эти временные явления оставили неизгладимые следы на человеческой психике.
Равным образом и тот факт, что наши предки в течение свыше десяти тысяч лет вели длительные войны, не мог пройти бесследно: им определяется некоторая воинственность даже самого миролюбивого человека. Еще в другом, и притом гораздо более важном, отношении войне приписывается огромное влияние на развитие человечества: она будто бы не только воспитывает, приучает нас, но в качестве специального вида борьбы за существование влияет на отбор.
Нынешние теоретики-защитники войны в большинстве случаев не естествоиспытатели. Но, во всяком случае, они знают мнение Дарвина, что путем борьбы все живое идет к победе; тем, что всюду уничтожается непригодное, определяется дальнейшее существование пригодного, и таким образом происходит усовершенствование расы. Что могло бы быть приемлемее, чем применение этой теории к войне? Сильные народы побеждают, слабые погибают. Хотя это, к сожалению, и жестоко, и в единичных случаях тормозит культуру, но тем не менее это единственное средство к отделению ценного от плохого. Такой путь, правда, долог и кровав, но он все-таки ведет ввысь. Итак, подобно борьбе за существование, война является одним из тех неумолимых естественных правомочий, которые рождаются вместе с нами. Наравне с борьбой за существование и война, безусловно, полезна.
Независимо от того, что ссылка на врожденное естественное право представляет ничего не значащую фразу, независимо от того, что борьба за существование отнюдь не всегда полезна, война, как сейчас будет показано, вовсе не совпадает с понятием борьбы за существование в истинном значении этого слова. От указанного утверждения остается, следовательно, очень мало. Тем не менее мы не должны удивляться ему. Наше поколение навряд ли способно оценить то чувство воодушевления, какое вызвало во всей Европе вышедшее 26 ноября 1854 года сочинение Дарвина о происхождении видов. Под влиянием первоначального восторга идея борьбы как бы загипнотизировала все науки: эту идею распространили на химию и астрономию, космологию и историю, психологию и социологию.
Здесь нас интересует лишь ее применение к социологии; применение оказалось особенно опасным. Борьба, захватывающая всю природу, конечно, не приостановилась в тот момент, когда возникло человечество. И человек безусловно зависит от борьбы; да никто в этом никогда и не сомневался. Гёте сказал:
- Ведь и я был человеком;
- Это значит: был борцом.
Но, начиная с ветхозаветного Иова и вплоть до Гёте, вероятно, никто не вздумал бы утверждать, что борьба, заполняющая всю жизнь человека, должна вестись с помощью ружей и пушек. Конечно, не считал этого возможным и Дарвин, устанавливая свою формулу «борьбы за жизнь» (struggle for life).
Борьба повсеместна; однако средства борьбы меняются Лисица борется с зайцем, поедая его. Заяц борется с серною, поедая у нее корм. Два вида мышей борются друг с другом, причем один из них, например, выносливее к перенесению холода. Различные виды борьбы в природе отнюдь не могут быть просто сопоставляемы и сравниваемы друг с другом. У всякой расы имеется своеобразный метод борьбы.
Также неправильно усматривать в борьбе за существование жестокость или даже грубость. Сам Дарвин в V главе своего «Происхождения человека» пояснил, что уже низшим животным присущи социальные инстинкты, и притом имеющие большое значение. Однако последователи Дарвина не обратили должного внимания на эту сторону его учения, упустив из виду то обстоятельство, что если доискиваешься происхождения социальных инстинктов, то доходишь до принципов, развивающихся на почве борьбы, но коренящихся не в ней.
Не случайно, что почти исключительно русские ученые, т. е. представители той расы и жители той страны, в которой осуществлялся принцип мирской общины («мира»), подчеркнули именно эту сторону учения самого Дарвина и тем самым восстали против крайностей современного дарвинизма. Первым, определенно выдвинувшим значение социального инстинкта в качестве корректива к так называемому дарвинизму, был русский зоолог Кесслер, к сожалению, вскоре затем умерший. Но он побудил Кропоткина опубликовать в течение семи лет в «Nineteenth Century» серию статей «О взаимопомощи». Наконец, во многих своих сочинениях Новиков также указал на это.
Подобно всем прочим животным, человечество тоже ведет борьбу за существование (без жестокости, но и без милосердия, вовсе не встречающихся в бесчувственной природе) по железным, вечным, великим законам. Но – и это самое главное – борьба должна быть «борьбой за жизнь», а не «борьбой против жизни» какова война.
Борьба человечества
Что у войны общего с борьбою за существование? Конечно, ничего (не говоря уже о том, что она постоянно уничтожает одну, хотя бы и незначительную, часть человечества, нисколько не способствуя успехам настоящей борьбы)! Следовательно, война – продукт чистейшего вырождения. Нам врождено лишь право вести иную, бескровную борьбу, борьбу требующую напряжения всех наших физических, умственных и нравственных сил. Посильное участие в этой борьбе – наше неотъемлемое право и прямая обязанность.
Война допустима. Но не осужденная разумом война вчерашнего дня, борьба людей против людей, а та новая, живительная, вечно юная война за господство человека над землею и ее силами, миллионную часть которой мы едва еще проделали, но в которой наше время выступает с совершенно иными средствами, чем раньше. Мы являемся свидетелями удивительного подчинения природы, свидетелями таких побед над нею, каких до сих пор человек еще не одерживал. Этой творческой борьбой необходимо заменить борьбу разрушительную.
Профессор Габер, использовавший свои знания для изготовления бомб с удушливыми газами, также, вероятно, не будет забыт. Но пусть он не мечтает о славе Архимеда, «защитившего родину от римского самбука»! Во-первых, с тех пор прошло две тысячи лет; во-вторых, Архимед защищал только осажденные Сиракузы (при этом, однако, он не употреблял яда, применение которого всегда было излюбленным средством только в определенных кругах); наконец, слава Архимеда зиждется не на том, что он в течение двух лет спасал свою, находившуюся в союзе с карфагенянами, родину от мощного напора европейской мысли, которую тогда олицетворял или, по крайней мере, предвосхищал Рим, а на том, что он был первым настоящим физиком, т. е. подготовил, в сущности, почву для всех будущих плодотворных достижений.
Да, наши орудия представляют собой оружие, но оружие, направленное против природы, а не против людей. Наше первое орудие, камень, было оружием, но оружием в борьбе за пищу, орудием для рытья почвы. Лишь впоследствии это оружие против земли и дерева стало применяться в борьбе с животными и, наконец, с человеком. Основная ошибка войны в том, что на войне человек рассматривается не как нечто противопоставляемое и противоположное всей природе, а как часть самой природы (по выражению Канта, тут пренебрегают достоинством человека). Однако это не только безнравственно, но и неверно, потому что мы отнюдь не просто часть природы.
Я, естествовед, хотел бы особенно оттенить эту своеобразную позицию человека. В небольшом человеческом мозгу было передумано и проделано все «миросотворение», и явившаяся в результате этого процесса свобода привела к тому, что мы «живем по своим собственным законам». Поэтому действие человека есть нечто отличное от явления природы, и поэтому к войне приходится относиться иначе, чем к землетрясению.
Если бы даже было верно (между тем, как показано, это не так), что война является единственным лозунгом природы, то эта принудительность ее для нас не была бы обязательна, и человек мог бы браться за меч лишь по своему свободному усмотрению, сознавая ответственность своего поступка. Как уже было сказано, борьба за существование никогда не может оправдать войну и даже не аналогична ей. Это бессознательно признается даже практикою войны: желающий ныне воевать должен вооружать других, так как единичная личность, несмотря на всю присущую ей храбрость, слишком слаба.
Вооружать же других людей и вербовать союзников (даже в рядах собственного народа) возможно исключительно путем убеждения, интеллектуального воздействия, т. е. словами. Следовательно, убеждение, умственная борьба являются даже при мнимом устранении ее основным и решающим моментом (как это, впрочем, ясно доказывает настоящая война, исход которой покажет это еще нагляднее!). Во всяком случае, не должна исчезнуть вера в свободу и всемогущество духа, и в настоящее время все надеющиеся на какое-нибудь улучшение положения в тайниках своей души убеждены, что слово сильнее всякой реальной действительности.
Прежде всего, это относится к друзьям мира, по-видимому, ныне совершенно растерявшимся. Об этой горсточке людей иронически говорят, что если бы она захотела одолеть исполина войны, то она уподобилась бы маленькой собачке, лающей на мчащийся курьерский поезд: локомотив раздавит ее, даже не заметив этого. Разумеется! Ведь собака располагает в лучшем случае лишь одной миллионной долей той живой силы, которая заключена в курьерском поезде. И если бы человек не умел ничего иного, как только противопоставлять свое тело такому грозному бедствию, как война, то все его могущество ничего бы не стоило. Но воля человека не прикована к силе, которой располагает его тело, а обладает способностью пускать в ход какие угодно силы. Достаточно ему отвинтить одну гайку на рельсах, и весь величественный поезд превратится в обломки. Этого не может сделать собака, но зато это может сделать человек.
Все-таки влияние слова велико. Христос и Дарвин, Лютер и Вольтер познали такую силу слова. В свое время каждый из них являлся молниею, зажигавшей и приводившей в движение накопившуюся массовую энергию целого мира. И слово всегда оставалось победителем. Эта победа легкого, как дуновение ветерка, слова над всеми силами в мире сводится в сущности к тому, что Кант называл автономиею практического разума и достоинством человечества.
Для того чтобы покончить, например, с войною, достаточно автономии мозга (в понимании естествоведа), и Фридрих II, в этом отношении действительно Великий, был вполне прав, когда он заявил: «Если бы мои солдаты захотели мыслить, ни одного из них не осталось бы в армии».
К сожалению, однако, прав и Шопенгауэр, заявивший: «Люди – существа не мыслящие». Впрочем, Шопенгауэр был пессимистом, а в наши дни можно быть, пожалуй, даже оптимистом. Ныне, по крайней мере, общеизвестно то, чего еще в точности не знал Шопенгауэр, а именно, что, если люди и не мыслят, мозг их все-таки способен мыслить. Один из любопытнейших фактов, обнаруженных современной физиологией мозга, показывает нам, что в мозгу животных и человека таятся возможности, значительно превосходящие то, что развили в себе когда-либо собственники этого мозга. Во всяком мозгу имеется огромный ряд еще не использованных путей.
Точное подтверждение сказанного базируется на замечательных трудах гениального русского физиолога И. П. Павлова. Детальное рассмотрение этого вопроса завело бы нас здесь, однако, слишком далеко, а потому поясним изложенное лишь двумя примерами. Животные, особенно обезьяны, при общении с людьми могут научиться вещам, далеко выходящим за пределы их умственного горизонта; но мозг их от этого не изменяется; следовательно, он должен был быть приспособлен к выполнению подобных функций раньше. Если бы японцам пришлось самостоятельно выработать у себя западно-европейскую культуру, то они, наверное, употребили бы на это столетия, если не тысячелетия. Между тем за несколько лет они научились так же быстро подражать европейцам, как они раньше подражали культуре китайцев. Когда же обезьяны или японцы вступают на новый путь, они действуют безупречно. Ученая обезьяна столь же изящно курит папиросу, как любой франт.
То обстоятельство, что в мозгу многое содержится в потенциальном виде, оставаясь неизвестным человеку, содействует выяснению целого ряда явлений в жизни народов. Достаточно указать здесь на то, что именно этим объясняется приводящая нас нередко в отчаяние консервативная тенденция избитых путей и, наоборот, внезапное появление чего-то нового, после того как удалось привести эти «мертвые пути» в движение, разбудить эти «дремлющие струны». Физиология мозга оправдывает в этом случае оптимизм: как бы резко ни проявлялась ненависть, но противоположные социальные тенденции уже давно покоятся в нашем мозгу как древнейшее унаследованное нами достояние. Эти струны еще не звучат, но когда-нибудь и они заговорят, и тогда они заглушат весь средневековый и современный хлам.
Война как деяние человека
Пока люди не знают и не верят, что та естественная организация, частью которой является отдельная личность, обязывает нас (как бы физически) к соблюдению определенных правил в наших взаимоотношениях, до тех пор можно возражать: именно оттого, что человечество свободно и не подчинено природе, оно может воевать, так как оно желает этого; а так как оно всегда желало этого, то оно пожелает этого и впредь, ибо «война всегда существовала и потому всегда будет существовать!» Не стоит останавливаться на подобных доводах, ибо с таким же успехом можно было бы отстаивать каннибализм и культуру каменного века.
Между тем войну постоянно признавали логосом, разумом. Правда, не разумом человечества, а (и это характерно!) только королей. Кальдерон (1694) иронически заявил, что на войне последним словом королей является порох и свинец. Но короли не поняли этой иронии, и на пушках Короля-Солнца, равно как и на орудиях Фридриха II Прусского, были выгравированы слова «ultima ratio regum» (последний довод королей). Во Франции Национальное собрание уничтожило 17 августа 1791 года эту дерзкую надпись. Но в Пруссии она существует до сих пор, причем – достопримечательно! – лишь на полевых орудиях, предназначенных для наступательных действий, тогда как на оборонительных, крепостных орудиях ее нет. Тем самым еще резче подчеркивается, что пушки – символ разума не людей вообще, а именно только монархов. Если же война действительно последний довод королей, то республиканцам тем более следует надлежащим образом ответить на это.
Часто высказывается мысль, что война – дело чести. «Подл народ не жертвующий всем ради своей чести». Разумеется, вопрос только в том, можно ли реабилитировать свою честь при помощи оружия. Народ, считающий это возможным, обладает действительной честью в столь же малой степени, в какой таковая присуща хорошему стрелку, доверяющему свою честь умению стрелять из пистолета.
Честь человека покоится на уважении других людей. Честь нации базируется на уважении прочих народов; миновали те времена, когда это уважение вызывалось мускульной силой. Сколь необходимой ни казалась бы война, будь то вследствие унаследованного представления о ней, или как разумное действие, или, наконец, как дело чести, она таковой быть не может. Подобной необходимости для человека существовать не должно; для него необходимо только то, что он признал справедливым в силу своего свободного размышления.
Кто объявляет войну необходимостью, тот низводит ее тем самым на степень животного акта, и Фенелон (Telemaque, 1699, livre XI) прав, заявляя, что «позор человеческого рода состоит в том, что война кажется иногда неизбежной». Ведь война загоняет человечество на неестественные пути, а животная борьба увековечивает животное состояние в человеке и препятствует возможности специфически человеческого развития. Поэтому война свидетельствует не о случайном заблуждении, а о полном непонимании положения, занимаемого человеком в природе.
Зная, сколько в нас таится животного, мы с особенным усердием должны ежедневно и ежечасно развивать в себе все человеческое. Паскаль понимал жизнь, когда, в годы своего медленного угасания, писал (Pensées, IV, 7): «Опасно показывать человеку, как сильно он похож на животных, не напоминая ему об его величии. Еще опаснее показывать ему слишком часто его величие, не упоминая об его слабостях. Опаснее же всего скрывать от него и то, и другое. Наоборот, весьма полезно раскрывать перед ним и то, и другое».
Кто постиг эту изумительно глубокую мысль, тот должен признать лишь естественным выводом из сказанного, что война, как на это указывает Паскаль в другом месте (VI, 9), есть издевательство над понятием человечества. Именно здесь становится ясно, что война не только грех, но и смертный грех.
Часть 4. Действие войны на людей
Пробный камень народов
«Война есть пробный камень народов; что гнило, то во время войны погибает», – говорит проф. К.Штенгель («Weltstaat u. Friedensproblem», 1909), а один богослов, фамилию которого я забыл, выразился еще картиннее, заявив, что война – большая лопата, которою Бег отметает зерно от мякины.
Война, разумеется вызывает отбор. Вообще в мире не случается ничего, что не заключало бы в себе элемента отбора: при издании нового биржевого регламента погибают (по крайней мере, в качестве биржевиков) те, кто не может приспособиться к новым условиям; когда входят в силу новые правила верховой езды, первые призы уже не достаются прежним наездникам. Но этим вовсе не сказано, что новые правила облегчают верховую езду. Так обстоит дело и с войной. Она, разумеется, сортирует людей; в первую голову она отделяет живых от мертвых. Но кто внушил вышеуказанным мнимым последователям Дарвина, что остается зерно и отлетает мякина? А что, если дело обстоит как раз наоборот? Ведь важно то, положителен ли или отрицателен отбор. Он может влиять в сторону улучшения или ухудшения породы.
Если погибает всякая газель, не видящая и не слышащая подкарауливающего ее льва или неспособная достаточно быстро убежать от него, то в конце концов выживают только те газели, которые отличаются острым зрением, тонким слухом и проворными ногами; только такие экземпляры размножаются, и их порода становится более зоркой, более чуткой и ловкой.
Если вымирают все черепахи, обладающие слишком хрупкими щитами, то остаются в живых только черепахи с очень толстыми щитами. Обладают ли они, кроме того, хорошим зрением или тонким слухом, сравнительно безразлично, а так как тут отсутствует стимулирующий момент отбора, то со временем, поскольку нет иных решающих моментов, эти чувства совершенно притупляются. Вследствие такого отрицательного отбора возникают существа неповоротливые, слабо реагирующие. Тем не менее черепаха, как и газель, превосходно приспособлена к особым условиям существования своей породы.
Точно таким же образом произошло бы, несомненно, полное приспособление человека к войне, если бы война в течение продолжительного времени была главным его занятием. При современном способе ведения войны нечего ожидать возникновения особенно мужественной, сильной и интеллигентной породы людей (как мы сейчас увидим, война только истребляет подобных людей); очень длительная позиционная война в окопах скорее способна создать, так сказать, людей кроликообразных.
Подобно кроликам, такой новый человек не знал бы утонченных потребностей (их нельзя было бы удовлетворять в окопах, в ямах), лишился бы чувства обоняния, хотя бы для того, чтобы без труда переносить смрад от разлагающихся трупов; с другой стороны, он был бы подвижен и проворен, обладал бы хорошим зрением и слухом, чтобы в нужный момент замечать опасность и быстро исчезать из окопов или прятаться в них Хорошее зрение понадобилось бы ему и для прицела, хотя, как учит опыт, при продолжительной борьбе стремление к умерщвлению ослабевает и усиливается забота о самозащите.
У него уменьшилась бы мыслительная способность, потому что его занятие крайне примитивно. Он стал бы презирать мирный труд, так как человеческой природе присуще считать собственную деятельность особенно ценною. Интересы его понизились бы, свелись бы почти исключительно к еде и питью; развился бы некоторый дух товарищества, но главную роль играли бы ненависть к врагам и страх перед ними.
Результатом длительной позиционной войны была бы подобная полуидиотская порода пещерных людей. Приблизительное представление о такого рода людях дает нам средневековый ландскнехт; вновь народившийся солдат был бы худшею копией последнего. Еще в мирное время обнаружилось, как мало пригодны для современной жизни невежественные, испорченные многолетней муштровкой воины-люди. Отставному офицеру остается превратиться лишь в коммивояжера, а ни к чему не приспособленные и тем не менее полные чванства отставные заслуженные унтер-офицеры являются сущим наказанием для тех гражданских ведомств, которым приходится принимать их на службу.
Так обстояли дела еще в мирное время! Что же будет по окончании войны, когда нормальное число бывших военных увеличится на несколько миллионов, притом таких, которые вследствие полученных ими ранений не будут в состоянии заниматься своей прежней профессией и которых придется в кратчайший срок подготовить к новой деятельности? Поспешная подготовка и слабое здоровье окончательно обесценят их, и они лягут тяжелым бременем на всех нас.
Этих фактов никто не станет и не может оспаривать. Впрочем, на это могут возразить, что некоторое количество воинов указанного кроличьего типа, если оно является результатом кратковременной войны, даже полезно. Это возражение столь же трудно опровергнуть, как известные поговорки: «Один раз не в счет» и «Немного – не вредно». Если же мы уверены, что прогресс человечества обусловливается нашей волей, то подобные половинчатые воззрения недопустимы: наши желания, стремления и тенденции станут для будущих поколений обязательными, и то, что ныне только намечено, претворится тогда в факт. Важно не то, что мы собой представляем, а то направление, которого мы придерживаемся. Каждым нашим поступком намечается известная цель и бесповоротно определяется наш путь. Именно это усугубляет нашу ответственность, и потому-то мы должны развить наши мысли до конца и поставить вопрос: попытаемся ли мы повести борьбу за существование таким образом, чтобы люди приспособились к военным конфликтам, или мы изберем противоположное направление?
Раньше, чем ответить на этот вопрос, необходимо уяснить себе, что всякая война делает народ не только «немного» воинственнее, но безусловно и бесповоротно содействует усилению его общей воинственности. Кто, следовательно, поощряет воинственное настроение народа или хотя бы одобряет его, тому приходится считаться и с тем конечным состоянием, до которого доходят и впредь будут доходить воинственные народы. Наоборот, предотвращение войны способствует миролюбивому настроению, и всякому, кто пытается предупредить войну, приходится считаться с конечным результатом этой тенденции – непригодностью людей для войны.
Вообще, для полной ясности необходимо установить, следует ли особенно стремиться к превращению людей в солдат или, напротив, к воспитанию их в духе мирной гражданственности, и каков будет тон отдаленного будущего, воинственный или же миролюбивый. Вся наша теперешняя деятельность представляет собой лишь подготовку будущего человечества, и я убежден, что тут мы избегли бы многих осложнений, если бы всегда отдавали себе отчет в конечных результатах наших действий. Между тем люди думают, что всегда возможны по желанию любые отклонения в сторону. Подобно тому как существует, убеждение, что можно раз-другой напиться без риска превратиться в «заядлого пьяницу», так все уверены и в том, что можно порой вести ту или иную войну, не превращаясь в «закоренелого вояку». При этом забывают, однако, что если подобное рассуждение применимо к отдельной личности, то оно недопустимо по отношению к целой расе или породе, ибо тогда возник бы так называемый отрицательный отбор.
Доказать это легко. Общеизвестна истина, что своим теперешним положением в мире человек обязан исключительно развитию своего мозга. Напомним здесь о вышесказанном, именно о том, что это условие человеческого развития было установлено еще тогда, когда лесной житель создал себе орудие и тем самым подготовил освобождение своего мозга. С тех пор человечество продолжало шествовать по великому пути дальнейшего освобождения мозга, и, думается, мы можем быть довольны этим…
Прежде чем исследовать, каким образом война влияет на развитие мозга, необходимо вкратце коснуться очень распространенного мнения, будто на войне выживает вообще «более пригодный». Я оставлю здесь без внимания факт, что в действительности пригодность к жизни и жизнеспособность человека связаны с развитием его мозга; я оставлю также в стороне все те человеческие моменты, которые явятся в последующем решающим критерием; ради любителей войны я решительно стану на животную точку зрения, готов допустить, что более сильный, лучше переваривающий пищу и более крепкий человек более пригоден к жизни, и задаю вопрос, наблюдается ли во время войны по крайней мере в этом направлении положительный отбор.
Поскольку речь идет о древних временах, есть, пожалуй, доля истины в том мнении, что на войне выживает более пригодный. Во-первых, в силу естественных причин отдельные орды, города или государства были тогда приблизительно одинаковой величины: права государства зависели от внешних условий и путей сообщения, которые, по-видимому, нигде существенно не отличались друг от друга.
Когда несколько таких оря городов или государств сталкивались на войне, то (так как количественная разница не играла роли) с самого начала казалось вероятным, что решающим окажется начало качественное, т. е. что победит более пригодный (или лучший). Последний избивал всю массу побежденных (следовательно, не только выступившие на поле брани отборные элементы, но и пребывавшие дома «остальные») или уводил ее в плен; вражеских женщин он либо также умерщвлял, либо насиловал их, создавая таким путем особое «поколение победителей». Подобная, вызванная стремлением к похищению женщин или, во всяком случае, кончавшаяся им борьба являлась в известном смысле даже биологически необходимой: она предупреждала вредные последствия браков между ближайшими родственниками, которых иначе не избегли бы жившие небольшими ордами люди.
Этим варварским, но вполне целесообразным способом ведения войны действительно достигалось то, что физически более слабые устранялись, и хотя можно оспаривать степень пригодности такого рода отбора и считать более целесообразными иные формы его, однако в те времена война не представляла собой отрицательного отбора. Ныне же такой отбор стал отрицательным, и правила ведения современных войн с большим искусством устраняют всякую биологическую пользу от войны. «Всеобщая воинская повинность» особенно вредно отражается именно на наилучших индивидах. На попечении государства остаются дети и старики, затем слепые, глухонемые, полоумные, горбуны, худосочные, идиоты, слабосильные, паралитики, эпилептики, карлики, уроды. Весь этот минус человеческой породы может быть спокоен: в него не попадут пули, и, пока молодые, храбрые, сильные мужчины гниют на поле брани, эти люди могут спокойно сидеть дома и лечить свои недуги.
Выживают и морально менее ценные элементы. Во-первых, по принципиальным соображениям, все заключенные в тюрьмах; затем все трусы, потому что с различными тонкими ухищрениями по части уклонения от военной службы даже самый опытный военный врач, в конце концов, ничего не может поделать. Подобные люди, раз они уже попадут в армию, несут совершенно безопасную службу (в качестве писцов, этапных комендантов и т. п.) или слоняются по лазаретам. В большинстве случаев, впрочем, они добиваются полного освобождения от воинской повинности. Для достижения этой цели они прибегают к рискованнейшим средствам, иногда надолго подтачивающим их здоровье. Подобно тому как солдат нередко из трусости не боится смерти, так этот сорт «антимилитаристов» не останавливается даже перед самоубийством.
Ввиду того, что за мною «также» установилась репутация антимилитариста и я был одновременно врачом, мне было предоставлено сомнительное преимущество глубже проникнуть в тайники и пути многих из этих душ. Ни разу мне не удалось ссылкой на собственный пример уяснить этим людям, что единственно достойный путь – это открыто отказаться от военной службы и присяги. Эти наблюдения чрезвычайно удручали меня. Среди нынешних противников войны найдутся, быть может, весьма храбрые люди, но, несомненно, вместе с тем и отъявленнейшие трусы.
Для находящихся в тылу война является, следовательно, своего рода страхованием жизни: эта «гвардия калек», как физических, так и нравственных, которая в мирное время, при свободной конкуренции со своими более пригодными соперниками, едва могла существовать, получает теперь самые выгодные места и хорошо оплачивается.
Быть может, еще хуже, что пребывающая в тылу непригодная половина мужского населения получает благодаря войне чрезвычайно солидные и длительные выгоды. Оставшийся дома присяжный поверенный или врач может и не быть непригодным; но если даже он относится к категории последних, он, само собою, приобретает клиентуру своего поневоле покинувшего насиженное место коллеги; оставшийся дома купец приобретает заказчиков своего биологически, быть может, более ценного конкурента, ушедшего на фронт.
Тем самым, однако, часто экономически непоправимо страдает вся здоровая часть населения, хотя бы она вернулась с войны невредимою. Правда, эти люди живы, но, вместе с тем, они как бы умерли: они оторваны от нормальной работы и обычной деятельности; кроме того, на них отныне ложится также забота о поддержании вернувшихся с войны инвалидов, о сиротах и вдовах убитых на войне. Таким образом, причиненный стране биологический ущерб не поддается даже учету. К тому же нельзя забывать и того, что «ущемленный интеллигент» почти неизбежно превращается в недовольного гражданина, а это, конечно, также невыгодно для общей массы населения.
Далее: среди солдат война также пожинает свою жатву не слепо; и на войне более храбрые и толковые люди привлекаются к более трудным, а потому и более опасным операциям, почему они и гибнут в большом числе. Между тем у них едва ли имеется, как это было раньше, возможность ограждать себя благодаря своей большей ловкости от опасности, потому что пуля настигает всякого. Короче говоря, если бы война затянулась, она автоматически привела бы к тому, что ведущий войну народ всецело превратился бы в массу малоценных элементов, исключая разве немногих «высших военачальников», которые обычно не столь подвержены опасностям войны, как все прочие.
К этому присоединяется еще следующее обстоятельство: оставшиеся дома слабоумные и болезненные соотечественники обзаводятся потомством, – притом у народа, войска которого находятся на вражеской территории и который, следовательно, собирается выйти из войны «победителем», почти исключительно своими силами, тогда как у другого народа, в стране которого находится неприятель, по крайней мере некоторая, довольно значительная, доля этого грядущего поколения создается более сильной «военной породой».
Об этом можно было бы сказать еще многое. Но и изложенного вполне достаточно. Ни один здравомыслящий человек не усомнится в том, что прямым следствием настоящей войны явится в первую очередь непоправимое ухудшение физических свойств всех участников борьбы, у победителей, по меньшей мере, в такой же степени, как и у побежденных.
Влияние войны на интеллект
Мы уже показали, что развитие человека зависит в общем от развития его мозга и что мозг, в свою очередь, в известном смысле свободен и, прежде всего, может самодеятельно развиваться. Из этого вытекает, что благодаря деятельности своего мозга человек в состоянии оказывать определенное влияние на развитие своей породы. Эту способность свободного, разностороннего развития, отсутствующую у животных, мы называем человеческой свободой.
Вышеизложенное является лишь натуралистическим обоснованием присущего всем людям естественного свойства. Это обоснование, однако, не совсем излишне и разъясняет нам единственное, обусловливаемое возникновением этой свободы, ограничение: если дело идет о специфически человеческом развитии, то развитию мозга следует содействовать.
Это можно выразить таким образом: каждая победа умных над глупыми знаменует прогресс, есть признак положительного отбора; каждая победа глупцов над умными знаменует регресс, есть признак отрицательного отбора (Новиков). Можно совершенно определенно сказать, что там, где решающим моментом является насилие (будь то грубое насилие пушки или столь же грубое насилие нетерпимости), там победа умного, т. е. положительный отбор по мозговым квалификациям, встречает преграды. Поэтому решение всякого недоразумения насильственными средствами должно быть с натуралистической точки зрения отвергнуто.
Таков единственный вывод, какой можно, по-видимому, не без основания сделать из факта победоносной войны. Некоторые полагают, однако, что лица, с успехом занимающиеся избиением ближних, могут творить великое и в области культуры. Это, конечно, хотя и мыслимо, но мало вероятно.
Подобную точку зрения отстаивает, пожалуй, наиболее последовательно д-р С. Р. Штейнметц (Steinmetz: «Philosophie des Krieges», 1907). Он заявляет, что победа – удел не только одного положительного свойства, одной добродетели, а как бы целой суммы их; сюда он относит верность, чувство солидарности, выдержку, совестливость, образование, бережливость, богатство, физическое здоровье и силу.
Ниже нам придется еще коснуться вопроса о том, существует ли подобная связь между специфически военными и общечеловеческими добродетелями. Тут же мы отметим только, что аргументация победителей сводится просто к признанию добродетелью того, что способствует победе. Ведь фактически все названные качества представляют собой отнюдь не абсолютные, а лишь относительные преимущества, превращающиеся в добродетели или в пороки, смотря по связываемой с ними цели: можно оставаться верным как хорошему, так и дурному, можно быть солидарным как с хорошим, так и с дурным, и т. п.
Таким образом, все перечисленные Штейнметцем добродетели представляются таковыми лишь тому, кто в войне и ее результатах усматривает благо; если же стоять на противоположной точке зрения, то они превращаются в пороки. Выше было уже установлено, что консерватизм воинственных инстинктов человечества теперь уже не признается положительным качеством; в равной мере должно быть отвергнуто чувство солидарности небольших групп, тормозящих солидарность всего человечества (например, патриотов).
Характерно, что в перечне Штейнметца отсутствуют такие добродетели, как любовь и правдивость, к которым неприложимо понятие относительности. Впрочем, и в отдельности «добродетели» оцениваются различно, в зависимости от положения лица, производящего оценку. Побежденный никогда не согласится с тем, будто победу обеспечивают верность и совестливость. Можно удивляться утверждению, будто бережливость способствует победе: в настоящее время, говорят, победа достанется тому, кто потратит больше денег на гранаты и снаряды. Но Штейнметц имеет в виду не бережливость во время войны, а экономию в мирное время. В этом пункте с ним, разумеется, можно согласиться. Трудно, однако, допустить, что добродетель заключается в сокращении расходов на образовательные и культурные цели (единственная область, в которой воинствующее государство может экономить).
Характерно, что Штейнметц забывает о мужестве. И в самом деле, в настоящее время оно не причисляется к военным доблестям. Такое обесценение мужества косвенно подтверждают и те, которые в пароксизме воодушевления заявляют, что сейчас исключительных героев нет, что ныне все – герои. Кому известно, как редко встречаются мужественные люди, тот знает и цену такому уверению. Подобно тому как организация генерального штаба поглощает единичных стратегов, так и окопы поглощают отдельных героев.
Было время, когда храбрость была добродетелью; теперь оно миновало: мужество – свойство индивидуальное, и чем больше отдельная особь, пребывающая в рядах современных исполинских армий, превращается в простой номер, тем скорее исчезает там и личное мужество, находящее лишь в других областях почву для своего развития.
Если сейчас и существует доблесть в военном деле, то это – организационный талант. Железные дороги и транспорт должны быть поставлены безукоризненно. Необходимо позаботиться о снарядах, о продовольствии и о тысяче других нужных вещей. Но здесь сказывается как раз правильность вышеприведенного общего соображения: организаторский талант, сам по себе, отнюдь не добродетель, а только ее форма; добродетелью он становится лишь благодаря своему содержанию, т. е. той цели, какую он преследует.
Мы организовали войну для истребления других, и все, кто считает истребление добродетелью, могут быть довольны. А кто усматривает добродетель в созидании, тот потребует, чтобы этот испытанный организаторский талант был использован для творческой деятельности. Во времена Фридриха II или Наполеона можно было бы еще представить себе добровольно сражающегося культурного человека. В наши дни это уже немыслимо.
Разделение труда придало культуре и военному искусству столь исключающие друг друга формы, что в настоящее время соединение их просто невозможно. Нам кажется странным, в нас вызывает чувство неловкости тот факт, что раньше, когда это было бы, пожалуй, и уместно, ни одному культурному человеку не пришло бы в голову принять участие в войне; лишь теперь, когда дифференциация общества достигла своего апогея, была придумана всеобщая воинская повинность, совершенно зря подвергающая наиболее культурного человека тем же опасным случайностям, что и ландскнехта, по самой природе своей предназначенного для военного ремесла.
Однако культурные люди настолько забывают о своих обязанностях по отношению к отечеству и человечеству, что добровольно лезут на арену борьбы и с воодушевлением кричат о своей готовности умереть. Еще в 50-х годах великий поэт Шарль Бодлер писал своему другу Пьеру Дюпону, который на первый полученный им за стихи гонорар нанял себе заместителя по военной службе: «Утешительно, что непрактичная муза хоть раз сделала нечто полезное» (Paul Fort. «Les poetes de la guerre en France», Journal de Geneve, 16/X, 1916). В настоящее время такой взгляд на вещи почти непонятен, и Поль Фор заявляет совершенно в духе большинства: «Нечто подобное теперь, слава Богу, невозможно». Люди, однако, забывают, что истинное воодушевление возможно лишь в связи с созиданием жизни. Жизнь же говорит, что всякий пригоден лишь на своем месте: солдат не на Пегасе, поэт не в окопах.
В противном случае получилось бы то же самое, что при попытке сотворить скелет человека из клеточек мозга. Результатом такой процедуры было бы лишь уничтожение последних и сохранение одного только костяка. Такого рода отбор и произведет современная война: люди мозга погибнут, останутся только люди костей. Конечно, и это своего рода отбор, но отнюдь не прогрессивный, требующий усовершенствования человеческого мозга. Удачен отбор только в том случае, если он содействует развитию таланта и культуры.
Если мы общим взглядом окинем всю область истории, то бросится в глаза культурное превосходство миролюбивых народов. Из всех известных нам народов наиболее культурными, в широком смысле этого слова, были греки, и хотя в случае необходимости, т. е. когда их культура подвергалась угрозе уничтожения, они сражались весьма недурно, все-таки их никак нельзя назвать воинственными; во всяком случае, они были не столь воинственны, как те племена, с которыми они боролись и которых они (что весьма важно) побеждали.
Вообще миролюбивые племена, в силу своего более высокого умственного развития, часто одерживали верх над воинственными народами. Среди самих греков наибольшею воинственностью отличались спартанцы, а позже македоняне. Они же были и наименее культурными греками. Римляне, наоборот, отличались воинственностью, но для процветания культуры они сделали мало.
Но правильно ли, что война в состоянии физически укрепить народ? Швейцарцы и англичане долгое время не вели войн и все-таки остались физически крепкими и воинственными народами. Наоборот, турки и французы всегда считались наиболее воинственными в Европе нациями, а между тем и те и другие считаются вымирающими. «Больной» на Босфоре стал в такой же степени притчею во языцех, как и «вырождающийся француз».
В качестве наиболее яркого примера во всех учебниках приводится «зимовка Ганнибала в Капуе». С тех пор как Ливий заявил, что в этом «центре разнузданности» войска Ганнибала изнежились, все с уверенностью повторяют это вслед за ним. Как? Неужели эта армия, имевшая за собою многолетние войны в Испании, с оружием в руках пробившая себе путь к беспримерно трудному переходу чрез покрытые льдами и снегами альпийские перевалы (причем, как говорят, там погибла одна треть ее), одержавшая затем, в ближайший же год громкие победы на Тичино, на Требии и на Тразименском озере, а в следующем году прославившаяся своими блестящими успехами в грандиознейшей, быть может, в мировой истории битве при Каннах, – неужели такая армия за одну зиму своего пребывания в Капуе настолько изнежилась, что Марцелл мог без всякого труда разгромить ее под Нолой? По-видимому, прав Жан-Поль Рихтер, заявивший: «Укрепление человека на войне не прочнее крахмаления белья».
Если же это действительно так, если даже полугодичный мир может лишить испытанное на войне войско всей его мощи, и если мы, во избежание подобного положения вещей, должны ежегодно воевать, по крайней мере, дважды, то цена такого достижения представляется нам все-таки слишком дорогой: большинство людей охотнее откажется от такой закалки, чем жить в состоянии беспрерывной войны.
Однако, быть может, вовсе не Капуя, а предшествовавшая захвату ее война ослабила воинственность армии Ганнибала? Все военные писатели сходятся в том, что солдаты по истечении известного периода войны (от 6 до 12 месяцев) достигают апогея своей выносливости и пригодности. В большинстве случаев предполагается, что воин за указанный период времени несколько отвыкает от обычной дисциплины и усваивает ряд приемов, которые дают ему возможность искуснее и легче, чем то делает храбрый, но не испытанный в боях новичок, преодолевать опасности.
К этому присоединяется еще момент отрицательного отбора. В силу последнего армия с течением времени естественно лишается своих наиболее ценных элементов. Знаменитый маршал фон дер Гольц пишет по этому поводу: «Смерть, понятно, собирает наиболее обильную жатву среди лучших воинов: храбрейшие всегда впереди, и их прежде всего настигают пули. Никто не станет поэтому отрицать, что ценность армии понижается после каждого боя. Кроме того, войска, месяцами находящиеся на фронте, перенесшие всевозможные тяготы и лишения, истощенные трудными переходами и сыростью ночных бивуаков, в значительной мере чувствуют понижение пыла своей воинственности. Свободными от всех этих влияний остаются лишь натуры избранные, но отнюдь не общая масса. Люди, не знающие войны, обычно игнорируют это обстоятельство; они представляют себе „ветеранов“ переходящими со всевозрастающей храбростью от боя к бою, думают, что ежедневно укрепляются их презрение к смерти и их опыт, и полагают, что им становится все легче и легче вплетать новые лавры в свои венки победителей.
Между тем совершенно невозможно неизменно оставаться героем в течение ряда месяцев, когда приходится драться почти ежедневно, при постоянно возобновляющихся опасностях, когда весь день топчешься в грязи дорог, а ночи проводишь на сырых стоянках Правда, юноша преисполнен отваги в ожидании первого боя. Военная жизнь представляется ему неведомым царством, овеянным ореолом романтики. Здесь он ищет опасности и приключения, к которым его тянет. Но обстоятельства совершенно меняются после того, как ему пришлось пережить два, три, десять, двенадцать сражений, удалось достичь желанной славы и сознания, что в роковой час он исполнил свой долг, презрев опасность смерти. Невольно в его груди возникает тогда желание, чтобы всему этому наступил скорее конец и чтобы приобретенным им на войне богатым опытом можно было спокойно наслаждаться дома».
Последние года Семилетней войны и участь Наполеона подтверждают правильность этого взгляда. Таким образом, по мнению компетентных специалистов-военных, сама война постепенно способствует разложению армий.
К этому присоединяется еще один, быть может, самый существенный момент, выявленный лишь последней русско-японской войной. Это могучая борьба народов впервые обратила наше внимание на прямо-таки беспримерное расстройство всей нервной системы, являющееся спутником современной войны, быть может, в гораздо большей мере, чем прежних войн. Одним из первых отметил это влияние не военный (и не врач), а молодой русский писатель Леонид Андреев. В своем произведении «Красный смех» он нарисовал потрясающую картину того, как надламывает война людей и как утрачивают они способность переносить тысячи ужасов длительной войны.
Андреев убежден, что мощь России разбилась об этот красный смех, распространившийся по обширной территории России. С Андреевым соглашались, но утешали себя мыслью, что подобная неустойчивость нервов – специфическое свойство мягкой славянской души. Бенгеффер выступил с публичною речью, в которой совершенно отрицал реальность прежде столь часто употреблявшегося выражения «военный психоз». Правда, он хотел этим сказать только то, что вызываемое войною душевное расстройство человека ничем «не отличается от всех прочих душевных заболеваний, возникающих вследствие физического и психического напряжения и резких впечатлений». Но так как война представляет для большинства людей наиболее сильное физическое и психическое переживание, то не приходится удивляться тому, что именно война обычно пробуждает и усиливает ранее дремавшие в людях предрасположения к болезням.
Во всяком случае, все, кто имел возможность неоднократно наблюдать офицеров и солдат, вернувшихся с театра военных действий, прекрасно знают, что такое «красный смех». Очень часто обстановка походной жизни ведет к сумасшествию, и если дело и не доходит до психического расстройства, то все-таки отмечается болезненное состояние солдат: они долго не могут заснуть, ворочаются на койках; заснув же, терзаются тяжелыми, кошмарными сновидениями.