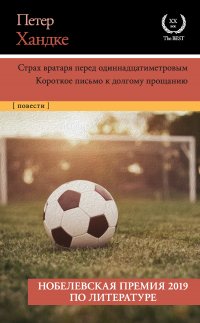Читать онлайн Короткое письмо к долгому прощанию бесплатно
- Все книги автора: Петер Хандке
Peter Handke
Der Kurze Brief Zum Langen Abschied
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main, 1972
© Перевод. М. Рудницкий, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
1. Короткое письмо
И однажды, когда теплым, но хмурым утром они вышли за ворота, Иффланд сказал: «Вот погодка, в самый раз из дому уйти!» А погода и впрямь благоприятствовала путнику, и небо льнуло к земле так низко, и все предметы вокруг темнели так смутно, что казалось, взгляду и вправду не за что больше уцепиться, кроме дороги, манившей в серую даль.
Карл Филипп Мориц «Антон Рейзер» [1]
Джефферсон-стрит – тихая улица в Провиденсе. Она обходит стороной деловые кварталы и только на юге города, уже под названием Норвич-стрит, впадает в шоссе на Нью-Йорк. Местами Джефферсон-стрит расширяется, образуя небольшие площади в окаймлении буков и кленов. На одной из таких площадей, Уэйланд-сквер, расположилось солидное здание в стиле английских особняков, отель «Уэйландская усадьба». Когда я приехал сюда – был конец апреля, – портье извлек из ячейки для ключей письмо и вручил его мне вместе с ключом. Прямо возле лифта – лифтер уже ждал – я надорвал конверт. Впрочем, он был заклеен наспех. Письмо было коротким. Вот оно: «Я в Нью-Йорке. Не советую искать меня, это может плохо кончиться».
Сколько себя помню, я всю жизнь только и знал, что пугаться и приходить в ужас. Дрова, раскиданные по всему двору в теплых солнечных бликах; меня вносят в дом, укрывая от американских бомбардировщиков; капли крови поблескивают на ступеньках бокового крыльца, где по субботам режут зайцев. В сумерки, особенно жуткие оттого, что они еще не стали ночью, я ковыляю, смешно болтая руками, вдоль опушки леса, уже погруженного в сон, и только замшелые стволы ближних деревьев светло мерцают мне навстречу. Иногда я останавливаюсь и что-то кричу, сперва стыдясь, жалобно и робко, а потом, когда уже нет сил стыдиться и скрывать страх, ору что есть мочи; я зову из глубины леса кого-то, кого люблю, кто утром ушел в лес и все еще не выбрался оттуда… И снова по всему двору, освещенному солнцем, плавают в воздухе, цепляясь за деревянные стены, пушистые перья разбежавшихся кур.
Я направился к лифту, старик негр посоветовал смотреть под ноги, чтобы не оступиться, и я, конечно, тут же споткнулся, входя в кабину. Негр аккуратно закрыл дверь и задвинул решетку, потом поворотом рычага привел лифт в движение.
Видно, рядом с пассажирским лифтом был грузовой: пока мы медленно тащились вверх, нас сопровождало ровное дребезжание – словно везли чашки, составленные одна на другую. Я оторвался наконец от письма и начал изучать лифтера, который, свесив голову, стоял в темном углу. Он ни разу не взглянул в мою сторону, только белая рубашка мерцала из-под темно-синего форменного кителя… Внезапно, как это часто со мной бывает, когда я не один и воцаряется гнетущая тишина, мне совершенно явственно привиделось: обезумевший негр кидается на меня. Я вынул из кармана плаща газету, купленную утром в Бостоне, и, тыча пальцем в заголовки, попытался объяснить лифтеру, что теперь, после изменения курса доллара в ряде европейских стран, мне хочешь не хочешь придется истратить все свои доллары здесь, в Америке, иначе при обратном обмене в Европе я много потеряю. Лифтер вместо ответа указал на стопку газет под скамьей – сверху на ней лежала мелочь, вырученная за проданные экземпляры, – и понимающе кивнул: номера «Провиденс трибьюн» украшали те же заголовки, что и мою «Бостон глоб».
Радуясь, что так легко удалось заручиться расположением лифтера, я нащупал в кармане брюк купюру, чтобы в номере, как только он поставит чемодан, сразу дать ему на чай. В номере, однако, я с изумлением обнаружил у себя в руке десять долларов. Я переложил десятку в другую руку и, не вынимая пачки денег из кармана, принялся искать бумажку в один доллар, нащупал и не глядя протянул лифтеру. Оказалось, это пять долларов, и они исчезли в кулаке негра мгновенно. «Я пока не успел здесь снова освоиться», – громко сказал я себе, оставшись один. Не снимая плаща, я прошел в ванную и бессмысленно долго разглядывал не столько себя в зеркале, сколько само зеркало. Заметив наконец несколько волосков на плаще, я сказал: «У меня, значит, в автобусе волосы повылезали». Тут от изумления я сел на край ванны, ибо понял, что снова разговариваю сам с собой: прежде такое случалось давно, в детстве. Но если ребенком я говорил сам с собой, чтобы выдумать себе общество и собеседников, то сейчас, здесь, где мне больше всего хотелось смотреть вокруг и меньше всего – в чем бы то ни было участвовать, – здесь я никак не мог объяснить себе этого странного явления. Я не удержался и захихикал, а потом, словно от избытка мальчишеского озорства, даже стукнул себя кулаком по лбу, да так, что едва не свалился в ванну.
Пол в ванной комнате вдоль и поперек был выложен широкими, светлыми, напоминавшими лейкопластырь полосами – очевидно, чтобы не поскользнуться. Между созерцанием этого лейкопластыря и возвращением детской привычки внезапно возникла связь, столь прочная и столь непостижимая, что я перестал хихикать и поспешно вышел из ванной.
Прямо перед окном, из которого открывался вид на просторный парк с рассыпанными здесь и там домишками, росли стройные березы. Листья на деревьях едва пробились, солнце просвечивало сквозь них. Я поднял фрамугу, пододвинул кресло к окну и сел; ноги я положил на батарею, еще не остывшую с утра. Кресло было на колесиках, я катался на нем взад-вперед, рассматривая конверт. Светло-голубой фирменный конверт с напечатанным на оборотной стороне адресом: Отель «Дельмонико», Парк-авеню, 59-я улица, Нью-Йорк. Но на почтовом штемпеле значилось: Филадельфия, штат Пенсильвания. Письмо отправлено оттуда уже пять дней назад. «Вечером», – произнес я вслух, разглядев на штемпеле две буквы, сокращенно обозначающие вечернюю почту.
«Откуда у нее деньги на путешествие? – спросил я. – У нее, наверно, куча денег, там меньше тридцати долларов за номер не берут». Отель «Дельмонико» я знаю больше по мюзиклам: незадачливые фермеры пляшут прямо на улице, влетают оттуда в шикарный зал, а потом, сбившись в тесном отдельном кабинете, неловко что-то едят. «Но ведь она не умеет обращаться с деньгами – во всяком случае, как нормальные люди. Она так и не избавилась от детской страсти всем меняться, деньги для нее в буквальном смысле только средство обмена. Больше всего она радуется тому, что можно легко израсходовать или на худой конец быстро обменять, а деньги доставляют ей оба эти удовольствия сразу». Я снова взглянул за окно: вдалеке была видна церковь, в дымном мареве хлопчатобумажной фабрики она казалась еще более отдаленной. Судя по плану города, это баптистская церковь. «Письмо шло очень долго, – произнес я. – А вдруг тем временем ее убили?» Помню, сумерки, почти вечер, я ищу мать, бродя по скалам. У нее бывают приступы депрессии, и я боюсь за нее: вдруг, чего доброго, она бросится со скалы или просто сорвется. Я стою на вершине и смотрю вниз, на поселок, где уже синеют сумерки. Ничего особенного я не вижу, только две женщины, поставив на землю сумки с покупками, что-то обсуждают, точно в испуге, и тут к ним подходит мужчина; эта сцена заставляет меня снова и снова лихорадочно обшаривать взглядом выступы скал, нет ли на них обрывков платья. Я не могу разжать губы, воздух делается вдруг колким, больно дышать; от страха во мне будто все обрывается… Внизу, на улице, светили фонари, проехало несколько машин с зажженными фарами. Наверху, на скале, совсем тихо, только цикады звенят. Я все больше ощущаю тяжесть собственного тела. Вот уже и на бензоколонке у въезда в поселок зажегся свет. Но ведь еще светло! Люди идут по улице быстрее обычного. Так и стоял я на вершине, переминаясь с ноги на ногу, пока не заметил фигуру, двигавшуюся очень медленно, гораздо медленней других. И по этой походке я узнал мать, которая в последнее время все делала очень медленно. Она переходила улицу, но не поперек, а наискось, пересекая ее по долгой диагонали.
Я подкатился на кресле к ночному столику и попросил соединить меня с отелем «Дельмонико» в Нью-Йорке. Юдит нашли в списке постояльцев только после того, как я назвал ее девичью фамилию. Она уже пять дней как уехала, не оставив адреса; между прочим, она забыла в номере фотоаппарат: не переслать ли его на ее европейский адрес? Я ответил, что завтра буду в Нью-Йорке и заберу аппарат сам.
– Да, – повторил я, положив трубку, – ее супруг.
И быстро, чтобы не захихикать снова, переехал обратно к окну.
Не вылезая из кресла, я стянул плащ и перелистал дорожные чеки, которые, наслышавшись о здешних ограблениях, получил в Австрии в обмен на наличные. Служащий банка, правда, обещал принять чеки по тому же курсу, но введение плавающего курса, естественно, освобождает его от этого обязательства. «На что же мне целых три тысячи долларов?» – подумал я вслух. И тут же ни с того ни с сего решил потратить все деньги здесь – хотя менять такую сумму было сущей блажью – и пожить бездельником в свое удовольствие. Я еще раз позвонил в отель «Дельмонико» и попросил номер на завтра. Выяснилось, что свободных мест нет, и мне тут же пришло в голову заказать номер в отеле «Уолдорф-Астория», но, едва начав переговоры, я снова передумал и, вспомнив о Фрэнсисе Скотте Фицджеральде, книгу которого как раз читал, попросил номер в отеле «Альгонкин» на 44-й улице – Фицджеральд часто там останавливался. Там и место свободное нашлось.
Потом, включая воду в ванной, я вдруг сообразил, что Юдит просто-напросто сняла все деньги с моего счета. «Не надо было давать ей доверенность», – произнес я задумчиво, хотя догадка эта ничуть меня не расстроила, наоборот, даже слегка развеселила. Было любопытно – но только в первую минуту, – чем все обернется; потом я вспомнил, какой видел ее в последний раз: это было вечером, она лежала, вытянувшись на кровати, заговорить с ней было уже невозможно, она так взглянула на меня, что, направившись к ней, я застыл на полдороге, ибо уже ничем не мог ей помочь.
Я уселся в ванну и дочитал «Великого Гэтсби» Фрэнсиса Скотта Фицджеральда. Это история любви, в ней рассказывается, как один человек купил себе дом на берегу бухты только для того, чтобы каждый вечер видеть свет из окон дома на другом берегу бухты, где любимая женщина жила с другим мужчиной. Насколько одержим был Великий Гэтсби своим чувством, настолько же он был и стыдлив; женщина же, чем неуемней и чем бесстыдней становилась ее любовь, вела себя все более трусливо.
«Конечно, – проговорил я, – я застенчив. Но в чувствах к Юдит я просто трус. Я всегда боялся быть с ней откровенным. Теперь я все яснее вижу, что стыдливость, которой я даже гордился, веря, что она помогает все терпеливо сносить, оборачивается самой обыкновенной трусостью, когда я делаю ее мерилом своей любви. Великий Гэтсби стыдлив только в манере выражения своей любви, а любовь эта неистова, он одержим чувством. Он вежлив. Вот и я хочу быть таким же вежливым и таким же безоглядным в любви. Если еще не поздно».
Не вылезая из ванны, я открыл слив. Вода стекала очень долго, и, пока я сидел, откинувшись и закрыв глаза, мне чудилось, будто вместе с усыпляющим журчанием воды и я сам делаюсь все меньше и меньше и в конце концов полностью растворяюсь. Вода сошла, мне стало холодно, только тогда я очнулся и встал. Вытираясь, я оглядывал свое тело, прикосновение полотенца возбуждало меня. Сперва через полотенце, потом просто рукой я начал мастурбировать. Это длилось невыносимо долго, иногда я открывал глаза и смотрел на матовое окно ванной комнаты; тени березовых листьев трепетали на белом стекле. Когда наконец изверглось семя, колени у меня подломились. Потом я снова ополоснулся под душем, вымыл ванну и оделся.
Я долго лежал на кровати, безуспешно пытаясь хоть что-то себе представить. Сперва было почти больно, потом приятно. В сон меня не клонило, но и думать ни о чем не хотелось. Невдалеке за окном слышались не то щелчки, не то удары и крики студентов, игравших в бейсбол на спортплощадке Браунского университета.
Я встал, выстирал гостиничным мылом пару носков, потом спустился в вестибюль. Лифтер, подперев голову руками, сидел возле лифта на скамеечке. Я вышел на улицу. Вечерело. Таксисты на площади переговаривались друг с другом через окна машин и наперебой зазывали меня. Когда они остались позади, я отметил про себя, что не откликнулся на их предложения ни словом, ни жестом, и эта мысль мне приятно польстила.
«Ну вот, ты уже второй день в Америке, – подумал я, сошел с тротуара на мостовую и снова ступил на тротуар. – Интересно, изменился ли ты за это время?» Против воли я на ходу оглянулся, потом нетерпеливо посмотрел на часы. Случалось, иная книга пробуждала во мне жадное желание наяву пережить прочитанное; так и сейчас Великий Гэтсби требовал, чтобы я немедленно, во что бы то ни стало преобразился. Потребность сделаться иным, перестать быть самим собой ощутилась вдруг почти телесно, как вожделение. Я попробовал представить, возможно ли в нынешнем моем положении выказать и применить те чувства, что поселил во мне Великий Гэтсби, – сердечность, предупредительную внимательность, спокойную радость и счастье. И вдруг понял, что с помощью этих чувств смогу навсегда вытравить из сознания свой страх, свою вечную готовность к испугу. Я могу испытывать эти чувства, и главное, они применимы – мне никогда больше не придется обмирать от страха! Но где же, где те люди, которым я смог бы наконец показать, что умею быть другим? Прежнее свое окружение, родных, знакомых, я до поры до времени оставил, а в здешнем, чужом мире я просто некая личность, которая расхаживает по улицам, пользуется общественными учреждениями, ездит в городском транспорте, живет в гостиницах, коротает часы в барах и ни для кого ровным счетом ничего не значит. Да я и не хочу ничего значить, ведь тогда снова пришлось бы прикидываться. Мне казалось, что я наконец-то избавился от привычки обращать на себя внимание окружающих, «подавать себя», дабы этого внимания удостоиться. И все же, чем сильнее влекло меня к людям, чем больше хотелось быть открытым для них, тем пугливее увиливал я от всякого, кто шел по тротуару навстречу; мне тягостно видеть чужие лица, я испытываю все то же застарелое отвращение ко всему, что вне меня, что не есть я сам. И хотя за то время, что я брел по Джефферсон-стрит, мысль о Юдит один раз все-таки навестила меня (чтобы отогнать ее, пришлось сделать выдох и даже короткую пробежку), сознание мое оставалось безлюдным, и меня бросило в жар от ярости, ярости столь лютой, что она граничила с жаждой убийства, и столь же безысходной, ибо я не умел направить ее ни против себя, ни против чего-либо иного.
Я шел переулками. Уже зажглись фонари, в их свете небо казалось особенно голубым. Под деревьями в бликах заходящего солнца ослепительно зеленела трава. В палисадниках цветы на кустах плакуче клонились к земле. Неподалеку за углом хлопнула дверца длинного американского лимузина. Я повернул обратно на Джефферсон-стрит и в погребке, где не подавали спиртного, выпил имбирного пива. Дождавшись, когда два кубика льда растают на дне кружки, я допил и эту водицу, после сладкого имбиря она приятно горчила. На стене возле каждого столика щиток с кнопками, можно, не сходя с места, включать музыкальный автомат. Я бросил в прорезь монетку в двадцать пять центов и выбрал «Sitting On The Dock Of The Bay» [2] Отиса Реддинга. Думал я при этом о Великом Гэтсби и ощутил вдруг, что уверен в себе как никогда, я почти себя не помнил от самоуверенности. Мне непременно удастся многое переиначить. Меня узнать будет нельзя! Я заказал бифштекс по-гамбургски и кока-колу. Тут я почувствовал, что устал, и зевнул. Но в середине зевка где-то во мне возникла жутковатая пустота, которая тотчас же заполнилась иссиня-черной травянистой порослью, и, как в повторяющемся кошмаре, на меня навалилась мысль, что Юдит мертва. Образ поросли обозначился еще четче, когда я взглянул на улицу: в дверном проеме сгущалась тьма, и внезапно к горлу подкатила такая дурнота, что я точно одеревенел. Есть я уже не мог и только пил мелкими глотками. Заказал еще один бокал кока-колы и остался сидеть, прислушиваясь к стуку своего сердца.
Я был сам не свой; дурнота и потребность стать другим, избавиться от всего прежнего наполняли меня нетерпением. Казалось, время тянется невыносимо медленно – я не удержался и снова взглянул на часы. Снова этот мой застарелый психоз – чувство времени. Несколько лет назад, помню, я наблюдал за одной толстухой: она купалась в море, и я пристально смотрел на нее через каждые десять минут, ибо совершенно искренне был уверен, что за эти десять минут она хоть немножко похудеет. Вот и сейчас я снова и снова вглядывался в лицо мужчины, на лбу у которого багровела царапина, чтобы удостовериться, не зажила ли она наконец.
У Юдит нет чувства времени, подумал я. Она, правда, не забывает о назначенных встречах, но всегда и всюду ужасно опаздывает, прямо как женщины из анекдотов. Она просто не чувствует, когда наступает время. Она редко представляет себе, какой сегодня день. Всякий раз, когда ей сообщают, который час, она приходит в ужас; я же, наоборот, чуть ли не каждый час бегаю к телефону проверить время. Она то и дело спохватывается: «Ой, уже так поздно!» И никогда не скажет: «Ах, еще так рано!» Она просто не может взять в толк, что когда-нибудь настанет время сделать что-то. «Наверно, это оттого, что ты с детства часто переезжала и жила в стольких разных местах, – объяснял я ей. – Ты помнишь, где была, но никак не можешь усвоить, когда это было. У тебя, кстати, есть чувство пространства, ты лучше меня ориентируешься, мне ведь ничего не стоит заблудиться. А может, причина в том, что ты слишком рано начала работать и у тебя был строгий рабочий день – от и до. Но по правде говоря, я уверен, ты не чувствуешь времени просто потому, что не чувствуешь людей, не разбираешься в них».
На это она отвечала: «Нет, это не так, я не могу разобраться только в себе самой». – «А еще ты ничего не смыслишь в деньгах», – говорил я, но она и тут возражала: «Нет, не в деньгах, а в числах». – «Да и от твоего чувства пространства тоже свихнуться можно, – продолжал я. – Когда тебе надо перейти к дому на той стороне улицы, ты говоришь, что тебе надо зайти вот в этот дом. Мы давно уже вышли из подъезда, но послушать тебя – так машина все еще стоит на улице. А если ты не дай бог подъезжаешь к городу и дорога идет вниз, по-твоему, выходит, что мы едем в гору – и все только потому, что дорога ведет на север…»
А ведь, наверно, именно гипертрофированное чувство времени и связанное с ним постоянное самокопание, подумал я, мешает мне достичь той раскованности, свободной сосредоточенности и ровной предупредительности, к которым я стремлюсь.
Я даже встал – настолько смешным было воспоминание. Просто встать, безмятежно подойти к кассе, сунуть счет, не говоря ни слова, положить деньги – вот чего мне захотелось в эту минуту. Еще мне доставила удовольствие сама мысль, что мне почти ничего не нужно менять в своем поведении, чтобы это проделать. Энергичное, а потом и веселое отвращение ко всем категориям, дефинициям и абстракциям, которые только что занимали мои мысли, вынудило меня даже ненадолго остановиться у выхода. Я попытался рыгнуть; кока-кола помогла. Толстощекий студент с коротко остриженными волосами, с жирными ляжками – он был в шортах и в спортивных тапочках – столкнулся со мной в дверях, и я в ужасе отпрянул от него, ошеломленный мыслью, что вот ведь когда-нибудь найдется человек, которому взбредет на ум шальная идея сказать нечто обобщенное об этом индивиде, попытаться его типизировать и объявить представителем чего-то. Ни с того ни с сего я сказал: «Привет!», нахально уставился на него, и он тоже поздоровался. Лицо его запечатлелось как образ, неожиданно подлинный и живой, и внезапно я понял, почему с некоторых пор люблю читать только простые истории про самых обыкновенных людей. Или вот эта женщина, кассирша в закусочной! Крашеная блондинка, но, видно, красилась она давно: у корней проступали черные волосы. Рядом с кассой она неизвестно зачем выставила маленький американский флаг. И все. И ничего больше. В моем воспоминании ее лицо высветилось и сделалось загадочно-своенравным, точно лик святой. Я еще раз оглянулся вслед толстому студенту: на спине его рубашки красовался портрет Эла Уилсона, солиста ансамбля «Canned Heat» [3]. Эл Уилсон был низенький упитанный паренек, лицо прыщавое, прыщи видны даже по телевизору, он носил очки. Несколько месяцев назад его нашли убитым в его собственном спальном мешке возле его же собственного дома в Лорел-Кэньон, под Лос-Анджелесом. Тонким, нежным голоском он пел «On The Road Again» [4] и «Going Up The Country» [5]. Его смерть иначе, чем смерть Джими Хендрикса и Дженис Джоплин [6], к которым я, как вообще к рок-музыке, относился все равнодушней, задела меня и до сих пор не давала покоя, а мысли о его короткой жизни, которую я только теперь начал понимать, часто мешали заснуть по ночам, врываясь в дрему толчками боли. Мне вспомнились две строчки, и по дороге к отелю я повторял их про себя на разные лады:
- I say goodbye to Colorado —
- It’s so nice to walk in California [7].
В подвале отеля рядом с парикмахерской был бар, я долго сидел там в полутьме и жевал хрустящий картофель; пил я текилу [8], барменша время от времени подходила ко мне с новым пакетиком картофеля и высыпала его на тарелку. За соседним столиком расположились двое мужчин, я прислушивался к их разговору, пока не понял, что это бизнесмены из Фолл-Ривер, городка неподалеку отсюда. Потом к ним подсела барменша; я изучал этих троих внимательно, но без любопытства. Втроем им было тесновато за одним столиком, но они, похоже, этого не замечали: раздвинув стаканы из-под виски, которые барменша, видно, не убирала умышленно, они затеяли игру в кости по правилам покера – комбинации выпавших чисел заменяли им карты. В баре было почти совсем тихо, только маленький вентилятор жужжал на стойке да позвякивали стаканы, когда костяшки стукались о них; из-за стойки слышалось шуршание магнитофона – перематывалась лента. Я заметил, что только теперь постепенно начинаю воспринимать окружающее без напряжения.
Барменша махнула, подзывая меня к столику, но только когда один из бизнесменов пододвинул свободный стул и указал на него, я подошел. Сперва я просто следил за игрой, потом сыграл разок, но больше не пробовал: кубики плохо меня слушались, то и дело падали под стол. Я заказал еще мексиканской водки, и барменша пошла к стойке за бутылкой, по пути включив магнитофон. Вернувшись, она взяла щепотку соли, посыпала на тыльную сторону руки, слизнула, несколько крупинок соли упало на стол. Она допила водку из моего стакана. На бутылке была этикетка: агава на фоне ослепительно желтых песков; магнитофон играл музыку из вестернов: мужской хор пел песню о кавалерии Соединенных Штатов, потом пение смолкло и стали слышны только звуки труб, как бы постепенно удалявшихся, а под конец замерли и они, и осталась лишь одна тихая мелодия, которую выводили на губной гармошке. Барменша рассказывала о сыне, который служит в армии; я попросил разрешения сыграть еще разок.
И тут, когда я выбрасывал кости, со мной произошла очень странная вещь: мне нужно было определенное число, и, когда я опрокинул стакан с костями, все кубики, кроме одного, тотчас же улеглись, но этот один продолжал крутиться меж стаканов, и вдруг посреди его вращения я увидел нужное мне число, которое то появлялось ненадолго, зыбко вспыхивая, то снова исчезало, пока кубик не остановился, выбросив совсем другое число. Но эта короткая вспышка нужного числа была настолько явственной, что мне казалось, будто число действительно выпало, но не сейчас, а В КАКОМ-ТО ИНОМ ВРЕМЕНИ.
Это иное время не было ни будущим, ни прошлым, оно по самой сути своей ИНОЕ, не то, в котором я обычно живу и в котором мысленно перемещаюсь туда и обратно. В этом ИНОМ времени непременно должно существовать и иное пространство, иные ландшафты, в нем все должно иметь иное, чем в нынешнем моем сознании, значение, и чувства там тоже не чета моим теперешним, да и сам я весь ощутил себя иным – словно наша необитаемая земля в тот бесконечно далекий миг, когда после тысячелетиями длившегося дождя на нее упала капля воды и впервые не испарилась в ту же секунду. Чувство это, едва промелькнув, было, однако, столь пронзительным и болезненным, что действие его еще раз ожило в коротком и равнодушном взгляде барменши. Мне этот взгляд показался долгим, немигающим, но и не навязчивым, просто бесконечно далеким, словно он поднимался из бездонных глубин и одновременно гас в них, полный отчаяния, рвущегося из зрачков; это был ищущий и до тихого вскрика тоскливый взгляд ИНОЙ женщины из ИНОГО времени. Значит, моя жизнь до сих пор – еще не все! Я посмотрел на часы, расплатился и отправился к себе в номер.
Спал я крепко и без сновидений, но ночь напролет всем телом предвкушая неминуемость счастья. Лишь к утру это чувство рассеялось, мне стали сниться сны, и пробуждение было скверным. Носки висели на батарее, полураскрытые шторы образовали косую щель. Шторы пестрели живописными сценами заселения Америки: сэр Уолтер Рэйли [9] восседал с сигарой в зубах в кресле-качалке на фоне своих плантаций; отцы-паломники, толпясь на палубе «Мэйфлауэра», высаживались в Массачусетсе; Бенджамен Франклин зачитывал Джорджу Вашингтону Конституцию Соединенных Штатов; капитаны Льюис и Кларк [10] во время своей экспедиции от Миссури на запад, к месту впадения реки Колумбии в Тихий океан, отстреливались от индейцев из племени «черноногих» (на рисунке один из индейцев стоял вдалеке на вершине холма, вытянув руку навстречу винтовочному стволу); а рядом с полем сражения при Аппоматоксе [11] Линкольн торжественно, откинувшись всем телом, протягивал руку негру.
Я раздвинул шторы, не взглянув в окно. Солнечные лучи упали на пол и согрели мои босые ступни. Я раскрыл квакерскую Библию, лежавшую на ночном столике. Хотя я не искал историю о Юдифи и Олоферне, она тут же попалась мне, причем именно на том месте, где Юдифь отрезает спящему Олоферну голову. «Мне она всегда только на ноги наступала, – пробормотал я, – или спотыкалась о них, перебираясь через меня». Она вообще то и дело спотыкалась. Ходила легко, грациозно и в то же время беспрерывно спотыкалась. Порхала вприпрыжку, пританцовывала, а потом спотыкалась снова. И порхала себе дальше, но не успевал я оглянуться, как она уже налетала на первого встречного или немного погодя поскальзывалась и укалывалась вязальными спицами, она вечно таскала с собой вязанье, хотя никогда ничего не довязывала до конца, а если и довязывала, то тут же распускала.
«При этом она ведь практичный человек, – продолжал я рассуждать сперва в ванной, пока брился, потом в комнате, одеваясь и собирая вещи. – Гвозди забивает, и ни один не погнется; ковры чистит, умеет клеить обои, кроить платья, даже скамейку смастерила однажды и вмятины на машине выправляла – вот только при этом она беспрерывно поскальзывается, спотыкается, наступает на все, и смотреть на такое выше моих сил. А ее жесты! Однажды она вошла в комнату, намереваясь выключить проигрыватель. Выглядело это так: она застыла в дверях, слегка вытянув голову в сторону проигрывателя. В другой раз позвонили в дверь, она подошла раньше меня, открыла и увидела письмо на половичке перед входом. Она и не подумала его поднять; прикрыла дверь, подождала, пока я подойду, и любезно распахнула ее, предлагая мне поднять конверт. У нее и в мыслях не было меня обидеть, но тут уж я не сдержался: рука сама дернулась – я ударил ее в лицо. К счастью, удар вышел смазанный. Потом мы опять помирились».
Я расплатился чеком и на такси, которые здесь, в Провиденсе, были еще не желтого цвета, а черные, как в Англии, поехал на автовокзал.
Пока в междугородном автобусе я проезжал через Новую Англию, у меня было время… «Для чего?» – подумал я. Смотреть в окно мне вскоре наскучило – цветные стекла затемняли вид окружающей местности. Иногда автобус останавливался у пунктов дорожного налога, и водитель прямо из окна бросал несколько монет в воронку специально предназначенного для этого ящика. Чтобы лучше видеть, я попробовал открыть окно – мне тут же сказали, что это выведет из строя систему воздушного охлаждения, и окно пришлось закрыть. Чем ближе мы подъезжали к Нью-Йорку, тем чаще вместо рекламных надписей попадались живописные плакаты: огромная пивная кружка с шапкой пены, бутылка кетчупа величиною с фонарный столб, реактивный самолет над облаками, изображенный в натуральную величину. Вокруг меня открывали банки с пивом, жевали арахис и, хотя курить запрещалось, украдкой передавали друг другу зажженные сигареты. Я сидел, почти не поднимая глаз, так что не видел лиц, а только одну эту возню. На полу валялись скорлупки грецких орехов и арахиса, иногда для приличия завернутые в обертки от жевательной резинки. Я начал читать «Зеленого Генриха» Готфрида Келлера. Отец Генриха Лее умер, когда мальчику было пять лет. Единственное воспоминание, которое сохранилось у него об отце, было такое: отец выдергивает из земли куст картофеля и показывает клубни. Мальчик всегда был одет в зеленое, и его вскоре прозвали Зеленым Генрихом.
По Брукнерской автостраде автобус въехал в Бронкс, потом свернул направо и пересек Гарлем-Ривер в направлении Манхэттена. Снизив скорость, он проезжал по Парк-авеню через Гарлем, пассажиры извлекли фотоаппараты, кинокамеры, и начались съемки. Была суббота, чернокожие обитатели Гарлема высыпали на улицу. Среди автомобильных остовов и полуразвалившихся домов, в которых лишь первый этаж был пригодным для жилья, они читали газеты, играли на мостовых в бейсбол, девочки – в бадминтон; обычные вывески типа «Бифштекс по-гамбургски» или «Пицца» казались здесь диковинными и неуместными. Автобус ехал дальше, миновал Центральный парк и наконец свернул к темному зданию автовокзала неподалеку от 50-й улицы. Там я сел в такси, теперь уже желтое, и попросил отвезти меня в отель «Альгонкин».
Отель «Альгонкин» – невысокое, узкое здание с тесными комнатами; в дверном проеме, даже когда номер заперт, видна довольно широкая щель между косяком и дверью, как будто дверь разболталась от частого дерганья. Проходя по коридору, я заметил на нескольких замках следы царапин. На сей раз мне с первой попытки удалось всучить один доллар японцу, который внес мой чемодан.
Комната выходила во двор, туда же, вероятно, выходила и кухня; во всяком случае, выглянув в окно, я увидел клубы пара, выталкиваемого вентиляторами, и услышал звяканье приборов и тарелок. В помещении было прохладно, кондиционер гудел, и то ли от этого, то ли оттого, что меня целый день везли, а сам я сидел без движения, меня зазнобило. Сидя на кровати, я пытался унять дрожь. Попробовал отключить кондиционер, но не нашел нужной кнопки. Позвонил вниз, кондиционер выключили. Гул прекратился. Наступила тишина, даже комната показалась просторней, я улегся на кровать. Поел винограда из вазы с фруктами на ночном столике.
Сперва я решил, что это от винограда меня так раздуло. Туловище распухло, а голова и все конечности съежились, превратившись в звериные придатки – в череп птицы и рыбьи плавники. Изнутри меня распирал жар, а руки и ноги мерзли. Хотелось спрятать, втянуть в себя эти отростки тела. На руке неистово задергалась жилка, нос начал гореть, точно я с размаху обо что-то ударился; и только тут я понял, что это возвращается мой старый страх, страх смерти, но не своей, нет, – я почти до безумия боюсь внезапной смерти постороннего человека, и теперь, после стольких часов езды, я ощутил этот страх всем телом. Нос сразу перестал пылать, бьющаяся на руке жилка мгновенно улеглась, передо мною открылся черный, зловещий простор безмолвной, бездыханной подводной равнины – и ни единого живого существа вокруг.
Я позвонил в Провиденс, в отель, и спросил, не было ли для меня писем; писем не было. Я сообщил адрес своего отеля в Нью-Йорке и, перелистывая путеводитель, наугад выбрал следующий адрес для пересылки писем. Это был отель «Барклей» в Филадельфии, на Риттенхауз-сквер. Потом я связался с отелем «Барклей» и забронировал номер на завтра. Еще раз позвонил портье и попросил заказать билет на филадельфийский поезд. Затем позвонил в отель «Дельмонико» и спросил, не приходила ли жена за фотоаппаратом; на том конце провода выразили сожаление. Тогда я сказал, что через час зайду сам. Подождав несколько минут, я набрал ноль и попросил трансатлантический разговор с Европой. Телефонистка гостиницы соединила меня с оператором трансатлантической связи, я назвал телефон соседа моей матери в Австрии.
– Разговор с уведомлением или вам все равно, кто подойдет? Второе дешевле.
– Все равно, кто подойдет, – сказал я.
Почему-то не хотелось называть имен: казалось, будто от анонимности разговор приобретает видимость неотложного дела, в котором сам я мог раствориться без остатка. У меня спросили только номер моего телефона, я прочел его на аппарате, мне велели ждать вызова.
Так я и сидел тихо и неподвижно, созерцая пустые плечики в шкафу, который я только что раскрыл. Из кухни слышались теперь громкие голоса, наверно, было уже около трех. В других номерах время от времени раздавались телефонные звонки. Потом зазвонил мой телефон – громко; оператор трансатлантической связи попросил не вешать трубку. Раздался щелчок, я крикнул «алло», но не получил ответа. Довольно долго в трубке слышалось только шипение и тихое потрескивание. После нового щелчка я услышал те же шумы, но звучали они уже иначе. Потом издалека раздался протяжный гудок, который с паузами повторился еще несколько раз. Я ждал. Наконец коммутатор Вены ответил, и я услышал, как оператор трансатлантической связи назвал венской телефонистке номер. Я слышал, как в Вене этот номер набирали; снова гудок, и вдруг на другом конце провода зазвенел смех женщины, которая сказала на австрийском диалекте: «Да знаю я!», на что другая женщина ей ответила: «Ничего ты не знаешь!» Гудок оборвался, и соседский ребенок дурным голосом заорал в трубку свое имя. Я попытался объяснить ему, кто я и где я, но он был настолько ошеломлен – словно спросонок, – что без конца повторял одно и то же: «Она приедет последним автобусом! Она приедет последним автобусом», пока я не положил трубку, быстро и тихо, почти украдкой. И передо мной снова возникла картина: охотничья вышка на краю дороги, рядом с вышкой – придорожное распятие, а прямо под распятием медленно распрямляется болотная трава.
«Никогда не смогу привыкнуть к телефонy», – сказал я себе. В первый раз я звонил из автомата, когда учился в университете. Слишком многое пришлось начинать в том возрасте, когда уже далеко не все само собой получается. Вот почему на свете столько вещей, к которым я никак не привыкну. Если, к примеру, выясняется, что мне с человеком легко, что я чувствую себя с ним непринужденно и по-дружески, то уже на следующий день это чувство симпатии надо восстанавливать сызнова. Быть с женщиной – это состояние мне и сейчас иногда кажется искусственным и смешным, как экранизация романа. Я кажусь себе ужасно напыщенным, когда в ресторане предлагаю карту меню своей спутнице. Даже когда я просто иду рядом с ней, сижу рядом с ней, меня не покидает чувство, что я представляюсь, что это и не я вовсе, а некий мим.
Телефон зазвонил снова; трубка была еще влажной оттого, что я так долго прижимал ее к уху. Телефонистка сообщила стоимость разговора и спросила, можно ли причислить эти семь долларов к счету. Я порадовался: семью долларами меньше. В свою очередь, я поинтересовался, где тут поблизости можно купить газеты, но не нью-йоркские, а изо всех городов страны. При этом мне пришло в голову, что в Европе уже вечер. Телефонистка дала мне адрес на Таймс-сквер, куда немного погодя я и направился.
Я шел вниз по 44-й улице. «Вверх!» Я круто повернул и пошел обратно. Мне надо было на Бродвей, но, только миновав авеню Америки и Пятую авеню, я сообразил, что никуда не поворачивал. Мне, видно, только почудилось, будто я повернул в другую сторону. Но из-за того, что такое могло мне померещиться, я остановился и некоторое время стоял в полном замешательстве. Мне было почти дурно. Потом я двинулся по Мэдисон-авеню, пока не добрался до 42-й улицы. Тут я снова повернул, медленно побрел дальше и наконец в самом деле оказался на Бродвее, по которому дошел до Таймс-сквер.
Я купил филадельфийскую «Сатердей ивнинг пост» и прочитал ее, не отходя от киоска. Ни строчки о некой Юдит. Я и не рассчитывал ничего найти, сунул газету в карман и купил несколько немецких газет, с которыми устроился в ближайшем баре, потягивая американское пиво. Очень скоро я сообразил, что все эти газеты уже читал в самолете, по пути в Бостон. Я, правда, думал, что только проглядел их, но, видимо, прочел от корки до корки, ибо вспоминал сейчас все до малейших подробностей.
Я пошел обратно и свернул на Парк-авеню. Чувствовал я себя так же, как некогда прежде: одно время, если мне приходилось рассказывать, что я делал, я никак не мог отделить основное действие от мелких составляющих. Если надо было сказать: «Я вошел в дом», я говорил: «Я вытер ноги, нажал на ручку двери, распахнул дверь, вошел, а потом прикрыл дверь за собой». Или если я посылал письмо, то в моем изложении это выглядело так: «Я положил (вместо простого: „я послал письмо“) чистый лист бумаги на стол, снял колпачок с авторучки, исписал лист, сложил его, сунул в конверт, надписал конверт, наклеил на него марку и бросил письмо в почтовый ящик». Тогда, как и сейчас, окружающая жизнь была мне почти неведома и нехватка знаний заставляла тешиться самообманом: те немногие виды деятельности, что были мне доступны, я представлял себе, разлагая их на части, отчего они обретали для меня значительность и важность. Так и сейчас: я пересек авеню Америки, Пятую авеню, Мэдисон-авеню и дошел по Парк-авеню до 59-й улицы, шагнул под парусиновый навес, постоял перед вертящейся дверью, толкнул дверь и оказался в отеле «Дельмонико».
Портье уже приготовил фотоаппарат. Он протянул мне его, не взглянув на мой паспорт. Это была большая камера «поляроид», которую я однажды по случаю купил в аэропорту, там она стоила много дороже обычного. По цифрам на бумажной полоске сбоку я определил, что Юдит уже сделала несколько снимков. Она, значит, уже кое-что повидала и даже захотела сфотографировать! Я увидел в этом столь доброе предзнаменование, что, уже выходя из отеля, почувствовал беззаботную легкость.
День был светлый, ветреный и потому казался еще светлее. Облака тянулись по небу. Я просто стоял на улице и глядел по сторонам. В телефонной будке у входа в метро примостились две девушки, одна говорила по телефону, другая время от времени наклонялась к ней поближе, придерживая при этом волосы за ухом. Сперва мой взгляд лишь слегка зацепился за них, но потом они меня заинтересовали, и, словно побуждаемый внутренним толчком, я с веселым любопытством наблюдал, как они, теснясь в будке, попеременно придерживая дверь ногой, смеясь, передавали друг другу трубку, перешептывались, между делом опускали в прорезь очередную монетку и снова склонялись к аппарату, а вокруг них клубился пар, вытекая из метро через вентиляционные решетки в мостовой и расползаясь низко над асфальтом по соседним улицам. Эта картина освободила меня от скованности. С облегчением смотрел я вокруг, пребывая в том райском состоянии, когда смотреть вокруг хочется и когда созерцание само по себе уже есть познание. Так я и шел обратно по Парк-авеню, пока она не сменила название, став Четвертой авеню, и дальше по ней до 18-й улицы.
Потом в кинотеатре «Эльджин» я посмотрел серию «Тарзана» с Джонни Вайсмюллером. С самого начала фильма меня не покидало чувство, будто я смотрю нечто запретное и что это запретное я заранее представлял себе именно так; кадры напоминали забытый сон. Вот маленький пассажирский самолет летит низко над джунглями. Потом тот же самолет изнутри; в нем пассажиры – мужчина и женщина с грудным младенцем на руках. Самолет гудит и как-то странно раскачивается из стороны в сторону, как в настоящем самолете никогда не бывает, и при виде этой болтанки я сразу вспомнил шершавую скамью, на которой смотрел этот фильм в детстве. «Они летят в Найроби», – сказал я вслух. Но город не был упомянут. «А сейчас они свалятся». Родители в страхе обнялись; и вот уже самолет, кувыркаясь, падает и исчезает в дремучей чаще. Раздался грохот, все всколыхнулось, и – нет, не дым, а огромные воздушные пузыри заклокотали над сумрачной поверхностью, в которой я несколько кадров спустя, вспомнив, распознал озеро; Тарзан с ножом в зубах и найденыш, выросший тем временем в мальчика, плывут под водой, выпуская с долгими промежутками пузыри изо рта и медленно, словно сомнамбулически, передвигая руками и ногами; а параллельно с этим с момента падения самолета зрительный образ, таинственно предвосхищаясь на пути от зыбких глубин памяти к явственному воспоминанию, совершал во мне свое движение в том же ритме, в каком позже поднимались из водных толщ воздушные пузыри.
И хотя в остальном фильм был мне скучен, я не уходил. Я уже не получаю удовольствия от комиксов, подумал я, и это началось не здесь, а значительно раньше. Одно время я читал комиксы запоем, но, видно, не стоило читать сборники комиксов. В них одна история следовала за другой, приключение, едва начавшись, заканчивалось, чтобы тут же смениться новым. Когда я однажды просмотрел сразу несколько сборников «Приключений Земляного Ореха» кряду, мне на следующую ночь сделалось плохо: каждый сон был разбит на четыре картинки и потом обрывался, после чего начинался следующий, он тоже состоял только из четырех картинок. У меня было такое чувство, будто после каждой четвертой картинки у меня вырывают ноги и я шлепаюсь животом на землю. А на очереди была уже следующая история с таким же концом! И немые кинокомедии меня тоже не тянет смотреть, подумал я. Воспевание неуклюжести теперь не может мне польстить. Нескладные герои, неспособные пройти по улице, чтобы с них не сдуло шляпу под асфальтовый каток, или наклониться к женщине, не пролив кофе ей на юбку, все больше напоминают мне упрямых и жестоких детей; вечно замкнутые, загнанные, искаженные и искажающие все вокруг лица, которые на все – на вещи и на людей – смотрят только снизу вверх. Высокомерное злорадство Чаплина; и его же манера к самому себе льнуть и по-матерински о себе печься; привычка Гарри Ленгдона [12] то и дело гнуться в три погибели и цепляться за что попало. Только Бастер Китон [13] с сосредоточенным, каменным лицом истово, по-настоящему искал выхода, хотя ему никогда не дано было понять, что и как с ним стряслось. Вот его лицо мне приятно вспомнить, а еще было прекрасно, когда однажды Мэрилин Монро в каком-то фильме улыбнулась, беспомощно сморщив лоб, и в это мгновение она смотрела с экрана в точности как Стен Лоурел [14].
Смеркалось. Раздумывая, куда бы еще направиться, я замедлил шаг. Передо мной, тоже медленно и слегка вразвалку, словно повинуясь раскачиванию собственной сумки на длинном ремне, шла высокая черноволосая девушка. Сумка через плечо, джинсы – но девушка двигалась так естественно, просто, что даже джинсы сидели на ней иначе, чем на других: сзади при каждом шаге не набегала складка, и под коленями они не морщили и не съеживались гармошкой. На секунду она оглянулась, в упор посмотрела на меня – белизну ее лица оттеняли редкие веснушки – и так же, не торопясь, пошла дальше. Я понял, что сейчас заговорю с ней, и меня бросило в жар. Так мы и шли до самого Бродвея – сперва почти вплотную, потом она снова ушла вперед, я нагнал ее. У меня дух захватывало от желания, казалось, еще немного – и я кинусь на девушку прямо на улице. Однако, заговорив с ней, я осмелился лишь на банальный вопрос, не хочет ли она со мной чего-нибудь выпить.
– Почему бы и нет, – ответила она, но я уже все безнадежно испортил. Только что нас неодолимо влекло друг к другу, а теперь мы просто шли рядом, и румянец остывающего возбуждения догорал на наших щеках. Мы даже не ускорили шаг – быстрое движение создает иллюзию целеустремленности, возможно, оно возбудило бы нас сильнее прежнего и сразу толкнуло бы в первый попавшийся подъезд. Мы же чинно шли рядом, даже чуть медленнее, чем раньше, и все надо было начинать заново. Я попытался до нее дотронуться; но она сделала вид, будто прикосновение случайно.
Мы заглянули в кафе, оказалось, это обыкновенная закусочная с самообслуживанием. Я хотел было уйти, но девушка уже встала в очередь. Пришлось и мне взять поднос, я положил на него сандвич. Мы сели за столик, я принялся за сандвич, она пила кофе с молоком. Немного погодя девушка спросила, как меня зовут, и я, сам не знаю почему, назвался Вильгельмом. От этой непроизвольной лжи мне сразу сделалось легче, и я предложил девушке попробовать моего сандвича. Она рукой отломила кусочек. Потом, сославшись на головную боль, встала, махнула мне на прощание и скрылась.
Я купил себе пива и снова сел за столик. Через узкую дверь, завешенную к тому же портьерой, я смотрел на улицу. Просвет между дверью и портьерой был так мал, что все происходившее на улице воспринималось в нем с особой отчетливостью; казалось, люди движутся медленно, словно напоказ, будто не просто идут мимо двери, а специально прогуливаются перед ней туда и обратно. Никогда еще не видел я столь прекрасных и столь вызывающих женских грудей. Смотреть на женщин было почти больно, и все же я радовался бескорыстию своих чувств, мною владело только одно желание – созерцать, как они самодовольно прохаживаются на фоне рекламных щитов. Одна почти остановилась в дверях, она что-то высматривала в кафе. «А что, если подойти к ней и заговорить?» – подумал я и по-настоящему испугался вожделения, которое обдало меня при этой мысли, но в следующую секунду я уже сказал себе: «Ну и чем бы ты с ней занялся? Только людей смешить». И снова сник. Я не мог даже вообразить себе ласки с женщиной; при одной мысли, что придется протянуть руку, на меня накатывала тоска и убийственная, опустошительная усталость.
На соседнем столике кто-то забыл газету. Я взял ее и начал читать. Я читал о том, что случилось и еще может случиться, читал страницу за страницей, испытывая все большее умиротворение и удовольствие. В поезде, следовавшем на Лонг-Айленд, родился ребенок; служащий бензоколонки на руках идет из Монтгомери (штат Алабама) к Атлантическому побережью, в Саванну (штат Джорджия). В пустыне Невада зацвели кактусы. Во мне возникала невольная симпатия ко всему, о чем я читал, возникала только благодаря тому, что это описано; меня тянуло к любому из упомянутых мест, всякий, о ком говорилось, оказывался мне по душе, и даже сообщение о судье, который велел просто-напросто привязать к стулу не в меру разбушевавшегося обвиняемого, хотя и не встретило во мне понимания, вызвало все же чувство жутковатого довольства. О ком бы я ни читал, в каждом я сразу находил нечто родное. Я прочел целую колонку об уклоняющихся от воинской повинности; какая-то женщина писала, что, если бы у нее были такие дети, она бы не знала, куда деваться от стыда, и, глядя на ее фото, я внезапно почувствовал, что не могу не разделить ее негодования; и когда я читал показания офицера, утверждавшего, что он с вертолета видел на рисовом поле нечто напоминавшее группу женщин и детей, но что это нечто с тем же успехом могло оказаться и «мужчиной с двумя волами», мне от одного только чтения слов сделалось нестерпимо жаль, что это офицер, а не я был тогда в вертолете. Всякий человек и особенно всякое место, еще не знакомое мне, становились при чтении до того симпатичными, что я испытывал своего рода ностальгию по ним. Я читал о почтовом отделении в штате Монтана и об улочке военного городка в штате Виргиния – и немедленно хотел перенестись туда и жить там; казалось, если этого не случится сию же минуту, я упущу нечто очень важное и уже никогда не сумею наверстать.
Эти чувства мне не внове; такое случалось еще в детстве, особенно в разгар ссоры или драки: я переставал ругаться или просто бросался ничком на землю, а если с воплем удирал, то мог остановиться как вкопанный и сесть, глядя на обидчика с такой открытой доверчивостью, что тот, бывало, только оторопело пройдет мимо, будто гнался не за мной, а за кем-то другим. В споре мне редко удавалось продержаться долго: само произнесение слов настраивало на дружеский лад и я быстро отступался. И с Юдит, когда у нас стало доходить до крика, было примерно так же: наши скандалы превращались, по крайней мере с моей стороны, лишь в декламацию скандалов, и не потому, что предмет спора казался мне смешным, просто живая речь сама собой снимала серьезность ссоры. Да и много позже, во время приступов самой лютой вражды, я вдруг понимал, что вот-вот не выдержу и расхохочусь; наверно, и не нужно было сдерживаться, но в ту пору мы уже настолько друг друга ненавидели и раздражали, что всякая перемена в настроении, включая примирительный смех, другому показалась бы только оскорблением. И вот здесь, в Нью-Йорке, читая газету, я столько лет спустя вновь испытал неизъяснимую тягу ко всему на свете, и меня это не на шутку испугало. Но сейчас не хотелось над этим задумываться. Чувство к тому же возникло лишь на миг; едва я успел его осознать, оно улетучилось, словно его и не было. И когда я вышел на улицу, оно, это чувство, уже покинуло меня; я снова был один.
Я брел бесцельно. Меня вело любопытство. На Таймс-сквер поглазел на обложки журналов с обнаженными девицами; на неоновой полосе бегущего телеграфа над Бродвеем прочел новости дня; сверил часы с часами главного почтамта. На улицах от яркого света рябило в глазах, а свернув в переулок, я оказался в такой кромешной тьме, что первые шаги пришлось делать почти вслепую. В газете мне попалось на глаза сообщение, что в Центральном парке снова открылся сгоревший ресторан, где следы пожара сохранены в качестве декоративных элементов интерьера. Держась к краю тротуара, я стал искать такси, но тут мне предложили билет на мюзикл. Я чуть не отказался, но вовремя спохватился: ведь это спектакль с Лорен Бэкалл [15], той самой, что еще несколько десятилетий назад сыграла в фильме Говарда Хоукса [16] «Иметь и не иметь» энергичную молодую героиню; в портовом притоне, сперва прильнув к плечу пианиста, а потом, облокотясь на рояль, она низким хрипловатым голосом пела песню. Я отдал двадцать долларов и с билетом в руках помчался к театру.
Место у меня было в первых рядах, оркестр гремел оглушительно. Как и остальные зрители, я держал плащ на коленях. Лорен Бэкалл была старше всех на сцене, даже мужчины выглядели моложе. Она уже не красовалась, плавно скользя между столиками, как тогда, в кабаке, а много и энергично двигалась. Один раз даже станцевала на столах в окружении длинноволосых парней с цепями на шее. Едва упав на стул, усталая, измученная, она тут же вскакивала, чтобы начать новый каскад телодвижений. Каждый ее жест словно опровергал предыдущий – таким способом она удерживала внимание зала. Она еще болтала по телефону – но в это же время надевала туфли, чтобы, закончив разговор, опрометью куда-то бежать, и после каждой фразы обязательно меняла если не позу, то хотя бы положение ног. Ее глаза, еще довольно выразительные и красивые, повторяли и подчеркивали каждый жест. В каждой новой сцене она появлялась в новом костюме, я только диву давался, когда она успевает переодеться. Но вот она просто взяла стакан виски и замерла, держа его перед собой на длинных вытянутых руках, – и только тут я порадовался за нее. Ибо до этой минуты чувствовалось только одно: с тех пор, как она перестала сниматься в кино, ей не доставляет никакого удовольствия зарабатывать на жизнь ужимками, которые ей чужды. Смотреть на нее было неловко – все равно что смотреть на человека, который занят некрасивой, черной работой, работа эта унижает его достоинство, а присутствие соглядатаев делает унижение горьким вдвойне. Мне вспомнилась Юдит: самые обычные, будничные ее движения тоже составлялись из множества отработанных поз, которые и тело Лорен Бэкалл выполняло на сцене с безотказностью хорошо отлаженного механизма. В магазине одежды, вспомнил я, Юдит сразу же – и совершенно непроизвольно – принимала надменную осанку важной клиентки: войдя, останавливалась в дверях и окидывала рассеянным взглядом все и вся, никого не замечая; к ней подходила продавщица, и только тут Юдит оборачивалась, как бы изумляясь, что в магазине, оказывается, есть кто-то еще, кроме нее. Зато на сцене она преображалась: простота, с какой она двигалась, ничего общего не имела с той идиотской расхлябанностью, что свойственна дилетантам – те фланируют по подмосткам, натужно изображая непринужденность; нет, ее простота – это простота облегчения перед серьезностью задачи, ибо только на сцене Юдит принимала жизнь всерьез. Сколько бы она ни прикидывалась, ни кривлялась в жизни, на сцене она успокаивалась и становилась самозабвенно внимательной и чуткой к партнерам; после спектакля о ней можно было забыть – до того естественно вела она свою роль.
Мои размышления прервала сирена полицейской машины, ее вой почти заглушил оркестр. Я смотрел на листок театральной программки, который, качаясь и ныряя, очень медленно падал с ложи балкона, и внезапно эта бумажка своим неказистым движением напомнила мне о Юдит – я сразу подумал, что она сию минуту беззаботно ужинает где-нибудь в ресторане, и увидел, как она, подняв пальчик, подзывает официанта и столь поглощена этим серьезным занятием, что ни о чем другом думать не может. Как лихо вскидывается дирижер из оркестровой ямы! А как безупречно отглажены брюки актеров! Или вот только что, будто соперничая с Юдит, как аппетитно слизнула Бэкалл мартини с оливки и как ловко отправила потом эту оливку в рот. Нет, с Юдит ничего не случится! Просто невозможно представить, чтобы ей сейчас плохо жилось. На мои-то деньги! Я вдруг захотел есть, с трудом дождался антракта и поехал в Центральный парк, в ресторан.
Деревья в парке тихо шелестели, точно перед дождем. В ресторане даже карточки меню были с искусственными подпалинами по углам, а у гардероба лежала раскрытая книга гостей, записи в ней светлели, как строчки на обуглившейся газете. Снова завыла сирена. Один официант раздвинул шторы на окне, другой, скрестив руки, подошел к дверям, и оба они уставились на улицу. Сирена выла пронзительно – от ее воя в стакане с водой, который первым делом передо мной поставили, даже всколыхнулись кубики льда. В этот час посетителей оставалось уже немного, их лица скрадывала полутень. В зале было почти пусто и так просторно, что я, слушая угасающее вдали завывание, вдруг почувствовал усталость. Я замер, стараясь не шевелиться, и внезапно ощутил в себе какое-то смутное движение, примерно в том же ритме, в каком сам я весь день передвигался по Нью-Йорку. Движение это поначалу запнулось, потом уверенно набрало ход и, промчавшись по прямой, вдруг заложило крутой вираж, понеслось по кругу и, покружив вволю, наконец улеглось. То, что двигалось во мне, было не представлением и не звуком – только ритмом, который заменял и звук, и представление. Лишь теперь в мое сознание начал проникать город, почти не замеченный мною прежде.
Меня нагоняли окрестности, которые я миновал в течение дня. Улицы и ряды домов восстанавливались в памяти из тех промельков, поворотов, заминок и рывков, которыми они запечатлелись во мне. Вместе с ними восстанавливались и звуки – шипение и гул, словно из глубин мощного потока, ворвавшегося в тихую долину. Толстые портьеры на окнах не могли сдержать этих звуков и образов, они разворачивались в моем сознании, то опадая до простых мельканий и ритмов, то снова взмывая и вибрируя пуще прежнего, высвечивая короткими вспышками улицы еще более длинные, здания еще более высокие и перспективы, уходящие к горизонту все дальше. Но странное дело, все происходившее было даже приятно: узор Нью-Йорка мирно расстилался во мне, нисколько не угнетая. Я просто расслабленно сидел за столом, и все же меня не покидало любопытство; я с удовольствием ел бифштекс из баранины, на который сам себя пригласил, запивал его красным калифорнийским, от которого с каждым глотком все сильнее испытывал жажду, и созерцал весь этот столпившийся и все еще отзывавшийся во мне гудением город как невинное явление природы. Все, что я раньше видел вблизи и по частям – стеклянные поверхности, щиты со словом «стоп», флагштоки, неоновые надписи, – все это, возможно, именно потому, что часами маячило передо мною, заслоняя взгляд, теперь раздвинулось и открыло вид, свободный и просторный, куда ни глянь. Мне даже захотелось там прилечь и почитать книгу.
Я уже давно покончил с едой, но снова и снова принимался просматривать карточку меню, читая названия блюд с той же ненасытностью, с какой в свое время читал в молитвеннике жития святых. Мясо по-алабамски, цыплята по-луизиански, медвежий окорок à la Даниэль Бун [17], котлеты «дяди Тома». Немногие посетители все еще оставались на своих местах и теперь громко разговаривали. Разносчик газет заглянул в дверь и бросил на барьер гардероба несколько газет. Старая накрашенная женщина переходила от столика к столику, предлагая цветы. Официант, обслуживавший чету толстяков-супругов, ловким движением плеснул коньяк на омлет, женщина подала ему зажженную спичку, которую он с поклоном принял и поднес к сковородке. Омлет вспыхнул, и супруги захлопали в ладоши. Официант улыбнулся, выложил омлет на тарелку и поставил тарелку перед дамой. Потом, обернув бутылку салфеткой, извлек ее из ведерка со льдом и, заложив свободную руку за спину, налил супругам белого вина. Откуда-то возник пианист и тут же начал тихо наигрывать. Из раздаточного окошечка выглянул повар и посмотрел на пианиста. Я заказал еще один графин красного вина, выпил его и продолжал сидеть.
Официант отправился на кухню и вскоре вернулся оттуда, что-то жуя. Гардеробщица раскладывала пасьянс. Она держала во рту булавку и между делом помешивала кофе в чашечке, стоявшей перед ней на барьере. Потом отложила ложечку в сторону, разжав губы, выронила булавку и выпила кофе залпом. Она поболтала чашечкой в воздухе, чтобы остаток сахара получше растворился в остатке кофе, и, завершая движение, снова опрокинула чашечку в рот, после чего опять взялась за пасьянс. В зал вошли две женщины, одна приветственно махнула официантам рукой в длинной перчатке, другая сразу направилась к роялю, пианист сменил мелодию, и она запела:
- In the days of old, in the days of gold,
- In the days of forty-nine [18].
В отель я вернулся пешком, далеко за полночь. Ночной портье вручил мне билет на филадельфийский поезд, и я отправился в бар, который назывался «Blue bar» – «Голубой бар», сидел там, медленно пил виски «Кентукки» и не хмелел. Я брал со столика открытки с видом отеля и писал разным людям, в том числе и тем, кому никогда еще не писал. В вестибюле я купил в автомате авиамарки и там же опустил открытки в ящик. Потом вернулся в бар, устроился там в широком кожаном кресле, на котором можно было вертеться, и долго держал стакан перед собой на ладони. Иногда, склоняясь к стакану, я отпивал маленький глоток. Подошел бармен и поставил пепельницу на соседний столик, там сидела старая женщина, время от времени она хихикала. Потом всякий раз доставала из плетеной сумочки записную книжку и что-то черкала маленькой серебряной шариковой ручкой. Наконец я второй раз за эту ночь почувствовал усталость, взял из стопки открыток еще одну и пешком поднялся в свой номер. Открытку я надписал на ходу и бросил ее в прорезь для писем в холле на своем этаже. Я слышал, как она шуршит, падая вниз.
На полу в номере белел листок бумаги. Решив, что это записка, я поднял его. Оказалось, это всего лишь визитная карточка хозяина отеля, она лежала на вазе с фруктами и, видно, упала оттуда. Я позвонил вниз и попросил включить кондиционер. Потом, даже не помывшись, лег в постель и раскрыл «Зеленого Генриха».
Я читал о том, как Генрих Лее в школе нажил себе первого врага. Это был его одноклассник, он вызывал Генриха на спор из-за всего, что происходило вокруг и в природе: на какую штакетину в заборе сядет птица, на сколько согнется дерево под ветром, какая по счету волна на озере окажется самой большой. Генрих превратился в заядлого спорщика, и он проигрывал, а потом, когда ему нечем стало расплачиваться, оба, теперь уже врагами, встретились однажды на узкой горной тропке. Они молча бросились друг на друга и дрались с тупым ожесточением. С убийственным спокойствием Генрих подмял под себя своего врага и время от времени бил его кулаком в лицо, испытывая такую дикую горечь, какой ему больше никогда не довелось испытать. Вскоре ему пришлось бросить школу и переехать в деревню, где он впервые свободно взглянул на природу и неожиданно ощутил потребность рисовать.
Я вырос в деревне и не могу взять в толк, как это природа может дать чувство свободы; меня она только угнетала или в лучшем случае внушала чувство неуюта. Скошенные поля, фруктовые деревья, пространства лугов всегда были неприятны мне и казались зловещими. Я знаком с ними слишком близко: по жнивью бегал босиком; карабкаясь по деревьям, в кровь раздирал коленки; в резиновых сапогах бродил под дождем по лугам за вонючими коровами. Но только сейчас я понял, почему воспринимал все эти мелкие неудобства столь остро – я никогда не имел возможности свободно двигаться на природе: фруктовые деревья принадлежали другим, тем, от кого приходилось убегать по полям, а в награду за то, что ты пас скот, можно было получить только резиновые сапоги, без которых подпаску все равно не обойтись. Меня с малолетства выталкивали на природу только работать, и мне некогда было учиться видеть ее, я замечал разве что диковинные вещи: расселины скал, дупла в деревьях, норы, вообще все виды подземных пустот, в которых можно укрыться и спрятаться. Еще меня притягивали всевозможные заросли, кукурузные поля, густой орешник, овраги, ручьи в глубоких ложбинах. Дома и улицы были мне милее природы, здесь вероятность ненароком совершить недозволенное была куда меньше. Когда ветер волновал пшеничное поле, я воспринимал это только как помеху, потому что он сдувал волосы мне на лицо, и еще много лет спустя достаточно представить пшеничное поле, которое колышется на ветру, чтобы убедить себя, как неуютно было мне на природе. А суть была в том, что я никогда ничего не мог себе там позволить.
Я уже отложил книгу и просто лежал в темноте. Кондиционер тихо жужжал, и постепенно я начал замечать, что засыпаю. Дверь ванной комнаты превратилась в белый домик на вершине холма. Кто-то дышал носом, и у подножия отвесной скалы глубоко подо мной в ответ заскулила собака. Я перевернулся на другой бок и тотчас покатился вниз по склону. Я упал в пересохшее русло ручья, там валялись платяные вешалки и разрезанные резиновые сапоги, я свернулся калачиком, чтобы поскорее заснуть. Дождь шумел, мощный прилив надвигался с рокотом, но не накатываясь на меня. «Я забыл записаться в книгу гостей».
На следующее утро около полудня я сел на станции Пенсильвания в филадельфийский поезд компании «Пэнн сентрал рейлуэй».
Вспоминая, никак не могу понять, почему этот день промелькнул так быстро, прямо как в фильме ужасов. Подземное здание вокзала, эскалаторы увозят меня все глубже, потом открытая дверь, в которую я вытолкнут с последней ступеньки эскалатора, я сажусь, поезд трогается, и только тут я понимаю, что я в купе вагона. Несколько минут за окнами темно, поезд идет по туннелю под Гудзоном, но и в Нью-Джерси, где он выныривает на поверхность, взгляду открывается сумрачный ландшафт, к тому же еще более затемненный тонированными стеклами. В вагоне светло, страницы книги, когда я их переворачиваю, режут глаза белизной. Но стоит взглянуть в окно, и облака кажутся все чернее, а окрестности под ними становятся с каждым взглядом все пустыннее: груды мусора вместо домов, желтый дым на горизонте – и никаких труб, автомобиль без шин, колесами кверху, брошенный на пустыре, сплошь заросшие кустарником перелески, где пожухлые, с корнями вырванные ураганом деревья цепляются за зеленые ветки уцелевших собратьев, повсюду какое-то тряпье, словно лоскуты парашютного шелка, чайки, залетевшие на сушу и бродящие по песчаным холмам. Железнодорожная компания недавно обанкротилась, поезд без остановок проезжал мимо станций, от обслуживания которых компании пришлось отказаться, через города, где дома, поставленные спиной к железной дороге, казались покинутыми и нежилыми. Два с половиной часа спустя, когда к путям сплошными рядами подступили закоптелые дома с заколоченными окнами и с наклеенными объявлениями, предупреждавшими о крысином яде, в купе стало так темно, что я пропустил момент, когда поезд медленно вошел в туннель и пополз к подземному вокзалу в Филадельфии.
Опять эскалаторы; большая площадь, на которую выходишь сразу, не поднимаясь по ступенькам. Я осмотрелся – меня никто не ждал. Я сказал: «Тебе нечего прятаться. За какой колонной ты притаилась и подсматриваешь за мной? Я вовсе не хочу тебя найти».