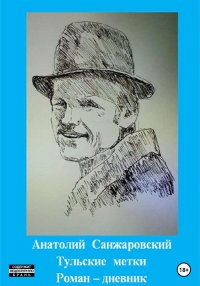
Читать онлайн Тульские метки бесплатно
- Все книги автора: Анатолий Никифорович Санжаровский
Ты не люби Россию оптом. Ты люби сына своего, люби дочь свою, люби жену свою, люби родителей своих и делай все, чтобы жилось им счастливо. В этом и будет высшее проявление твоей любви к России.
Анатолий Санжаровский
Жизнь дается один раз и хочется прожить ее бодро, осмысленно, красиво. Хочется играть видную, самостоятельную, благородную роль, хочется делать историю, чтобы те же поколения не имели права сказать про каждого из нас: то было ничтожество или еще хуже того…
Антон Чехов
1964
28 июня
В поезде
В Тулу я ехал через Москву.
На каждой остановке с соседней плацкартной лавки срывался толстячок и летел на вокзал.
– Куда вас носит? – спросил я.
– Оё! И не спрашивайте… Я был у кардиолога. Так этот шокнутый мормон накыркал мне, что я могу в любую секунду отстегнуть копыта. Вот я и бегаю к кассам за билетом лишь до первой станции.
– Какой вы полохливый скопидомушка! – усмехнулась ему полная красивая старушка, сидела напротив меня за откидным столиком. – Мне бы ваши печальки…
Разговорились. Оказывается, у неё какая-то мудрёная нервная болезнь. Уже 15 лет пухнет. Не двигается. Не может сама раздеться. На носилках вносили её в вагон.
Я разламывал ей булку, мешал чай. Окает она. Она из Плёса (под Ивановом), откуда Левитан. Волжанка. Там у неё с мужем украли чемодан. В нём её лучшая одежда, бельё, деньги, что скопила для крымского курорта, куда сейчас и едет.
Жаль её. А она не хнычет. Бодра.
На мягкой улыбке вспоминает:
– Как-то вышел от меня мой лечащий врач и в коридоре наткнулся на приятеля. Говорит: «Знаешь, вот странная больнуша… По всем моим диагнозам должна бы умереть лет тринадцать назад, но до сих пор здравствует!» – Тот и отвечает: «Это, коллега, ещё одно подтверждение того, что, если больной действительно хочет жить, медицина бессильна». Посмеялись и разошлись.
А мне, ёшкин козырек, вспомянулось, как хотели меня вылечить народными методами. Лежала я в больнице.
Ходил ко мне из соседней палаты один болящий старичок. Вот он и говорит мне с моей подругой Сашей:
– Жалконько мне вас. Я скажу вам средство, как вылечиться.
– Говори.
– Боюсь. Меня могут посадить. Вот буду выписываться, тогда и скажу.
Выписали его. Приходит прощаться и говорит:
– В расфасовку[1] свозят мертвяков. Вот вам средство: обмойте мёртвого и воду выпейте. Как рукой всё снимет!
Настрадались мы, соколик… Ради здоровья на всё готовы. Взяли мы поллитровку и повезли нас на каталках к сторожу морга, к армянину старому.
– Христофорушка, – докладываем ему всё по порядку. – Так и так, мы дадим тебе водки, а ты нам дай одного клиента.
У него глаза на лоб:
– Какие шустрихи бабульки! Ну дикие сексналётчицы!
– Не бойся! Невинность твоего жмурика мы не порушим…
– В городке Лексингтоне – это в американском штате Южная Каролина, – тоже думали, что покойника не изнасилуешь. А работница тамошнего морга Фелисити Мармадьюк забеременела от молодого жмура! Пожаловалась своему гинекологу. А он и шукни полиции. И эта деваха Фелисатка выплатила штраф в 250 тысяч долларов. Её обвинили в осквернении умершего и в акте некрофилии.
– Не горюй! В наши годы и в нашем положении от нас такойского геройства не жди. Ты сильно не убивайся. Никого мы осквернять не собираемся. Мы только его помоем и воду с него выпьем. В нём, Христофорушка, всё наше спасение! Уступи любого жмурика. Бери спокойно плату! – и отдали ему поллитру.
– Ладно. С водкой я знаю, что делать. А всё же… Ох, дурная моя голова!..
Саша его перебила:
– Христофорушка! Не говори так! А то одного начальника посадили за неуважение к власти.
– Да, я самый большой начальник над жмуриками. Все лежат, один я бегай вокруг них. Ну, с учётом замечания спрошу культурно. Ох, умная моя головушка… Что вы будете делать с моим клиентом?
– Да в нём, божий человеченько, повторяем, всё наше спасение!
– Раз так – берите. Свеженького! Может, ещё горяченького! – и показывает на здоровенного дядьяру. – Сегодня подкатили.
Подъехали к «спасителю».
Зубы оскалены. Глаза открыты. Страшно.
Начали мы мыть. Саша моет ноги, а я – лицо.
Смотреть ему в лицо боюсь. Глаза отворачиваю, а сама мою.
Намыли полбанки.
Поехали в палату.
Как все уснули, Саша тайком от меня налила себе в ложку и выпила.
Я ей и говорю:
– Хоть темно, а вижу. Воруешь! Какая ты ходовая. Не делишься со мной.
Налила она и мне в ложку.
Подношу ко рту – увидела мёртвого в ложке. Его оскаленные зубы, широко раскрытые ужасом глаза.
Страшно-то что! Я чуть не закричала на всю палату.
Задрожала я вся, бросила на пол ложку.
И тут же пожалела. Сашка выздоровеет, а я нет!
И всё равно ни ложки не приняла.
А Сашка всю банку высосала.
И всё равно не помогло ей это народное средство.
Старуха в печали помолчала и снова заговорила:
– В другой раз приходит ко мне другой старый насмешник и так лукаво докладывает:
– А ты могла б вылечиться.
– Ка-ак?
– Мужик у тебя молодой?
– Откуда? Под шестьдесят.
– Тот-то. Надо молодого.
– Да кто ж на старую покусится? – с жалью я.
– Деньги есть на водку?
– Есть.
– Найду.
Дня через два приходит рыжий детина лет тридцати. Тупой и пустой. Мнётся.
– Вы Антонина Ивановна?
– Я.
Молчит.
– Вам дедушка что-нибудь говорил?
– Говорил.
– Вот я к вашим услугам.
– Да знаешь, милый, я не хочу так лечиться.
– Вам видней.
Вздохнул. Постоял. Поскрёб затылок. Побрёл.
Я рассказала об этом подруге Саше. Та – моему мужу. А он ревнивый. Прилетел ко мне:
– Было такое? – сымает спрос.
– Было.
– Знаешь, мать, собирайся домой. А то тут тебя вусмерть залечат!
И увёз меня из больницы.
– А это было уже не со мной. Однако на моих глазах.
Пятигорск. Санаторий. Первое Мая. Все ушли на демонстрацию.
Шесть женщин-калек распили на террасе бутылку шампанского и запели.
К ним подсели три парня с гитарой.
– Станцуем? – говорит парень из этой троицы молодой красавице Зине.
– Неохота.
Выпили ещё.
Другой парень Зине:
– Станцуем?
– Да что-то не тянет…
Сказали про обед.
Безногую Зину повезли в кресле с колёсиками в столовую.
Парни запечалились:
– А мы её ка-ак звали на танцы…
12 июля
Перевоплощение
Командировка. Волово.
За обедом в столовой ко мне подсел милый паренёк.
Разговорились. Он и вывали мне свою историю.
Он играл в местном самодеятельном театре.
Хотелось ему сыграть в пьесе милиционера в главной роли. Так ну серьёзных ролей ему не давали.
Решил он доказать, что может отлично перевоплощаться.
После репетиции свистнул форму мильта и бегом с обыском к знакомой самогонщице.
– Аппарат мне не нужен, продукт гони. А то застрелю, – и схватился за пустую кобуру. – Скорей!
Бабка в дрожи принесла бутыль самогона. Стал пить, ни капли не пролил. Эта аккуратность заставила бабку засомневаться:
«Те милиционеры слюньки глотали, пили и лили. А этот только аккуратно и жадно пьёт, как холодную воду в жару».
Она и бухни ему в лицо:
– А может, ты вовсе и не милиционер?
К этому моменту парня совсем развезло.
Тут он и вскипел:
– Как так не милиционер!? Я сейчас тебя за грудки да по всем статьям по роже, по роже!.. А-а! Да вас уже две? Подмогу себе кликнула!? Пл-л-левать!.. Я и двум покажу, где раки зимуют и самогон достают у ротозеек таких, как ты…
Бабка прибежала к участковому:
– Иван Петров, что это за борец привязался ко мне? Пил, грозил… А потом спать полез на печку. Это-то летом!
Парня взяли. Судили.
На суде он доказывал, что всё это из спектакля. Доказывал худруку. Всё это перевоплощение. Репетировал сцену из спектакля!
Прокурор в клуб на спектакли не ходил. Он свои ставил. Отломил парню три года.
Парень больше не хочет перевоплощаться. Не ходит в клуб и не просит в спектакле главной милицейской роли.
Был парень-огонь.
А сейчас какой-то забитый тушканчик.
В столовую вошла мать, цыкнула на него и он, согнувшись, испуганно побежал домой.
При расставании я спросил его, зачем же он мне всё это вывалил.
Он растерянно пожал плечом:
– Так… Просто так… Мне хотелось кому-нибудь выговориться. Я и выбери вас. У вас чистые, добрые глаза.
Через много лет, когда я готовил свои дневники к печати, мне стало больно и стыдно, что у этой истории не было продолжения. И автором этого продолжения должен бы быть я. Почему я, узнав эту горькую историю, не полез в драку за парня? Уму непостижимое упущение. Почему не защитил его в газете? Почему я не дал в газете по ушам долбонавту прокурору?
Я не хвалю парня. За всякий проступок отвечай.
Но не тремя годами тюрьмы за бездумную шалость.
19 июля
В подвальной комнатушке
Вчера наша редакция поехала в Тарусу. Выходные вместе проведут молодые журналисты Орла, Брянска, Тулы, Калуги.
Я не поехал. Закупал продукты на неделю. Купил семнадцать пачек перловой каши.
Сначала жил я в Туле в гостинице.
Потом редакционная уборщица бабушка Нина определила меня на койку к своим знакомым в подвальной комнатке. К бабке Маше с дочкой. Бабка на седьмом десятке, дочке Нюре далеко за сорок.
– Анатолик, – говорила мне бабушка Маша, – не бери в жёны деревенскую бабу. Привезёшь в город… Начнёт губы красить, начнёт сиськи в открытую носить. А шею мыть не будет…
Заодно досталось и соседям:
– Ох у нас и соседи… Грызут, грызут друг друга и всё голодны. Так двадцать лет сидят голодом. Ну, ничего… Не съел бы меня Бог, а добрые люди не съедят. Подавются моими костьми. Я ж вся худая что!
В магазине баба Маша отчитала кассиршу – обманула на десять копеек.
Пьяный малый из очереди:
– Бабка! А чего ты хотела? Это тебе не церковь. Тут коммунистический магазин.
21 июля
Сегодня Вале восемнадцать и один месяц. За всё время знакомства с нею сегодня я впервые увидел её во сне. Мы случайно встретились в Рязани, и она совсем не рада мне. Чопорна, надменна. Высокая, дородная, в голубом цветастом платье. Похожа на учительницу.
Молча посмотрела на меня, покачала головой и ушла.
Я проснулся. Мечты, мечты… Где ваша радость?..
23 июля, воскресенье
Готовый фулюган
Вечереет. Баба Маша мелко режет капусту для своих цыплят. Я сижу рядом. Слушаю её.
– Человек – это… Вот мне шестьдесят два… А я всё ещё ишшу мужика! Если он на пенсии получает тридцать пять – не пойду. А за пятьдесят пойду. Да подрабатывать может. Пущай идёт сторожем в детский сад. Это тридцатка. А всего сколько? Восемь десяток! Да мои сорок пять. Вота где денюшки! Вота где жизнюка!.. Только вот пьянь какую подкинут быстро, а добра нескоро.
У неё две дочери. Живут в двух соседних маленьких комнатках. Одна, Нюрка, тронулась умом после автоаварии. Была шофёром. Автобус в гололедицу сплыл в пропасть. И в потасовках бабка обзывает Нюрку корейской собакой. Катьку бабка хвалит:.
– Только на это самое Катька не так крепка, как я и Нюрка. Вишь, родила. А почему родила? Квартиру надо получить. Писала в местком – не дали. Одна всё да одна. А сейчас двоя. Дадуть!
Загорелась бабка окрутить меня на Катьке:
– А чего? Тогда варить сам не будешь! Она знаешь, какие царские щи варит!? И пройтиться можно. А что старшее тебя – юринда! Зато у неё два пальта, три костюма, а также ещё три комбинашки. Ни разушки не надевала! Всё шёлковые! Думаешь, мы в лесу росли, пенькам молились?.. Смущает тебя её самородок?[2] И это юринда! Тебе ж лучше! Не надо лишний раз в поту кувыркаться. Уже готовый фулюган!
Я молчу. И она меняет пластинку:
– Ишшо за радиво плати пятьдесят копеек. Отрежу его. Хрипить тут. Спать не даёть. Отрежу! А захочу послушать – пойду в парк послушаю.
И разбито, в печали:
– Ну и чего бабы мне плохо деда ищут? Не хотять…
Нежданно Нюрке дали однокомнатную квартиру в Криволучье. Я побегал-побегал… Не нашёл угла. Придётся ехать с ними.
Я подумал остаться в старой бабкиной комнате.
– Шиша тебе! – сказала бабка. – Я выброшу твои вещи, а ключи в рисполком снесу.
Еду с ними.
Пятый этаж.
– Да! – радуется Нюрка. – Дали! Не зря я в Петелине[3] одиннадцать лет лежала… Был там один весёлый врач с припёком. Раза три всё спрашивал: «Почему ты всем говоришь, что ты дочь Наполеона, а мне говоришь, что ты дочь Ивана Грозного?» – «Потому, доктор, – отвечала я, – что я никогда не позволю себе обманывать вас». И он взакатки хохотал. Вишь, понравилось дяде лбом орехи щёлкать… А так там больше ничего интересного… Дали! Теперь на всех буду с пятого этажа плевать. Мать с курами на кухне зосталась пока на старой квартире. Пусть там стережёт их… И чего я такая несчастная? Три дороги у меня было. Машинист с железной дороги, таксист и вожатый трамвая. Никто не взял! Это из-за матери. Я собираюсь на свидание – эта ведьмаха летит платье на чердак прятать! Ну не стервь? А? Боялась, подброшу ей… Я не дура. Просто такая натура.
30 июля,
Никто не хотел уступать
Не пей, братец Иванушка, а то козлёночком станешь.
Из сказки
Месяц я уже в Туле. Редактор Евгений Волков как-то обронил на неделе вполушутку:
– Толя! А вам не кажется, что нам пора посидеть?
Я смертно ненавижу винно- водочные катавасии, все эти голливуды.[4]
Не люблю наезжать на бутылочку,[5] не люблю и искать шефа.[6]
И в то же время…
На непьющего во всякой журналистской артельке смотрят с жестоким подозрением, как на гадкую белую ворону.
Это уже въехало в обычай.
Такое я испытал на себе.
Но… Деваться некуда.
Мне не хотелось угодить в семейство пернатых и мы в воскресенье с утреца забрели в какой-то едальный комбинатишко на четвёртом этаже.
На доске объявлений на стене:
«Наш девиз «Пальчики оближешь!»
В едальне не было салфеток.
Выбрали столик в уголке.
За соседним столом дули чай из тульского самовара с тульскими пряниками… Тульская экзотика…
Но нашу упористую дурь чаем из тульского самовара не угомонишь.
Заказали поллитровку водочки. К водочке.
Разливает Евгений по стакашикам и назидательно говорит:
– Тот страшный бездельник, кто с нами не пьёт! Вот такой, Толя, крок-сворд.
Энергично подняли лампадки на должную комсомольскую высоту.
– Ну, Толя, тост скажете?
– Я ни одного не знаю.
– Тогда… Шиллер как сказал? «То, что противно природе, к добру никогда не ведёт». Так давайте же выпьем! Ведь это природе совсем не противно!
Второй тост был уже позаковыристей:
– Люди не проводят время, это время проводит их. Так выпьем же за то, чтобы нас никто и никогда провести не мог!
По два стакашика мазнули и мы уже оч-чень даже хороши.
Повело Женюру на философию.
Наливает он в стакашики и спрашивает:
– Знаете ли, Толя, с кем всю жизнь спит мужчина?
– Скажете – узнаю.
– До пяти лет – с соской, с пяти до десяти – с мишкой, с десяти до пятнадцати – с книжкой, с пятнадцати до двадцати – с мечтой, с двадцати до тридцати – с женой, с тридцати до сорока – с чужой, с сорока до пятидесяти – с любой, с пятидесяти до шестидесяти – с грелкой, с шестидесяти до семидесяти – с закрытой форточкой. Так выпьем же за то, чтоб никогда не закрывались наши форточки!
Мы чокнулись и трудно выпили. И он зажаловался:
– Маркс умер… Ленин умер… Вот и моё здоровье пошатнулось… Чувствую, скоро моя форточка захлопнется…
А на дворе жаруха. За тридцать!
Оказалось, не только я, но и он – питухи аховые. С одного водочного духу немеют языки. Что мы там приговорили? Совсем малёхонько. Зато уже сидим, держась за подлокотники кресел. Державно уставились друг в друга. А слова толком уже и не свяжем.
Мы налили ещё по стопарику. С напрягом чокнулись.
– Ну, Т-т-толя, к-к-каждый человек имеет в мире то значение, которое он сам себе дать умеет… В таком случае б-б-будем пить за нас, за с-с-с-самых з-з-з-з-значи-и-ительных!
Он мужественно понёс стопку ко рту. Но, похоже, сил не хватило донести до точки опрокидывания и он на вздохе поставил питьё своё на стол и как-то ненадёжно убрёл вниз, цепляясь обеими руками за перила, что лились у стеночки.
Посидел я, посидел один…
За пустой столик слева сел грузин и поставил чемодан на стол.
– Генацвале… дружок, – сказал ему официант, – убери чемодан со стола.
– Для кого чемодан, а для кого – кошелёк!
Что-то не видно на горизонте моего невозвращенца.
Позвал я официанта, уточнил, не должны ли мы чего ему, и тоже потихоньку потащился вниз по ступенькам, цепко держась за перила.
Иду я, значит, иду, и вдруг сшибаюсь нос к носу с Евгением.
Мы с ним в одинаковом ранге.
Он еле держится на ногах.
И я не отстаю. Тоже еле держусь на ногах.
Он держится за перила.
Я и тут молодцом не отстаю от него.
Вцепился обеими руками в перила.
Немигающе тупо вылупили шарёнки друг на друга…
Видимо, наконец, ему наскучила моя афиша,[7] и он с напрягом поднял взгляд повыше меня, на стену, где висел плакат «Осторожно, алкоголь убивает медленно!»
– А мы и не торопимся! – флегматично доложил он плакату и снова прикипел ко мне прочным взором.
Стоим значительно разглядываем друг друга.
Меня качнуло на чужие стишата:
- – «На тебя, дорогая,
- я с-с-смотрю не мигая…»
– Н-н-ну и с-с-смотри… Я не из гордых… Т-т-только… – Он еле заметно шатнул головой в сторону моего хода. Да промигивай!
Я ни с места.
Дорогие смотрины следуют, и мы со стеклянно-вежливыми взглядами ждём, кто же скорей уступит, посторонится и даст другому, не отрываясь от перил, пройти своим заданным курсом.
Да как же уступить?
Шаг в сторону – это неминучее падение.
А падать никто не хотел. На бетонные ступеньки. Холодные. Хоть и зализанные подошвами.
– Я п-п-п-попрошу… – пробубнил он, ненадёжно и как-то фривольно относя одну руку немного в сторону. Что означало: ну отойди чуть-чуть!
Я тоже оказался из ордена профессиональных попрошаек.
Своё тяну:
– Я т-т-т-т-т-тоже п-п-п-п-попрошу…
Так мы вдолгую стояли просили чего-то друг у друга.
Но ничего не выпросили.
Наконец всё же я как-то нечаянно отдёрнулся на мгновенье от перил, и Евгений, не ловя галок, стремительным рывком стриганул вверх.
Гадко я себя чувствовал после этого бухенвальда.[8] Не знал, как и доберусь на трамвае до родной кроватки.
Но я всё-таки добрался.
И наутро дал зарок никогда больше не доить поллитровку.
Ни под каким соусом.
И после того случая вот уже полвека не пью.
И не помер.
10 сентября
Мне двадцать шесть.
Не спалось.
Проснулся на рассвете. Поднялся на локоть, долго смотрел в окно и ничего иного не видел кроме всполохов Новотульского металлургического.
На работе никто не знал, что у меня сегодня день рождения.
Прихожу с работы – Нюрка и Маша вцепились друг дружке в волосы. Повис на их переплетённых руках. Еле разнял.
Я ещё никогда не видел, чтоб женщины так жестоко дрались.
Нюрка в слезах выпросила у меня рубль и уехала к сестре в Орёл.
Стала собираться и бабка. Сунула в карман треугольный флакон уксуса:
– Станет худо – выпью.
Наутро она с корытом, а я с её чемоданом бежали к автобусу.
– Я еду далеко-далеко. Спасибо, родной Анатолик, что спас вчера. Это ужась, как сцепились. Она б меня… Спасибо, что спас…
Я втолкнул её в автобус, сам на трамвай и в редакцию.
20 сентября
Копал картошку Нюрке. Помогали Витька и Маринка, какие-то родичи.
29 сентября
Сегодня день рождения Николая Островского.
В честь этого созданный при редакции отряд трудных подростков «Искатель» провёл вечером факельное шествие по Туле.
Триста факелов. Впереди военный оркестр.
Здорово!
У памятника Ленину читали стихи.
1 октября
Коляна
Му… Му…
Молчит Герасим, рожу скорчив…
Ну, он вообще неразговорчив.
Н.Чернецкий
Сегодня ровно месяц, как я заведую отделом сельской молодёжи «Колос». У меня в подчиненных лишь один литературный работник. Литраб. Коляна Крутилин.
Ленивый. Прокудливый. Коварный.
За десять дней не смог написать репортаж о вывозке свёклы.
Я ему коротенькую солёненькую лекцию о лени.
Он морщится. Я с вопросом:
– Не хочешь ли ты сказать, «быстрой езды не любит тот русский, на котором ездят»? Чего кривишься, будто я тебя заездил?
– Насчёт езды тут ни к чему… Ну только не говори шефу, – шепчет он, заикаясь. – В понедельник начну выдавать! Смотреть можешь. В понедельник!
Без опозданий пожаловал господин Понедельник.
– Я готов к смотринам, – потираю я руки. – Написал?
– Сперва внимательно посмотри на меня.
– Смотрю. Ничего из серии шокин-блю[9] не вижу.
– У меня беда с головой, – заскулил он. – Ехал в колхоз. Полный ход. Кузов. А мне так и хочется спрыгнуть…
– И ты не попробовал?
– Тебе смешки. А мне было… Хоть привязывайся к решётке на окне!
Вместо обещанного репортажа взял он двухнедельный отпуск. Без содержания.
2 октября
Летучка.
Мой отчёт. Мне высочайше пожаловано два дня творческого отпуска. Больше всех давал материалов.
4 октября
В пединституте сдал социализм по экономике. Учебник не держал в руках.
8 октября
Нюрка и бабка поладили.
Дуэтом хвастливо докладывают мне:
– А у нас в жилах фулюганит дворянская кровушка!
– Да ну! И давно шалит дворянская?
– А всю жизню!
– Анатолик! – говорит бабка. – А что это ты по четырнадцать часов работаешь?
Нюрка:
– Директором хочет стать.
– Он не будет дилектором! – выносит приговор бабка. – Живота нету.
10 октября, суббота
Факельное шествие «Искателя». Триста факелов и тысячи зевак на тротуарах. Впереди военный оркестр.
Идём с плакатом «Сегодня уничтожим последнего хулигана!»
На стадионе пускают ракеты.
Речи. Волков:
– Пора кончать с хулиганством!
Поджигают чучело хулигана.
Сильные хлопки.
Это взрывается последний хулиган.
Живые хулиганы хохочут.
11 октября
Приплёлся с базара с картошкой и капустой.
Дома баба Маша говорит:
– Голубчик Анатолик! Я с тобой побеседую. Ушла она пить. Ну как ты думаешь? Купила торф (торт) и ушла к Витьке. Присогласили и меня. Итить – надо штой-то купить. А я не такая свинья, чтоб сегодня пить, а завтра зубы на полку. А вот она пошла! Она ж пять лет лежала в буйной, три – в тихой. Я как мать под расписку её взяла. Она пьёт. Я возради тебя тут живу. И за тобой я чувствую себя упокоенно. Вот придёт вечером, ты, голубчик Анатолик, не давай меня бить. А то она меня заметелит. Я ж несильная, как старая муха. А от её кулаков удовольствия нету. Какое фулюганство! Ужась! Дерётся – как ты думаешь? – свою родну матерь чернонёбой ахверисткой обзывает! Ну! Такими хульными вольностями чертоломит, что только ох да ох! Во, Боже мой!.. И не работает. Разве книги не могла бы продавать? Или мороженое? Или яблоки?
Бабка выговорилась. Перебирает, сидя на полу, свои нитки, чулки, тряпки. Смотрю и не понимаю эту маленькую охапку дряни. Это ж она оставила Нюрку без мужа. Та налаживается на свидание – эта летит на чердак прятать её платье.
Зато себя бабка не обидела. Малому корейцу некуда было деться, сманила в квартиранты. А там и женила на себе. Пак Бон Сен. Так его звали.
Нюрка распопёрла. Убежал!
Надо обмыть космическую тройку!
В двенадцать часов запустили в космос наших трёх космонавтов.
По этому случаю в редакции меня подкалывают раскошелиться:
– Надо обмыть космическую тройку! А то приземление будет неудачным.
Отказываюсь. Ничего не финансирую. Ни запуск, ни приземление.
Люся Носкова, закурив по случаю космической победы, мне выговаривает:
– Не пьёшь, не куришь… Скучный ты человек. А женщины хоть волнуют тебя?
– Они меня волнуют только в часы пик.
Иду в библиотеку писать контрольную по стилистике.
Выписываю из занимательной психологии:
«Не бери в жёны девушку, которая не смеётся, когда смешно тебе».
Купил хлеба. Заворачиваю в газету, кладу на дерево на улице Каминского и отправляюсь в факельное шествие с оркестром впереди.
Волков:
– Эта космическая тройка – почётные члены «Искателя». Послать им телеграмму.
После шествия беру хлеб с дерева и домой.
12 октября
Поминки по хрущу
Меня избрали заместителем комсорга редакции.
Волков вызвал к себе:
– Хрущёв с престола слетел. Сидел в Гаграх. Отдыхал. А без него заседал пленум. ТАСС прислал телеграмму «До двух часов ночи не давать».
В секретариате я писал контрольную.
В десять выхожу.
Кривотолки в конторе.
Иду домой.
Заглянул в хату к идеологам. Кузнецов, Строганов, Шакалинис. Пьяненькие. Зазывают.
Кузнецов наливает в стакан вина.
Строганов дурашливо хлопает в ладошки, собирая внимание всех:
– Ну-ка все вместе ушки развесьте! Слушай меня! Пить пока не давать. Надо узнать его платформу. Хрущ или Косыгин?
– Косыгин.
– Ур-ря-я! Пей!
Меня начали качать. Потом – Строганова. С гоготом подкинули его высоко, а поймать забыли.
Ржачка.
Шакалинис мне:
– Старик! Жертвуй рубль на поминки по Хрущу.
– Отвянь!
На улицах ликование.
На пороге каких событий мы топчемся?
14 октября
Бармалей
Семь часов утра.
Обзор газеты «Правда»:
«В связи с преклонным возрастом и резким ухудшением здоровья…».
Я:
– Баб, Хруща сняли.
– По собственному желанию иль по статье по какой шуганули?
– По статье «Слишком добрый олух».
– Правильная статья. А то как пришёл к царствию, так хлеба не стало… А так он ничего. Это он нам квартиру дал. Можно было и не снимать. А его зятя тоже сняли?
– Тоже.
– Вот хорошо. Теперь ты на газету, как он, учишься? Или ты учишься на Хрущёва?
А так Нюрка приняла новость:
– А нам что ни поп, то и батька. А кто ж главный теперь?
– Брежнев.
– Это что брови широкие, как ладонь?
– Он.
– Ничо. Симпатичный. Не то что Хрущ с голым чердаком. – И запела:
- – На трибуне мавзолея
- мы видали Бармалея.
- Брови чёрные, густые,
- речи длинные, пустые.
– И ещё, – присмеивается Нюрка, – этот бровеносец Брежнёв запивает таблетки зубровкой. Говорит, так лекарство лучше усваивается.
– Откуда ты знаешь?
– От своего началюги. Он тоже по-брежневски запивает таблетки водкой.
На работе все ликуют.
Летят редакторы московских газет.
Сегодня в Туле открытие цирка на льду. Знаменательно. Похоже, в Кремле свой цирк начинается.
Конищев пошёл в цирк. Выпил за падение Хруща. Ему не дали места по пригласительному билету.
– Распишу!!!
– Смотри! А то они спустят на тебя медведя на коньках!
16 октября
Бедная Люся
Корректорская.
Ушла Рита. Я остался с Люсей.
Она сидит на столе, ест хлеб с яблоком. Протягивает и мне яблоко:
– Кусай. Ты же худенький.
– В окно нас видят.
– А мне всё равно.
Мы обнимаемся. Я смеюсь:
– Обними крепко-крепко. Покажи, как ты любишь дядю.
Она тесней прижимается и жалуется:
– Я совсем потеряла голову. Родительница говорит: «Будь благоразумна. Мне до пенсии осталось два года. Дай дожить спокойно». Она у меня партийный деятель.
Люся говорит, что ей со мной хорошо. Мне не верится. Точнее, я просто равнодушен к ней. Чего-то в ней не хватает. Не хватает именно того, чтоб у тебя сорвало крышу. А у меня ничего не срывает и никуда не несёт. Скучны такие свидания.
Она стесняется показываться передо мной в очках и на каблуках, но требует, чтоб я не смотрел на других женщин.
– Я не буду смотреть. Не буду смотреть на них даже на картинах в Третьяковке!
Мне её немного жаль. Она вроде любит, мне же всё равно. Меня это мучает. Она видит моё равнодушие, пытается «раскрутить» меня, намекает о каком-то отъезде. Куда? Зачем?
Она пожимает плечиками и совсем безотчётно крепко обнимает меня, прячет маленькое личико в мой холодный воротник и молчит.
Какая-то она угловатая, слишком простенькая. Кажется, всего в жизни она боится. И всегда всего сторонится, уступая дорогу другим.
– Почему-то я всегда и во всём виновата. В школе кто нашкодил – виновата я. В институте – отдуваюсь я. В типографии ошибка в тексте – только я в ответе.
Есть люди, которые всю жизнь ходят в виноватых. Смирились даже с этой ролью. И когда смотришь на Люсю со стороны… Какая-то она обездоленная, кроткая, будто говорит всем своим видом: «Видишь, какая я несуразная»…
23 октября
Спор
Бабка:
– Нюрка, получишь пенсию, пойдёшь в цирк.
– На черта? Смотреть, как перевёртываются задом?
Я сказал, что Хрущёв приезжает работать в Тулу слесарем. Бабка с Нюркой заспорили.
– У-у, дурак лысый! Приезжал он даве на завод и говорил: вся Тула в пальтах, а Рязань в телогрейках. Мы-то ж город, а Рязань – деревня. Он хочет, чтоб и Тула теперь была деревней. Хрен ему!
– Ты что ругаешь Хрущёва? – возражает Нюрка. – Пойди мозгами поворочай! Ты даже водонагреватель не можешь пустить. Расписаться не можешь. Палки ставишь. А он в Америку летал. Был человек, да съели.
28 октября
Мои разыскания
Губарев и Гиммлер
Английский журналист Бернард Стэплтон писал в статье «Последние часы Гиммлера»:
«В тот день, в мае 1945 года, около пяти часов вечера английский патруль задержал троих людей, собиравшихся перейти мост к северо-востоку от Бремерфёрде. Один из задержанных – худой, небритый мужчина с чёрной повязкой на глазу – назвался Генрихом Хитзингером. Вскоре выяснилось, что этот человек – Генрих Гиммлер».
Мягко говоря, лондонский журнал «Уикэнд» выдал желаемое за действительное, утверждая, что Гиммлера, «отца концлагерей», гестаповского палача, убийцу миллионов, первого помощника Гитлера, арестовали английские солдаты.
Архивы Великой Отечественной войны убеждают, что английский журналист написал неправду. Поимка Гиммлера – дело бывших русских военнопленных Василия Губарева и Ивана Сидорова, которых злой рок забросил фашистскими невольниками на Нижнюю Эльбу.
Был Губарев рядовым тружеником войны.
Утром, после «наряда», уезжал далеко в тыл за пушечными снарядами, подвозил их на нейтральную землю и, когда темнело и утихал бой, переправлял на передовую.
Предстоял жестокий бой.
К немy готовились как никогда.
Он произошёл у безымянного запорожского местечка, где ютилось всего с десяток хаток да проблёскивала рядом железная дорога.
Враг подтянул большие силы.
Девять жестоких часов выкосили ряды полка, и он, понеся большой урон, остался без боеприпасов.
Отступить?
Некуда.
Со всех сторон на горстку мужественных храбрецов урча полезли танки.
Вспыхнула последняя хатка-прикрытие.
Вражеское кольцо сжалось.
Нижняя Эльба.
Каменный карьер.
Тут не нянчились с пленниками из России. Твои обязанности: коли ломом камень до одури, спи на нарах и получай ровно столько похлебки, чтоб мог переставлять ноги.
Тех, кто заболел, увозили.
– Куда?
– В госпиталь, – слышал в ответ Василий.
Но из «госпиталя» уже не возвращались.
Парни из России продолжали сражаться за право на свободу, за право жить. Война их снизала.
Их оружие – умная видимость покорности. И конвоир доволен. Посмей не так на него глянуть, как он штыком отталкивал тебя от ребят в сторону, пинал, говорил, что ты болен, и отправлял в «госпиталь».
Трудно Василию играть в покорность, если каждая клеточка, каждый нерв кричали о ненависти к садистам.
«Бежать, бежать», – стучало в висках.
Но так получалось, что Губарев помогал уходить только другим.
Трёхлетний бой, который был ничуть не легче ежедневных схваток на поле брани, выигран.
Говорили что-то об окончании войны.
В одно вешнее утро сорок пятого пленных построили и повели.
– Под откос, – гадали одни.
– Наши близко! – уверяли другие. – В глубь Германии гонят.
По дороге начало твориться странное.
Исчез один конвоир, через километр второй.
Исчез ещё один, ещё…
Потом фельдфебель достал пистолет и совсем без энтузиазма, коверкая русские слова, сказал:
– Вы дошли, и я дошёл. Мог я вас… Пах, пах!.. Ну… Идите, куда хотите, а я – куда знаю, – и ушёл, оставив кучку удивлённых пленников.
– Куда идти? – спросил Василий. – Вправо? Влево?
– Прямо! – фальцетом выкрикнул долговязый юноша, и парни побрели дальше по дороге.
Смотрят: двое с винтовками.
Хотели бежать в лес.
Те заметили. Зовут.
Ба! Да это английский патруль. Союзники!
– Военнопленные? Проводим вас к землякам.
– О! Нашегo полку прибыло! – тискал в крепких объятиях каждого новичка старший лейтенант. – Теперь нам веселей будет!
– Веселей, – хмыкнул один из «старичков». – Вчера ушёл Сизов и – как в воду. Где он? Что с ним? Не сегодня-завтра домой, а человека нету.
– А кто виноват? – спросил лейтенант. – Сами. Дружнее надо быть, смотреть за своими людьми, охранять наш лагерь. Всё равно без дела сидим на этом сборном пункте. Кто пойдёт в комендантскую роту?
– Пиши, – бросил Губарев.
– Тоже, – сделал шаг вперёд Сидоров.
Наутро, 21 мая, Сидоров и Губарев вместе с четырьмя англичанами поехали патрулировать.
Добродушный английский капрал сыпал острогами и блаженствовал, когда его шутки вызывали смех. Почему-то казалось, что они не на службе, а на загородной прогулке. Так они были веселы и беззаботны.
Остановились у местечка Мейнштедт.
– Какой порядок несения службы? – спросил Василий.
– Какой больше по душе! – шутил капрал. – Выбирайте. Можете идти в обход по двое, если желаете, или всей компанией. Главное, не забудьте вовремя поесть.
Иван и Василий молча ходили по дорогам, пристально всматривались в прохожих.
– Знай их язык, я б им объяснил, что такое служба! – злился Василий.
Иван только вздохнул.
И снова молчат.
Я спросил у Губарева, какие особые приметы у его напарника Сидорова.
Губарев в шутку ответил:
– Ну… приметы… Разве что в два раза тупее меня. Вот и все приметы…
Обедали с тремя англичанами. Четвёртый охранял.
Потом трое вышли из дома, стали у крыльца весело болтать.
А тот, четвёртый, пошёл есть.
Иван и Василий к вечеру вернулись с патрулирования.
– Идём кофе тринкен, – предложили англичане.
– Нет! – в один голос ответили Губарев и Сидоров и отправились на дорогу.
– Видишь, – Василий показал рукой на трёх незнакомцев, которые, озираясь, выходили из лесу на дорогу. – Бежим!
Те совсем близко. Все в зелёных плащах.
– Стойте!
Идут.
Предупредительный выстрел Губарева заставил остановиться.
На выстрел подоспели и англичане.
Задержанные нервничали. Особенно свирепствовал немец в фетровой шляпе. Он показывал пальцем на чёрную повязку на глазу и твердил:
– У меня болит глаз. И нога. – Он опирался на дубовую сучковатую палку. – Мы из госпиталя!..
– Пожалуй, надо отпустить, – страдальчески вздохнул капрал.
– Как же так просто! – не отступали Губарев и Сидоров. – Не знает толком, кто перед нами и – отпустить. Нет!
Капрал пожевал губами. Посмотрел на часы, присвистнул.
– Время, время какое! – обратился он к Василию и Ивану. – Восемь скоро! Часы нашего патрулирования кончаются. Пора ехать в лагерь отдыхать. A тут ещё с ними, – взгляд на задержанных, – хочется вам валандаться? Вези их в штаб, то да сё… Не один час пройдёт!
– На службе не время важней, господин капрал! – гневно бросил Василий.
Капрал бессильно развёл руками.
– Ну что ж, повезём в штаб. Пусть там разбираются.
Через два дня стало известно, что один из задержанных, тот, что был с повязкой на глазу, оказался Генрихом Гиммлером, первым помощником Гитлера, двое других – его личная охрана.
Вскоре Гиммлер отравился.
Что и говорить, непонятно было поведение английских солдат.
И зачем теперь английскому журналисту понадобилось замазывать правду, выдавая за героев своих соотечественников?
Встреча с подлинным героем перечеркнула эту выдумку.
Шахтёр Василий Ильич Губарев живёт на тихой Первомайской, 13. Это маленький городок Кимовск под Тулой.
В семье у Губаревых двое детей. Вовка и Таня.
Ребята учатся в четвёртом классе.
Сразу за домом – молодой яблоневый сад. Сам растил. Пчёлы. Это его болезнь.
Василию Ильичу говорят, он совершил тогда нечто из ряда вон выходящее.
– Ничего особого, – пожимает плечами. – Я просто нёс службу по нашему уставу.
Спокойно России за Губаревыми.
19 ноября
На экзаменах
После планёрки зашёл к Волкову:
– Пора ехать на сессию.
– На свои?
– Разумеется.
– Оформляйте командировку. Пишите какое-нибудь для формы задание… Да придумайте что-нибудь от фонаря, Толя, и езжайте!
Я чувствую себя неловко. Киваю головой. Ухожу.
– Командировка на экзамены. Интересно, – сказала бухгалтер Вера Григорьевна. – А что? И правильно! А почему не помочь бедному студенту-заочнику?
На следующей планёрке Волков торжественно объявил:
– За хорошую работу, за проявленную журналистскую фантазию товарищ Санжаровский командируется в творческий отпуск в Ростов-на-кону.[10] Заодно сдаст и экзамены.
Гул одобрения.
За командировку на семь дней я получил сорок три рубля.
Еду через Воронеж.
Остановка в Ельце. Дед с костылями на второй полке:
– Елец оставил без коров и без овец… Хлопнулся об лёд – красные мозоли из глаз высыпались. Такие красные, с искрами.
Видит в окно мимо проходящих девчонок:
– Народ совсем осатанел. Телешом пошёл… И начальники… Начальники воруют на возах! А мы… Ну что унесёшь из колхоза на плечах?
На два дня заскочил к своим в Нижнедевицк.
Дома я был один. Мама, Дмитрий и Гриша уехали на похороны дедушки и бабушки. Они умерли в один день.
На кухне бугрилась огромная куча кукурузы. Колхоз за семь рублей привёз целую машину.
Я один чистил кукурузу.
Приехали наши с похорон, и я двинулся в Ростов.
Практическое занятие. Зачёт.
– Что вы можете делать? – спрашивает молоденькая преподавательница. – Макетируете?
– Неа.
– Фотографируете?
– Не нравится.
– Считать умеете?
– Что?
– Строчки. Посчитайте, – и даёт мне гранку учебной их газеты.
Думаю, посчитаю, отвяжется. Поставит зачёт. Ан не тут-то было. Не ставит!
– У меня, – хвалится, – не так-то просто получить зачёт.
– Я уже шесть лет в штате газеты!
– Ну и что?
Плюнул я. Сбегал в гостиницу, взял из чемодана кипу своих вырезок и прибежал. Сунул ей. Она остолбенела:
– Извините… Так вы Санжаровский! Я вас знаю. – И обращается к очникам журфака, готовившим очередной номер университетской газеты: – Товарищи! Посмотрите! Перед вами живой журналист!!!
Я кисло посмотрел на откормленных слюнтяев, которые льстиво мне улыбались, и быстро вышел, не забыв прихватить с собой книжку с зачётом.
Зачёт по стилистике я ездил сдавать домой к преподавательнице в Батайск.
С сессии я возвращался через Рязань.
С вокзала позвонил Валентине.
– Я не могу придти, – сказала она. – У нас гости.
Переночевал я в доме колхозника.
Утром я ждал её в девять, как условились, у её подъезда. А она уехала на занятия в радиоинститут в восемь.
9 декабря
После обеда Волков собрал редколлегию:
– Товарищи! Я был у Малинина. Он ругал меня матом, топал ногами и кричал, что я выпускаю буржуазную газету. Одиннадцатого бюро. Меня будут слушать. Я подал заявление об уходе.
У всех глаза полезли на лоб. Стали уговаривать забрать заявление обратно.
– Мы вас поддержим. Бороться будем! – вскинул кулаки Петухов.
– Вы нас устраиваете как редактор, – сказала Носкова. – И мы всей редакцией пойдём на бюро! Встанем за вас горой!
Евгений Павлович попрощался и засобирался с искателями-артистами ехать в Новомосковск заниматься подпиской.
Красавец Кузнецов дал на дорожку свой генеральный совет:
– А я бы построил всё иначе. Вход на концерт, конечно, свободный. Но выход… Поставил бы у выхода крепкого парня в пилотке и с автоматом, пускай и муляжным. Слушал концерт – подпишись на нашу газету! Иначе выхода тебе не будет!
Шеф рассмеялся:
– Нет, Володя! Под дулом автомата человека не заставишь читать газету. Надо делать её интересной, тогда читатель подпишется на неё и без автомата.
Заместительша редактора Северухина продолжала распускать пары:
– Бить надо фактами. Доказать, что газета не буржуазная. Все завы отделами должны приготовить выписки. Сделано то-то и то. И все двинемся на бюро. Выступить должен каждый. Не поможет – есть ЦК. Коллективное письмо в защиту редактора. Отстаивать надо. Только умно. А то обком после всех нас поодиночке передавит. Это так-кая грёбаная коммунистическая машина…
11 декабря
Коновалы разбушевались
Было бамбуковое бюро.
На ковёр кликнули всех наших завов отделами.
Второй секретарь Лев Коновалов по-дикому отчитывал Волкова за публикацию «Короля» Бебеля. Коновалов и не подозревал, что автором рассказа всё же является Бабель. С каким тупейшим энтузиазизмом этот коновал читал крамольные куски рассказа, чуть не поколебавшие высокие, святые устои тульской комсомолии. Коновал тыкал Волкову, орал.
– Вы не кричите на нашего редактора! – выступила первой Люся Носкова. – Вам никто на это не давал права.
Она говорила – вся горела. Столько искреннего гнева было в её тоне, в её словах.
После трёхчасовой чумовой молотилки я пошёл с нею в столовую и оплатил её обед за идейное выступление.
Битый Конищев твердил:
– Мы стараемся тоньше вести идеологию. Учимся у западных журналистов.
Северухина:
– Нынешние недостатки – болезни роста, а не падение редакции. Не говорите с нами, как с не умеющими делать газету. Вы смотрите на нас, как на людей третьесортных. Случай позавчерашний в обкомовской столовой. Ваш работник сказал: «Что это редакция сегодня лезет вперёд?» И уже вчера редакцию стали пускать в 13.30, а обком комсомола – в тринадцать.
Редакция осталась при своём мнении, а обком – при своём.
Это задело Малинина:
– Вы не признаёте авторитетов.
Коновалов:
– У вас много новичков. Невоспитанные… Не здороваются. Им же, наверное, говорили, что есть секретари. Пусть мы с ними не знакомились, но они должны нас знать!
Вот только так-с…
Сам Коновалов приличный шкурник. Окончил пединститут. Послали в Щекино в газету. За тупость через неделю выперли. Поехал учительствовать в Товарково. Вёл черчение. Позвал дружок из обкома. Бросил коновал без учителя школу, сбежал на тёплое местечко в обкоме.
16 декабря
Голь Тульская чихает!
Бабка в приживалках в Брянске.
Нюрку сбросили на третью группу, послали в сторожа.
Сегодня ей идти на вахту в ночь.
Пока вечер. Нюрка вяжет носок:
– Свяжу носки, буду милиционера Гришу караулить. Милиционер следит, отмечает через час, что дежурство идёт без происшествий. Он мне приглянулся. На морду интересный. Надо как-нить закрутить. Он культурный. А я как залажу чаво да яво! Не дай Бог кобелём будет… С пятого этажа пужану! С балкона толкану и не охну! А если по-хорошему – уважать буду. Заработаю… Куплю швейную машинку, телевизор. Буду на старости сидеть да на мужиков по тельвизору глядеть. Один лучше другого… Чего смеёшься? Думаешь, я ни с чем пирожок? Хотя немного есть…
Она сидит на койке за гардеробом. Вяжет. Не ложится. Боится не проснётся в полночь. Ей же к часу надо к магазину бежать.
Как-то раз ночью, часа в три, я еле заснул под ругань бабки с Нюркой. И сквозь сон вдруг слышу Нюркин голос:
– А-а! Итить её мать! Голь тульская лежит в чужой комнате да ещё чихает!
7 декабря
Неграмотный редактор
Всё-таки грустно, когда редактор областной газеты элементарно безграмотен.
Сегодня на летучке завопили, что в газете уйма орфографических ошибок.
Северухина:
– Наша газета – рассадник, питомник безграмотности!
– А для чего у нас корректора? – возражает Волков. – На то и корректора, чтоб ошибки ловить. Они за это деньги получают. Хотя… Своей тут вины я не снимаю. Я ведь, товарищи, сам неграмотный. Серьёзно. Я не рисуюсь.
Он говорил правду.
Он дал свой заголовок моей статье и написал при мне на моём столе: «Есть в Генуи могила». И вот так выглядела шапка в его редакции «От Москвы до самых до окрайны».
Безграмотности – бой!
Под таким девизом провели отдельную редколлегию. Но на ней Волкова не было.
Северухина:
– Шеф тут для нас никто. Сами…
Интересно, как Волков оказался в собкорах «Комсомолки»?
18 декабря
Упомни тут!
Председателю сельсовета выговаривает парторг:
– Как ты мог нарушить важную статью? У тебя, – хватает со стола председателя книгу «450 ответов по советскому законодательству» и трясёт ею над головой, – у тебя такая книжища лежит перед носом! А ты!..
– Да разве все разъяснения упомнишь? Их четыреста пятьдесят. А я один! Упомни тут!
19 декабря, вторник
Разгуляй
У Яна Пенькова шикарно ободран нос.
– Понимаешь, старик, – жалуется он мне, – у меня с перепою руки дрожат. Вчера пять бутылок вермута один выхлестнул, не емши. Грызли у Шакалиниса какую-то столетней давности корку. А спился в сиську. В полночь хотел идти к Петуху хлеба занимать.
– И по какому случаю был устроен разгуляй?
– По случаю понедельника. В отместку за трезвое воскресенье…
Шеф кликнул к себе в кабинет:
– Вам, Толя, предстоит побыть Цицероном на тридцать минут. Выступите завтра в Суворове на читательской конференции. Поедете с Крамовым.
– Ладно.
К вечеру в редакции прорезается Шакалинис и сразу ко мне:
– Толя, добрый человек…
Сейчас будет просить денег на выпивку.
Не дослушав его, спрашиваю:
– Когда отдашь?
– Завтра, Толя.
Даю ему рубль.
Он устало усмехается:
– Толя больше своей нормы не даёт…
– Не для дела же…
– Правильно, Толя.
Фотограф Зорин сбегал на угол. Загудел гульбарий.
Я ушёл в типографию.
Скоро вваливается загазованный гигантелло Вова Кузнецов:
– Кому фонари сегодня будем вешать? Можно и Санушке…
И подымает кулаки-тумбочки.
Тут восьмеря вбегает Шакалинис и мне:
– Толя! Он тебя любит. Мы с ним на твой рублишко славно побарбарисили. И ему теперь зудится кому-нибудь смазать бубны. А проще подпиздить. Выпил Вова – повело на подвиги. У него сегодня день открытых дверей с раздачей весёлых люлей. Не попадись под его кувалды. Уходи.
23 декабря
Крамов уехал один в Суворов.
Я остался. Дежурю по номеру.
Стряслось ЧП.
Кто-то ночью забрался в кабинет замши Галины Северухиной и её корзину принял за толчок. Сходил по- большому.
Ужас…
Северухиной весь день не было.
А раньше ей подстроили… Написала она на конверте адрес матери. Оставила на столе.
Кто-то сунул в конверт фотографию голого мужика и отправил по почте.
Вечером я в типографии. У цензора.
В приоткрытую дверь заглянул ответственный секретарь Володя Павленко:
– Иди сюда… Дай… Ёбщество, – кивает на шатавшихся за спиной готовеньких Шакалиниса и Михневича, – просит. Высокое ёбщество отбывает на пивэй. А то приняли лишь по стакашику белого медведя. Маловато. Финансируй.
Я вышел в коридор и говорю Павленке:
– Почему ты барбарисишь?
Ухмыляется в усы:
– Это сложный философский вопрос. «Вино будит разум, чтобы уложить его спать поудобней». И давай без критики.
– «Если не можешь быть выше критики – пригнись».
И поворачиваюсь к Шакалинису:
– Юр! Я ж вчера тебе давал. Принёс долг?
– Т-Толя!.. Ты же знаешь, «если деньги портят человека, то тогда долги явно облагораживают». Я благородно и железно нёс тебе твой родной дуб! Но налётчики перехватили… Поужинали…
Через десять минут троица с гоготом играла горниста в коридоре, заедая мутное вино неочищенной ливерной колбасой и ломтём позапрошлогоднего хлеба, валялся на подоконнике.
Я купил кефира, хлеба и домой.
Нюрка пишет заявление. Просит прописать меня у себя и улыбается:
– Живи. Ты хороший. А без тебя скучно. Я б могла милиционера Гришку привести. Думаешь, я нравлюсь только милиционеру? Меня сам начальник обнимал! Вот! Коты эти мужики… Валенки и шубу не брала. Плохие. Выберу красивые. А то милиционер не придёт… Я б ему дала, да боюсь. Слаба. Голова кружится. Поживи до лета, а там я с ним на травку пойду.
26 декабря
Бабка-партизанка
Жизнь даётся один раз, а удаётся ещё реже.
Б.Крутиер
Вечер. Стираю.
Стук в дверь.
– Кто?
– Открывай!
Ха! Бабка-партизанка из брянских лесов приползла!
Через порожек только перевалилась и ну сразу жаловаться:
– А у меня, голубчик Анатолик, беда. В тюрьму собираюсь…
– На экскурсию?
– Сидеть!.. Да. Оба пачпорта отобрали. И теперь велят готовиться к тюрьме. Я прописалась в Брянске. Письмом прошу переслать пензию в Брянск. А мне отвечают: деньги посланы на новую квартиру. Я в собес. Там и отобрали оба пачпорта. Сама себя продала. Проболталась про оба пачпорта. «Лучше бы это вылетело из головы, чем сорвалось с языка».
– «Угрызения совести следов зубов не оставляют».
– Надо было молчать про оба пачпорта.
– Конечно! «Строить воздушные замки хочется в две смены».
– Год дадут. И не чешись, где не чесалось… Дело дальшь побегить. В милицию! В верховный орган! Теперь я всё… Пропала… А ты живи. Я буду добиваться, чтоб тебя у Нюрки прописали. Будет кому заступиться. Не то она меня растопчет, как слон больного старого таракана.
– Так как у вас оказалось два паспорта?
– Всё из-за Нюрки. Эта турка взяла мой пачпорт из-под подушки. Я четыре месяца не могла получить пензию. Голодная. Написала заявление. Через месяц дали новый пачпорт. Тут и старый отыскался под койкой… Я совсемушко пропала. Год просижу, а она меня выпишет. Эх… Я ж в Брянске прописалась… Тут бы по другому пачпорту значилась. А то… Сидеть… Как же я буду сидеть в тюрьме цельный год без пачпорта? То было два пачпорта, а то ни одного! Совсемко обнищала. И сиди ещё им за так… Цельный год! Это ж… Ну цельный годушко! Это какая ига на меня пала?
«Умом Россию не понять… А может, проблема в уме?»
27 декабря
До самой смертушки буду жить!
Ночь Нюрка дежурила.
С утра отсыпалась.
Проснулась в полдень и увидела бабку:
– О чернонёбая припёрлась! Когда ты сдохнешь?
– Никовда! Во зло тебе до самой смертушки буду жить, жить, жить! И всё!! И всё!!!
– Прибью!
– Я сама тебя убью чем попадя. Посудимся за квартиру…
– Аферистка!
– Вишь, Анатолик, как выражается? Культурная. Все мужики её!
– Я с ними ничего…
– Подзаборная шмара.
– А! – Нюрка прыгает с койки и хлоп старуху по щеке.
Старуха летит на кухню, где я бреюсь:
– Видишь, Анатолик! Налетает!
Бабка хватает чашку, чтоб запустить её в Нюрку.
Я предупреждаю:
– Начнёт бить, я не вступлюсь.
Старуха ставит чашку на стол. В досаде выдёргивает штепсель из розетки:
– На меня налетает да ещё за так слушает мою радиву! – Она срывает брехаловку со стены и прячет под ключ в гардероб. – Пойду отседовки. Не умру. На улице я буду целей.
– Иди! Иди! Костыляй! А я найду какого-нить бармалея. Не буду больше бояться! Дам!.. Гришка, рви! Рожу, как Катька. А ты иди… Мне всё можно. Я больная…
– Я пойду к твоему врачу, скажу: не давайте ей никакой группы. Она фулюганит! Бандитка!
– Молчи! А то совсем прибью.
– За это срок дадут!
– За тебя дадут срок? Не смеши!
– Драться с тобой не буду, пока не прибила.
И бабка молча уходит.
28 декабря
Не писала одному богу!
С самого утра по редакции бродит дебелая старуха и всякому, кто на неё взглянет, начинает выпевать своё горе. Не писала одному Богу. Считает, неверно начислили ей пенсию. Сорок три рубля. Была она уборщицей, получала шестьдесят.
Считает, крепко объегорили её, неграмотную.
Вчера терзала Петухова. Сегодня его нет пока. Крутилкин посылает её в партийную газету «Коммунар».
– Не пойду. Я пришла, где головы свежие и светлые. Я к умным пришла.
Появился Петух. Уговаривает пойти её к Северухиной:
– Заместитель редактора. Все эти законы знает. Идите к ней. За стеной.
– И-и! – скривила баба губы. – Когда я была ещё маленькой, так мне сказали чистую правду: корова не лошадь, баба не человек. Не пойду к бабе!
Наша бухгалтерша Вера Григорьевна, очень солидная дама, принесла свод пенсионных законов. Тычет в какую-то строчку:
– Правильно вам начислили. Сорок два пятьдесят.
– Иди ты! Ты ж баба. Что ты понимаешь? И слушать не стану!
Шеф:
– Что за шум? Мешаете работать.
Бабка:
– Я напишу в Москву самому главному. Кто главный? Был один защитник… Хрущёв… Так его съели… Там спрошу. И на тебя напишу, – кивнула указательным пальцем Петухову. – Хоть ты умный, а бабку дурачишь.
Прибежал с анекдотом искатель Витька Щеглов:
– Армянскому радио задали вопрос: «Как добиться, чтоб жена двойню родила?»
– Применяйте копирку.
Все рассмеялись. И старуха тоже.
30 декабря
Праздник
Я первым пришёл в редакцию.
Пусто. Нигде никого.
Следом за мной пробрызнул Шакалинис. Увидел меня в коридоре, радостно заорал попрошайка, выставив пустую ладошку гробиком:
– Толя, дуб!
И вскинул указательный палец:
– Всего-то один дублончик!
– Отзынь! – рыкнул я. – Сначала верни пять!
Я брезгливо отвернулся и ушёл в свой кабинет.
Шеф по дикому морозу прибежал в одном свитерочке, испачканном губной помадой. Оттиски губ ясно видны. Похоже, только что из горячих гостей. Товарищ приплавился прямо с корабля на бал. Павленко накинул ему на плечи свой пиджак.
Чувствуется приближение праздника.
К вечеру в кабинете шефа расшумелся бухенвальд.[11]
Местком расщедрился.
Шеф сказал всего пять слов:
– В общем, хорошо работали. Спасибо. Выпьем.
Хлопнули по две стопки.
Пришла матёрая одинокая корректорша Марья Васильевна.
Увидев на столах бутылки и закуску, Марья Васильевна разочарованно прошелестела:
– В объявлении было только про профсобрание. А что, профсобрание уже кончилось?
– Нет, – сказал шеф. – Ждали вашего выступления.
Она гордо роется в сумочке:
– Я сейчас выступлю с документами. Я буду, товарищи, обличать!
Хохот. Марья Васильевна смутилась.
Под хлопки ей вручают стопку:
– Потопите там свои обличения!
И шеф подсуетился:
– Здесь собрался весь наш цвет. Марья Васильевна – лучший корректор мира! Зоя Капкова – самая красивая женщина! Люся Носкова – самая коварная!..
После третьей стопки Люся подсела ко мне. Мы ахнули на брудершафт. Я поцеловал её ниже нижней губы.
– У-у-у!.. – сказала Люся.
Начались танцы.
Ко мне с лёгким грациозным поклоном лебёдушкой подплыла неотразимая красёнушка Зоя:
– Станцуем?
Глянул я на её декольте глубже Марианской впадины[12] и смутился. Я не умел танцевать и пропаще буркнул:
– Нет. Я не танцую.
1965
2 января, суббота
Жизнь вразнопляску
… без страстей и противоречий нет жизни, нет поэзии. Лишь бы только в этих страстях и противоречиях была бы разумность и человечность, и их результаты вели бы человека к его цели.
В. Белинский
Тула. Вокзал. Я кассирше:
– На проходящий один плацкартный до Ростова. Но через Воронеж!
– У нас нет такого маршрута. Только через Харьков.
Тут объявили по радио, что подходит скорый на Ереван.
На платформе я подбежал к армянину проводнику.
– Возьмём этого орла? – в поклоне приложил я руку к груди. – Всего-то до Орла-Орёлика!
– Что буду иметь?
– Рупь в новых.
Он молча отшагнул от подножки. Путь открыт! Прошу-с!
Ступил я на подножку.
Улыбаясь, он шепнул мне на ухо:
– Первый ты левый клиент в последнем году нашей дорогой семилетки.
– Очень приятно. Я буду этим гордиться весь год!
В Орле я взял билет до Ростова. Через Воронеж. Уж теперь я перед экзаменами точно с полнедельки пошикую у мамушки.
До поезда было время, и я посмотрел в кино «Мадемуазель Нитуш» за десять копеек. Вагон. Старуха рассказывает соседке:
– Потешно, вразнопляску крутится наша жизня… Злая нескладица ино так закружит человека, что и ума не сложить… Ага… Вот любила девка парня. На озере катались на ногах. Он потянул её за материн кожух. Звал в сторонку от людей поцеловаться. Похоже, уж больно сильно ему хотелось целоваться, что так крепко дёрнул и оторвал рукав.
Девка и закопытилась:
– Не пойду за него. Рукав оторвал.
Кто этих баб поймёт?
Вот и моя сноха ни с чего бах:
– Уйду к матери.
Сын:
– Не ходи. А пойдёшь – тогда не приходи.
– А с кем спать будешь?
– Пень обхвачу да пересплю.
Ушла.
Был парень ходовой. Водки не пил, со всеми при встрече раскланивался, карточка его на доске при правлении… А жена ушла. Теперь ей элементы плотит.
С неделю отбыла у матери. Пришла. И мне докладайствует:
– Согласна на край света с вашим Витей!
Я и говорю:
– Опозорила наш дом… Теперько беги сама при всём своём одиночестве на той край света иль в другую там какую сторону. А с Витей пойдёт другая, не такая бесстыжая, как ты. Разве на тебе белый свет клином сшит?
Конкурс невест
Куда скачет всадник без головы, можно узнать только у лошади.
Б. Кавалерчик
У меня два брата.
Николай и Ермолай.
Ермолаю, старшему, тридцать три.
Мне, самому юному, двадцать пять.
Я и Ермолай, сказал бы, парни выше средней руки.
А Николай – девичья мечта. Врубелев Демон!
Да толку…
И статистика – "на десять девчонок девять ребят" – нам, безнадёжным холостякам, не подружка.
Зато мы, правда, крестиком не вышиваем, но нежно любим нашу маму. Любовью неизменной, как вращение Земли вокруг персональной оси. Что не мешает маме вести политику вмешательства во внутренние дела каждого.
Поднимали сыновние бунты.
Грозили послать петицию холостяков куда надо.
Куда – не знали.
Может, вмешается общественность, повлияет на неё, и мы поженимся?
Первым залепетал про женитьбу Ермолай.
Он только что кончил школу и сразу:
– Ма! Я и Лизка… В общем, не распишемся – увезут. Её родители уезжают.
Мама снисходительно поцеловала Ермолая в лоб:
– Рановато, сынка. Иди умойся.
Ермолай стал злоупотреблять маминым участием.
В свободную минуту непременно начинал гнать свадебную стружку.
Однажды, когда Николайка захрапел, а я играл в сон, тихонечко подсвистывал ему, Ермолай сказал в полумрак со своей койки:
– Ма! Да не могу я без неё!
Это признание взорвало добрую маму.
– Или ты у нас с кукушкой? Разве за ветром угонишься? В твоей же голове ветер!
– Ум! – вполголоса опротестовал Ермолай мамин приговор. – У меня и аттестат отличный!
– Вот возьму ремень, всыплю… Сто лет проживёшь и не подумаешь жениться!
Наш кавалерио чуть ли не в слёзы.
Я прыснул в кулак.
Толкнул Николашку и вшепнул в ухо:
– Авария! Ермолка женится!
– Забомбись!.. Ну и ёпера!
– У них с Лизкой капитал уже на свадьбу есть. И ещё копят.
– Ка-ак?
– Он говорит маме: Лизке дают карманные деньги. Она собирает. Наш ещё ни копейки не внёс в свадебный котёл.
– Поможем? – дёрнул меня за ухо Коляйка. – У меня один рубляшик пляшет.
– У меня рупь двадцать.
Утром я подкрался на цыпочках к сонному Ермаку и отчаянно щелканул его по носу. Спросонья он было хватил меня кулаком по зубам, да тут предупредительно кашлянул Николаха. Ермолай струсил. Не донёс кулак до моих кусалок. Он боялся нашего с Николаем союза.
Я сложил по-индийски руки на груди и дрожаще пропел козлом:
– А кто-о тут жеэ-э-ни-иться-а хо-о-очет?
Ермак сделал страшное лицо, но тронуть не посмел.
От досады лишь зубами скрипнул.
– Вот наше приданое, – подал я два двадцать (в старых). – Живите в мире и солгасии…
Я получил наваристую затрещину.
Мы не дали сдачи. На первый раз простили жениху.
В двадцать пять Ермак объявил – не может жить без артистки Раи.
– Это той, что танцует и поёт? – уточнила мама.
– Танцует в балете и поёт в оперетте.
– Я, кажется, видела тебя с нею. Это такая высокая, некормлёная и худая, как кран?
– Да уж… Спасибо, что хоть не назвали её глистой в скафандре…
– Сынок! Что ты вздумал? В нашем роду не было артистов. Откуда знать, что за народ. Ты сидишь дома, она в театре прыгает и до чего допрыгается эта поющая оглобля… Не спеши.
При моём с Николаем молчаливом согласии премьер семьи не дала санкции Ермаку на семейное счастье.
Ермолай был бригадиром, а я и Николай бегали под его началом смертными слесарями.
Свой человек худа не сделает.
Эта уверенность толкала на подтрунивание над незлобивым "товарищем генсеком", как мы его прозвали.
Когда у Ермака выходила осечка с очередным свадебным приступом и он не мог защитить перед мамой общечеловеческую диссертацию – с кем хочу, с тем живу, – мы находили его одиноким и грустным и, склонив головы набок, участливо осведомлялись:
– Товарищ генсек! Без кого вы не можете жить в данную минуту?
Если он свирепел (в тот момент он чаще молча скрежетал зубами), мы осеняли его крестным знамением, поднимали постно-апостольские лица к небу:
– Господи! Утешь раба божия Ермолая. Пожалуйста, сниспошли, о Господи, ему невесту да сведи в благоверные по маминому конкурсу.
Бог щедро посылал, и Ермиша встречал любимую.
Ермак цвёл. Мы с Коляхой тоже были рады.
Частенько по утрам, проходя мимо проснувшегося Ермака, я яростно напевал, потягиваясь:
- – Лежал Ермак, объятый дамой,
- На диком бреге Ир… Ир… Ир…ты… ша-а!..
Ермак беззлобно посмеивался и грозил добродушным кулаком:
– Не напрягай, мозгач, меня. Лучше изобрази сквозняк! Прочь с моих глаз. Да живей! Не то… Врубинштейн?
Год-два молодые готовились к испытанию.
Удивительно!
Мама квалифицированно спрашивала о невесте такое, что Ермак, сама невеста, её марксы[13] немо открывали рты, но ничего вразумительного не могли сказать.
Мама спокойно ставила добропорядочность невесты под сомнение. Брак отклонялся.
Паника молодых не трогала родительницу.
– Для тебя же, светунец, стараюсь! – журила она при этом Ермолая. – Как бы не привёл в дом какую пустопрыжку!
Раскладывая по полочкам экзекуторские экзамены, Ермолай в отчаянии сокрушался, что так рано умер отец. Живи отец, сейчас бы в свадебных экзаменаторах была бы и наша – мужская! – рука, и Ермолай давно бы лелеял своих аукающих и уакающих костогрызиков.
Столь крутые подступы к раю супружества заставили меня и Николая выработать осторожную тактику. Объясняясь девушкам в любви, мы никогда не сулили золотого Гиндукуша – жениться.
По семейному уставу, первым должен собирать свадьбу старшук. Ермолайчик. А у него пока пшик.
Мы посмеивались над Ермолаем.
Порой к нашему смеху примешивался и его горький басок.
С годами он перестал смеяться.
Реже хохотал Николайчик. Я не вешал носа.
С Ермолая ссыпался волос. Наверное, от дум о своём угле. Потвердевшим голосом он сказал, что без лаборантки Лолы[14] не хочет жить.
– Давай! Давай, Ермошечка-гармошечка-баян! Знай не сдавайся! А то скоро уже поздно будет махать тапками! – в авральном ключе духоподъёмненько поддержал Николя́.
А мама сухо спросила:
– Это та, что один глаз тудою, а другой – сюдою? На вид она ничего. Ладная. А глаз негожий. Глаз негожий – дело большое.
– Ма!.. В конце концов, не соломой же она его затыкает!
– Сынок! Дитя родное! Не упорствуй. Ты готов привести в дом Бог знает кого! На, убоже, что нам негоже! Тогда не отвертишься. Знала кобыла, зачем оглобли била? Бачили очи, шо купувалы? (Мама знала фольклор.) Да за ней же лет через пяток присмотр, как за ребёнком, воспонадобится. Ну глаза же!
– Ма!.. Мне уже тридцать три!
– Люди в сорок приводят семнадцатилетних!
Теперь все трое не смеёмся.
На стороне Ермолая я и Николай.
Мы идейно воздействуем на слишком разборчивую в невестах маму.
Ермолай бежит дальше. Устраивает аудиенции Лолика и мамы. Как очковтиратель профессионал раздувает авторитет избранницы. Убеждает, что золотосердечная Лолушка-золушка не осрамит нашу благородную фамилию.
Лёд тронулся, господа!
Мама негласно сдаёт позиции.
Возможна первая свадьба.
Лиха беда начало.
3 января
Молодые
Станция Нижнедевицк.
Поезд ещё толком не остановился, а народ бешено сыплется с подножек и вприбег к вокзалику. Там автобусы!
Сначала я спокойно шёл. Подумал… Если все бегут, то почему я один должен тихо идти?
Я тоже понёсся на всех парах с чемоданом и с 57- копеечной тросточкой и дурашливо верещу:
– Родненькие… Ну да ж родненькие! Не спокидайте одного сиротинушку на чужой сторонушке… Родненькие… Куда же вы без меня?!
Но все продолжали бежать и с такой силой влетали в автобусы, что те качались, как хмельные. Не так ведь просто захватить место под стеклянной крышей.
Едем в районное сельцо Нижнедевицк.
Пьяный солдат ткнул папиросу в зубы, пытается закурить. Сидела рядом девушка. Она – против.
– Я сам, – говорит алик, – люблю порядок, как тот солдат на посту. Начальник караула орёт: «Сержант Петров, почему у вас беспорядок?» – «Ваше благородие! Я слежу только за порядком, а беспорядок не моё дело!» Понятно? А то я тебе…
– Не надо, – обрывает дружок.
– Не надо? Ну пусть в тишине живёт!
Дома мама, Гриша. Пришли Дмитрий с Лидой на чай.
За столом Лида покорно заглядывает ему в глаза, готова предупредить любое его желание. А он по-хозяйски гладит её пухлый банкомат[15] и блаженно улыбается, закрыв от удовольствия глаза. После чая он прилёг отдохнуть на мамину койку в кухоньке. Перетрудился на питье чая! Лида сидит рядом, гладит его, как кота за ушами, по аэродрому в лесу,[16] под мышками, он же, шельма, предпочитает дислоцировать внимание своей руки у колен и повыше, поближе к лохматому стратегическому объекту.
Ну, напились чаю, отдохнули на дорожку и в торопи отправились к себе в сераль. Им, молодожёнам, дали комнатку в соседнем гнилом бараке.
Мама и Гриша с обидой стали рассказывать, что молодые слишком увлеклись собой и забыли о делах домашних. Лида совершенно не помогает маме. Не умеет ни борща сварить, ни вареников слепить. И не хочет уметь.
Молодые едут на всём готовеньком. Они полагают, что их дело поесть у мамы, и спешно отваливают к себе на ответственные сексмероприятия.
- Вечер. В комнатке уютной[17]
- Кроткий полусвет.
- И она, мой гость минутный…
- Ласки и привет;
- Абрис миленькой головки,
- Страстных взоров блеск,
- Распускаемой шнуровки
- Судорожный треск…
- Жар и холод нетерпенья…
- Сброшенный покров…
- Звук от быстрого паденья
- На пол башмачков…
- Сладострастные объятья,
- Поцелуй немой, –
- И стоящий над кроватью
- Месяц голубой.
За любовью забыты все хлопоты по дому.
Митя даже заставляет, чтоб мама им и воду приносила. А не принесёт – приходят к маме и переливают воду в своё ведро. А до колонки лень дойти. А колонка-то ближе маминой хатки!
Вчера наши белили. Мама белила, Гриша помогал.
Молодые не появлялись. Лида лишь на секунду забежала узнать, что на ужин. Пришла и видит: Гриша моет пол. Она в восторге:
– Какой хороший Гриша!
Думаете, взяла у Гриши тряпку и кинулась сама мыть пол? Как же. Повернулась и усвистала.
Это бесит.
Дмитрия вызвали на пятиминутку. Прочистили.
Да толку…
Лидия возомнила о себе – она царская невеста![18] В нашем доме её встретили тепло, чего она, мне кажется, не ожидала. Дмитрий прогибается перед нею, мама при разговоре с нею переходит с хохлячьего на чисто москальское наречие, что очень занятно, и тон мамы несколько скован, официален:
– А что Лида будет кушать? А что Лида сидит без улыбки?
Лидия принимает это внимание за должное, к домашней работе её не нагнуть. Она так твёрдо теперь уверена, что встала под нашу фамилию лишь для того чтоб лишь благодушествовать с лодыритом Митенькой.
– Сыно, – жаловалась мне мама, – шо з ными робыты? Оно, конешно, у всякой стряпушки свои повирушки… Пудовое горе с плеч свалишь, а золотниковым подавишься… За цэй мисяць они заездили меня. Я похудела. То юбку не могла надеть, а зараз просторна, як на пугале. Шо скажешь, так и поступим.
– Разъединяйтесь! Пусть отдельно питаются. Семейное счастье – это не только постельные шальные скачки. Это и приготовление еды, и хорошо выглаженная женой рубашка, это и поцелуй вперемежку с чаем. А пока они квартиранты, а не молодожёны. Дайте им пять балеринок.[19] Больше не давайте. Голодом могут их поморить, как и самих себя. Только ангелы с неба не просят хлеба. Пусть начинают разводить своё хозяйство. А то Митяшке, этому мастеру спирта по литрболу,[20] уже тридцать пять, а он ни бэ, ни мэ, ни кукареку. На шею матери сажает ещё и свою ненаглядную бесстыжку. Они поймут, что за любовь на голодный желудок. Подарите им книжку «Домоводкой стала я». Научатся самим себе готовить. Заодно научатся и уважать седины и морщины старших.
– Золоти твои, Толюшка, слова… Да кто б щэ положив их Богу в уши? Невестушка мне… Месяц она у нас. За месяц и разу не назвала меня ни мамой, ни по имени-отчеству. Вы! И бильшь ниякой добавки. Нияк не называ… Як к холодной стенке обращаеться…
– Мда-а… Есть что вкладывать Богу в уши…
– И с чого его так заносытысь? Тут умом не раскинешь, пальцами не растычешь… Так вот спокойно глянешь… Не-е… Не смог наш Митюшок найти в лесе путящой палки…
– Чем Вам, мам, не угодил этот дровосек?
– Не мне. Себе не угодил… Не пришлось бы ему водить её за ручку… Як слепу…
– А это ещё что?
– Ты бачыв её с лица? У нэи ж один глаз соломой заткнутый…
– Стогом соломы! – усмехнулся я.
– Стогом не стогом… А глаз негожий – цэ вопрос на всю жизню… Я ж не кажу, шоб вона була гарна, як Весна. Не до Весны…
– Ну, бельмо… И с бельмом люди живут…
– У нэи бельмо и на глазу, и на душе… Вот закавыка яка лукавая… Злая… хитрая…
4 января
Коровья голова по блату
Мама еле дотащила пятнадцать бутылок вина. Это горючее для свадьбы-вечера, назначили на субботу. На девятое января.
Как вижу, вся готовка к вечеру на маминых руках.
Следом за мамой вошли пусторукие Лидуня и её отчим. Увидел он меня и говорит:
– А-а, это тот самый Толик…
– Тот самый, – подаю ему руку.
– Тихон Филиппович, – представляется он. – Неродной, как говорят, Лидин отец.
– Ничего… Бывает…
– Как говорится, наша Марья вашей Наталье троюродная Прасковья.
Мама наливает борща и Лидии, и Тихону Филипповичу.
За едой Лидуня буркнула:
– На вечер надо гармониста. Чтоб матаню дал!
Это указание.
Сторона невесты никаких расходов не несёт. Эта сторона только указывает, что купить, сигнализирует, где что выкинули, чтобы наши по дешёвке взяли.
Это ведь дед Тихон устроил нам по блату коровью голову. Иначе нигде не достать. А он сказал знакомому, чтоб отдал голову только нашим. Мама в восторге. Голова большая. Десять кило. Всё на месте. Язык, мозги, мясо на щеках. Будет холодец. Стоит коровий купол восемнадцать вшивиков.[21]
Мама налила деду стопочку. А он пить не стал.
– Не буду вводить вас в трату. Нам и одного подарка довольно…
Что он имел в виду?
У них большая семья. Они очень довольны, что ссыпали бельмастую Лидуню. И к вечеру вовсе не готовятся.
– У нас не на что готовиться, – говорит он. – Если пригласите на вечер – спасибо. Не пригласите – и на том спасибо.
Они только аккуратно докладывают маме, где что появилось. Это и всё их участие в подготовке вечера. Приходят и говорят:
– Михайловна, в магазине появилась свежая рыба.
– Михайловна, свинью привезли.
Летел снег лаптями.
Во дворе к Грише подбежал соседский мальчишка лет пяти по прозвищу Железная Голова и затараторил, подавая фотокарточку:
– Это дядя Валера велел передать вам. Он снимал вас ещё летом. Я видел… Вы на карточке ведёте велосипед. Зачем на вас каска застёгнутая на ремешок? Чтоб рот не разевали? Да?
– Вовсе нет. Каска – моя спасительница. При падении защитит голову от сильного ушиба.
– Что, у вас слабенькая голова? А вот у меня железная голова!
– Вата! – хмыкнул Гриша.
– На, вата! – Мальчик крепко учесал себя камнем по бестолковке.[22] Закачался. Однако устоял.
– Всё равно вата, – холодно роняет Григорий.
От обиды хочется мальчику плакать. Ну почему не верят, что у него железная голова?
Он разбегается.
Глаза победно горят. Он героем смотрит на Григория и с криком «Вата, да!» тараном летит на стену, стукается об неё лбом.
Мальчишка упал и горько завыл от боли.
Выбежала его мать.
– Что ты, Сашок?
Мальчик медленно побрёл к матери и сквозь ливень обиженных слёз молит её:
– Скажи, мам, этому длинному дядюре, – показал рукой на Григория, – что у меня голова железная. Она никогда не разобьётся!!!
– Правда, правда! – закивала мать и с ужасом уставилась на Сашкин лоб: ободран, над глазом пучилась кровяная шишка.
6 января
Я увидел на маме крестик.
– Что это?
– Крест, – ответила она и гордо поправила свой крестик.
– Когда Вы начали его носить?
– Как комсомолкою стала.
– Когда же именно?
– Как Гриша не стал комсомолом.
– Нехорошо-с… Коммуниста же женим.
– Пускай попросит своего партейного попа, можэ, и ему разогрешат носить крест.
– На Вас, мам, надо влиять.
– На меня уже не раз Гриша влиял после пьяного ужина.
– И что?
– Ничего.
– Ну, Бога же нет.
– Есть.
– Видели?
– Мы, грешные, не достойны его видеть.
И моё влияние оборвалось.
Вошёл Дмитрий. Стал считать гостей. Насчитал двадцать душ.
– Значит, – говорит Дмитрий, – берём тридцать пять бутылок чудила.[23] Еду на заводской машине в Воронеж. В кузове два пустых ящика.
8 января
Холодно. Рано пришла Татьяна, тётя Лидуни.
– Я, – говорит маме, – принесла вам, сваха, сетку капусты свежей от наших. Принесла и трёхлитровку квашеной. Для Мити.
– Ну, сваха, – улыбается мама, – какие у вас новости?
– У! Новостёшек полна коробушка. Позавчера Митя привёз к себе Лидушкино приданое. А вчера, по рассказам Лиды, прибегала жена директора маслозавода. Смотрела постелю молодой. Всеюшку перевернула! Ей всё скажи да покажи, да дай потрогать! Всё качала головой да причмокивала. А ещё называется – жена директора. Бесстыжуха. Лида не знала куда со стыда и деться… И ещё довеска… Вчера наша Лидуша должна была быть в смене в двадцать три. Уснули молодые. Проснулись в два. Не пошла, раз из лаборатории никто не прибегал звать.
Мама, мать Лиды и тётка хлопочут у плиты.
Я в прислужках. Помогаю им.
Какая тут учёба!
Неудобно сидеть со своими учебниками. За свадебными хлопотами я тут совсем не готовился к экзаменам. Надеюсь, подготовлюсь в сессию. Вызывали нас к четвёртому. Десятого экзамен по русской журналистике.
Сваха Таня вертит ручку мясорубки. Распарилась.
– Я отвечаю за котлеты… Говорят, Митя похудел. Конечно, похудеешь. Он же расстраивается!.. Надо в мясо побольше булок. А то накинутся быстро на котлеты, если будут только из мяса.
Гриши прибивает у молодых карнизы над окнами.
– Приглашали соседа Михаила Давыдова на вечер. Он кротко так отказался:
– Не могу пойти. Пьяный в дупло я плохой. А я так уважаю Дмитрия… Я не могу омрачить его счастье.
9 января
Жених перед свадьбой: Чувствую себя как швед, приближающийся к Полтаве
Вечереет. Жених бреется.
Лидина мать весь день помогала нашей маме. Спрашивает Дмитрия:
– При́дешь с Лидой за нами, Митя?
– Это обязательно?
– Даже. Без присоглашения молодых мы с дедом Тихоном не придём.
– Ладно. Приду.
Побрившись, Дмитрий садится за стол и начинает жадно уплетать холодец. Я присмехнулся:
– Тебе надо в такой ситуации волноваться, переживать… А ты навалился харчеваться. Такое впечатление, что на свадьбе тебе не дадут есть. И вообще просто не станут кормить. Вот ты пока холостунчик и стараешься сейчас насандалиться на весь остаток жизни?
– Да, Толик, – хохотнул он, – время тревожное. Всего можно ожидать…
– Как ты, жених, чувствуешь себя за два часа до свадьбы?
– Как швед, приближающийся к Полтаве.
К концу вечорки Митю раскиселило и он припал на мамину койку, горячечно шепча:
– Клянусь! Ты у меня единственная! Первая и последняя по гроб моих дней!..
Хмыкнув, Лидка, закормленная с осени пулярка,[24] зверовато косясь, стала прикладывать ему ко лбу и к скверику[25] мокрые тряпки и ворчливо отчитывала:
– Харе амурничать со своей первой группой крови. Угомонись!
10 января
В пять тридцать утра я отправился к воронежскому автобусу.
Провожала меня мама.
Мы простились у угла мелкорослого штакетника, охлестнувшего палисадничек с вишнями и сливами у наших окон.
Отошёл шагов на пять, оглянулся. Мама стояла со вскинутой в прощанье рукой и плакала. Я вернулся, обнял её за плечи. Она улыбнулась и перестала плакать…
– Я ухожу, чтобы вернуться… Летом… По теплу…
И, больше ничего не говоря, медленно пошёл.
Стылый ветер сильно валил навстречу, будто хотел вернуть меня к Маме.
В Воронеже писатель Николай Курасов рассказал свой сюжетец:
– В молодости я был директором школы в одной кубанской станице. Как-то на слезах[26] влетает ко мне в кабинет молодая новенькая учительница.
– Что, опять Легейда?
– Он…
Иду в класс.
– Что произошло, Легейда?
– Да что, – говорит он в щёку. – Я сижу на первой парте. Она ставила оценки… Я видел и тут же говорил ребятам. Ей не понравилось. Стала писать в журнал на коленях. Я ей и говорю: не прячьтесь, всё равно знаем, что у вас нету по заусеницу указательного пальца. Наверно, много указывали. За то Боженька вам его и укоротил.
Повёл я его к себе в тупичок.[27]
– А если б у тебя, – говорю ему, – оторвало ногу и класс стал смеяться, что бы ты делал?
– А почему именно ногу? – удивился он.
Но хулиганить не перестал. Девчонкам разрезал пальто на ленты. Я сказал отцу. Папашка таких пирогов нажарил – две недели не был в школе. Стал шёлковый.
После войны я встретил его в Армавире в закусочной. Весь в орденах. Одной Славы три. И без ноги.
– Что делать будешь?
– Учиться.
Сейчас ректор университета в Нальчике.
11 января
Ростов.
Семь тридцать.
Столовая на Энгельса у университета.
Гардеробщица с улыбкой:
– Первый голодный… Как говорили в старину, милости прошу к нашему шалашу: пирогов накрошу и откушать приглашу.
– Ну-ну… Возражать не стану…
– И я не стану возражать против пирогов, – поддакнул мне мой дружок Каменский, стоял за мной.
Держится он важным чиновником. Всегда с красной папкой. Чёрный пиджак, белая рубашка. Так и хочется отнять папку и назвать Керенским.
– Парни, – обращается к нам гардеробщица, – мне не нравится моё имя Дарья. Плохое. Только у Шолохова оно есть. Вот как перееду на новую квартиру, так сменю и имя.
– Зачем?! – удивился Каменский. – Вы хоть знаете, что это имя означает у греков? Сильная, побеждающая! Женский вариант имени персидского царя Дария!
– У-у!.. Да кто ж от царя отпрыгнет? – засмеялась женщина. – И квартиру возьму, и имя не сменю!
Библиотека университета.
В зале мест нет. Сижу за столом в коридоре среди каталогов. Готовлюсь к экзаменам.
Но невольно слышишь, о чем говорят за спиной у каталогов.
Мой сосед по койке Витёка (снимаю с ним угол у одной бабки) встретил у каталога однокурсника.
– Привет, Сань!
– Здоров, геолог! Колупать пришёл?
– Колупать.
– Как дела?
– Вспомнил… Служил я с одним из Вёшек. Задружились. Приехал после армии к нему погостить да и застрял. Собрался я под Одессу, домой. Хочется ехать с невестой. Она ж ничего не видела кроме своих Вёшек. А я саму Москву проезжал! Без помолвки марксы[28] не отпускают дочку. Я им и скажи: «Ну считайте её моей женой». И они отпустили! Поехали мы с Наткой. Теперь я при жоне, живу в Вёшках. Вот чем кончаются гостины… Иногда вижу со стороны самого Шолохова. Тестюшка мой бегает в прислугах в доме писателя. Тайком от жены подарил писатель тестю шубу. Построил школу, дорогу до Миллерова.
12 января
Будний день
«Экзамен – торжественный процесс сдачи взятых напрокат знаний».
На тротуаре у входа в университет выведено метровыми белыми красками:
«Сессия! Уйди!»
Я почтительно поклонился этому безысходному крику студенческой души и подрал по лестнице вверх.
На групповом зачёте по ленинской книжке «Государство и революция» преподавательница рассказала…
По этой работе старый препод написал свой труд. Всех студентов от этого труда тошнило. Никто не читал.
На экзамене препод, «специалист по уценке знаний», спрашивает студента:
– Ну, читали вы мою работу?
– Читал! – дерзко бросает смельчак.
– Сколько страниц прочли?
– Три.
– Давайте зачётку. Я вам пятёрку поставлю!
Ловкач студент, готовившийся за первым столиком, смекнул: «Если тот соврал про три страницы и схлопотал весь пятак, так мы можем добыть пятёрку с большим плюсом! Скажу, что на одном дыхании прочёл сто страниц!»
Идёт отвечать.
– А вы читали?
– Читал.
– Сколько?
– Сто страниц!
– Вот с вами есть о чём поговорить!
Несчастный лгунишка добыл лишь жалкую уточку.[29]
Еду с зачёта. Троллейбус набит битком.
Молодая кондукторша деревянным голосом:
– Площадка! Почему не передаёшь на билеты? Что ж ты едешь нахрапом!?
Все смеются.
– Вот не открою заднюю дверь, тогда и посмеётесь…
Все смеются ещё энергичней, а билеты не берут.
Кондукторша бессильно:
– Чем же вас ещё напугать?
На остановке задняя дверь открылась.
Желающим войти площадка докладывает на нервах:
– Девочки! Некуда! Тут своим негде повернуться!
Едем дальше.
Кондукторша угрожающе:
– Площадка! Руки вверх! Что ж вы не подаёте на проезд!?
Дома свои хлопоты.
Бабкиному внуку лет четырёх вырвали чёрный зуб.
Страдалика уложили спать с грелкой. Вскочил. Ходит с грелкой на щеке и поёт:
– Да, мы умеем воевать…
Спросите у моей жены, у матери – у кого хотите – Русские не хотят войны!
12 января
Что такое поцелуй?
Досрочно, с первой группой, сдал литературу.
Достались мне «Записки охотника». Об этой лебединой песне Тургенева мне было что рассказать. Я пешком исходил те тульские места, где жили герои «Записок». Увязал вчерашний день с сегодняшним. У себя в газете давали какой-то рассказ писателя и тут же – очерк о наших днях потомков далёких тургеневских героев.
С экзамена забрели с Каменским в гостиницу «Московская», где он остановился. В номере с Каменским жил какой-то директор из Махачкалы. Анекдотом порадовал директор:
– Что такое поцелуй? Телефонист: «Поцелуй – это звонок сверху вниз». А машинист считает так: «Поцелуй – это свисток паровоза перед входом в тоннель».
– Ну, – говорю Николаю, – слушай анекдоты дальше. А я пойду в библиотеку читать «Идиота».
– Зачем? Ты ж только что отлично сдал экзамен по литературе!
– То я сдал для зачётки. А это – для себя.
– И после этого заявления ты сам не идиот?
16 февраля
Павленко
Вчера у Павленки был день рождения. Скидывались в редакции по рублю. Почти весь день усердно-добросовестно измеряли градус на крепость.
Сегодня, похоже, продолжение следует.
Едва я переступил порог секректариата – перехватчик выпускник местного суворовского училища Павленко:
– Злая птичка перепел[30] ну совсем задолбала. Голова со вчерашнего гудит. Система у меня совсем не срабатывает. Я не святой,[31] как ты. На капремонт дай дуб!
– Кончал бы керосинить, Вовчик. Хоть бы на работе.
Он полохливо:
– Ты на что меня толкаешь? Это преступление!
– Бросить пить – преступление?
– Однозначно! Посягательство на святую традицию! Учёные доказали… Да вот читай!
Он резко дёрнул к себе ящичек в своём столе и показал на красиво исписанный листок:
– Читай!
«Результаты новых исследований позволяют говорить, что знакомство с зеленым змием произошло очень давно. Скорее всего, наши предки распробовали его десять миллионов лет назад».
– Десять миллионов лет! Этакий стаж нельзя терять. Дуб на бочку!
– Один у самого. На обед.
– Зачем тебе обед? У меня хлеб с икрой. Жертвую! Только дай дуб!
Занял я у буха. Отдал ему рубль.
Женя Воскресенский принёс бутылку вина, сунул в свой стол. Налил в стакан, озирается.
Вбегает Павленко. Расправил усы, зырк-зырк по сторонам, быстро наклонился за стол, торопливо пьёт.
«Отметился» и довольно докладывает:
– Это обед!
Вбегает Конищев.
То же.
Снова вбегает Павленко:
– Это ужин.
Женя знай льёт. Всё повторяется.
Я сказал Жене:
– Ты наш король бензоколонки!
Вечером позвонил Люсе.
– Ты вчера сказала, если не передумаешь, то сегодня поедешь ко мне. Радуйся. Операция «Хижина дяди Толи» отменяется. Заменим культурным мероприятием. Пойдём слушать в фильме «Любимец Нового Орлеана» Марио Ланца.
– Почему ты отменил операцию?
– Не думай, что все пути мужчин ведут только к бабьему подолу.
– Стрэнно, стрэнно, – проговорила она в нос.
– А мне тоже было сегодня странно услышать стороной, что ты вроде объявила конкурс «Кто быстрее кликнет в жёны?» На соискание руки госпожи N претендуют журналист и актёр. Кто быстрее? Ну?! Кто же? Да шиш! Можешь радоваться. В первом же туре я снимаю свою кандидатуру.
– Ну что ты! Я не хочу тебя терять.
При встречах мне как-то жалко на неё смотреть. Она вся какая-то… Будто из неё вытряхнули душу и, чужая, забитая, растерянная, потерявшая всё, всё, всё, она испуганно и виновато заглядывает в глаза. Она старше меня. Ей уже двадцать девять. Худая, длинная… Как глиста в скафандре.
– Как тебе актёр? – спрашиваю.
– Он даст мне больше.
– Чего?
– Ростом выше тебя. Сто семьдесят четыре. Старше меня на год. Печально-серьёзен.
– Вот и развесели его. Беги, где больше.
– Я не могу сделать тебе подлянку. Я тебя люблю. Пока ты сам не бросишь, я не стану с ним… Мои друзья работают с ним. Сказали: «Если начнёшь с актёром и у тебя окажется ещё кто-нибудь, такую гадость смолотим, что…». Видишь, милый… Может, ты меня бросишь сейчас? Ну подумай хорошенько. Я выйду за того, буду твоей любовницей. Ну чем плохо? А так… Сколько мне ещё вот так быть? Хочу стать бабой. Хочу рожать детей. Понимаешь? С актёром выйдет. Он серьёзный. Не буду же я всю жизнь любовницей…
– Поступай как тебе лучше. Нам же с тобой не хватает «одного сумасшествия на двоих».
17 февраля
При редакции открыли школу репортёров.
Первое занятие.
Шеф представляет завов. Дошёл до меня.
– Отдел сельской молодёжи «Колос». Анатолий, простите, – и смотрит на меня.
Забыл фамилию мою? Или вовсе не знает?
Я встал и назвал свою фамилию.
– Отчество? – опять уставился он на меня.
– Никифорович, – подсказываю.
– Очень толковый товарищ! – И опять взгляд на меня: – Не примите за комплимент. Я просто говорю. Успешно кончает Ростовский университет.
Каждый заведующий рассказал о своём отделе.
Стали записываться в отделы.
Я приуныл. Ну, кто побежит в мой «Колос»? Ну, кто из горожан любит деревню?
Ко мне записалось четверо.
Одна Елена чего стоит! Роскошная дева.
Говорю с нею. Подходит Конищев:
– Девушка, так вы на село?
– Да.
– Жаль. Давай ко мне.
Лена отмолчалась, и Конь отлип.
Я повёл Елену в типографию, показал печатный цех, рассказал, как делается газета.
Типографские девчонки из зависти окрестили меня областным женихом.
Подсуетилась и Люси:
– У твоей Елены одно лёгкое. Не кичись.
Слово за слово. Опять она затягивает песенку про актёра:
– Я б могла уйти к актёру. Но совесть терзает…
– Канючишь себе вольную? Выдача только в Юрьев день!
Планёрка. Северухина:
– Дата Генделя. Надо бы дать.
Шеф:
– А кто этот Гендель? Чего он сделал? Кто его знает?
– Все.
– Кому нужен этот Гендель? Я его не знаю и знать не хочу. Ниже Баха не даём!
5 марта
Профсоюзное собрание.
Петухов, профсоюзный руль:[32]
– Да хоть и десять раз съездим в целях объединения в лес, но коллектива не будет. Кучек у нас слишком много!
– Конечно, не могучих! И какая групповщина? – удивляется Павленко. – Вокруг меня собирается группа, когда соображаем на троих. И больше групп не бывает.
– Ой, Володя, не скажи, – режет ответственному секретарю Вера Григорьевна, наш славный бухгалтер. Дама в годах, солидная, суровая. – Ну во что превратили редакцию? Каждый день в каком-нибудь отделе обязательно отмечают день гранёного стакана![33] Ну на что это похоже? Вот… Как говорят в народе? «Когда с человека уже совсем нечего взять, с него берут пример». Отрицательный! Про кого это? Про Конищева! Человек ведёт идеологический отдел. Главный в редакции! И кто главный наш алкаш? Конищев. Ну не паразит?!
Конищев кривится в ухмелке:
– Как вы докажете?
– Я собираю бутылки и пишу, кто пил.
Конищев в молчании опускает голову.
Искренне, путано говорил правильные слова о вреде разгуляев Коля Кириллов, наша кинозвезда. Коля снимался в фильме «Они шли на восток». Исполнял роль трупа в массовке. Как и положено трупу смирно лежал. Продержался на экране ровно одну секунду. Лежал вниз лицом. Среди прочих трупов. По попенгагену[34] его сразу узнала лишь Неля, жена.
А наша пани Зося, как звали в редакции Зою Капкову, оказалась приличной хулиганушкой. Её выбрали в счётную комиссию. И вскоре пожалели. Зося тайком нашлёпала кучу лишних бюллетеней. Выбросила из списков неугодных, вписала своих. Зосю раскусили и завтра по-новой придётся голосовать.
Досталось на орехи и нашему шефу. Только ничего такого он не слышал. Был-то далеко от Тулы. На хоккее в Тампере.
15 марта
Вчера, в воскресенье, ездил в Ясную Поляну. Купил сувенир «Скамейка Толстого».
Похвалился сегодня сувениром Павленке.
В ответ Павленко тоже похвалился. Достал у себя из ящичка свой значок, на котором написано: «Мне б водки да хвост селёдки».
Кто-то из авторов, чтоб поскорей напечатали его, притащил в секретариат бутыль спирта.
Павленко, Кузнецов, Михневич сияют.
Кто ни войди в секретариат, тут же плеснут спирта на стол. Поджигают.
– Смотри! Горит! Настоящий спиртяга! – и восхищённо пялятся на синее пламешко.
Михневич потирает руки над весёлым огоньком:
– Ну как не сделать классиком этого молодца, кто принёс!?
Михневичу надо рвать куда-то в Москву. Да не на свои, а по системе: ёлка, дай палку, палка, дай балку!
16 марта
Пенсия
Я рано прибежал в редакцию.
В коридоре под моей дверью стояли три старушки. Одну из них я сразу узнал.
– Здравствуйте! – поздоровался я со всеми и слегка шатнулся к своей знакомице: – До сей поры так и не вернули Вам пенсию?
– Обижаешь, сынок! – радостно улыбнулась она. – Вернули по-чистой! Ещё ка-ак вернули! С извинениями! С поклонами!
– Входите. Расскажите…
Я распахнул дверь в свой кабинет, пропустил старушку вперёд.
– Рассказывайте свою эпо́пию!
Я приоткрыл верхний ящичек своего стола, потянулся взять недописанную вчера статью.
Статью накрывает десятка.
– Вот вам мой короткий и ясный рассказ!
– Что Вы! Что Вы! Не-ет! Такие рассказы мы не принимаем!
Я сунул десятку в сумку старушке.
Мне неловко. Ей пуще того.
Она в растерянности бормочет:
– Как же тако, сыно? Ты волчком крутился, бегал по моей печали… И как не возблагодарить?
– Сказали спасибо. И вся благодарность.
– Сказать язык не отвалится. Велико слово Спасибо. Да Спасибко в карман не положишь и домой не принесёшь.
– Ну… Хватит об этом… Ваша курица шпионкой прокралась в соседский огород. Погреблась чуток… Соседка, секретарша сельсовета, в отместку навертела ворох липовых бумаг, отправила в аньих ножках, того и гляди подломятся. Я написал фельетон «Себестоимость кукиша». Как дело побежало дальше?
– Шибко красиво! Секретарке дали по шапке. Райсобес раскумекал, честь честью вернул мне всю пензию. Да вот днями скрутился маленький цирк. Эту секретарку – ни Богу свеча, ни чёрту ожог! – местная властёшка качнула в районные депутатихи.
– А это уже песня для нового фельетона. За нами не усохнет.
– Вот и спасибствую тебе, сынок! И мы не на руку лапоть обуваем!
17 марта
Первый костюм
Универмаг «Москва».
Купил первый в жизни шерстяной костюм. Брюки немного широковаты. Надо бы сузить.
Прибежал в мастерскую. В работу не берут. Много заказов.
Мастер:
– Приходи через час с заднего входа, кавалер. Спросишь Кудрявцева. Да имей три пятьдесят.
Пришёл с главного входа.
Сошлись на двух пятидесяти.
Вечером дежурил в типографии. Наткнулся в коридоре на Люси́. Она корректор.
Остановились посплетничать.
Слово к слову. Опять она за своё:
– Я нужна тебе лишь как женщина?
– А ты не прочь позабавиться мужичком?
– Такая девушка-переспелка по тебе вянет… А ты всё бегаешь холостунчиком… Жаль, дорогой… Мужики дольше и осторожнее выбирают сапоги, чем женятся. И ты не исключение. Ты тоже когда-нибудь женишься пожарно.
– Так точно, мадам!
– А я… А я так больше не могу. Мне нужен муж. Хочу рожать, как баба. Двойняшек хочу.
– А я что тебе? Автомат по штамповке двойняшек по спецзаказу? Мне самому надо сперва стать на ноги… Университет надо сначала закончить…
– Ну ты становись на ноги, а я выйду за шута. Он на всех перекрёстках гремит крышкой, что влюблён в меня. А ты не гонишь меня от себя… Не развязываешь мне руки. Ну прямо собака на сене…
– Цуцык на соломе! Поступай как тебе ловчей.
19 марта
Волков вернулся из Тампере.
Купил себе куртку, финский нож, авторучек с изображением голых женщин.
– Я и там, – хвалится, – создал отряд по образу нашего «Искателя». – Сорок малышей строил в ряд, гонял. Каждое утро ждали у отеля. Как покажусь, кричат: «Мяу! Мяу! Мяу!» Приветствуют. Подарили мне сувенирную маленькую клюшку. Копию той, которой был забит на чемпионате последний гол. Привёз и сувенирную последнюю шайбу с чемпионата. Наши ребята продавали там столичную, покупали тряпки.
В пять отметили встречу шефа и день рождения Носковой.
Вычли по пять рублей штрафа с Кириллова, Петухова, Пенькова. За полмесяца они не сдали по 12000 строк.
Люси поднесла мне билет в театр на премьеру «Закона Ликурга». Делать нечего, надо идти.
Играли скверно. Но им всё равно вежливо аплодировали. Артисты долго не уходили. Становилось похоже на то, что они выклянчивали себе аплодисменты.
Меня зацепило, что Люси с припадочным энтузиазмом молотила в худые ладошки, и я швырнул с нашего тёмного балкона двушку в сторону сцены.
Люси зашипела на меня и тут же вылетела на пуле на лестницу.
Наверное, на сцене был и её чичисбей.
20 марта
Мысли Льва Толстого
(Выписки из книги Александра Гольденвейзера «Вблизи Толстого».)
Помните, что прежде всего и важнее всего быть человеком. По отношению к людям нужно стараться больше давать им и поменьше брать от них.
Истинно одарённый сильный ум может искать средства для выражения своей мысли, и если мысль сильна, то он и найдёт для выражения её новые пути. Новые же художники придумывают технический приём и тогда уже подыскивают мысль, которую насильственно в него втискивают.
Нельзя научить искусству, как нельзя научить быть святым.
Критика, как кто-то справедливо сказал, есть мысли дураков об умных.
Женщина вообще так дурна, что разницы между хорошей и дурной женщиной почти не существует.
Мужчина, как он и ни дурён, в большинстве случаев умнее женщины.
Когда вам рассказывают про затруднительное, сложное дело, главным образом про чьи-нибудь гадости, отвечайте на это: вы варили варенье? или: хотите чаю? – и всё. Много зла происходит от так называемых выяснений или обстоятельств.
Всё во мне, и я во всём. (Тютчев).
Загадать орёл или решётка и решать на этом основании дело.
Счастье возможно только при отречении от стремления к личному, эгоистическому счастью.
Все людские пороки можно свести к трём категориям: 1. гнев, недоброжелательство; 2. тщеславие; 3. похоть в самом широком смысле.
Счастье не в том, чтобы делать всегда, что хочешь, а в том, чтобы всегда хотеть того, что делаешь.
– Вот ты, Соня, всё хочешь иметь изумрудные серьги; возьми двух светляков, вот и будут серьги.
Истинный путь борьбы с насилием – неучастие в нём.
Самый лучший будет тот, кто живёт чувствами других людей, а мыслями своими. Самый дурной – кто живёт чужими мыслями, а чувствами своими.
«Если моё произведение все бранят, значит, в нём что-то есть. Если все хвалят – оно плохо, а если одни очень хвалят, а другие очень бранят, тогда оно превосходно». (?)
Я совершенно бездарен, мне стоит большого труда письменно выразить простую мысль; мне трудно написать обыкновенное письмо.
Никто не может быть таким другом, как жена, настоящим другом. В браке может быть или рай, или настоящий ад, а «чистилища» не может быть.
Я бросил университет именно потому, что захотел заниматься.
Писать надо только тогда, когда каждый раз, обмакивая перо, оставляешь в чернильнице кусок мяса.
Современное путаное мировоззрение считает устарелою, отжившею способность женщины отдаться всем существом любви, а это её драгоценнейшая, лучшая черта и её истинное назначение, а никак не сходки, курсы, революции…
(Из сборника Толстого «Мысли мудрых людей»)
Жить остаётся только одну минуту, а работы на сто лет.
Музыка – это стенография чувства. Так трудно поддающиеся описанию словом чувства передаются непосредственно человеку в музыке, и в этом её сила и значение.
Бессмертие, разумеется, неполное осуществляется несомненно в потомстве. Как сильно в человеке стремление к бессмертию, яснее всего видно в постоянной заботе о том, чтобы оставить по себе след после смерти. Казалось бы, какое человеку дело до того, что о нём скажут и будут ли его помнить, когда он исчезнет, а между тем, сколько усилий делает он для этого.
Лев Николаевич обращал внимание на приметы. Отмечал роль 28 числа в его жизни: родился 25 августа 1828 года; первый сын родился у него 28 июня. Многие другие значительные события его жизни приходились на 28-ое, вплоть до ухода его из Ясной 28 октября 1910 года.
22 марта
Плагиаторская алкашная парочка Конищев с Михневичем опять подпустила вони. Из какой-то заводской щёкинской многотиражки они стянули очерк, выдали за свой. Обиженные подлинные авторы написали Волкову.
Волков требует объяснительную.
Михневич хорохорится, почистив губы кулаком:
– Ерунда! Перезимовали и – ладно!
Да ладного ничего.
Оба схлопотали по выговору, вылетели из редколлегии, удержали с них гонорар за краденый очерк.
Пролетели и с халтайной выпивкой. А это уже совсем худо.
Парторг Смирнова:
– Конищев и морально плохой. Жена Светлана жаловалась мне на своего Коня.
Волков:
– Конищев и в обкоме комсомола не пользуется авторитетом.
Но через два дня этот же Волков назначает Конищева заведующим отделом пропаганды.
Вся редакция так и присела.
Пути начальниковы неисповедимы.