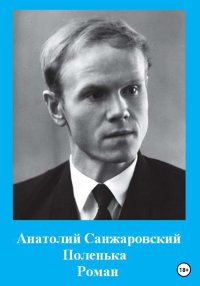
Читать онлайн Поленька бесплатно
- Все книги автора: Анатолий Никифорович Санжаровский
1
Алексенй Кольцов
- Красным полымем
- Заря вспыхнула;
- По лицу земли
- Туман стелется;
- Разгорелся день
- Огнем солнечным,
- Подобрал туман
- Выше темя гор.[1]
В крайний день недели, в субботу 17 апреля 1926 года, Владимир Долгов проснулся ещё до зоревого часа, не в пример как рано, третьи петухи едва пробовали голосить. Тотчас по обычаю схватился на локоть, разготов был уже встать, но не встал, глаза задержались на жене. Она улыбалась во сне.
«Во кому житьишко развэсэла малинка. Бач!..[2] Шо бабе хотелося, то и наснилося! Ит ты, як мало дитё цвэтэ-лыбиться!..»
Эта улыбка немало подивила Владимира. Раньше он не знал этой лучезарной улыбки своей Сашони; Сашоня никогда так цветасто не улыбалась, разве что ещё, может, в давешнюю предвенечную сладкую пору, так с той поры сколько слилось снегов, сколько отцвело садов… Всё то далече отошло, позабылось совсем, и Володьша привык, просыпаясь всегда первым, видеть кроткое, тихое, какое-то страдальчески виноватое выражение на её сонном яблочно-круглявом лице. В этой виноватости Владимиру виделась и покорность, и благодарность ему, и принимал Владимир ту благодарность за должное, дёргал себя за вислый ус, довольно хмыкал, мол-де, за моей за спинушкой эко ты, красёха, просторно разбежалась в теле, раздобрела – не перескакнуть одним духом, и, неслышно, ладясь не разбудить Сашоню, вставал.
Владимир не увидел на угнетённом женином лице привычной виноватости, на зыбком свету видел он улыбку-цветок, и это не то что срезало его с толку – качнуло в замешательство, в обиду. При ней, говорил себе Володьша, ты, короткотелый обрубыш с петушачьей грудкой, ну слитый казачок на посылках как при той барыне, так и подумают, казачок, кто не знает, покажись только на чужие глаза, ткнись куда из хуторка из своего Собацкого,[3] толь выскочи за порог Собацкого, и ты уже не Владимир Арсеньев Долгов, а казачок в красной свитке. (Владимир уважал красный цвет, у него с полдюжины красных рубах, три красных кепки.) Уничижение возымело злую силу, и Владимиру, смотревшему на бессловесную в миру свою Павловну, казалось, принимают его за казачонка не только сторонние люди, но и она сама, преподобная, иначе на что б ей так ехидностно трунить-лыбиться? И застит ещё свет, ничего с-за этой горы не доходит от окна, лежишь у стены за ней, как в тёмном в колодце! Покуда лежишь, вроде темно, ночь, а высунься за этот бугор – день!
Владимир приподнялся – окно и впрямь мутно белело.
– А-а! Шоб оно скисло манэсэньким! – распалённо проворчал Владимир. В спешке перескакивая через жену, задел её ногою и ковырнулся на пол.
– Ит ты, махра сыра! Выставила свою ярманку! Шоб тебя в раны разбило!
– Не горюйте, тату, жива кость обрастае… Тату, ну чого ото Вы схватились и буркочете в таку раницу? Черти с угла щэ не злазили та не билися нав кулачки… Пол новисинький, ту весну перестилали, а Вы – зволь радоваться! – головой… Пробьетé…
– Этой голове да чугунную шею, ей ба износу… избою не было… Радуйсе, козье племя, крепкой голове!
– Радуйтесь и Вы, шо жинка у Вас… Сами ж похвалялись, покы вкруг мене обийдэшь – калач съешь, така стала я ото вся справна…
– Справная!.. Ни рыба ни мясо и в раки не годисся! – вшёпот подкрикнул Володьша.
Одевшись, он вышел во двор, вышел не как-нибудь, скребясь, почёсываясь, зевая; не-е, так не выходит из дому работник, так выходит байбак, приживала, шалопут, наперёд которого сама лень родилась; такой спозаранку от подушки не оторвётся, а если и оторвётся, да и то тогда, как малая нужда в насмешку погонит на минуту за ригу иль в лозинки цыгану долг отдать; сбегать он сбегает и бух дозорёвывать; такой совсем не встанет разом с ветром, а встанет в одночасье с ребятнёй, закурит ещё в постели, будет с пол-утра всласть дымить, утолкав под себя на татарский лад босые ноги; век будет потом одеваться и совсем нехотя, будто делает человечеству развеликое одолжение; посмотрите, как он выходит: идёт едва не спотыкаясь, прикрывая обеими руками зевающий рот; не-е, такой в утро не работник, он ещё весь там, под тёплым одеялом, под боком у разомлелой бабы, весь там, а тут его одна тень, а какой из тени хозяин, домовит наконец? Оттого у такого в поле урожай на сурепку, и двор если когда и ломится, так только от шально-богатого снега, и сам дом у него крив, на подпругах, и в самом доме катни шаром, на мёртвую мышь разве и наткнёшься, не нашла и малой малости на разживу… Такой до обеда еле раскачается, а там уже снова клонит в тепло, в разомлелость…
Но вы посмотрите, вы только посмотрите, как поутру выходит первый раз из дому Владимир! Это стоит того, это поможет как-то почувствовать хозяйскую силу этого маленького человечка, на чьих плечах весь дом стоит, даст силу воображению уяснить, какой великий порядок держится и в голове и в душе этого человечка, подаст ключик к пониманию достатка в его доме…
Каков зачин, такова и песня.
Почин дня у Владимира своеобычный, панасковский (его зовут по-уличному Панасок): выходит он за порог сановито, с сознанием святости момента, выходит как великий воин к своему войску, которое уже готово к делу; поверх всего выходит и с той быстротой и радостью во всей фигуре, в лице, в походке, с какой покидает темницу не по делам, а по злому навету попавший в неё человек: срок вот сошёл, темница уже за спиной, и он, содрав с головы шапку перед этим новым днём, перед этим небом в барашках, сулящим утро доброе, раскидывает руки до хруста в плечах.
С непокрытой головой, с малахаем в руке Володьша входит перво-наперво в денник.
– Ну, шо тут наш Панасок? – спрашивает глянцевито-седого жеребца в чёрных шикозных носочках. – Драстуйте Вам!
С лёгким ржанием жеребец поворачивает на голос голову, Владимир прислоняет её в ласке себе к груди, сатиновой подкладкой малахая вытирает жеребцу низ глаз.
– Вот и мы умылись… Спрашуешь, а где наш завтрик? Во-от наш завтрик… Поспел наш завтрик…
Владимир достаёт из ублещённой в работе стёганки горсть тёплого – ватник висел на печке – овса, припасённого ещё с вечера, и не без восторга наблюдает, как зерно старательно подбирается толстыми радостными губами.
Склочные сухие голоса грачей скрипят в лозняке за хатой. Не переставая есть, конь наставляет самолетиком уши на грачиный брёх, как бы вслушиваясь, про что это там грачи судачат, и Владимиру думается про весну, про то, что вот через неделю какую и в поле, про то, как тяжко будет им обоим, и Панаску, и самому Волику, и надо, разнепременно надо молодцом управиться с севом…
Володьша приносит жеребцу овса в ведре, воды.
Усмехается:
– Накорми коня, он и видок подаст…
Сделав одно, он без внешней спешки, обстоятельно наваливается на другое, ладит грабли, уталкивает сани в глубь двора, под навес, берётся насаживать колёсный обруч…
И мелькает юркая фигурка то в одном конце двора, то в другом.
Малахай у Владимира на самом затылке. Жарко! Наконец малахай ему кажется вовсе ни к чему, и он вжимает его под соломенную стреху амбара на удивленье воробьям.
Ростом Володьша не взял по той простой причине, как он сам пояснял с присмешкой, мало на меня дождя шло, того и присох на корню. При встрече незнакомые глядят ему вслед, дивятся, как он мал. Дивится и сам Волька. В лице, в тонких его чертах, особенно в глазах – восхищение, удивление такое, что его и скрыть не скроешь, как ни пожелай. На что бы он ни смотрел, он воспринимал всё весьма значительным, порядочным, таким, чему не подивиться просто нельзя. Серые маленькие удивлённые глаза посажены так глубоко, что целиком их и не видать из-под нависших кустов тёмных бровей; нередко детское удивление сменяется в них испугом и тогда кажется, что глаза очень сторожко выжидают под космами метёлок, когда же отшумит гроза, вогнавшая их так далеко.
Владимир не бреется. Окладистая борода весьма кстати зимой утепляет лицо, делает его несколько старше его сорока двух лет.
Но, пожалуй, самое занятное в Володьше его походка. Ходит он так, что сразу и не поймёшь, то ли он собирается бежать, уже срывается на бег, то ли он уже бежит-идёт. Голова, верх корпуса всегда сильно наклонены вперёд, как у бегуна; ноги, обутые в кирзовые сапоги, в которые заправлены домотканые штаны, как будто отстают, где-то сзади, отчего чудится, не пойди он быстрей, вприбег – упадёт лицом. Со стороны его походка похожа на ту, из детства, когда, набрав по жадности полное, с пупком, ведро воды, пытаешься нести его впереди себя, и тогда не понять, то ли ты его несёшь, то ли оно тебя тащит, и ты летишь боком за ним, боясь от него отстать, боясь упасть.
Если слегка поцарапать голову, подумать, отчасти можно уяснить торопливую походку Владимира. Тяжела шапка у отца семейства, в котором помимо жены, семнадцатилетней дочки Пелагии, сынов Петра десяти лет и Егорки, минул вот на Сретенье второй годочек, развязал третий, ещё с полк неспособных уже к хлебному делу стариков: 95-летний дед Кузьма, его сын Арсений, Владимиров отец, мать Владимира Оксана, её брат, больной дядька Арсюха, тёзка Владимирову отцу. Эко ноев ковчег! За них на том свете уже давно хороший получают пенсион, но кормить всех надо ещё на этом; да всякого накорми, напои, а дела не спроси. Куда ж там спросишь, раз он стар, раздавлен долгими трудами, долгими годами, а не стар, так мал, там и вовсе со спросом проезжай мимо. Как тут не забегаешь, как тут проспишь зарю? И как тут первым не выскочишь поутру из дома?.. Того-то Волику часов и не нужно, сам проспит, так зорька поднимет.
Мало-помалу утро разгорается.
Насаживая обруч на тележное колесо, Владимир вошёл в пот. Облокотился на тележную грядку из вяза, рукавом собирает пот со лба и ясно улыбается из-под ладошки жене. Степенно переваливаясь с ноги на ногу, как хорошая гуска, круглявая Сашоня медленно шествует с подойником к корове, нарочито не видя в упор своего Володяшу… С кизяком, с ботвиньем на топку прожгла Поля.
Владимиру не стоится у телеги в молодое, в погожее утро, и он, то ли жмурясь от первых золотых лучей, то ли улыбаясь им, идёт посмотреть на своих пансионеров. Всех неработающих мужиков, – и ребят своих, и стариков – навеличивал он пансионерами, намекая в пошутилку, мол, живёте, как панове, и отвёл им одну дальнюю глухую комнату пансион. В дом заходить не хочется, он семенит к неплотно занавешенному окну и видит в глазок Петра с Егоркой на одной кровати. Ручонки разбросали как не свои, у Егорки ножка свесилась… Старчики – сами с ноготок, а белые бороды с локоток – лежат по-одному, лица, как у святых с икон.
Сравнение легло Володьше к душе; к глазам живо поднесло вчерашнюю картинку, и он тихо рассмеялся, боясь побудить кого из панов, пускай те и спали крепко, хоть огня подложи.
А свертелось вот что.
Дед Кузьма с сыном Арсюхой, Владимировым отцом, сели на приступках погреться. Кузьма, давешний мастак по черевикам, взялся вроде того и поработать на первом после долгой зимы тёплом солнушке, стал шить да, на беду, в дрёме вальнулся со ступеньки. Арсюха, вместо с выговаривавший т, вскричал в сердцах на своего отца:
– Тато! Татана! Та куда ж ты падаешь?! Не бачишь – близко край!
Кузьме не с руки было сознаваться при правнуках, что-де во какой дряхлый, сам с приступок хмельным мешком валится, он и съябедничай, навороти на своего же семидесятилетнего сынаша:
– Не-е… Сам я не мог… Комусь будэ грех от Бога и стыдно от людэй… Не мог я сам своим путём кувыркнуться… Якась чортяка штовхнула…
– Яка ж, тато?
– А яка спрашуе…
– На шо ж Вы на мене брехню кладете?.. Та за цэ, тато, малых бьють! А Вы… За мое жито та мене ж и бито… Я не подывлють, шо Вы мени батько. Я там двичи батько!.. У мене борода довше Вашои!
– Ой, Арсюха… Арсюха… Дуб ты, дуб, та щэ зэлэнэнький… Розум у тебе чистэсэнький, як стекло… Найшов чем хвалытысь! Да у козла тэж е борода!
Это был предел дерзости, и каждый почёл своим долгом смертно постоять за себя, тем более уже никто из посторонних поблизости не топтался. Вдвое согнутые неподъёмной ношей долгих лет стареники слепились, но силёнок у них только на то и сподобилось, что схватиться друг за дружку. В дрожи обнявшись и зыбко упёршись друг в дружку, ни тот, ни другой больше не выказывал никаких злодейских поползновений; со стороны глядя, можно было подумать (так так оно и было), что они с копылков сбились, выдохлись от минутной возни и теперь просто отдыхают, копят дух для мамаева побоища. Неизвестно, как бы всё оно и сварилось, не появись на ту минуту Владимир.
– Эгэй! – крикнул Владимир. – Казаки! Вы чего мне песок по двору рассыпаете? Достукаетесь… Вы у меня впознаете, почём ковшик лиха!
Разом оттолкнувшись друг от друга, воители разом и посмотрели себе под ноги и лишь тогда догадались, на что это намекал Волька.
– Схватись петушаки-голяки Петро с Егошкой, я б живо-два расклеил, толь ремешком ш-ш-шелкани. А тут люди на возрасте… можно сказать, на краю лет…
– Полуветер![4] А шоб тебя намочило да не высушило, в прах расшиби! – с обиды пальнул Арсюхе дед Кузьма и пошёл лёг, лёг с самого полдника.
Вечером они всегда ели пшённую кашу с молоком из одной из обливной миски. На этот раз Кузьма лежал носом к стенке, без сна сопел, будто воз сена вёз, вполуха слушал Арсюхины молитвы встать поужинать, но так и не встал. Арсюха ел против обычного плохо, вполаппетита, зато вывершил миску каши Кузьме и, отходя ко сну, поставил её на тумбочку у изголовья отца.
– Ничё, душа не балабайка, пить-етть протить… Прокинетьтя на голоде, щэ тпатибошко ткаже плохому Артютке.
А подъехал-таки хитруша Арсюха летом на санях!
Заглядывая теперь в окно, Владимир с улыбкой отмечает – миска пуста, а раскрашенная деревянная ложка так и осталась в руке у деда Кузьмы, забыл положить после дела, так и спит с нею, держа её поверх одеяла на груди…
Утро ещё раннее; наворочено довольно; чувствует Владимир, что на роздых вполне заработал, и он садится на широкую неструганую лавку под старой разлапой грушей, в бережи достаёт из красного кисета на пояске тяжёлую чёрную, как голенище, от дыма, от времени люльку, втыкает в уголок рта.
Владимир сроду не курил и не курит, но вы бы посмотрели, как с важностью завзятого казацкого атамана первой руки он посасывает сейчас эту трубку без табака, без дыма, без огня! Всё счастье Владимира не в дыме, а вовсе в другом, в том, что эта трубка случилась именно в его руках…
О, если бы вы знали, как много может рассказать эта трубка, родившаяся под ножом где-нибудь на Днепре… Никто не скажет, сколько ей лет. На худой конец могут наперёд заверить, что ей, как и казацкому роду, нет переводу. Владимиру на его свадьбе эту трубку преподнёс отец. Было у него пятеро сыновей, а вот выбрал Вольку и преподнёс этот знак запорожской казацкой вольницы. Отцу трубка досталась от деда, деду от прадеда и так она в роду шла-кочевала из поколения в поколение.
Память…
По истории, в глухую старину на Воронежье жили «неразумные хазары», печенеги, половцы, татары. Уже потом, позже пришли великорусы с зимней, полночной, – с северной стороны. Алексей Михайлович и Пётр Алексеевич выселяли сюда мастеровых, стрельцов, военный и работный люд, боярских детей, не пожелавших служить.
Правились сюда переселенцы и с утренней, где восходит солнце, с восточной стороны, и с вечерней, где оно заходит, – с западной, и с летней, полуденной – с южной.
Море понабилось черкасов (так в былые времена здесь зывали украинцев) после слома в 1775 году Запорожской Сечи и украинского самостоятельного казачества. Сплошь всю Украину подвели, поджали под одну струну, пригнетая ещё вчера независимых, вольных казаков – казак из пригоршни напьётся, на ладони пообедает! – к оседлой тоске хлебопашца да внабавок к тому ж в краю, где земли кругом нехват, и вешними шалыми потоками схлынул и на воронежские благодати весь клокочущий, безземельный люд, и «опрятные, чисто снаружи выбеленные мелким мучнистым мелом хаты с голубыми, жёлтыми, серыми, зелёными и реже красными каймами вкруг дверей и окон, не отступающие ни на ноготь от линии-плана узкой, тесной, но всегда чистой и ровной улицы вовнутрь, в глубь двора, что, к слову, у черкасов за обычай, эти белее снега хаты медлительных, сострадательных к беде ближнего, доверчивых поселян плотно усеяли попервости берега рек, лога, а там и подмяли, забелили собой – с неба сёла виделись застывшими белыми мазками иль разбросанными в спехе белыми казацкими саблями, – заняли – черкасу дай простор, в чистом поле ему теснота: один кашу варит, да и ту прольёт, доставая огня на люльку и опрокинув котелок на треножнике, – заняли, если смотреть по карте, весь низ Воронежья едва ли не до самой середины, места с богатой землёй, места тёплые. Этот раностав на морозе не жилок и подавней того не работник. Он никогда долго не думает и решительно не любит вечеровать, сидеть по ночам при деле. Единственное, до чего черкас большой охотник, так это малярничать. Хлебом его не корми, дай только краски да кисть, вот где ключ к опрятности и живописности его жилища».
И любил черкас чумаковать.
Умей Владимирова люлька говорить, какую бездну занятного и жуткого поведала б она о своих хозяевах, чумаках-скитальцах, которые обозом в сотню воловьих фур да при выборном обозном атамане смело хаживали в дальние дальности, одолевая в сутки по двадцать пять вёрст. Сам Волька ещё в парубках ходил с обозом и в Царицын за рыбой, и в Бахмут за солью, а уж про Воронеж да про Елец, куда возили пшеницу на ссыпки, лучше помолчать. Очень часто, чаще, чем в церковь ходили.
Случалось, с дороги чумак, весь в дёгте, весь в смоле, возвращался не при барыше, а в полном накладе, да при молодой жене.
Смешанные браки благоприятствовали обрусению; и что ещё само спешит-просится в строку – мужики первые приклонялись к русскому и корень того был в долгих дорогах. Как-то уже так оно само выплясывалось, что, вернувшись домой, чумак и не замечал, что прилипшие в скитаниях чужие глянувшиеся слова лезли на язык, толклись на языке и дома.
Зато баба… На миру, на выездах, она никогда не бывала, дальше поля своего не выскакивала. Пришлому слову она не торопилась кланяться. На ней держался дом, на ней держался и язык дома.
Однако тот давний запорожский казак, точнее, его потомок ощутимо подрусел на Воронежье, но при всём притом в языке его что-то да и зацепилось, уцелело, выжило такое, что всё-таки напоминает пускай и отдаленно украинскую речь.
Заговори сегодня воронежский степняк с чистокровным запорожцем – вряд ли поймут в доподлинности друг друга с первых глаз, а вот крючковатые слова, живописно перекрученные судьбой вдали от днепровской сини, непременно расколдуют союзом, уяснят себе в тот же час; зато манера слушать, лучезарно светясь и сияя и загодя в искренности радуясь каждому звуку, каждому жесту рассказчика, зато манера говорить, говорить пленительно-певуче, доверительно-мягко, говорить светло-доброжелательно – Боже праведный, да всё это духом сполна выкажет родство, хоть и разделённое пропастью веков.
Мне почему-то кажется, всяк говорящий на украинском не горазд на злое, настолько младенчески чист этот язык. Холодный ум скажет – вздор, я перемолчу, я ничего не отвечу, но в мыслях я ещё с бо́льшим убеждением встану на сторону своих слов, а отчего – я и себе не объясню.
Я лишь прошепчу вслед за поэтом:[5]
- «Я постою у края бездны
- И вдруг пойму, сломясь в тоске,
- Что всё на свете – только песня
- На украинском языке».
Всё в мире тлен, бессмертен лишь язык. Богатеет, разживается он новыми словами и в то же время постепенно лишается чего-то устарелого, отжилого, но никогда не умирает, как не умирает сам народ.
– Тату! А я никак тебя не побачу по-за дымом. Думала, горишь. А цэ ты так куришь…
Владимир обернулся на шутливый голос; тяжело, кошёлкой, шла от дома жена; тихая, затаённая улыбка конфузливо плыла по её праведно-покорному полному лицу.
– Бросай-но окурювать грушу. Иди-но завтрикать. Пора подвеселить зубки… Завтрик уже поспел.
Владимир нехотя прячет люльку в расшитый кисет.
2
- Для чего ж на свет
- Глядеть хочется,
- Облететь его
- Душа просится?
Запоздавший Егорка небрежно молился в плутоватой спешке.
– Что мотаешь рукой, как цепом! – подструнил его Владимир и с поклоном поздоровался со стариками, уже сидели за столом: – Здорово себе ночевали.
Старики степенно в ответ закивали.
Все они ждали его одного, без хозяина никто не смел начать против обычая. Но вот хозяин занял свое место за столом, заждавшимся ложкам дана воля. Как заведено, каждый молча, обстоятельно черпает непременно полную ложку, будто взаймы.
Поев, старики так же без слов выходят друг за дружкой из-за стола с той стороны, с какой и заходили, это чтоб беседу не ломать, идут оттаивать свои косточки на солнышке, уже тёплом с самой рани.
Кузьма предусмотрительно угнездился на низкой приступочке у самой у земли – вознесла даве нелёгкая на верхотурину, будь она неладна, поплатили своими боками. А потому нынь мы умней противу вчера, при падении дурость первая расшибается и идёт из головы впрах, поумнели мы, стал быть, вот так, говорит весь торжествующий вид деда.
– Тато, – с нарочитой унылостью подтирается Арсюха, – як надумаете падать, так ткажить мени, я толомки ридному татови кину. А не утпеете крикнуть, так хватайтеть за мэнэ. А то вжэ за атмотферу не вдержитэть – ре-едкий таки в нат воздух, не то шо каша т дымком, – сетует Арсюха, садясь-таки плечо в плечо с отцом и подымая с земли клок сухого хрусткого сена, упал с навильника утром, когда проносил Володьша от стога к яслям.
– Торохтишь, як лопух… Який же ты, хлопче, таранта… Пустый тарантас! Наторохтишь – на трёх фурах не вывезешь. Ты у мене ще засмиешься на кутний зуб![6] – беззлобно грозит Кузьма насмешнику и толкает того локтем в бок. – Ой, засмиешься!..
Старики весело захохотали, точно ссора и не ночевала.
А солнце между тем подпекало; жарко уже; старики снимают овчинные шапки, расстегивают на верхние петельки тулупы и даже вороты полотняных толстовок; наконец жара окончательно подломила; упрели, устали они от неподвижного сиденья.
– За плечьми як ангелы сидять, – говорит Кузьма. – Пишлы по двору поспотыкаемось…
– А чего ж не пойтить, – соглашается Арсюха.
Оставив на порожках шапки, тулупы, они утягиваются размять ноги в безмолвном, в грустном путешествии по двору.
Манит стариков наотмашь распахнутая амбарная дверь; не сговариваясь, медленно подскребаются к ней, приставляют сухие ладошки козырьками к глазам – с улицы, с солнца, с такой яркости сразу и не разберёшь, кто там хлопочет в амбарном сумраке; но через минуту какую глаза свыкаются с темнотой и совсем ясно видят, как Волик пересыпает ковшом семенную гирьку (сорт пшеницы) из сусеки в мешок, и Петро, мелконький, вёрткий, жилистый – вот отлиток отца! – помогает бате широко держать мешок.
– Ну шо, Петро, колы будэ тепло? – с подвохом щурится дед Арсюха. – Колы нам можно будэ везти кожухи на ярманку? А?
Петро хмурится, поджимает губы; с обиды начинает сопеть.
– Чего топишь? Иля много знашь?… Шо за музыка – обижатьтя… Ну-ну, молчу… Работай! Може, – тердце мое чуе, туттавы мои говорять, – може, и заработаешь на воду к хлебу иля на шнурочек от бублика…
Кузьма метнул колкий быстрый взгляд на Арсения, собиравшего хиловатые смешинки в жидкий кулачок.
– Арсюха, шоб тя лихоманка затрепала!.. Хотешко и довго живéшь… Як стара халява завалялась под лавкой… А умок дитячий… Знову ругаться, делить с тобой шутовы яблоки, не рука. Но я напрямо искажу: попридержи язычок на привязи. Дурна ото привычка подкусывать малого! Кабы ты не боялся смерти, надвое б разорвался, только дай помудровать над кем другим… Той же Петуша! Вин робитнык, не то шо мы… Напару поотпускали били бороды до самого до греха и рады!!.. Можем щэ свить кнут та собак дражнить, а на соль к селёдке уже и не заробымо. Куда нам до Петра!? Петру за добру роботу батько нови штаны справил. Молодец, Володик, гарна обновка!
– Да какая там обновка, – отзывается Владимир, сдувая в мешок вслед за льющимся из ковша зерном тяжёлые ядрышки пота. – В обед сто лет! Как бы там у него монастырь уже не прогорел.[7]
– Наскажешь! – возражает дед Кузьма. – Ну да, обновочка… Сзади, на подушечках, и не блещать. Як ненадёваны!.. Не думають и протираться.
– Того и не думают… – куражливо пускается Володьша в пояснения. – Наверши мне Петруха чего непотребного, я аккуратненько штанчата сдеру да и по голому делу разогрею ремешок… Так оно экономней, правда, Петро? И дело варится, и штаники повсегдатошно новёхоньки!
Петро теряется. Ну зачем отец заради ловкого словца высыпает перед дедами кучу неправды?
Мальчик не знает, что сказать, и зачем-то ещё ниже угинает голову; и без того мелкорослый, как бы сказал дед Кузьма, раку по плечишки, он, Петро, становится ещё мельче, сутулее, как-то виноватее, что ли; и далёкие детские голоса игравших в лапту одногодков где-то на самом на отлете Криничного яра заглушаются учащённым стуком маленького хлопотливого сердечка.
– Ну что, горит душа поточить копытца на выгоне? – участливо спрашивает Владимир сына, качнув головой в сторону ребячьих голосов.
Мальчик придавленно молчит, краснеет.
– Ну, бежи, бежи. На сёгодни будэ.
Мальчика как радостным ветром уносит.
В шесть рук завязав полный чувал с зерном, мужики усаживаются на лавке у амбара; сам собой настёгивается раздумчивый разговор о весне, о севе, о погоде, о будущем урожае, и за всеми словами, за вздохами одна мольба-слезница: уроди, Боже, дай-подай хлеба: солома в оглоблю, колос в дугу, зерно в набалдашник. Ах, их бы речи да Богу в уши!
– Не допутти Готподь и в это лето накажет урожай… Вот где запоём матушку репку…
– А может, – перебивает Владимир отца, – и то снова крутнуться… С Богом не подерёшься… Давешнее лето беда… Ни тучки, ни дождинки… Пылюка по полю танцювала под ветром, как за дурным колесом. Уродило – Вам ли слухать? – колос от колоса не слыхать и голоса… У нас того нынче и семеннику нехват. Где б его да у кого разжиться, обменять там на что иль занять до новины с возвратом?
– Как у кого, – очнулся было задремавший дед Кузьма, сквозь кисею легкой дрёмы слышавший, о чём это так доверительно толковали сын с внуком. – Как у кого… А забув… На Спас гостювала у нас новокриушанская тётка Олена, так казала-хвалилась, у них, Бог миловал, дожжи способные перепадали, так что с хлебом они. Даже говорила, гирька местами удалась крупная, як той горох.
– Ит ты! Так чего ж, ляпалки, дело бобами кормить! – ожил Владимир. – В непременности, дедове, сей же мент треба засылать послов к Олене!.. Мать, а мать! – окликнул он Сашоню, наливала из деревянной кружки воду в сковородку для кур; те тут же смело окружили её плотным белым шатающимся кольцом, занялись пить, с вельможной важностью поднимая головы, как бы распробывая воду на вкус, и тут же стремительно опуская клювы к сковороде. – Где у нас Полька?
– Полька? У криницы[8] холсты полоще. Сбегать позвать?
– Сам схожу.
За долгое потное утро Владимир весь изломался в этой бесконечной беличьей круговерти по двору: тут подтяни, там вон подбей, там переложи, а там, а там, а там… Батеньки, да нешто у Володьши тыща рук, не какая же он не индусская танцующая Шива, он всего-то и есть что Волик Долгов, всё то и богатства у него, что две руки православные, и всё ж доволен, что не ляпал спозаранок в две сонные руки – сработал, и то, может быть, вдесятеро против себя, сработал влад, дорого теперь глянуть с улицы посверх плетня, утыканного банками, на двор свой, крепкий, хозяйский, в холе.
Ему подумалось, а не так уж и кисло тянет он свой воз, раз на хуторе старые мужики в зависти покачивают головами. Ай да молодец, Панасок! Ай да молодец, Волик!
Усталый Владимир вмале подобрался и ещё раз, уже с налётом не то удивления, не то сановитости, глянул с улицы на свой двор поверх низкого, вровень с Петром, плетня и невесть чему улыбнулся несмело, рассеянно. Улыбнулся своим делам? Эти дела были дитя его рук, его души; он видел, что дитя его не хуже чем у кого хошь сравни по соседям в Криничном яру, и стыдливая радость распустилась розой на его по-мальчишески веснушчатом лице, будто кто сегодня на заре сыпанул в лицо горсть веснушек, сыпанул кучкой, в одно место, веснушки не успели разбежаться от носа далеко, да теперь и не разбегутся: облило их утреннее солнце глазурью, теперь не смоет ни одна роса, не выест ни один пот, пускай и седьмой; ему сдавалось, небо сегодня не в пример выше вчерашнего; звенел птичьими голосами и весь лог Лозовой, приютивший два века назад первых выходцев из Новой Криуши, приютивший и весь отселок, хуторок Собацкий; проснувшийся, умывшийся, наевшийся хуторок стучал, точил, отбивал, пел металлом – в этих извечных предпосевных весенних хлопотах всяк слышал могучую музыку пробуждения; хоть и велика зима наша, а и та прошла, и весна нам не чужая, и лето нам родич большой, и осень-панночка не зла к нам, а шапку пред ней ломишь да на коленки валишься, до тех степеней люба каждому, и осень каждому своя, богатейским сыпнёт урожаем, только дай всему ум, дай всему простор.
Владимир шёл по своей улочке и все с ним здоровались по-особенному почитательно. В ответ он кланялся и старикам и детям без разбору: с поклона голова не отвалится.
Нечаянно застигнув Полю в болтовне с Серёгой Горбылёвым, Володьша в изумлении примёр у плетня. Вот так так! Докатилась до грязи девка! В день, при народе свиданничать!.. И холстину наполаскивает, и шуры-мурничает!.. Ой, девонько, напряду я тебе на кривое веретено!
Увидела Поля отца, ещё круче наклонилась к корыту, ожесточенней навалилась на стирку. Руки у неё красно горели, холодна родниковая лёд-вода.
Не ускользнуло от Долгова и то, как горбылёвский бычок, заметив его, по-скорому черпнул в вёдра, может, на вершок всего и стриганул Володьше навстречу, норовисто угнув голову, будто собирался его боднуть, но вместо всего того с благочинностью в голосе, важевато, мудрёно так поздоровался:
– Путь Вам чистый на дороженьку… Счастливо!
Долгов зачем-то улыбнулся ему в полупоклоне, чинно даже оглянулся в улыбке, дивясь неожиданно хитрому и отрадному приветному слову; и чем долее смотрел он парню вослед, тем приметней сияние на его лице вытеснялось недоумением, а там уже и гневом.
«Ах ты, козий потрох! – пустил в тыщи, обругал себя Владимир. – Кому ж ты лыбился?.. Горбылю-козлу! Воистину, козёл козла видя издаля… Крепше гляди, Володяха, как бы этот козёл не навертел хлопот, что не станет у девки сбегаться капот…»
Раскипелся Владимир, разозлился на себя за то, что вот в срам себе на голову раскланялся – и раскланялся-то как? – почитай не ломал шапку перед этим шалопаем, которого смертно не терпел, и не только его одного, а и всю горбылёвскую рать.
Долгов свирепо повернулся и вцепился взглядом парню в спину; тот уже пропал в своей калитке, а Владимир всё не двигался с места.
«Ит ты, лише и сто́ите! – жёлчно плюнул и растёр плевок. – Выдул – тольке в бугаи и пустить!»
К Горбылёвым, к соседям, у Долгова была затаённая, заскорузлая давешняя злость. А разберись да разложи всё по веточкам, что и делал он частенько ночами, так Горбыли не так чтобы и плохи. Приветливые, этого у них не отберёшь; без зла, с добром живут к людям, последним поделятся… Как-то вон цыганьё залётное по дворам гадало. Где пирожок, где скибка хлеба с ладошку, то и вся им красная плата за брехеньки, а Горбыль, сам, фуфайку с гвоздка да и старой ведьме, мол-де, морозики вечерами ещё пошаливают, а ты в одном, прости Господи, платьишке, рано кожушок продала… Ну не дурак? Дурак, неумытый ду-рак, думал Владимир. И по части грамоты дураки не приведи Господь каки. Накарябали, настругали детвы полным-полную под завязку хату, будто ребятёжь у них, что мокрицы от сырости разводятся. Стемнело. Сами, зволь радоваться, на ликбез и ребятню позамуторили той школой. На двоих одинёшеньки сапожики, на пятерых одна шапчонка – а учатся все! Прибежал один, другой нырь в его сапоги да и в путь по своим заботам. Каждой морковке свой час… А на что, спрашивается, вся эта музыка? Ну на что это господне наказание? От тех же книжек резону – навару с пустой воды толще! Не знал я, как в той школе двери открываются, не держал и минуту ту книжку в руках – а жив, ещё как жив без книжек, хлебом жив. Хлебушко духовитый на стол – и стол престол, а хлеба ни куска – и стол доска!.. Сегодня не кусни, завтра не кусни, а там и кусалки-то не разожмёшь. Амбец, спёкся и остыл Босяк Антеллигентович… Ты носом почаще в навоз тыкай дитё, скорейше учует, как пахнет хлеб, скорейше поймает, как он достаётся, скорейше само возьмётся раздобывати его… А этот, Серёга, коломенская верста с долгими, неудалыми, как грабли, ручищами, несёт попереде себя и не знает, куда их и деть… этот так полных три класса отбайбачил! И привычка – видать, в школе подучили, где ж ещё такому научишься? – идёт, идёт да и станет столбом посередь улицы, задумается, как осёл перед порожними яслями; тс-с-с, не мешайте прохвессору думу думати… Что ничего – малый ладен ростом, а так плетень плетнём, не цопкий, не хваткий, не ловкай в делах при земле. Бабы пытают раз Горбылиху, на кого погонишь Серёгу учиться, а она руками картинки разводит, на что ж его и как его учить знать не знаю, ведать не ведаю, а надо. Видали?!.. А на что ж там только и живут? Пустой двор небом покрыт, полем огорожен, за что ни хватись, всё в люди беги. Там нищета – собаку нечем с-под стола выгнать. Одно слово, хвать в карман – дыра в горсти и боль ничего другого. В лучшем случае, наткнёшься в кармане на вошь на аркане иль на блоху на цепи. Ну, бабы на язычок язвы, досказали за Горбылиху, чему-чему, а вилами горох собирать, глядишь, и научится её Серёга… Эха, два плеча одну садовую головушку держат! Да хоть сто классов кончай и дуракуй потом всю жизню до самого до заступа, мне-то что с того, думал Владимир, только какого огня этот грамотник, этот дармоглот, чирей те во весь бок, топчет пятки Польке моей? Громом и молнией не отшибёшь!
И припоминает Долгов, припоминает решительно всё, как дело не дело, а всякую субботу-воскресенье Серёга с сеструхой Проськой, Полькиной товаркой, вертелись у него, у Владимира, в доме. Конечно, чего уж тут гадать, где коза во дворе, так там козёл без зова в гостях. И только дай добраться до огорода, так он, – а чтоб его черти облили горячим дёгтем! – так пополет капустку… И Полька вытворяет там такое, что и в борщ не крышуть. Это уже нож мне острый. Затягивает всё паутиной, таит от родного батьки. Когда ни спроси, куда это ты убралась, как на кулички, так ответ раз по разу один – Проську жду. «А Проська вона какая!» – с сердцем буркнул Владимир, увидав поверх плетня Серёгу, промелькнул из хаты за сарай с ведром помоев.
– Так шо мы тут поделываем? – нарочито вяло спросил отец, подходя к Поле.
Пристально приглядывается он к дочери, будто впервые так близко, так хорошо видит её, и ловит себя на мысли, что дочка, которую он всё считал ребёнком, далече ой уже не малёха: на голову выше батьки, широка, ловка в кости, крепка, туга телом; какая работяга в чужой уйдёт дом, да не приведи, Господь, в горбылёвскую курюшку. Не-е, нашим там нечего делать, твердил отцов взгляд, и она читала именно это, как полагал Володьша, а оттого и покраснела вконец – спекла рака, но ответить ответила примято:
– Шо Вы туточки делаете, я не знаю, а я… – опустила глаза на корыто, на свои руки, не переставая полоскать.
Умей она угадывать отцовы хотения, – из этого вышел бы прескверной пасьянишко, поскольку беспокойство за неё было порядочно выгрязнено расчётом доходного замужества, умри, а непременно чтоб за богатика из прочного семейства, пускай даже за нелюба, да за деньжистого. Денежки не Бог, а пол-Бога есть! Деньги – крылья!
Владимир отмеривал мерку по себе. Его не спрашивали, нравится или не нравится ему его будущая жёнка, без спросу подпихнули под венец, на том и весь сказ; а чего же он станет чичкаться, кто тебе по сердцу, за кого б пошла, а за кого и подумала; не-е, таковской канители Володьша не попустит и коль выдаст Польку, так на ах, только за такого, что не в стыд будет ни перед старыми людьми, ни перед Богом самим.
По ночам, мучаясь бессонницей в своем чёрном колодце, Волик маятно перебирал всех собачанских хлопцев и ни один ему не подходил: тот голяк, нашему козырю не под масть, а тот и навовсе в грамоту лезет, ещё хуже, последнее то дело… Всё чаще натыкался он на горбылёвского попрыгуна, кто всё толокся на видах – по надежде коник копытом бил! – и, кажется, Полькино серденько не в равнодушности к нему, что и тревожило и страшило Владимира. Ну на кой лях пятнать дочку нищетой этого комсомоляхи-грамотея? Не-е… Сам христарадничай, а мы тебе не компания!
Владимир собирался с духом сказать ей про это сегодня да завтра, сегодня да завтра, а парубок не промах, как что – тут как штык. Ну какая его сибирка погнала вот нынче за водой? Увидал, моя прошила, и себе туда, воду из ведра шварк под плетень да бегом следом; прежде подмечал это Владимир и сам, и стороной слухи такие препасквильные доплёскивались. Оно и моя хорошка хороша: краснеет, кумач продаёт, а пялит на малого синие свои мигалки, как дураха какая. Покуда не запела про горбылёвских сватов, надо разом отхватить эту петлю…
Он уже провертел, как приступиться; сначала спросит, а чего это тут крутился Горбуля, а чего это ты с ним в переглядки играла? Ну, говори, говори, я ж видел всё сам!
Но всё то, висевшее на кончике языка, упало в небытие без слов, без единого звука: отец сконфузился своего же умысла. Ну что ещё за самосуд заваривать у криницы, дочка ж, не кошка какая заблудная, и на миру ломиться в живую душу с кулаками, пускай и родительскими, никак не резон, а потому наместо внезапной кары он, осклабившись, поздоровался уважительно, как с настоящей прачкой:
– Беленько тебе, доча!.. Вода холодит?
– А кто её грел, тату? Руки лубянеють…[9]
– Ну раз такой макар выпадает, кидай всё то хозяйство, мать дополоще. Пошли в хату.
– Да я уже…
– Ит ты, не упрямься. Не гни всё под свой ноготок. Идём-ну. Дило!
– Якэ щэ дило?
– Дома искажу. Не среди ж хутора цынбалы разводить.
Переступил отец с ноги на ногу, помялся и поплёлся обратно к дому по старой гладкой, хоть боком катись, тропинке, вертлявой, узкой, как девичья ладонишка. Поля уже на бегу вытерла руки о низ платья, глянула назад через плечо на холсты в корыте, нагоняя отца.
Дома отец усадил за стол Полю напротив себя; всякому делу он придавал ту хозяйскую основательность, которая велась в дому испокон века.
– Вот оно шо, доча… Предстоит тебе дорога в Новую Криушу. У свояченицы Олены поспытаешь, а сколько мер гирьки она могла б нам дать наперехват до новины. Так-таки и сложи, доцё, моими словами… А то може статься, не хватя нам на сев, не скисли бы при печальном интересе. А можь, и без неё сольём концы, так запас не оторвёт карманы. Найдётся шо – завтре ж в вечер я и сгоняю к ней на бричке… Ну шо его ще?..
– Да вроде всэ ясно.
Поля встала. Отец жестом велел сесть.
– Ну ты спогоди. Попередь батьки не суйся в петельку… Будь там поприветней. А то она мамзелька с больши-ими бзыками. Отночуешь у неё, взавтре утречком в обрат додому. А зараз поешь да и поняй с Богом… Мать, а мать! – подвысил Владимир голос, обращаясь к жене, толклась с чугунками у печи. – Чем ты нас подкормишь?
– Невжель у нас нечего кинуть на зубок да заморить червячка? – с укором Сашоня уставилась кулаками в широкие бока.
– Не заморити… Его накормить треба як слид.
– Я зараз, зараз… А на дорожку не грех взять с пяток яець с собою. Патишествие – така даль, полных девять вёрст! Не до лозинок за катухом доскочить… А яйця и готовы, курчатам наварила цельный чугун.
При виде чугуна с яйцами Егорка весь аж затрясся.
– Нянь! – Егорка звал Полю няней, знал, кто его вынянчил. – Нянь! Солнушко! Солнушко мне! Солнушко!
– Завтра Боженька подаст.
– Да ну уважь ненасытны глазенятки, – заступается мать за Егорку. – А то будет вертеться тутечки под ногами, як бес перед обедней.
Поля чистит яйцо. Желток, крутой, хоть колесом дави не раздавишь, подаёт Егорке.
– На, плаксик, твоё солнушко!
– А белток, нянь, сама…
– Ладно… Поаккуртней ешь, не чвокай. Поменьшь губами ляпай. А то свиньи со всего Криничного яра сбегутся на собрание под окно.
– А вут и не сбегутся! Калитка на новой на вертушке. А вут и не сбегутся!
– Поговори, поговори у мэнэ! Поболтав та и за щеку. Мовчи…
– Разве ты не бачишь, шо ей не до тебя? – осаживает Егорку отец. – Отойди… Отхлынь от греха. Не дёргай за нервы… Ты у меня шо, ремня просишь иля чего? Так за мной не прокиснет… И жаль ремня, а треба погладить дурачика, скоро подживешься воды на кашу, – мягко смеётся отец, наблюдая, как Егорка, затолкав в рот целый желток, потешно ловчит разом его проглотить, поводя и вытягивая тонкую шею то в одну, то в другую сторону. – Хоть за работу не хвалять, зато за еду не корять!.. Ай да Ягор! Ай да Ягор!
3
- Грудь белая волнуется,
- Что реченька глубокая —
- Песку со дна не выкинет;
- В лице огонь, в глазах туман…
Дело сказалось за всё просто, оттого и вскорую решённое; удачливая Поля посмотрела в окно на высоко ещё стоявшее над вечерней стороной солнце и у неё мелькнуло, а чего это я буду тетушкины перины мять, я ж завидно поспею домой! Девушка встала с лавки, поправила на себе розовую юбку и такую же розовую кофточку, застегнула её на верхние пуговицы. Повязала белый лёгкий шарфик.
– Дитятко! – вскричала тётушка, горько всплеснув руками. – Что это за сборы, обдери тебе пятки!? Куда? На ночь-то!? Иль ты месту не радая?! Иль ты к чужим прийшла?! Иль ты не в казаках живэшь?!
Не сказать, как обиделась тётушка; она причитала, выговаривала и жаловалась сразу, в её голосе всё это клокотало, плакало, твердя про свычаи-обычаи, которыми славились-держались все поколения казачьих потомков в округе; хотя и никакие они уже не казаки, а преобыкновенные скотари да хлеба пашцы, однако навеличивали они себя по-прежнему казаками, а раз так, так свято и чти гостеприимство, ничуть не приупавшее со времен Сечи, пренебречь которым почиталось невозможным грехом, кощунством над всяким домом; в неискренности тётушку никак нельзя было заподозрить; с причитаниями, с попрёками носилась она вкруг огорошенной и вмиг присмиревшей Поли, жестикулируя невыразимо энергично коротенькими ручонками.
В этой старушке всё было мало, хило, в чём только и душа жила. Ростом она не выскочила, телом Бог тоже обделил; источилась за жизнь, в нитку извелась, и была она так худа, так мелка, что, не видя её в лицо, примешь за двенадцатилетнюю от роду болезненную страдаличку. Бледное лицо её было не просторней кулака, иссечено глубокими частыми морщинами; сдавалось, это был как бы окаменелый слепок тернистых дорог, пройденных за былые долгие, мафусаиловы, годы, и был он портретом её бесталанной доли. Тонкий, острый, длинный нос несколько искривлён; причину домашние находили в том, что тётушка, сморкаясь, весьма недружественно, весьма энергически хваталась за нос всей пятернёй, с превеликим усердием и ожесточением оттягивая его на сторону; с таким злым усердием, с такой жуткой постоянной основательностью сморкалась она всякий раз, что и не заметила, как то ли подвывихнула нос, то ли приучила его к росту вкривь, но, одно слово, не приметила, как свесился он в обидчивом безразличии набок – куда клонили, туда и гнулся.
Зато глаза…
Непостижимо, как могли на этом мёртвом отжилом лице молодо сиять эти глаза. Боже правый, это были как будто ещё ничего тяжкого не видевшие глаза, смотрели в мир доверчиво, светло, лучисто. Глаза – это и всё богатство тётушки, которое ясно видел всяк, чувствовал всяк, которому покорялся всяк, – столько в них жило доброты, чистосердечия, участия; а вместе с тем в них толклась и пропасть какой-то необъяснимой боязни, сокрушившей сейчас и Полю, отчего девушка, потупившись в смущении, бесшумно опустилась на краешек лавки у окна.
– Да не к окну, не к окну, дитятко! – весело защебетала тётушка. – Ты, дитятко, садись вот сюда! Тут, дитятко, сидит только сам!
Старуха дёрнула от стола мягкий, красного вельвета, стул; с краёв верха высокой резной спинки навстречу летели друг другу два деревянных всадника с копьями наготове. На этом стуле сидел всегда тётушкин муж.
– Ты не косись… Ты у нас гость, а гость невольник, где посадят, там и сиди. Это хозяин, что чирей, где захочет, там и сядет. А наш, – старушка до шёпота снизила голос, – а наш чирей зараз далеченько! Так что мы сами полные с верхом хозяева. Бабиархат… бабий архат… А понятней чтоб тебе – бабий верх у нас нонче.
На стол перед Полей явилась порядочная миска богатырского борща; он был так густ, что в нём стояла ложка; потом припожаловала сытая тяжёлая курочка, возвышалась горкой на деревянной тарелке.
– У нас с им, – последовало пояснение, – полное равное правие, обдери те пятки. Курку ему – курку мне да и по весу гран в гран… Я сама на руках вешала… Да ты перед борщом не робей… Я не в счёт, а самого-то нетути. Обозом с мужиками повёз вчера картохи в Богучар. Дожжи у нас в прошлом лете не то что часто, а как край надо, так и шумели. Картохи уродились грех обижаться. Ума теперько не составим, куда его ото всё и определить… Погнал вот на разведку первую арбу. Под метёлку свезём, положи лише базарик необидную, способную ценушку… А картохи-охи наши сто́ят дорогого! Там таки хороши! С два кулака кажная! Твёрдые, будто каменья, все как перемытые…
Тётушка метнулась в сени; внесла литровую банку киселя, посмотрела его на свет.
– Тут за один цвет, – довольно так сказала, – можно денежку брать, а за вкус не поручусь… Вот тебе орешек наших… С киселём…
– Тётя! За глаза всего наверхосытку! Да куда орешки ещё?..
– А ты с дороги хорошенько поищи всему места. Лакомый кусочек да не найде себе куточек?.. А за борщ ставлю пять. Молодчинка, весь учистила, взавтре будет вёдро.
Залюбовалась тётушка Полей, сладко подумала:
«Сам Володейка с ржавый напёрсточек. А дочка оха и ловка-а… Не какая там Аксютка толстопятая… Нарядна личиком, красава… Велик праздник глазу всякому, зависть и сухота глазу молодому… Майская берёзка…»
Уже вечером, при огнях, когда по второму разу были перевеяны все собачанские и криушанские вороха новостей, тётушка снова подкатилась к гирьке.
– Так ты не забудешь? Передай батьке, десять мер-пудовок его, пускай еде забирае, коли не лень. Я не продаю, не меняю… С новины вернёт. Ухватила? А под верность запиши…
Тётушка взяла с подоконника и подала клок бумаги, химический карандаш-обглодыш с палец.
Поля тыкнула карандашом в язык, налегла на стол и тяжко уцелилась писать во весь клочок. Будь он впятеро обширней, она б и тогда, наверное, писала б во весь лист. Разом прошиб её пот, задрожала рука; карандаш вовсе не слушался и всё норовил скользом вывернуться из употелых пальцев.
– Иль ты забольшь Бога знаешь, что сопишь, обдери те пятки? – со смешком уколола тётушка.
Единичка у Поленьки совсем упала навзничь, а ноль, разбежавшись её поднять, сильно наклонился вперёд, не удержался, не устоял и теперь тоже лежал на крутом своём боку.
– А ну-к, покажь, над чем ты там так геройски сопела… Ба-а! Да оне у тебя что, пляшут аль с мамаевского попоища возвертаются? Ты что ж, не можешь толком написать?
– Цэ, тётя, и так гарно… Я к грамоте не умею…
– А разь ты в школу не бегала?
– Як же… По чернотропу пошла у первинный класс, по первому по снегу и кончила.
– Ум расступается… Не пойму… Ты чего так быстро разделалась с учебой, как тот повар с картошкой?
– А шо тут не понять? В осень мама начали прясти, – по обычаю, об отце-матери да и вообще о старших Поля всегда говорила во множестве, что было признаком особого почитания, – мама сели ото за пряжу, а меня и пристегни на все пуговки к Петру в няньки, не на кого было кинуть малого. Попряли… Опять не до школы, ткать треба. А там весна… закружились огороды, поле… Так там и без учёбы дилов под завязку.
– Да-а… За таковскую несвязицу я Володяре спасибушка не поднесу. Палкой бы ломанула! Я и не знала, что он тебя до школы не допустил.
– Приходила за мной два раза учителька… Молоденькая… Зараз бы по плечики мне. Хвалила меня. К учебе, говорит, девочка хорошо берётся. Прилежайка. Попервах тато буркнули ей: а нам не вновях, других не держим. Вот допрядём, там и побачим. Наявилась по вторичности, а тато были сердиты, зык на них напал, шо ли, и на дыбошки. Так и так, говорят, товарищ учительша, чего ж нам в прятки играть, я человек нестерпчивый, я вам прямушкой грохну: повадился ваш кувшин к нам по воду ходить, понаравилось, бачите. Да как бы ему голову не расшибли! Не надо учить безногого хромать. Не учите и козу, прижмёт, так с возу сама стянет. Моё дитё, моя воля, моя властушка – так не сильте, без вашего научим чертям кочерыжки подавать да на собак брехать! А вы идить от греха, покуда я ремень с пупка не спустил… Бильшь к нам учителька ни ногой…
– Аря-ря! Лихой казаче Вовчан, чересчур лихой грамотник, родимец тебя хлыстни! А так со стороны глянь – по бороде апостол, муху не обидит, а родное дитё, ешь его мухино сало… Не с больша ума удрал штуку…[10] – Тётушка горько вздохнула. – Без грамоты, дитятко, жить – век пеленать нужду… Вон оно как… Уж лучше б ты училась, поколе хрящики не срослись… В детстве-то…
– Да Вы тако не убивайтесь, – скорее себе жалобно сказала Поля и ей стало тесно в груди. – От беды не в воду же… Не така я уж и зовсим пропаща. Я всё-всё умею, толечко в одной в грамоте не умею… – Она обошла взглядом чисто убранную комнату. – Ну хочете, я Вам шо-нибудь такэ сделаю, поглянете… Шо ж Вам сделать?.. Всё у Вас гарно, всё на месте…
– Ну подмети, отведи душу.
– Фи, подмети… Это и дурка можэ.
– Ну а ты?
С обидой, с каким-то горячечным рвением – подумаешь, важность подмести пол! – Поленька кинулась мести полынным веником.
Тётушка, посматривая то на неё, то на молодой месяц за окном, положила на листок, на котором Поленька писала, десять пшеничных зёрен, ядрёных, крупных, не с ноготь ли на мизинце, тщательно сложила бумажку, отдала девушке.
– Вот эту тарабарскую грамотку свою с зёрнами снеси батьке. Пускай поглядит, что у нас за гирька. И скажи, у недобрых людей землю и дождь обходит. А пускай раскумекает, к чему это я так подпустила.
Поленька спрятала бумажку в карман кофты, смела сор на совок и в печь.
– Ну шо, погано я мету? – Поленька ждала похвалы. – Скажете, як курочка лапкой?
– Хуже, – коротко резнула тётушка. – Неспособная ты совсем в этом деле… Ни в дудочку ни в сопилочку. А это кажда девка должна знать!
– Шо это? Треба не в совок да в печь, а мести через порог на двор?
– Наоборот. Со двора!
– Убейте… Никак не въеду…
– Ну уж куда нам понять! Ну уж куды нам со своим свиным рылом нюхать лимон!
Сердито, скорее для видимости, тётушка помолчала и продолжала выровненным, спокойным голосом, не лишённым оттенка снисходительности:
– В твои лета девчаточки втихомолку, чтоб никто не видал, метут сор со двора в хату, заметают в передний угол – там он никакому другому глазу в недоступности, – метут и шепчут: «Гоню я в избу своих молодцов, не воров, наезжайте ко мне женихи с чужих с дворов…» Всё учи, учи тебя!
Поленька хотела что-то сказать, но тётушка жестом велела не перебивать её:
– Как у нас один говорил, нажелалось со мной погутарить – смалкивай! Вот тако. Ну… А не позывает маяться с сором, подгляди, как наявится молодой месяцок вот как сегодня, – старуха показала в окошко на стоявший вниз острыми рожками месяц, готовый вот-вот спрятаться за меловую Лысую горку. – Мда-а, млад месяц дома не сидит… Так, значится, подгляди да и завертись на правой на ноге и тверди: «Млад месяц, увивай около меня женихов, как я увиваюсь около тебя».
Подвеселела девушка, в мыслях улыбнулась и спросила тоном, дающим тётушке полагать, что всем этим наставлениям нет цены:
– А як же кавалерики услышать зов?
– Сперва заслышит Он. А уже Он в уши им положит твои слова. А Он есть! Слушает нас, подмогает нам! Даве утром мой увеялся ещё до железных петухов, до звона к заутрене. Думаю, как же я буду одна, я боюсь ночью одна, я даже при самом боюсь по ночам просыпаться и лежать с открытыми лупалками, а тут две ночи кряду кукуй одинаркой, я и запросила господа Бога послать мне доброго человека; и вот набежала ты, ты не своей волькой, не сама, тебя Он прислал. Так что не ленись мети, как я подучила, не ленись поджидай млад месяц и проси, проси женишка. Он добрый, Он пошлёт тебе.
– Уже прислал…
Удивлённо и вместе с тем недовольно хмыкнула тётушка.
– Да того ль, кого зуделось?
– Аха… Высокий… На личность взрачный… Лицеватый… Наравится…
– Дитятко! Ну у тебя головка чиста, не во гнев будь сказано, как стеколушко! Видали новости в сапожиках – наравится! Да ты ж не на личность гляди. Можь, с личика и яичко, да внутрях болтун!.. Какое у него рукомесло?
– А покуда никаковского. Пастух. Вот, говорит, кончу анститут на агронома, там и распишемся. Я обещалася ждать.
– Эха ты, тетёрка с носом… Метко, девонька, стреляешь: в чистом поле, как в копеечку… Запомни, этот не твой. Покуль он, обдери те пятки, будет шастать меж тех анституток, он такую ж разучёную, как и сам, выглядит себе да и повиснет на ней, как лукавый на сухой вербе, а ты жди да сохни до белой косы: пора молодая сшумит вешним ручьём с горы, там и не приметишь, как годы седину в косу вплетут… А потом… Ну случись всё по задумке, ну кто ты без грамоты рядом с ним? Чурка с глазками! Два фонаря на пустой каланче! Да только красивые глазки разве спасут пустую головушку?.. Не-е, не твой то хозяйко. Да невжель и воску в свечке, что в том в твоём агрономике? Ты выискивай табачок по носу… А то масло не твоё, вода. А тот огонь не друг тебе, солома…
– Он божился… не можэ без меня…
– Уха-а!.. Все козлы одно и то ж блеют! Не мог ба, давно-о б околел. А то с приплясом, небось, вьётся. Что поют твои батько с матерью?
– Я ничего им не говорила про него. Мама потянут мою руку, доведись чему быть. А тато бачить его покойно не можуть… Там меж ними… як черти горох делют… Такие промеж ними контрики.
– Видала, обдери пятки! Тут я за Володюню свой подам голос. Раз твой замашистый агрономка и на дух не нужон батьке, стал быть, тут непотребинка какая да и кукует. Ты кладёшь парубку почтенную цену за рост, за внешность. А батька с другой каланчи дозор ведёт – какойский этот твой красик работун, какой из него вылупится хозяйко, иль, может, это ни то ни сё, ни два ни полтора, ни кафтан ни ряса, ни рыба ни мясо и не холодец. Может, этот поскакун с киселём в коробке пылит за тобой не возрадушки жизни, а так, по молодости, по избытку бусыри. Надо ж с кем-то коняжиться! Вот он и трётся вкруг тебя да, поди, блажит затискать всё куда потемней, липнет, поди, с похабщиной?.. Хо-рро-шень-ко всмотрись… Замуж выбежать не галушку замесить… Перед тобой он сейчас, как погляжу на тебя, может, на пальчиках, чуток на ладонки не возложит. Да ты всё ж не спеши. Твои годы не уроды… Ох, женихи товаришка тё-ёмнай. Поскобли, какой ещё муженёк скажется… Кабы то наверно знать, до точности…
Ловившая носом окуней тётушка была тёртый калач по части сватовства. Уже за полночь. Уже пробовали голоса вторые петухи; давно задули лампу, лежали, а тётушка – ну и свербёж! – всё трещала, трещала, как битюцкий барабан, всё об одном об том же: твой варяжец тебе неровня, ищи другого, поверь, желаю я тебе единственно добра и при этом клялась, что она не какая-нибудь там трепохвостка, жизнь изжила достойно и мужское кобелиное племешко вызнала прочней против Поленьки.
Девушка не могла понять из всей этой бесконечной нуди, ну почему так мгновенно, в один вечер, тётушка твёрдо вырешила, что Сергей ей вовсе не пара, вовсе плох? Ну откуда это видно?
Долговы жили с Горбылёвыми окно в окно, и каждое утро, просыпаясь, Поленька бежала к окну и знала, что её ждут у другого окна и в снег, и в дождь, и в солнце; заметив её, Сергей принимался неистово махать руками. Привет! Привет! Наше вам с косточкой!
В ответ Поленька тоже махала и со сна чисто улыбалась. Её глаза, ждущие чуда, горели восторгом. Переглядушки разбегались иногда на целое утро. Никто из родителей не противился. Но в прошлый май отец заказал эти утренние радости, рассудив про себя так: «Чей бы бычок ни прыгал, а тёлушка наша… Прибытку нам аникакого…»
Поленька не защищала Сергея перед тётушкой и на то были причины. Ну, во-первых, возражать старшим почиталось в их роду святотатством; обычай этот жил в доме испокон веку. Потом, о своих чувствах Поленька ни с кем не заговаривала, и если уж тётушка выжала на такой разговор, так причиной тому были обстоятельства. Как младшая Поля не могла не отвечать старшей родственнице, хоть и родство то ненамного ближе такого калибра: сбоку припёку, а сзади прогорело; в конце концов ответив на одно, как сом в вершу, ввалилась Поленька в разговор, который никак не могла остановить или переменить: тетушку не навести, не направить на что другое. Ветхую кумушку решительно занимали дела сердца и ничего иного она знать не хотела. И третье, пожалуй, главное, что сильно смутило самоё Поленьку, многое из того, что она почитала в своем суженом-ряженом за добродетель, тётушка, напротив, расхаивала, пушила в пух. Да Поленьке и самой не нравилось, что в последнее время Сергей все бился завести её в уголок куда почерней, где б они были без посторонних глаз, всё подгадывал так, что они оставались совсем одни, и тогда он накатывался миловать, ласкать её, против чего она восставала, однако не настолько рьяно, чтоб вовсе отвадить парня. Она не находила слов этим отношениям, а вот тётушка доискалась: коняжится, блажит, похабничает. Несерьёзно всё то, тянула тетушка одну и ту же песенку; Поленька не спорила, хотя и не знала, а как оно бывает серьёзно, тем не менее она считала, что не в лад к ней настроенные и отец и тётушка – не сговорились же! – в чём-то беспременно правы: старики не ошибаются.
Запрокинув руки за голову, Поленька лежала в кровати и не могла разобраться, что за каша кипела в её голове. Угнетало чувство раздвоенности, досады. Горячая голова болела от нежданных открытий; больше всего давило, тяготило то, что она считала в своих отношениях с Сергеем совершенно решённым раз и навсегда, вдруг почему-то повернулось путаницей, бестолковщиной, ералашем.
Уже как легли, тётушка ещё раза два пробовала почесать зубки. Но Поля не отвечала, молчала; тётушка поднялась на локоть, заглянула ей в лицо; Поля старательно зажмурилась, жалобно всхрапнула.
– Спи-ит? – удивилась тётушка и больше не лезла с перетолками.
Рано, до света, Полю разбудила тётушка.
– Ё да ты и спишь, ободай тебя коршун! Упала и пропала… Кипятком залей – не прокинешься!
– А вы чего потемну вскочили?
– Какой там потемну! Гли-ко в окно!
– Только взялось сереть…
– Ну, девка, может, ты со сна мне ещё порасскажешь, где у коровы грудь?
Тётушка беззлобно рассмеялась своей шутке и, отсмеявшись, подхлестнула:
– Вставай, Вставайка! А то службу проспишь.
Было ещё темно; с утренней, с восточной, стороны едва подбеливало, но со всех углов, со всех проулков с муравьиной торопливостью сливался народ к церкви Спаса Преображения.
В церкви негде было пятку поставить. Тётушку отжали от Поли; вскоре Поля, усердно подпираемая сзади проспавшими, оказалась пришлёпнутой к оградке перед клиросом.
Необычайно ярко горели повсюду свечи; всё вокруг торжественно пело, молилось, кланялось. Как-то смиренно, заведённо молилась Поля, по временам придавленно вмельк покашивая из-под низкого шалашика косынки на певчих. Высмелев, смотрела уже ровней, длинней, натвердо убедившись, что никто из них не замечал, не видел её.
В хоре были старики, старухи, были и дети, такие как Петро, уряженные, чистенькие, выделялись высокими голосами.
Мало-помалу служба наскучила ей.
Она скользом, уныло ощупывала глазами клиросников; сражённый взор присох к белокурому веснушчатому парубку лет, может, девятнадцати, не старше. Видом шёл он совсем за подростка, зато держался, держался эвва каким орёлушком! Дорогой тёмный шерстяной костюм ладно облегал стройный стан; толсто повязанный короткий сине-зелёный галстук походил на кленовый лист, до поры в непогоду сорванный с дерева и прижатый ветром к кремовому атласу рубашки на груди.
«Какой молодой, а уже в певчих…» – в восхищении думала Поля и не уводила с него глаза, даже когда припадала на колени; припадая, она лишь на миг отрывалась, лбом трогала холод пола и тут же стремительно поднималась, отчего-то боясь не увидеть его снова, но – заставала его на месте и мимо воли своей чему-то светло улыбалась.
Он приметил, выхватил из людской тесноты этот безотрывный светоносный взгляд, и у него из глаз печальных брызнула звонкая, озорная радость; теперь он тоже не забирал с неё своих глаз, пел и улыбался глазами, и трудно было понять, чему он улыбался, то ли своей незнакомице, то ли восходящему солнцу, что било сквозь высокие окна прямо ему в лицо и заставляло щуриться.
Крестясь, Поля из-за руки нарочно улыбнулась парню. Он наверное понял, что эта улыбка именно его, что он точный её адрес, а потому, привстав на цыпочки в щеголеватых высоких хромовых сапогах в рант, улыбнулся ей глаза в глаза и коротко подморгнул.
Поля покраснела, со стыда тиснулась вправо за дебелую старуху; девушке казалось, что это подмаргивание поймали другие, вот-вот продерётся кто сквозь толпу и потащит её за таковское вон из церкви. И минуту, и две таращилась она отупело старухе в черный затылок, но, странное дело, хор всё так же пел, своим порядком всё так же шла служба, и никто не выводил её. Успокоившись, она подумала:
«А почему не посмотреть?.. А вдруг он – ещё?.. А я и не увижу?.. Он может воссерчать. А мне это разве в руку? А мне это разве в желание?»
4
- Не родись в сорочке,
- Не родись талантлив —
- Родись терпеливым
- И на все готовым.
Ещё смалу Никита вместе со своей тучной тётушкой Неонилой пел в церковном хоре. Отец Борис Андреевич Долгов, по-уличному Голово́к или дед Бойка, мелкокалиберный, худосочный, будто отжатый, высушенный долгими бедами старичок с ноготок (про таких говорят, собран из трёх лучинок, отчего и ветром качает), эта божья коровка с посохом, тихоня, бессловесник, не замутивший и разу воды, этот до смерти суматошный хлопотун – всё мечется, мечется, лёгкий на ногу, словно кто ему в сапожики горячих углей сыпанул, завтра на охоту, а он сегодня норовит взвести курки – этот до последней крайности набожный, богобоязненный и вообще от природы пугливый, опасливый и в то же время хитроватый, непокладистый, ершистый причудник себе на уме (и стар, да петух, на седину бес падок) принимал певческую затею сына до края враждебно, в штыки.
Всякий раз, как недовольная им тётка Неонила уводила по Ниструго́вке мальчика за руку к заутрене или к вечерне, отец, ворча вслед: «Эк, чёрт их понёс, не подмазавши колёс», – провожал их из окна сердито-плутовским, сторожким взглядом ясно-пронзительных, как у ястреба, глаз из-под нахлобученной на тяжело нависающие белёсые брови ушанки, которую он и в июльское пекло не скидывал с лысой, хоть горох молоти, головы: в старой кости согрева нету.
Вот баба с мальцом пропали за соседским плетнём; чуть выждав, он влезал в тулуп, подвязывался малиновым кушаком, не рассыпаться чтоб, коль не в час на гололёдке кувыркнётся, и, зная себе красную цену, – стар козёл, да крепки рога! – брал в сенях из тёмного угла посох, упиравшийся в потолок, и с сановитостью аристократической особы направлял стопы, шествовал к церкви, где и появлялся, ровно тебе из земли вырастал, как раз, чик-в-чик к началу службы. Всю службу Борис Андреевич чаще стоял за спинами в проходе: миру там всегда было тучи.
– Па! А чё Вы не проходите наперёд? – спросил однажды Никиша. – Никогда Вас не видать. Иль Вам не занятно меня послушать?
– Поёшь ты, Никитарчик, ёлка с палкой, хорошо. А перестанешь – лучше.
– Ну, па-а, серьёзко ежли…
– Можно и серьёзно. Мне с тобой, Никиш, чистые чудеса в решете: дыр много, а выскочить негде… Вот ты на что, думаешь, Господь дал один язык? Меньша говори… А два уха зачем? Больша слухай… Я распрекрасно слышу, как ты с клироса аллилуйю за хвост тянешь. Да, да, не кривись. Правда моя – масло, вся наверху!.. Откроюсь, от твоего песняка наразлад у меня всё в нутре выстывая, холонет. Я не смею дохнуть, робею продираться наперёдки и того с умыслом обретаюсь на задах всё по твоей милости, соловушка. Знамо, ёлка с палкой, соловей птичка невеличка, а запоет, так лес дрожит… А я за тебя в холодном в поту купайся… По мне, лихой силы у тебя в голосе пропасть, жуть эсколя, а души, а ладу кот на мизинишко на донышке наплакал. Ну что ты даве эвона каким голосиной – надо бы хуже, да некуда! – кэ-эк рванёшь наобум лазаря куда в сторону иль поперёд от других голосов, кэ-эк рванёшь!.. Пресвятая богородица… Морозом меня так и осыпает, кровя в жилах леденея… Страх отымае силу… Со страху припадаю на коленки за раней выбранную на такой момент саженную спинищу. Так и мерещится, остановил вот батюшка службенцию, антиллигентно поднял меня с полу за ухо да и ну обихаживать кадилом, да и ну угощать копченым льдом. Поспевай, Боюшка, тольк подставлять рёбрышки: тебе черёд считать пришёл. А кругома всё в чаду, ни шиша не видать, чисто тебе ерманское дело… Притомится святой отец шелушить да нагуливать мне бока, пожелает – не всё таской, ино и лаской – возлюбопытствовать: " А чего эт ты, старай кочедык, распустил вожжи? А чего эт ты дал послабку своему музоверу?[11] Неровен час, этот ухорез бедовым, хватским голосиной всех святых подымет. Прикажешь этого злосчастия ждать?..» Что, Никишок, в ответ петь?.. Понятно, да такой свиданки я не охотник дотянуть дельцо… Пошабашила не в час служба – не кинуся вызнавать, что да как, а ментом полы в руки и дёру, давай Бог ноги. А коль ноги не снесут? Распишитесь в получении на орехи? Да?.. Оно, конешно, ёлка с палкой, битая посуда два века живё, да на́ твои два хороших, отдавай мне один мой плохой… Не попусти, Боже, моему певуну ославить мои белые седины…
– Невжеле, па, я так худо пою? А тётя не нахвалятся, говорят всем: «Мал соловей, да голос велик!» Намедни посля службы сам батюшка потрепали по щеке, тоже сказали: «Соловей поёт – мир божий тешит».
– Куда как славно тешит! – Поползновение к ядовитой насмешке скользнуло по крохотному, с кулачок, иссечённому невзгодами лицу, придав ему редкостный какой-то оттенок смелости. – У стекольщика алмаз и то с голосом. А ты свой проспал, как вседержитель раздавал… В радость глазу, видом ты соколок, а… а голосом… во-ро-на… Чего это батюшка не въедет в толк, что непутевым ты криком своим – кадык не велик, а рёву не оберёшься – полприхода распужал? Как погляжу я, в достославную церковку нашу с голосниками всё меней правит миру…
Мальчик и впрямь чувствует себя виноватым. Слёзы закипают на глазах.
– Ну-ну… Знаю, голосистее сверчка. А слезу держи, не разводи сырь. И так мокропогодица.
– Я не запла́чу, па. Ну только узвольте там петь…
– И чего липнуть к тому пенью, чисто лукавец овод к коню?.. Ну чего вцепился в то пенье, как хохол в сало? Иль по сердцу?
– Угу…
– Это не внове. У кого голосу слыхом не слыхано, тот и петь охоч. Да ну ладно… Куда наше ни шло, поняй… Раз кортит, пой ногами, пляши голосом!.. Гэх, заиграл глазенятами беспортошный басурманин! Сто-ой, не лети под снег, дослушай родителя… – В голосе отца качнулась мольба. – Никиш, ну клирось ты, петый дурёка, со всеми голос в голос, не выскакивай из хора, как шило из мешка, не отставай и не несись поперёд других голосов… Кому надобна блошиная твоя прыть?.. А не лучше ль, а?.. Смотри на своих клиросиков, за компанию рот разевай, а голосу не давай. Тебя не убудет, зато мне спокой… Глядишь, осмелею, сызнова стану бить поклоны у самых у батюшкиных ног. Тогда, может, и завидишь меня с клироса…
С той поры пять раз улетали и возвращались грачи; пять раз без огня полыхали в лесах пожары осени, и снова по весне ветер разбивал почки на деревьях; пять раз с холода одевалась в лёд речка Криуша перед двором и сбрасывала в апрель синий хрусталь одежд; пять раз засыпала усталая земля, согревшись под высоким одеялом воронежских снегов; в свой час, к сроку гром будил земелюшку, и плодотворные вешние дожди, никогда не лишние, хлопотливо омывали её.
Тринадцатый май жил Никиша.
Под воскресенье, боясь проспать заутреню, хотя и разу не просыпал, мальчик лёг с сумерками, безо времени, но во всю-то полную ночь и не уснул ни на волос, прокидался с боку на бок.
Ясная круторогая луна всё смотрелась в окно, разостлав по полу серебристую дорожку до самой печи; дорожка эта, вытягиваясь, потихоньку уходила вбок. В молодом лозняке не смолкал до зари соловей, выпевая погожий день.
Чем свет Никита был на ногах. Все ещё спали. Неудобно было умываться под рукомойником, по озорной привычке толкая его сосок лбом или носом. Весь дом до поры всполошишь.
Мальчик на цыпочках вышел во двор.
По бледно-синему льду неба катилось к алому горизонту золотое корытце луны.
Мягко шлёпая босыми ногами по тесному желобку тропинки, убегавшей к колену речки, названной за частые извивы Криушей, Никиша, казалось, слышал, явственно слышал, как в этой чуткой кафедральной тишине по обеим сторонам от тропинки росла трава под обильной, тяжёлой росой.
Слёзы – роса: взойдёт солнышко, обсушит. Против вчерашнего оно поднимется сегодня пораньше. Солнышко восходит – начальниковых часов не спрашивает и на всех ровно светит…
В это тёплое тихое утро просветлённый, счастливый мальчик, видевший уже себя в хоре на клиросе, сделал открытие: оглобля вон заросла травой, ворона стоя спрячется; уматерели, подкрупнели листочки у травы, набавилось зелёного в уборе деревьев. Весна леса уряжала, в гости лето поджидала…
«А что, разлететься да бултых с берега головкой?..»
Подумал и вздохнул.
Рано ещё. Отец твердит, начал распускаться лесной дуб, можешь бежать купаться, встеплела вода. У матери рогатки похитрей: на выстрел не подходи к воде, покуда лист на дубу не развернётся вовсю.
Никита остановился возле молоденького дубка, улыбнулся ему, вспомнив прошлогоднюю историю.
Едва резво припекло солнце, как ребятня, будто бес её из мешка вытряхнул, обсыпала речку. В самый неподходящий момент, когда Никита рывком сдёрнул с себя рубаху, откуда ни возьмись мать цап за руку да к этому к дубку.
– Неслушь! Вишь, дерево раздевше стоит?
– Ну, вижу… Не слепой…
– Вот оденется листочками в заячье ухо…
– Так долго ждать?
– Наподольше ждал… Вот оденется листочками в заячье ухо иль в пятак, тогда купа… наполаскивайся до утопа… Хоть и на ночь из воды не вылазь, покудова вербы не пойдут расти у тебя из подушек.
Каждое утро мальчик прибегал к дереву, накладывал монету на листочки с разных веток, но листочки как назло были все одной величины. Он ладился тихонько растягивать листочки – листочки рвались. Пошёл на обман, сточил напилком пятак; к ужасу, подлог раскрылся.
Праздник таки выспел, когда Никиша положил перед матерью стёртый, слепой, пятак и эдак в небрежности прикрыл его, вредину жёлтую, молодым тугим листом…
Совсем скоро подступит снова желанная та пора…
Никиша сорвал с ветки две холодные почки; катая комочки на ладони, заметил, что со вчерашнего утра – делал то же самое! – почки стали округлей, тушистей.
Обещая погоду, над речкой дремал туман, сосед солнца.
Холоднее льда показалась вода, но мальчик, ухая, всё ж ополоснулся до пояса и заторопился блаженно растирать расшитым петухами рушником руки, грудь.
Откуда-то из тумана выпнулся с вилами отец.
– Ты чё это спозаранок вскок на копытца? С курами лёг, с петухами встал… Спать оно, конешно, не молотить, не болит спина… А подумать, так мимо дела кидаю слова. Разь только беспечальнику сон сладок…
Старик положил вилы на землю, присел на держак. Гордовато поглядывая, как растирается сын, сказал с нарочитой суровостью:
– Иле ты, хлопче, захотел до кровей? И так маком горишь!.. Будет влюбе тереть. Иди лучше сядь на вилошки рядком…
– Мне, па, не до посидок…
Зорким взглядом вцепился старик в Никишу.
– А до чего тебе? Далече налаживаешься?
– К заутрене…
Отец плотно сомкнул губы, подержал на сыне долгий внимательный взгляд и в раздумье повёл:
– Ме-етко попал пальцем в небушко… Так давай, разумник, наковыривай дальшь… Чего молчишь? Иль в молчанку станешь играть? А?.. Тогда я, ёлка с палкой, искажу. Хорошо песняка драть пообедавши!
– Я, па, беспременно поем, как идти…
– Вот самое то я и подступаюсь обкашлять… Да ты сядешь иль тебе надо особое прошение? Не желаешь рядома с родителем, так по крайности садись на чём стоишь, ишшо и ножки вытяни!
Никиша покрыл острые красные плечики в веснушках рушником, как платком, и, припиная его к груди, сел на вилы локоть в локоть с отцом.
По привычке возложил отец руки на колени. Пожалуй, впервые так близко увидел мальчик отцовы руки, впервые рассмотрел, что пальцы, короткие, куцапые, похожие на крючья, изуродованы, побывав и под молотком, и в щипцах. Тяжёлые, кривые от надсадной работы руки пахли со вчерашнего – вчера отец пахал – по́том, землёй.
– В роду у нас сытая беленькая ручка в холе за позор почитается, – в раздумчивости отпускал отец слова, безучастно уставившись в свежие мозоли на своих широких, с лопату, ладонях. – Чьи это руки? Не писарчука… Писарчук бровью водит, локтем пишет, откуле что и берётся. Да писали писаки, читали собаки… Не вора… Вор неурожая не боится, жнёт, где не сеял, берёт, где не клал… Не торгаша… Торгашик торгует бедой… Котелка с золотишком я не выпахал. А торговля куплей да продажей стоит. Чем бы я и торговал? Разь что летом ветром, а зимой вьюгой?.. У деда у моего, у родителя, помню, были такие ж чёрные руки, руки пашца… Всяк держался за сошеньку, за кривую золотую ноженьку. Худо-бедно, а сохой все наши стояли, и земля, божья ладонь, кормила… Кормить-то кормила, да нивка пот помнила. Не столь роса с неба, сколь пот с лица хорошил землю. Дед говаривал, на удобренной земле и оглобля родит… Знать, и поту нашего мало… Летось выскочил недород, хлеба встали плохущие, редкие. Пошли косить. Да не мы косим, нуждица наша косит и глазу в печаль видеть: копна от копны, как Криуша от Воронежа… По весу первого куриного яйца ноне весной я рассудил: надобно ждать доброго, ловкого урожая. Намедне вот вышли в поле. Эхма, чужи дураки загляденье каки, а наши дураки невесть каки! Молодчаги!.. В огне не горят, в воде не тонут, в беде не гнутся, на печи не дрожат и в поле не робеют. Уродится не уродится, а всема гуртом, с удалью знай пашут. Рукам горька работёха, душе праздник. Пашут без роздыха, с каждого пот в три расторопных ручья. Выжми рубаху, так потопнет, а он знай тяни сохой из нутра земли, укладывай лад в лад черней воронова крыла шнурки борозд. За вешней пашкой шапка с головы свались, не подыму. Недосуг! И бегом, бегом за сохой… А и не в честь… Сутулит мужика сошенька, золотая ноженька. Век пашешь, пашешь, а выпашешь горб да килу. Всё-то и богатствие… Податься за ремеслом куда на сторону? Ну что сторона?.. Сторона постромка, а корень наша земля, вечный наш дом землица. Попервах кормит, а там и вовсе к себе прибирает… Понятно, перо легша сохи, да в роду так уж велось, раз грамотей, то не пахотник, потому и нечеловек. И всё ж наши самоволом, потиху правили к грамотёшке. Вон дед в глаза не знал перо. Пуще смерточки боялся пера мой родитель. В кои веки заявится становой пристав иле ишшо какой крючок из волости по какому зряшному делу, так родитель, сопревше от невозможных трудов, черканёт на нужной бумажонке чёрточку да и в сторону. Я ж скаканул эвона куда! Наловчился ту чёрточку перечеркивать впоперёк, вот тебе и мой крест! А ты и меня выпереди… Конешно, с листовала до новой травы звонил в школке в лапоть… Жалко пустого часу… Ну да ладно. Зато ты не одну нашу фамилью, пел урядник, в один присест в силах срисовать. Видал на заборе твои художества. Не бычись… Не корю… Спасибо кладу… Спасибочко! Уха и распотешил гордыньку мою!
– Я, па, сотру…
– Сотрёшь – полосну дубцом по окаянной спине. Иля ты с дурцой? Я те сотру… Не к тому я… не велю стирать. На видах у всейного мира рука кровного дитяти! Ка-ак не возгордиться?! Пускай, елка с палкой, глядят да облизываются!.. Ругать не возругаю, скажи только как ровня ровне, прямо с козыря матючок крепкий присадил? А? Из интереса пытаю. Хоть знать, чему радуюсь.
– Не руготня вовсе там… Строчка из песни «Не осенний мелкий дождичек»…
– Оно можно и про дождичек, – соглашается отец, и его лицо заметно скучнеет. – Ежель что, – ободряется он, – так не бойсе, с матерком что там и пусти в тыщи в своих заборных писаниях, только знай, не дозволю я яблочку далече закатиться от яблоньки. Что тебе батюшка да Неонилка ни поют, ты на веру не бери. Всё то вешний ледок. Соловья из тебя не выждать, голос тебе не кормилец, а так, потеха одна досужая. В твои лета я косил, волов водил на пахоте, ездил в ночное, вил верёвки… А ты с песенками не засиделся в дитятках? Вынежил какущего большуна! Тричи на день не забываешь кусать. А имеешь понятие, откуда оно всё берётся? Куском по глазам не стебаю. Но это пора б и знать. Ну видимое дельцо! Скорочко пригладить под горячий момент вихры – лестницу приставляй, а он всё, раскудря, пеленашечка. Поворачивай-ка, раздушенька, оглобельки свои к родимушке к землице. Так-то оно способней будет… Весна живо-два слетает с земли. Красный денёчек за золотой идёт. Серёжки лопаются у берёзы, сеять час аж кричит. Ранний посев к позднему в амбар не ходит. К лешему! Никакой сёни заутрени! С братанами Иваном да Мишакой – против тебя они вдвое побогаче годами – поедешь допахивать Козий клин.
– Па, а хор? – прошептал Никиша пересохшими губами. – Хочу…
– Мило волку теля, да где ж его взяти? Сдался тебе тот хор!
– Что они подумают?
– Подумают, соловейка ячменным колоском подавился.[12] Круглыми годами драл козла. Будет с тебя. Отдохни.
– Па, я хочу…
– Эха-а, что эт ишшо за мода – хочу? Сын отцу не воевода! И свою блажь припрячь куда наподальшь… А потом, я ль тебе рот зашиваю? Пой, за делом пускай петуха на радость себе. Вышел в поле, пускай голосину по ветру. Оно хоть и толку нету, да далече несёт.
Мальчик обмяк. Как же так? Неужели можно вот так походя разбить всё, что составляло суть его жизни? Виделась ему эта суть вроде смутной, призрачной пирамиды, в основании которой было величавое пение хора под соборными сводами с голосниками, пение, при стройных, мощных звуках которого, казалось, расступались каменные своды, отчего становилось как-то просторней, светлей, и невидимая могучая сила повергала на колени творящую молитвы толпу; в этом повелении мальчик явственно слышал власть и своего голоса, чувствовал себя властелином этой покорной массы во всем чёрном, клавшей поклоны у его ног. Не ради ли этих высоких минут он жил? Не ради ли них подолгу с благоговением пел на спевках, разучивал новое, спрятавшись на огороде в цветущий, словно облитый молоком, картофель?.. И вдруг всё, что пленило, тревожило душу, звало, что наполняло святым смыслом его будни, вдруг всё то внезапно рухнуло, вывалилось из жизни, как голый птенец из гнезда? Неужели все пропало? Всё? Всё?..
От сознания своей полной никчёмности мальчик заплакал.
– Эвва!.. Новость подкатила на тройке с бубенчиками! Реви не реви, а расплох и могучего губит. – По значительно-нахмуренному бородатому лицу отца сразу и не понять, говорил он с насмешкой или с состраданием. Мол, раз желательно душе, так чего ж его дажно не поголосить? После слезы оно, как после грозы, человек завсегда тише, покорливее. Завсегда доволен тем, что подала судьбина. – Поточи, поточи, хлопче, слёзки, а как выйдет – дальше горе, мень слёз! – а как выйдет слезе конец, так задашь конишке овсеца, а я… подхватись-ка с вил, – отец, встав, тронул Никишу за плечо, – а я пойду накидаю на телегу навозу. Навоз, брат, крадёт и у Бога да нам даёт.
Насыпав с пупком овса в деревянный таз и поставив жеребцу, Никиша долго стоял в деннике и разбито смотрел, как в углу муховор-паук насмерть пеленал муху. Муха жужжала, билась как могла, надрывалась отлететь, чего очень желал и мальчик, но прогнать паука не осмелился. Мальчик боялся пауков.
Постепенно тугая паутина укутала всю муху, и муха, выбившись из сил, смолкла.
Весь тот день уже там, в поле, под звенящим, зовущим на пахоту жаворонком, Никиша уныло водил волов и думал о странно погибшей мухе.
Больше мальчик не пел с клироса.
Зато донельзя довольный отец теперь не пропускал ни одной службы. Теперь совсем другой коленкор, молился он не на приступках и не в проходе, как бывало прежде, а, бросая на прихожан короткие острые, удовлетворенные взгляды, продирался сквозь толпу в самый перёд; он больше никогда, даже во время чтения особых коленопреклонных молитв, не расставался с палкой своей и оттого, опускаясь на колени, с сухим, глуховатым шуршанием скользил по ней, зажатой в кулачок, жилистой рукой и, держа ею посох у самого низа, у пола, крестился другой, свободной, рукой.
В ту минуту всё в церкви было на коленях, и над всеми этими людьми в чёрном воздымалась в одиночестве высоченная стариковская трость, слегка загнутая сверху на манер вопросительного знака. Казалось, она в недоумении спрашивала, что же тут происходит?
По обычаю, старики и старухи, к кому нанялась в слуги и в первые попутчики палка, придя в церковь, ставили в угол при входе или клали палки свои на пол рядком с собой, а то и под себя, промеж ног.
Сроду не слышному, не заметному на сходках да и вообще в Криуше домашнему своевольнику Головкý откуда только и взявшаяся вдруг барская фанаберия – не хочу в ворота, разбирай забор! – не позволяла делать то же, отчего крутой гордец, спесивец и не выпускал посоха из рук даже при коленопреклонной службе. Нацело захваченный воздаянием почестей Всевышнему, старик терял из памяти решительно всё остальное; забывал о посохе, забывал, что его не грех бы придерживать да покрепче в тот скандальный моментишко, когда в самозабвении сам начинал наотмашь бить поклоны и напрочь ронял посох из левой руки, незаметно всё твёрже опираясь и на неё в благоговейно торжественных горячих поклонах; а посох, отданный силою случая самому себе, с секунду какую стоял ещё, вроде не отваживаясь и раздумывая, на кого бы его упасть, и летел со всего трехаршинного роста на кого Бог пошлёт.
А Бог посылал на головы, на плечи, на спины ближних. Далеко не посылал.
При звуке удара всё в храме вздрагивало и со вселенским трепетом, не смея оглянуться, всё же коротко поворачивало головы и посылало в старикову сторону косые вопросительно-свирепые взоры.
С годами к невольным выбрыкам Головка́, у которого, по уличным толкам, враз через меру потемнело под шапкой, попритерпелись, ловчили не замечать его штук, зато, увидав его где в проулке идущим навстречу, дёргались сразу назад или, угнувшись, круто забирали куда за плетень, в сторону, кружным путём обегая встречного.
При его появлении в переполненной церкви стар и мал в мгновение – стриженая девка косы не заплетёт – оттеснялся, оттирался от него на посох, и старик молился, иногда бывало и такое, один посреди пустого круга.
Посох по-прежнему с грохотом падал. Случалось, доставал своей макушкой кого-нибудь по рукам из молящихся позади или давал раза тем, кто маячил перед глазами.
Бывало, при падении палки старик и сам от неожиданности дёргался острыми, узкими плечишками, на миг выскочив из молитвы и пуская извинительные глаза в толпу. Но на выбеленных гневом лицах читал он одни попрёки:
«Заставь фалалея Богу молиться – ближнему лоб расшибёт!»
«Смелей! Смелей! Глупому не страшно и с ума сойти».
«По мне, так тому и быть. К Рождеству шапку я уж тебе прикуплю, а разума, наш слабоумный, не могу. Не лютуй…»
За живое хватали деда эти взгляды. Виноватое выражение вытекало из его глаз, уступая место холоду, отчуждению, решимости, и с невозмутимым присутствием духа, с уверенной, с торжествующей гордостью, как бы твердя всем своим надменным державным видом: «Не палка моя – сам Бог бьёт-карает грешника!» – старик подымал праведный посох.
Сбитые с толку криушане терялись в догадках. Чего это Головок в полную озорует волю, а батюшка видеть видит – уж не про то речь, чтоб за волоса да под небеса! – но самой малой укороты не даст, хвоста не обрежет. И не ведала ни одна живая душа, что дед держал на крючке самого батюшку, сонноглазого, пухлого. Сказывают, в молодые лета с батюшкой приключилась лихорадка. Кости-то все повытрясла, а мякоть осталась, вот он и пухлый.
Поначалу за неделю, за две под большой какой редкий праздник, а там уже и просто под какое воскресенье батюшка огородными задками правился в условленный сумеречный час в баньку к старику выкупа́ть Никиту. Помолившись на угол, батюшка доставал из потайного кармана теплый штоф водки. Батюшка величивал её на свой образец: и душегрейка, и чем тебя я огорчила, и продажный разум, и дешёвая, и огонь да вода, и пожиже воды, и крякун, и распоясная, и подвздошная, и заунывная, и плясовая, и горемычная, и клин в голову, и мир Европы, и пользительная дурь, и что под забор кладёт.
Выкуп сводился к тому, что принесённую водку батюшка сам и выглатывал на счёт прямо из горлышка (играл горниста), но в присутствии деда, и в этом была вся тонкость.
Осенив штоф крестным знамением и прошептав: «Под случай случайно случавшегося случая его и монаси приемлют», – батюшка по праву старшего прикладывался первым. Дед Бойка исправно считал, веря, что в счёте правда не теряется. При счёте десять пунктуальный пастырь трудно отрывался от штофа и, деликатненько разгоняя белой ладошкой перед собой пьяный дух, снова шептал: «Прости, Осподи, душу грешную и всё остальное разом, – и протягивал штоф деду. – Теперь ты измерь градус на крепость!»
Ни в жизнь дед не пил ничего сердитее против кваса, однако штоф брал. Скрестив ноги и картинно подперев бок одной рукой, другой деловито и со страхом подносил штоф к губам, запрокидывал головёнку, но пить не пил, заткнув бутыль свёрнутым в трубку языком и пуская в неё пузыри.
– Ты часом не тонешь? – в нетерпении наводил справку батюшка, взмахами руки отсчитывая, к слову, проворнее деда и в такт нащёлкивая себя оплывшим указательным пальцем по долгой прядке рыжей бороды.
С сосредоточенным, с мученическим выражением на ли-це Голово́к согласно мотал головой.
Наконец штоф благополучно возвращался под батюшкину власть и уже досчитать до десятка – для счёта и у нас голова на плечах – деду Бойке вовсе никак не выходило: с петровской долгогривый не цацкался. Выкушав хлебную слезу на лоб, то есть до капли, духовник тоскливо пихал штоф в тот же карман, откуда и доставал, и, трижды чиркнув ладонью о ладонь от толстого удовольствия, чистосердечно как на духу сознавался уже на подогреве:
– Вот таковского я замесу… На полную посудину нет моих сил смотреть. Сей же мент опрокину в рот.
– Что в рот, то и спасибочко, – вкрадчивым голоском вторил дед, благоговейно, доверчиво внимательно слушая батюшкину исповедь и, осмелев – ты с бородой, да я и сам с усам, – сделал поползновение к отпущению грехов: – Как не охолостить, раз иэх! так и просится на грех!
Головок отчаянно тукнул кулачком по бревну в стенке.
– Я, – разбегался в откровениях батюшка, – не употребляю, однако, до той степени, когда поперёк глаза пальца не вижу иля чтоб из пяти пальцев не видал ни одного, а один в глазах семерил. Не-е… Я почитаю три степени употребления. С воз-держа… с воз-де-ржанием – это когда крадёшься по стенке. С расстановкой, когда двое ведут, а третий ноги переставляет. С расположением, когда лежишь врастяжку. Моей душеньке с расположением угодно-с… Принял змеиную микстурищу и – врастяжечку! Факт, не на миру. А от глаза мирского подальшь где… в родном пепелище… Дело политичное, требует умственного обхождения.
– Во какое вам строгое понятие от Бога дадено! – с завистью младенца восторгался дед, молодея и светясь от радости.
Особых горячих заслуг ни перед творцом, ни перед пастырем не сверкало в Головковом табеле, а смотри, ёлка с палкой, какая честь. При строгом секрете, с глазу на глаз сам владыка с тобой из единой бутыли! Уважил святой отец, уважь и ты. Как не уважить?
Уходя, батюшка всегда говорил одну и ту же фразу, будто на ней его заело:
– Мир божий да пребудет со всеми вами.
Батюшка прямо не говорил, с какой стати наведывался, дед и без того преотлично знал. Едва проводив гостя за ворота на уже пустую под потёмушками позднюю улочку, старик рад-радёшенек подсаживался на низкую скамейку к Никите, тачавшему сапоги при жёлтом свете потрескивавшей керосиновой лампы с надбитым стеклом, с минуту именинником пялился на жениха-сына, лютого до всякой теперь работы.
– Ну что, Борич, попеть кортит?
Никита не отвечал.
Налегая на шило, он всем корпусом резко подавался вперёд, только что не упирался светло-русой головой в отцово плечо – Никита сидел на скамейке верхом, – и тогда старик ясно видел, как на самой макушке волосы вздрагивали и разбегались в стороны золотистым георгином.
– Молчунам работёшка ра-ада, – уветливо, с мягким сердцем выпевал старик. – Ты уж не корми на меня обиду. Оно, Никиш, счастье с несчастьем в однех санках катаются… За старание жалую… Вышла такая моя родительская воля, ёлка с палкой. Сходи в воскресенье к заутрене, чего уж там, сходи. Да не проспи мне, слышь!
Только не поймёт дед наточно, то ли примерещились ему его выбрыки на службе и поповы «выкупы», то ли вьяве всё то навертелось…
5
- Если взглянешь, душа,
- Я горю и дрожу,
- И бесчувствен и нем
- Пред тобою стою!
Теперь, когда известно, что за путь выпал Никите к сегодняшней заутрене, под конец которой автор таки успел застать своих героев на прежних местах, просто понять, какой вековой праздник праздновала душа у парня. Праздник был во всём: в каждом взгляде, в каждом звуке, в каждой веснушке; Никите чудилось, праздник вливался ему в душу и из высоких окон яркими солнечными полосами разгорающегося дня.
На Руси не только беда боится одиночества и в одиночку не подсаживается ни в чьи сани, оно и радость в одинарку не живёт, не ходит по людям одна. Думал ли Никиша, что возвращение на клирос хоть на миг сведёт его с этой девушкой из толпы? Он не знал ни её имени пока, ни кто она, ни откуда она. Боже правый, да это ли главное? Главное, она здесь, главное, её можно видеть, можно ласкать взорами, что он и делал; до этой поры он с какой-то безысходной отчаянностью избегал девушек, был с ними всегда замкнутый, напряженный и обязательно пёк рака (краснел).
Полю смущал этот прямой и в то же время хитроватый, с прищуром взгляд; однако она не пряталась, не сводила с него свои большие хорошие глаза – и через большие глаза, и через маленькие любовь одинаково быстро входила в сердца. Полю восхищали в парубке его особенность, его исключительность. На возвышенке он был посреди самой выдающейся вперёд её части, как бы в начале клина, разбивал стоявший полукругом хор на два крыла и одновременно собирал воедино и держал эти крыла; ей казалось, он был тот центр, та набольшая сила, по воле которой всё сейчас вершилось тут, под сводами, что именно вокруг него всё идёт, что единственно им одним всё восхищено, как и она. Среди её сверстников никто у неё не пользовался таким вниманием. Ближе других она знала Горбылёва. Но кто такой Горбыль? Голозадый босяк, как говорит батько. А вот про Него, думала Поля, набожный батечка ничего такого худого-кислого не посмел бы выворотить.
Служба с песнопеньем, с ладаном, с моленьями шла к концу; и он, и она с тревогой подумывали про то, как встретятся, что скажут друг дружке и как скажут. Может, думал он, выйду, а она в сторону и прости-прощай всё. Она же, напротив, была уверена, что он непременно подойдёт к ней сразу после заутрени.
А между тем служба кончилась. Народ выдавливался на улицу, но не уходил. Был воскресный день роздыха. Люди встречали родню, знакомых. Каждому горелось обменяться словом, дело утолковать какое, а может, просто зазвать кого к себе на обед.
На площади перед церковью люди за разговорами лепились в кучки.
Поля поискала глазами тётушку. Тётушка не попадалась. Это было и хорошо, и не очень, потому что переглядушника – может, его Поля искала больше тётушки, только боялась в том сознаться самой себе, – переглядушника тоже нигде не было и ей почему-то вдруг стало стыдно; только теперь она начинала понемногу просекать, какой то был срам – в такую высокую минуту затеять переглядушки с чужаком, который, казалось ей, сейчас вот ржёт где в кружке таких же охальников и на все лопатки выхваляется, как он во время службы амурничал с незнакомой козюлей.
Поля угнула голову в плечи и смято побрела было к тётушке домой, как вдруг какая-то неведомая сила поворотила, заломила ей лицо на сторону. С плеча она увидела, как он махал ей рукой, будто говоря, ну куда же ты, куда, и вприбег боком протирался в выходе сквозь толпу, стремительно разрезая её, точно нитка масло. Не добежал до неё шагов пять, бесшабашно кинул:
– Э! Здорово! А ты из какой дерёвни?
Сказано это было варяжисто-дерзко, совсем в духе прилипчивых криушанских юбочников, внавязку дававших Никите «уроки любви»: «Чем нахрапистее будешь с маняткой, тем надёжней. Начнéшь голубиться – засмеёт и под нижний бюст ещё киселька плеснёт. Напор, напор и ещё раз пан напор – и ты в дамках у мадамы!»
Невесть зачем Никита взял чужой тон и с первых слов своих поймал его фальшь. Густо покраснел, потерялся. Выжал уже негромко, с запинками:
– Так… из… к-ка-кой?..
Слетела с него чужая блёсткая чешуя. Теперь вот в новом его вопросе она развитым женским чутьём угадала в нём его таким, каким он и был во все будни: неуверенный, боязкий, оттого и первой руки скромник. У такого, подумалось ей, наверняка в душе не постоялый двор для девок, однако ответила с вызовом:
– Я з города Собацкого! – Она улыбнулась тому, что хуторочек свой возвела в чин города. – Так шо знай, раз входишь в интерес.
Даже не догадавшись, точнее, даже не осмелившись назваться друг другу, стояли они посреди площади и, потупившись, не знали, о чем и говорить. Плутовато поглядывали на них прохожие, улыбались в кулачок. Молчание становилось невыносимым.
– И что? Так и будем стоять, как на привязи? – досадливо спросила Поля.
– Знаешь…
– Скажешь – буду знать.
– Знаешь, можно посидеть… Да! Посидеть! На качелях! Пойдём покачаемся! А?..
В его голосе была робкая и настойчивая мольба пойти на качели. А в селе, где всяк друг у друга на видах, показаться миру напару ой как много значит. Это значит в открытую заявить, что вы не просто повенчанная, коронованная случаем на малое время парочка – вот-де не было кого другого до пары на доску, так мы и сели, нет, – тут вовсе никакая не случайность и отважится на такой шаг лишь тот, кто твёрдо осознал свои намерения: объявившись вместе, вы наживаете вечную печатку жениха и невесты, а потому случайности бездумной никто из молодых не попустит; и уже само собой разумелось, раз девушка соглашалась, шла на уступку, так уже и парень знал, что её склонность к нему не призрачный дымок, и тогда он уже хоть немного мог рассчитывать на взаимность. Никита очень хотел, чтоб Поля пошла с ним не думая, вот так без затей взяла и пошла, и это был бы лучший знак верной, надёжной симпатии с первой минуты; ему так хотелось этой искренности, этой верности, этой святой казачьей доверчивости, равно живущей как в мужских, так и в женских сердцах, ему так сильно всего этого хотелось, что в какую-то секунду он уверовал, что девичье расположение уже завоёвано и оттого шёл к качелям в скверике если не решительно, то уж во всяком случае не боязливо, и в его голосе теперь была не только просьба, но и проскакивало какое-то тихое повеление, что ли, мол, чего же ты мешкаешь, ну же; и эта повелительность ещё заметней сквозила во взгляде, хотя внимательный глаз мог бы уловить, как она, повелительность, переходила то в мольбу, то в укор, то в досаду, то в упрёк и в тысячу других живописных оттенков, составляющих надежду и тревожную радость впервые влюблённого сердца.
Его желание непременно на виду у празднующего люда явиться союзом, вдвоем на качелях передалось и Поле, и доверчивая Поля пошла с ним рядом, осмелев его смелостью, удивленная и несколько обрадованная его зыбкой радостью; ей вовсе не хотелось меньшить эту радость, она сама её ждала, не заботясь о молве. Потупив взор, Поля шла медленно и не заметила, как Никита на миг выступил вперёд к лоточнице и тут же протянул Поле большой, на две руки, толстый кулёк с пряниками.
– Это те гостинец…
Щёки у Поли вспыхнули. Никто из парней ещё ничего ей не дарил, она не знала, как поступить с подарком, боялась притрагиваться к пряникам и несла, краснея, кулёк в обеих руках, как носят младенцев неопытные родители, высоко оттопырив локти. У качелей Поля положила кулёк на скамейку, прикрыла его косынкой своей и стала на доску.
Первый ветер в лицо, первый рывок земли навстречу, первый захват душ – удивительное счастье качели! Молодые стеснялись смотреть друг другу в глаза, они смотрели на небушко, каждый высматривал свою звезду, пропавшую под первыми лучами солнца, но несомненную, бесспорную, как неоспорима, как очевидна всякая дорогая сердцу вещь, спрятанная вами дома, и вы в любую минуту можете придти взять её и знаете, что сможете взять; так и они знали наверное, что подкатит вечер и их звёзды приявятся к ним.
На самой вышинке, где Никишин край доски останавливался на какую-то малость, парень с силой приседал, вжимал в доску новую силу, и уже в следующий раз она подбрасывала их ещё выше. Сверху он не видел ничего кроме неё самой, но и потом, летя вниз, невольно подмечал, как тот клочок неба, куда смотрел, стремительно перечёркивали сверкащие на солнце розовые радостные колени, платье, с сухим треском дразнившее ветер, и парень трудно утягивал горячие глаза в сторону.
Неловкость начала знакомства растаяла. Никита освоился, мёртво и жадно смотрел Поле прямо в лицо, смотрел так, как там, в церкви.
– А знаешь, – заговорил белыми губами, – про что я думал, когда увидал тебя с клироса?
– Про шо?
– Будь на то моя воля, взял бы на ладонки на вот эти и унёс бы на край земного берега.
Поля тихо улыбнулась одними глазами:
– Не далече ли?
– Такая власть в тебе надо мной… Как с рельсов сошёл.
– Цэ уже здря. Чего так убиваться? У меня ж е хлопчина.
– Удивительно было б, не будь у такой у хорошки ухаживателя… И я не пень еловый… Валенок я твёрдочелюстный… Что б ты ответила, скажи я про сватов?
Поля обиделась.
– Теперь вот бачу, соскок ты з рельсов. Не во вред хоть бы через раз думал, шо ляпаешь. В первый же дэнь такие насмехи строить? Сто-ой!.. Звать не знаешь как, а про сватив помело точишь. Да ну стой же!
– Да что звать… Узна́ю ещё…
Едва доска сгасла в движении, Поля прыг наземь, сдёрнула с кулька косынку и пожгла прочь.
Никита еле догнал её.
– Ты что, засерчала? – убито пролепетал он, прерывисто дыша.
Поля молчала.
– Может, ты мне что скажешь?
– Чего ж не сказать… Пойду покланяюсь тётке за хлеб-соль, а там и до дому, – резнула холодно.
– Можно, я провожу тебя?
– Богатого спровожають, шоб не упал, а вора, шоб не украл. Ты зачем лабунишься меня провожать?
– Не знаю, – потерянно прошептал Никита. – Так… Мы с тётушкой с твоей в соседях. Я увижу в окно, как ты пойдёшь в Собацкий, выйду. Ладно?
Поля повела плечом.
– А мне-то что… Раз охота… Раз нашла такая линия… Смотри по себе.
Поля и впрямь думала наскоро распроститься с тётушкой, но тут ей повезло как утопленнику. Тётушка снова усадила её за стол, хотя Поля и твердила, что есть вовсе и не тянет.
– Видали, ей не хочется! – разобиженно выговаривала тётушка, доставая из печи тёплый горшок с мясом. – Намедне батюшка эвона безо всякой охотушки целого гуся уложили. А тут одна ножка… Да кисельку на дорожку лизни, размочи молодую требуху. Гораздо ль места надобно? Поищи-ка, вострушка.
На ласковую просьбу Поля ответила безвыходной улыбкой и к удовольствию тётушки сделала здоровенный судорожный выдох, долженствующий означать, что место и для курятины и для киселя высвобождено, и взялась за еду.
Тётушка с вязаньем подсела к изразцовой печке, пришатнулась спиной к нагретым плиткам.
– А ты, Полька, девка хват, обдери те пятки. Какого малого поддела на уду!.. На лицо нескладный, а характером хороший!
– Вы про кого?
– Про кого ж ещё. Про Никишку! Парубец на усу лежит. В возраст, в возмужание входит. Там, девка, не парубок – золота оковалок. Ладён… Не пьёт, не курит… В церкве сама слыхала, ка-ак поёт божественное. На него вся Криуша чуть ли не молится. Вся Криуша тольк и ходит послушать Никишу… А в поле! Как меринок ворочает! И пахать, и сеять, и убирать – лад-то во всяком деле у него какой! И дома груши не околачивает, не ходит по дворам щупать галок из девятого яйца. Черевики сшить – сошьё, ведро, колесо ль сбить – собьё, масла сколотит… Ло-овкой малец. Блоху и ту взнуздает. К чему ни притронься, всему ума положит. Ну весь же из ума сшит!.. А старики какие! То-олсто живуть, на широконьку ножку. Это у меня скотины, что лягушки в яме, а у них тама и кони свои, и быки свои, и на Криуше своя мельница хлопочет. Пускай и не ахти какая громада, в одно колесо, а ничо, большей в хозяйстве и не надобно. А новый домяка тама какой! А сад! И что первейшее – ни одного работника, всё сами, всё своим горбиной вывозят… Хорошего корня парубчина. Обходительной, мягкой по нраву, слухняный. Это, скажу тебе по-бабьи, чистэсэнький клад в семье. Загнала под башмак и дёржи в струне. Эсколь хошь верти из него всякой картошки – ты завсегда права, за тобой завсегда большина! А потом… На харчи не спесивый, просто-ой. Жернов всё мелет. Другого такеичкого поискать… Во-от достанется кому – с краями полный век счастья! Бежи, не промахнёшься!
– Ну да! Приставущой, неотвязный… У Бога кобылу выпросит!
– Не журись особо. В хозяйстве сгодится… С летами молодое пиво уходится. А пока молодчага непромах, ухватистый.
– Оно и видно. Первый раз бесстыжа баче человека и давай про сватов молотить!
– Умно! Головки́ нигде не теряются!
– А кто эти Головки?
– Оё! Ну голова ж я и три уха! Да я ж совсемушка забыла тебе досказать… Головки – это ж Никишка твой! Это ж их так по-уличному… На нашей Ниструго́вке они Головки и Головки… Головастые значится! А самого, Борис Андреича, кто называет дед Бойка, а кто и проще – Головок. А саме чудно́е – вы однофамилики! Вы Долговы и они, – глянула в окно на соседский двор, – и они Долговы. Это не шутейное дело. Это сверху… От Бога… Боженька вас свёл в божьем месте… Божье дело варится… Ты должна хорошенечку подумати…
– Ох, тётя, думаю. Аж голова репается! – отмахнулась Поля.
– Ты-то ручонками не маши. Ты думай. И делай, как делают умные люди. У тебя Никишина примерность перед носом лежит… Добрый пример… С первого взгляда парубок оценил! Наравится, на глазу киска – чего попусту воду лить? А ты-то что?
– А я говорю, не горячись сильно. А то кровушку взапортишь.
– С больша ума бухнула! Да-а, девонька, коса у тебя до пят. А всё одно без ума голова – лукошко. Ну блажи у тебя, Полька! Ну на весь Собацкий! Ещё и на Криушу достанется. Да нашей ли сестре фордыбачиться, обдери те пятки? Не кусать бы посля локоточек. Ну, разбери по уму, чего его кочевряжиться? Ломайся не ломайся, а упрямилась нитка за иголкой, да протащилась. Иля, може, он тебе не по вкусу?
– Какой-то беласый[13]… Так оно вроде и ничо, да ростом бедняк. Не выше ж петуха.
– У-у! Тожа мне дамка из Амстердамка! Балабайка чёртова! Совсем ухаяла парубка! Не выше петуха… Что ж он, совсем какая камагорка? Ну невысокий. Так про то ни речи. Но не петух же! А что ж тебе надобно два аршина да три палки? Собак на ём резаных вешать иле звезды им сшибать?
Поля кончила есть, молчала, соглашалась внутренне и не соглашалась с доводами тётушки, но не выказывала открыто несогласия, чем тешила тётушкино самолюбие.
– А у него, тётя, кабы сказать не сбрехать, – припоминала Поля, – и ýха смешные… Ушастик…
– Оглянись, коза, на свои рога! Ты-то у нас, всеконешно, раскрасавка. Только б хорошо к этим глазкам ещё и головку помозговитей. А то там им, двум фонарям на пустой каланче, цена невеличка. Чего уж слова терять впусте, некрут наварок.
– Уж какой ни есть, а весь мой. Не бойтеся, в окно гляну, конь не прянет со страху.
– Хорохоришься всё, девойка… Иле думаешь, красивую жену в стенку кто врежа? Неа, не врежа ни один супружик… А за умным хозяином и хозяйка – хозяйка. Чем отшивать такого уважителя, лучше б, кавалерка, подумала про приданое своё. Что там у тебя? Гребешок да веник да с алтын денег найдéтся?
Поля не отвечала.
Ей осточертела эта бесконечная болтушенция, пустая, нудная; она уже мялась у двери, не смела прервать тётушку, но и не смела уйти вот так, не попрощавшись. Такой вольности со старшими ей не попустят ни дома, ни в людях где, и она, переминаясь с ноги на ногу у порога, покорно ждала, пока тётушка не смолкнет. Однако тётушке, по всему видать, трудно было даже остановиться, поскольку пружина на такой разговор крепко была в ней заведена до бесконечности. Так, по крайней мере, казалось Поле. Своё заключение девушка вывела из того, что тётушка говорила как по пальцам, гладко, слова лились из неё однозвучно, ровно, будто из вечного родника.
Неожиданно тётушка затихла. У неё пересохло горло и пока пила она кисель, начисто потеряла нить слов своих. Это даже как-то напугало её. Она конфузливо морщила и без того морщинистый лоб, силилась вспомнить, что ж такое тренькала, но никак не могла вспомнить, и тогда спросила Полю, на чем она заглохла. Поля окончательно спихнула её с мысли, почти выкрикнула, боясь не выпередить её:
– Вы сбирались проститься, тётя!
На удивленье, тётушка как-то послушно положила сухие руки Поле на плечи. Женщины расцеловались, расцеловались трижды, после каждого поцелуя коротко отстраняясь верхом и словно бы любуясь в восторге друг дружкой.
Минутой потом тётушка приникла к окну, следила, как Поля улочкой шла в сторону большака. От страшного любопытства у тётушки захватило дух, когда Поля едва поровнялась с высокими тесовыми воротами соседскими. Пойдёт не пойдёт, пойдёт не пойдёт, гадала тётушка, сгорая от ожидания. Она чуть не вскрикнула от изумления, когда всё из тех же ворот воровски выдернулся Никиша и понуро качнулся считать девчачьи следы, не смея ни окликнуть Полю, ни духом нагнать её.
– Эй-ге-ге-е! – зацокала тётушка языком. – Не замёрзнет лавочка наша с товаром, поцелуй тебя комар!
Молодые шли локоть к локтю в тягостном молчании, будто шли они на кладбище к кому самому дорогому, погребенному в их отсутствие, и теперь каждый, казалось, думал про то, что скажет перед свежим ещё холмиком.
На околице Поля остановила шаг.
– Ну а дальшь, – она посмотрела на синий вдали за полем лес, куда вела её дорога, – не треба. Надальшь я сама…
– А что… если я… приду к вам на лужок?[14] – нежданно для самого себя в тревоге выжал Никита и осторожно, бережно глянул на Полю.
– А я разь запрещаю? – уклончиво ответила Поля. – Ваши криушанские табунками к нам на гармошку надбегают.
– А ты-то бываешь там?
– Пустять батько-матирь, приду часом.
– Ты так надвое говоришь…
– А натрое я не умею.
– Даве вот ты, – мучительно, журливо говорил Никита, – сказала, что я не знаю, как тебя и зовут…
– И назараз то же в повтор скажу.
– П-Поля…
– Стороной где прознал?
– Зачем же стороной? Ты ещё говорила, что вижу я тебя впервые…
– Ну второй раз за сёни.
– В тысячный! Иль ты совсем забыла прошлое лето? Больная тётка… совсем плохая… Сам, старик её, пас скотину, так ты полных три месяца одна ходила за тёткой, и был ли день, спроси, чтоб не видал я тебя? Я часами лежал по сю сторону плетня, наблюдал, как ты в летней кухоньке готовила, как стирала под яблоней, как… Это ты не видишь людей… И невжель ты серьёзно думаешь, с кислой лихоманки пошёл я плести про сватов?
Напряжённо, подломленно Никиша смотрел Поле прямо в глаза.
Поля не вынесла этого взгляда отчаяния, растерянно заморгала. Вовсе не понимая, как это за ней следили всё давешнее лето, зачем это кому-то нужно было, она глухо выдавила:
– С лихоманки, не с лихоманки… Тебе лучше знать. Только тутечки большина, остатне слово, не за мной… У меня ще батько-матирь е…
Поля сострадательно улыбнулась одними губами и медленно побрела по дороге. Она б наверное не воспротивилась, насмелься Никита и дальше провожать, но её слова «Надальшь я сама» стояли у него в ушах, не давали ему силы сделать хоть шаг в её сторону.
«Ты не велишь мне больше провожать тебя, да песне-то ты не запретишь этого».
И он запел – как заплакал:
- – Нехай так, нехай сяк,
- Нехай будэ гречка.[15]
- Не дала мени словечка,
- Нехай будэ гречка…
Степной ласковый ветер то услужливо подносил, то тут же со злобной игривостью отбрасывал жалобные слова парня. Поля в грустной печали вслушивалась в них, по временам останавливалась, задерживала дыхание, чтоб ясней разобрать, но это давалось ей всё трудней; с каждым шагом голос падал в силе от растущей дали, слова дрожали в молодом весеннем воздухе всё размытей, всё глуше.
Апрельские ручьи будили землю. Давно уже грач зиму расклевал – вешним паром отогревались, отходили вокруг поля, под жарким по-июньски солнцем прела пашня.
Поля думала про то, что вот уже вербы у речки, петлявшей вдоль дороги, разрядились в жёлтые пуховые шали, и жирная, сочная полая вода крушила в Криуше, в ериках берега; думала про то, что вот с наступлением тепла уже веселей кудесничалось[16] матери: под шестом сверчок пел песни ей.
Со степи дорога взяла вправо, в березняк. Хотелось пить. На счастье, у обочины добрая рука повесила на сучок высокую березовую кружку, повесила нарочно. Пей, путник, сколько твоя примет душенька! Кругом стояли без счёта дубовые цыбарки. В те цыбарки не то что капал с лотков – лил ручьём, журчал сок. Куда как много, гибель его из березы бежало, пророча дождливое лето.
Уже вторую кружку допивала Поля, как где-то за спиной она явственно расслышала перестрел сухих сучьев. Однако значения никакого не придала. Ну да мало ли кто мог там быть! Птица, может, какая тяжёлая села на сухой сук и тот, подломившись под ней, летел вниз, ломался и дробился о голые, ещё не в листьях, ветки с набряклыми почками; может, зверёк какой мелкий в погоне за добычей прошил гору валежника. Скоро потрескивание заслышалось совсем рядом. Полю подпекло обернуться на шум – горячие сильные широкие ладони закрыли ей глаза, до боли заломили голову набок. Она криком закричала на весь лес – звонкий поцелуй ожёг ей полные тугие губы.
– А-а!.. Пресвятая душенька на костыликах! Вот те за все муки мои!
Сергей прочно обнял девушку, потянулся за вторым поцелуем. Поля резко дёрнулась вниз, вывернулась из кольца железных лапищ и что было мочи огрела прокудника дном кружки по лбу. Он отпрянул за дерево, прикрыл лоб гробиком ладони.
– Мда-а, – зажаловался, – играешь с кошкой, терпи царапины. Если б одни царапины… Слушай! Точно вот так штампуют инвалидов четвёртой группы. Варакушка,[17] да ты что! Неужели я сюда за столько верст лишь за тем и пёрся, чтоб в благодарность за моё усердие схлопотать по лобешнику?.. И-и-и… Рискованно целовать молодую тигрицу… Не знаешь, как ответит…
Глаза у Поли налились обидой.
– От кобелюка! З цепу зирвався? До смерточки ж выпужал!
– Подумаешь, трагедия двадцатого века. Поцеловали! Не бойся, поцелуй дырки не делает. А если тебе его жалко, так на́ его назад! На́! Мне чужого не надь!
Шельмовато похохатывая, будто ронял горошины молодого баска, Сергей ладился опять обнять девушку – крепкий огрев лозинкой по пальцам вытянутой руки заставил его судорожно вздрогнуть, отступиться.
– Хох, какая ледяная решимость… Ну чего ты вся из себя… – шёлково подсыпался Сергей. – Прям дышать нечем… Гордынюшка так и распирает её. К чему этот спектаклишко? К чему коготочки выпускать? А? Ну!.. Варакушка, не глупи. Вокруг ни души… Никто не видит…
– А сами мы шо, нелюди? Зверьё разве якэ? А совесть не бачэ? Не бачэ? – В ярости Поля кинула кружку на прежний сучок, выхватила из-под ноги корягу.
Сергей глубокомысленно почесал в затылке.
– На кого с дубьём? А?.. Позвольте, Полина Сердитовна, помочь вам нести вашу палицу. Не убивайте во мне светлые порывы, пожалуйте палицу, – с игривой вкрадчивой учтивостью канючил парень. Втайне он надеялся хоть вот так завладеть грозной суковатой палкой и смиренно, просительно и не без опаски протянул обе руки принять её.
Казалось, Поля не слышала ни его пустых слов, не видела ни его в услуге простёртых рук. Помахивая перед собой в нарочитой небрежности кривулиной, она перепрыгнула через канаву и пошла по большаку.
Сергей поскрёбся следом.
– Приходи сегодня на улицу на Середянку. Я балабаечку возьму… Потрындыкаю…
– И не забудь выпросить у сеструли Анютки чем подрумянить щёки? – колковато кинула она.
– Для тебя для одной чего ж не подрумяниться?
– Мне без разницы…
– А я дурило думал, обрадую, – с досадой и вместе с тем с какой-то зябкой надеждой удручённо пробубнил он. – Примчался вчера к нам Егорка со своим солнушком ну и вывали, где ты, что ты. А дело к сумеркам. Я вперехватку и кинься на рысях в Криушу. Прождал в Кониковом леске[18] до звёзд ясных… Сёне с зорьки дежурю… Все ножульки отходил… В стаду не пошёл вон!..
– Ка-ак не пошёл? Ты ноне череду[19] не пас?
– Пасу вот. Тебя.
– Шо люди скажуть?
– Эти кулачики? Для них у меня пасёное словцо за щекой. Плевать! Отъем один круг[20] да и шатнусь по найму к другим!
– Ты такой пустодыря?
– Поляха! Ты на меня особо не косись… Я, может статься, ещё в институтцы впрыгну!
– Ты? У тебя ж в кармашке тилько три классы!
– Эка печалища! А я заочным бéгом и школу добью, и до институтского дипломища докувыркаюсь. Так что цени! А ты…
– А ты, последуш, правь иль большаком, иль стёжкой. Тилько не топчи следы мои. Выбирай.
Поля стала у развилки, откуда и той, и той дорогой можно было попасть в Собацкий, чуже ждала, когда Сергей пойдёт вперёд, чтоб потом и себе пуститься другим путём. Но Сергей не уходил, примирительно, извинительно выжидал в надежде, что что-то изменится, вовсе никак не верил, что может быть что-то иное в их отношениях кроме торжества его воли. Он не хотел иной дороги, где рядом с ним не было бы Поли. Поля же стояла совсем какая-то зачужелая, совсем не та, что вчера у криницы. Сурово поджала губы, глаза безучастные. Сергей чутьём угадал открывшуюся между ними пропасть, разом сник.
– Не, – медленно, тяжело повела она головой из стороны в сторону, – не жди. Не ходить одной нам дорогою…
Ей надоело ждать. Она ходко взяла стёжкой. В гору. Так было ближе.
Сергей побрёл за нею.
– Так кому я – ветру сказала? – Поля снова остановилась. – Лошадь за делом, а на шо лошаку бежать вследки так? Да не приведи Господь кто из наших, из хуторянских, побаче нас напару – неславы довеку не оберéшься. Ну на шо такие игрушки?
– Увидят не увидят… Это всё ещё в волнах… А тут вот это благоприобретение… Это солнушко… – Сергей с заботой, осторожно обвёл пальцем просторно севшую на лоб шишку. – Это архитектурное излишество мне как-то вовсе ни к чему. Как бельмо на глазу.
Поля усмехнулась уголками рта.
– То пчёлка меду дала, какого ты и хотел… – И взяла голос построже: – А увяжешься за мной, ще разживэшься медком!
Невесело, через силу улыбнулся Сергей, скрестил руки на груди и с грустью смотрел Поле в спину, покуда не пропала девушка за возвысьем из виду.
Цепкие неспокойные глаза уже не могли отыскать-догнать за горизонтом девушку, а он всё стоял и в тоске думал, отчего же всё так нелепо крутнулось. Насколько он понимал, каждый давешний взгляд Поли сулил высокую радость от уединения. Он ждал, долго выжидал случай, нарочно подгадывал тот момент золотой, чтоб сойтись в лесу с Полей одним-одни. Но вот быть-то были одним-одни, а вылепилась какая-то грязь. Ему стыдно стало всего того; в смятении благодарил он судьбу, что ничего особо худого у них не выплелось – и слава Богу.
6
- Вдруг сердечко пылкое
- Зажглось, раскалилося,
- Забилось и искрами
- По груди запрядало.
На неделе, в среду, Владимир подпылил на своей бричке за семенной гирькой, и Олена насыпала такой ворох новостей, такой ворох пьянящей радости, что у него едва не подломились ноги. Он только на то и нашёл силы, что сгрёб картузишко с головы да и хлоп им об пол.
– Грай, музыка, а то струмент побью! А! Полька! Я думал, она у меня ни куе, ни меле. А она… Ит ты! Говорила ж душа, не чета горбыльский бычок! Сам гол, а руки в пазухе… Ха-ха-ха! Оставайся, Горбуля, как рак на мели да хоть землю гложи! Мне-то шо за печаль?! Девку мою в богатский дом манят. А коли так, так и пышку в мак! Вот моя на то согласность! – Володьша воображаемой иконой перекрестил воображаемых жениха и невесту, что стояли перед ним на коленях в ожидании благословения. – Да, да! За этого за твоего Никитку я с большим сердцем отдам и душа не боли!
Олена привыкла ко всяким житейским разностям и никак не ожидала, что весьма обстоятельный её рассказ про жениха так живо примет Володьша. Неистовый его восторг несколько пугал её.
– Быстро ты, Вовуня, выпихнул не глядючи. А Полька пока молчит? Или как?
– Молчит. И хай молчит! Ит ты, говорить буду я. Я свою Сашоню увидал попервах под венцом. Повезли нас родители в церкву, никто не спросил, ну як ты, Володушка, довольный? Никто! А невжеле я испрошу? Невжеле я испрошу её соизволения? А этих пять братов, – Владимир потряс кулаком, – она у меня видала?
– Угроза не подмощница. Хоть бы для блезиру спросил. Ведь не ранешние, не старопрежние времена.
– Смалкивай, глуха, меньшь греха… Ох и сказанула, як в лужу ахнула. Ну и шо ж из того, шо новые времена? Девка-то моя! Ка-ак ни вертану, а с отчётцем в том не побегу ни к кому.
Минуло полных семь дней.
Однако желанный парубок отчего-то всё не казал носа, и Володьша сам побежал на поклон в Криушу, засуетился полегоньку наставлять свояченицу уму, как его половчей подкатить колёсушки к женишку.
– Оё, Вован, что ж ты старую кобылу учишь, как овёс жевать? – обиделась Олена. – Да я на этом овсе все четыре умных зуба стёрла! Не паникуй, блинохват, – отойдя от обиды, она со сладостью в голосе хватила заверять гостя, что всё будет исполнено в наилучшем духе, и Володьше, и ещё больше самой напрашивающейся в свахи Олене нравились её клятвенные заверения вернуть парня под начатое начало, напомнить ему хорошенечку про всё и если понадобится (а это понадобится обязательно, в этом никто из них не сомневался), помочь ему советом, а равно и делом – одно слово, деликатная беседа с бесконечными развернутыми уточнениями во всех подробностях выскочила на радость обоим просторная, они с медово-сладкими лицами засиделись за ней так долго, что Володьша поехал назад совсем в ночь, уже при звёздах, улыбчивых, весёлых. И чудилось ему, что «звезды висели на светящихся нитях».
На следующий день, в четверток, Олена встала разом с солнцем. Для апреля слишком поздно. Вставала она в обыденку, когда ещё черти не играли в булку.[21] До восхода солнца.
– Ах ты и сатаниха! – честила себя бабка, промокая и протирая слезливые со сна глаза сжамканным углом платка. – А! Чтоб тебя совсем!
Без обычной проворности хлопотала она по дому так, что оторви да брось, и была тому причина: почти всё утро проторчала то у окна, то на приступках, с цыпочек засылала глаза поверх высоченного забора к соседям на подворье. Выискивала Никишу. Она уже и не чаяла увидать его сейчас. Рассудила, что он уже в поле где. А он вон пожёг с уздечкой к деннику.
– Никиш, а Никиш! – молодо заподпрыгивала на подушечках пальцев, загодя тайком вкинув пустое ведро в колодец. – А заверни сюда, ласка, на минутыньку! Подсоби горькой горюхе, подсоби-и, – клянчила с жалливой настойчивостью.
Никита бросил уздечку на кол в плетне, вошёл к ней во двор.
– А горя-то какоющее… Ведро окаянное с цепу сорвалось. Утопло. На́, приятка, – старуха подала ему багор, – поищи… А горя… С вечора не пимши… В доме ни водинки…
Край некогда Никише. Но раз соседка примирает без воды, как не помочь? Спустил он багор в колодец. Лёг на осиновый сруб, зашарил по дну, вслушиваясь в колодезную тьму. Рядом на венец припала сухой, выморочной грудкой бабка, свойски вшепнула в ухо:
– Передохни́. Потом примахнёшь.
Никиша скосил на неё удивлённые глаза.
– Я ещё не устал… А чего это Вы дедушку Василька боитесь заставить поковыряться в колодце?
– А где тот твой Василёк? Или ты не знаешь? Гляди, разоспалсе там, в певчей. Тепере допрежь обеда не жди, покудушки батюшка кадилом не подымут. Он жа, Василёк мой Борохван, – воистину вот боровок! – как говорит? Я стерегу церкву, а Господь стерегё покой мой. Так что он с Богом до полудня не распростится.
Никита крайком уха слушал бабкин треск про её мужа, церковного сторожа, и добросовестно толокся вокруг проклятущего ведра, по бокам которого глухо, коротко раз за разом чиркал багор, а взять за дужку всё никак не выходило.
– Ты, Никиша, – вкрадчиво пела под руку бабка, – не таись меня. Я не слепая, вижу всё как есть. А раз так, то я и видала тебя с Полюшкой. У меня с ней знаешь, какой разговоришко спёксе?
– Да? – Никита толкнул багор в угол сруба, мягко взял старушку за локоть. – Что же она, бабушка? Говорите! Ну…