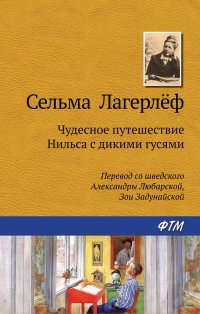Читать онлайн Иерусалим бесплатно
- Все книги автора: Сельма Лагерлёф
Selma Lagerlöf
Jerusalem
Перевод со шведского Сергея Штерна
BLACK SHEEP BOOKS
This translation has been published with the financial support of Swedish Art’s Council
© Сергей Штерн, перевод на русский язык, 2022
© Татьяна Кормер, дизайн обложки, 2022
© ООО «Издательство Альбус корвус», издание на русском языке, 2022
Книга первая
Даларна
Пролог
Ингмарссоны
I
Молодой пахарь идет за плугом. Трудно вообразить картину приятнее для глаз и целебнее для души! Солнце только-только взошло. Побагровели верхушки елей в соседнем леске, трава еще матовая от ночной росы, а воздух, воздух! – бывает же такая свежесть в воздухе, что и словами не опишешь. Даже лошади фыркают от удовольствия и затевают игры, кто кого перетянет.
Жирные комья земли в отвале блестят от влаги – пора сеять рожь. Тоже хорошая новость. Даже удивительно – почему иной раз заедает хандра, почему лезут в голову мрачные мысли: мол, ах, как тяжела, как беспросветна жизнь… Что ж в ней беспросветного? Солнечная прохлада раннего утра – и ты счастлив, как дитя в райском саду. Ничего больше не надо. И тишина. Какая тишина! Даже чавканье потревоженной земли и пение птиц ее не нарушают. Наоборот – делают еще совершеннее.
Широкая долина разделена на бесчисленные квадраты желто-зеленых посевов, скошенного клевера, цветущей картошки. Над голубыми лоскутами льна вьются полчища белых бабочек. И словно для придания мирному пейзажу художественной завершенности, в низине поместился хутор с десятком посеревших от старости, но крепких амбаров, домиков и сараев, окружающих большую невысокую усадьбу. Над одним из домиков вьется дымок. Сразу ясно: пивоварня. Расположился этот замечательный хутор так ловко и уместно, будто решил доказать: сами поглядите! Поглядите и убедитесь: а людям-то иной раз удается не портить пейзаж. Две переросшие груши у торца, молодые березки на въезде, несколько высоких поленниц под навесом на зеленой лужайке, а чуть подальше, за коровником, – купола стогов. Будто неторопливо плывет большой парусный корабль в открытом море – разноцветном, как и полагается морю. Красивое зрелище.
Пахарь придержал лошадей.
– Чудо-хутор! – сказал он вслух и оглянулся – не слышит ли кто, как он сам с собой разговаривает.
И продолжил размышлять – теперь, правда, молча.
Да, чудо-хутор. Хорошие, крепкие строения, довольные жизнью коровы, резвые лошади, преданные слуги. Уж кому-кому, а мне нищеты бояться не стоит. И жаловаться грех…
Подумал немного и покачал головой.
Если я чего и боюсь, то уж никак не нищеты. Главное – быть достойным и уважаемым человеком. Как отец, как дед мой…
А вот интересно: какого лешего я начал про это думать? Только что жизни радовался, и на тебе. Но все же, все же… В прежние времена на отца поглядывали: как начинает он сенокос, так и все за ним. Поднимает пары – значит, время пришло, весь уезд рукава засучил. А я уже два часа хожу за плугом, а соседи еще и лемеха не точили.
А, да ладно, большое дело… что ж я, хуже с хутором управляюсь, чем любой из Ингмаров Ингмарссонов в старые времена? Ничуть не хуже. Лучше! И платят мне за сено больше, чем отцу, и землю выровнял – убрал эти чертовы канавы. А уж если правду говорить – и лес не обижаю. Не то что отец и дед – те целые рощи выжигали под пашню.
Да, им тяжеловато приходилось. Отцу, деду, прадеду… Теперь-то другое дело. Ингмарссоны живут в этом краю с незапамятных времен, и уж кому и знать, как не им, что Господь повелел? Господь повелел: вот так и так. К ним даже просители приходили, и не раз: сделайте такую милость, правьте приходом. Все знают – вы люди справедливые, кому ж и править? Испокон веков Ингмарссоны назначали пасторов и звонарей, решали, когда время пришло почистить запруду или построить школу…
А со мной что-то не так. Никто ни о чем не спрашивает, не просит совета. Ничто от меня не зависит.
Конечно, в такое утро все кажется не особо важным. Чего там: посмеяться хочется над этими дурацкими переживаниями. Но все равно страшно: а что будет осенью? Если сделаю, как решил, – мне же ни пастор, ни уездный предводитель руки не подадут! Даже в комитет помощи бедным не выберут, а уж стать старостой прихода – и мечтать не стоит.
И вот что интересно – никогда не думается так легко и ясно, как за плугом. Лошадки успокоились, спокойно шагают к меже. Там надел кончается, борозда обратно идет. Без всякой команды поворачивают – и назад, до дальней межи, потом опять поворот. И никто не мешает, разве что грачи за спиной склевывают чересчур любопытных червей. Мысли не путаются, не перебивают одна другую – будто их кто-то нашептывает в ухо. И не сразу, а по очереди. Одна умная мысль закончилась, появилась другая, тоже, на первый взгляд, неглупая. Плавное течение рассуждений, лишенное уколов честолюбия, зависти и недовольства, вновь привело молодого Ингмара Ингмарссона в хорошее настроение. Редко когда удается так хорошо подумать. А вообще-то – чему огорчаться?
– Нечему, – сказал он сам себе. – Огорчаться нечему. Разве кто-то требует, чтобы я сам себе навредил? Только этого не хватало! Вот был бы отец жив, спросил бы его. Так уж заведено у нас, Ингмарссонов: если что, спроси отца. Но отец-то помер. Помер отец.
– Знал бы дорогу, так и пошел бы к нему, – пахарь улыбнулся неосуществимости замысла, но решил продолжить воображаемую встречу. Интересно, что бы сказал Большой Ингмар?
Вот сидит он там у окна, смотрит на дорогу – глядь, а это еще что за гость? Да это ж сын идет!
Там-то у отца наверняка хозяйство – всем хозяйствам хозяйство. И поля, и луга, и дом что надо, и коровы все шоколадные, ни одной черной или, к примеру, пестрой. Все как он мечтал. И вот вхожу я в дом. Задержался, конечно, на пороге – грязь с сапог счистить…
Пахарь остановил лошадей, укорил себя за глупость и даже засмеялся. Какая там грязь… это ж рай. Нет там никакой грязи, а отец – вот он, сидит, смотрит на него и улыбается.
Пора бы вести борозду дальше, но молодой Ингмар Ингмарссон так и остался стоять. Даже глаза закрыл.
…Вот вхожу я в большой красивый дом, а в горнице полно людей. Рыжие с проседью, с седыми бровями – все как один. И нижняя губа у всех оттопырена – похожи на отца, как ягоды с одного куста. Сам отец во главе огромного стола. Остановился я на пороге. Неловко, конечно, но отец-то сразу приметил.
– Добро пожаловать, Ингмар Ингмарссон-младший! – Поднялся со стула и пошел навстречу.
– Отец, давно я мечтал с тобой посоветоваться, но тут столько чужих людей…
– Чужих? – Отец расхохотался. – Это как это – чужих? Тут все свои. Родня. Все они жили на нашем хуторе, а старший – с незапамятных времен, тогда и о Христе-то никто не слыхивал.
– А, так вот это кто… то-то я вижу – все на одно лицо. Но мне хотелось бы переговорить наедине.
– Наедине так наедине. – Отец огляделся, поманил в кухню. Там и присели – он на плиту, я на колоду.
– Хороший у тебя хутор, отец.
– Грех жаловаться. А как дома дела?
– Тоже неплохо. В прошлом году сено продали по двенадцать риксдалеров за шеппунд[1].
– Не может такого быть. Ты ведь не посмеяться надо мной сюда явился, Ингмар-младший?
– Какое там посмеяться… по двенадцать, по двенадцать. А вот со мной похуже. Только и слышу – отец твой мудрый был, как сам Создатель. А меня никто ни о чем не спрашивает.
– А ты разве не в коммунальном совете?
– Нет. Ни в школьном, ни в приходском.
– Что ж ты такого плохого сделал, что тебя не выбрали?
– Да вроде ничего. Говорят – прежде чем других учить, сам выучись.
Так и вижу – закрывает отец глаза и думает.
– Жениться тебе надо, Ингмар. Найди хорошую жену.
– В том-то и дело, отец. Даже самый бедный арендатор не соглашается отдать за меня дочь.
– Так… – наверняка скажет отец ласково. – А теперь объясни. Что-то не вяжется.
– Глянь-ка, отец, четыре года назад как принял хозяйство, так чуть не сразу сделал предложение Брите из Бергскуга.
– Погоди-ка… – задумался он. Видно, подзабыл, как и что там у нас, на земле. – А у нас разве есть родня в Бергскуге?
– Нет, родни там у нас нет. Но это состоятельные люди, да ты же помнишь: ее отец – депутат риксдага.
– Да-да, это все хорошо. Риксдаг – это, конечно, да. Риксдаг все-таки. Но тебе следовало подыскать невесту из нашего рода. Из тех, кто знает наши обычаи.
– Правда твоя, отец, потом-то и я понял…
И вот сидим мы, отец и сын, и молчим. Первым отец заговорил.
– А красивая она?
– Да. Волосы темные, глаза блестят, а щеки – как розы. Но и работящая. Мать довольна была, когда я послал сватов. И все бы хорошо, одна беда: она меня не хотела.
– Большое дело… Как розы – это да, конечно. Что да, то да. Но мало ли что у девчонок на уме, кто их слушает.
– Родители заставили.
– Заставили! Тебе-то откуда знать? Заставили – не заставили… она небось и сама рада такому богатому жениху, как ты, Ингмар Ингмарссон.
– Чего нет, того нет. Никакой радости. Но согласилась. Уже и первое оглашение было, и Брита к нам переехала помогать матери со свадьбой. Мать-то не та уже, устает быстро.
– Что ж… ничего плохого не вижу, – говорит отец. – Само собой. Помочь надо старушке. – Вроде как подбодрить меня хочет.
– Но тут, как назло, год выдался плохой. Картошка вообще не уродилась, коровы болеют… не одна напасть, так другая, не другая, так третья. И мы с матерью решили отложить свадьбу на год. Я-то думал – что за беда, оглашение уже состоялось, обручиться-то всегда можно. Но, оказывается, в нынешние времена…
– Взял бы невесту из нашего рода, – перебил меня отец. – Из нашего – потерпела бы. Большое дело – год.
– Наверняка потерпела бы. А Брита – нет. По всему было видно – не по душе ей проволочка. Но я-то посчитал – не по карману свадьба. У нас же весной похороны были, а в банке брать – сам знаешь…
– Думаю, правильно решил. Лучше подождать. Еще чего – в банке.
– Ну да… а Брита ни в какую. Не хочу, говорит, дитя крестить до свадьбы.
– Понять можно. Но первым делом соображай – можешь ты себе позволить такие расходы или нет.
– И с каждым днем делалась она все молчаливее, все страннее. А я спрашиваю – должно быть, по дому тоскуешь, никак не привыкнешь к новой родне? Посчитал – пройдет. Как говорят: стерпится – слюбится. Как может не понравиться такой хутор, как у Ингмарссонов? Решил подождать. Подождал-потерпел – дай, думаю, у матери спрошу: с чего это Брита такая бледная и глаза как у рыси? И мать тоже говорит – пройдет. Как родит ребеночка, так и пройдет. Ага, думаю, вот почему она дуется. Свадьбу-то отложил, а тут ребенок. Но спросить побоялся. Ну, не то чтобы побоялся – не решился. Ты, отец, всегда говорил: как женишься, сынок, в тот же год покрасим дом красной фалунской, а то давно домом не занимались. Помнишь? Но у меня денег ни на краску, ни на маляра. Такой неурожай, ничего почти не продали. Ладно, думаю, на следующий год покрасим. Не опоздаем…
Пахарь неторопливо пошел за плугом. Подгонял и сдерживал лошадей, а губы шевелились – продолжал беседу с покойным отцом.
Расскажу отцу все как есть, – решил он. От кого же еще умного совета дождешься?
Так и вся зима прошла. А она все мрачней и мрачней – тучей ходит. Тут, конечно, моя вина – надо было поговорить, как и что. Я уж начал подумывать, не отослать ли ее домой в Бергскуг, пусть отдохнет среди своих. Да как теперь отошлешь? Поздновато… И так до мая. А как-то вечером сели ужинать – глядь, а Бриты нет. Всю ночь искали, только под утро одна из служанок ее нашла.
А отец спрашивает:
– Уж не померла ли, упаси Бог? – Само собой, услышал он, как у меня голос дрожит.
– Нет. Не она.
– Ребенок-то родился?
– Задушила она его. Так и лежал рядом с ней, мертвый.
– Что ж она, не в своем уме?
– Почему не в своем? В своем. Такой у нее ум. Решила мне отомстить – ну да, взял я ее силой, до свадьбы, было дело. А жениться, по ее разуму, не хотел. Ни за что бы она на такое не пошла, если б нас повенчали. Но раз не женился – значит, законного ребенка не хочу. А не хочешь законного – никакого тебе не будет. Вот как она рассудила.
Долго молчал отец. И вид грустный-грустный.
– А ты был бы рад ребенку, младший Ингмар?
– Да, – говорю. – Конечно, рад, а как же.
– Жалко мне тебя – надо же, на какую скверную девку угодил. Она сейчас в тюрьме сидит?
– Три года ей дали.
– И поэтому никто не хочет за тебя отдавать дочь?
– Наверное… а по правде, ни к кому я и не сватался.
– И поэтому у тебя никакой власти в приходе?
– Все считают – не должно было такое случиться с Бритой. Дескать, умный бы был, ну вот как ты, к примеру, – поговорил бы с ней, узнал, с чего она так мается.
– Нечего серьезному хозяину вникать, что там всякие негодницы замышляют. Не мужское это дело. Один вред от них.
– Нет, отец, никакая она не негодница. Гордая чересчур – это да.
– Что в лоб, что по лбу.
Тут заметил я – отец вроде меня подначивает, но продолжил:
– Говорят – ты должен был сказать, что ребенок родился мертвым. И все дела.
– То есть, значит, и наказания никакого?
– И знаешь, что еще говорят? Говорят, ты бы на моем месте ни за что так не сделал. Заставил бы служанку молчать, ничего бы и не выплыло.
– И тогда бы ты на ней женился?
– Ну нет… тогда и нужды бы не было. Подождал бы пару недель и отослал домой к родителям, а там бы и оглашение отменили – дескать, не по душе ей у нас, Ингмарссонов.
– Это да… это правильно. Но они-то, в приходе, чего от тебя хотят? Чтобы такой молодой парень мудрый был, как старик?
– Я же говорю: весь приход считает, что я обошелся с Бритой плохо. Не по-людски.
– Плохо! Вот тебе и раз! Она-то с тобой еще хуже. Сколько сраму для порядочных людей.
– Так-то так. Но ведь я взял ее силой. Против воли.
– И что? Ей бы только радоваться.
– А ты не считаешь, отец, что она угодила в тюрьму по моей вине?
– Она сама себя туда посадила. Я думаю так.
И тут мне показалось – не прав отец. Я помолчал. Встаю и раздельно так спрашиваю:
– То есть ты, мой отец, не считаешь, что я должен что-то для нее сделать? Осенью, когда срок закончится?
– А что ты можешь сделать? Уж не жениться ли на ней?
– Ну да. Именно жениться. А что ж еще?
– Так она тебе нравится?
– Нет. Теперь нет. Убила она мою любовь, вот как я скажу.
И тут отец закрыл глаза и погрузился в размышления.
Я ждал-ждал и не выдержал.
– Не могу себе простить, что стал причиной такого несчастья. – Опять подождал, но отец словно и не слышит. – Последний раз я ее в суде видел. Она и не оправдывалась, только плакала, что лишилась ребенка. И ни слова плохого про меня. Все на себя брала. Даже у судьи глаза были на мокром месте. И дал-то он ей всего три года. Все думали, хуже будет.
Отец по-прежнему молчал.
– А сейчас ей каково? Никто ей там, в Бергскуге, не обрадуется. Они только и говорят: она нас обесчестила. И ей будут тем же в глаза тыкать. Заплюют. В церковь пойти – и то решиться трудно. Тяжко ей будет. Очень тяжко.
Хоть бы глаза открыл, отец-то. Сидит и вроде бы думает. Над чем, хотел бы я знать.
– А мне сейчас жениться – не тяжко, что ли? Как мне хозяйством управлять? Что ж хорошего – и служанки, и конюхи будут глядеть на нее как на срамную. И матери не понравится. И господ не сможем пригласить, как бывало, – ни на свадьбу, ни на похороны. То есть пригласить-то сможем, да никто не пойдет.
Молчит и молчит… о чем он молчит-то?
– Вот и в суде… старался помочь, чем мог. Сказал, вся вина на мне, силой я ее взял, против воли. Ни в чем, говорю, не виновата она, и, если зла на меня не держит, готов жениться хоть завтра. Хотел, чтобы ей помягче присудили. Она мне потом два письма написала, но не сказать чтобы… пишет, не обязан я на ней жениться.
И опять ни слова. Молчит отец.
– Знаю, – говорю, – поступать надо по-божьи. Мы, Ингмары, всегда так делали. Но нет-нет, а мысль приходит: а Господь-то как поглядит? По Божью ли закону убийцу в жены брать?
Молчит отец, молчит. Вроде думает о чем-то.
– Ты же сам помнишь. Тяжко это – видеть, как другой страдает, и не помочь. Думаю, все в приходе меня осудят, но так мне не по себе было все это время. Нет, надо что-то сделать.
О, черт? Молчит и не шевелится… А я чуть не плачу.
– Гляди же, отец… я еще молодой. Если возьму ее в жены, никто уважать не будет. Раньше за одно судили, теперь будут за другое. Вообще, скажут, парень умом тронулся.
Хоть бы слово сказал. Молчит и молчит. А я никак не успокоюсь:
– Но еще и вот что. Мы, Ингмары, уже много сотен лет тут живем. Все остальные хутора поменяли хозяев, и не раз. А мы держимся. Думаю, потому, что всегда искали пути богоугодные. С чего бы молвы бояться, когда нам сам Господь дорогу указывает…
И только теперь старик открыл глаза.
– Непростой вопрос, Ингмар-младший. Давай-ка сделаем так: пойду-ка я спрошу остальных Ингмарссонов.
И ушел. А я жду и жду, жду и жду, а он не возвращается. Час идет за часом, а его все нет. Надоело мне ждать, и пошел я за ним.
– Потерпи, Ингмар, – сказал отец. – Возвращайся в кухню и жди. Вопрос непростой.
Успел только увидеть: сидят старики с закрытыми глазами и размышляют.
Что ж… жду. До сих пор жду.
* * *
Лошади шли все медленнее и наконец остановились. Подустали, видно, да и сам он все замедлял и замедлял шаг. На губах играла неопределенная улыбка – вот так разговор привиделся. С покойным отцом! Даже не только с отцом – со всем родом Ингмаров. Сон наяву. Остановился на краю канавы, натянул вожжи и перестал улыбаться.
Интересная получается история, подумал пахарь. Просишь совета, а пока вопросы задаешь, сам понимаешь, что правильно, а что нет. И сразу видишь, до чего три года не мог додуматься. Так и будет, как Господь пожелал.
Будет-то будет, но как тяжело! Внезапно решимость покинула его, и он тяжело опустился на пригорок.
– Помоги мне Господь… – прошептал вслух Ингмар Ингмарссон.
А еще надо сказать вот что: не только он, Ингмар Ингмарссон, поднялся в такую рань в это утро. По тропинке между наделами шел немолодой и даже довольно старый человек. Угадать его ремесло – никаких прорицателей не надо. Кисть на длинном черенке через плечо, ведро, весь перепачкан красной краской – от шапочки до сапог. Идет и поглядывает по сторонам, как и полагается фалунскому маляру: не сыщется ли хутор, где краска поблекла от времени и дождей. Такие хутора попадались, но почему-то он проходил мимо. В конце концов поднялся на небольшой пригорок и заметил хутор Ингмарссонов в долине.
– Вот это да, – сказал он сам себе. – Дом-то весь серый от старости. А сараи, а конюшня, а коровник, а амбары! Похоже, вообще не знали краски. Здесь работы до осени хватит.
И почти сразу заметил запряженный плуг. Свернул с тропы и пошел прямо по пашне.
– Не знаешь, чей это хутор?
Ингмар Ингмарссон уставился на него как на привидение. Надо же – фалунский маляр! Давно их не было в наших краях, и на тебе – появился прямо сейчас! Он так растерялся, что даже ответил не сразу. Вспомнил слова отца.
Как только Ингмар женится, тут же велю покрасить дом.
Маляр повторил вопрос, потом еще раз, но Ингмар молчал.
– Ты что, Вознесения ждешь? – удивился маляр.
Неужели отец вспомнил про него и послал гонца? И гадать нечего: они там, на Небесах, все решили. Ты должен жениться, Ингмар!
Его так растрогала эта мысль, что он встал и, не боясь испачкаться, обнял маляра за плечи.
– Да, – сказал он. – То есть что – да? Нет, конечно. Какого еще Вознесения? Чей, говоришь, хутор? Мой это хутор, мой. Будем красить. Считай, заказ получен.
Он взялся за вожжи. Отдохнувшие лошади встряхнули гривами.
– Увидишь сам, отец: ничего страшного. Раз ты сам так решил, все будет хорошо.
II
Прошло недели две. Ингмар решил почистить сбрую, но дело шло медленно. И настроение так себе.
– Будь я Господом нашим… – Он пару раз провел тряпкой по уздечке и задумался. – Будь я Господом нашим, устроил бы вот как: принял решение – выполняй. Сразу выполняй, не тяни. Не давал бы людям размышлять, пережевывать и прикидывать: а если так? а если не так? Да еще поводы выискивать. Вот, мол, сначала седло почищу, сбрую, коляску покрашу… Соблазн все это. Бери себя за ворот и выполняй, что решил.
С дороги послышался скрип рессор. Даже выглядывать не стал, по скрипу узнал, что за коляска.
– Депутат риксдага из Бергскуга приехал, – крикнул Ингмар в окно кухни, где хлопотала мать.
Не успел крикнуть, как тут же – перестук поленьев и знакомый хруст кофейной мельницы.
Коляска остановилась во дворе. Депутат отрицательно помахал рукой.
– Нет-нет, заходить я не стану. Хотел обменяться парой слов, Ингмар. Тороплюсь на заседание уездного совета.
– А мать хотела на кофе пригласить.
– Спасибо, конечно. Сам видишь – нет времени.
– Давненько господин депутат нас не навещал, – протяжно сказал Ингмар. Хотел еще что-то добавить, но его перебила появившаяся на пороге мать.
– Не собирается ли господин депутат риксдага нас покинуть, не выпив чашечку кофе?
Ингмар помог гостю расстегнуть полость на ногах.
– Если сама матушка Мерта приглашает, надо слушаться, – произнес гость с улыбкой, подчеркивающей совершенную невозможность отказа.
Высокий, стройный депутат спрыгнул с коляски и легко зашагал к дому. Он будто бы принадлежал к другой человеческой расе – не к той, что Ингмар и его мать. Ингмарссонов красавцами не назовешь: грубо слепленные лица, вечно полузакрытые, будто сонные глаза, неуклюжие движения. Но Ингмарссоны пользовались в уезде огромным уважением, и депутат охотно променял бы красивую внешность и легкую походку на честь принадлежать к этому старинному роду. Если между его дочерью и Ингмаром возникали какие-то разногласия, всегда принимал сторону Ингмара. Он не без опасений решился на этот визит, и, когда увидел, как гостеприимно его встречают, у него отлегло от сердца.
Мерта ушла на кухню. Депутат дождался, пока она вернется с подносом с дымящимся кофейником.
– Я вот что, – произнес он и откашлялся. – Надо поговорить… что вы думаете о Брите?
Руки у Мерты слега задрожали – выдала зазвеневшая в чашке ложечка. Ни она, ни Ингмар не произнесли ни слова.
– Мы решили отправить ее в Америку. Так будет лучше.
Опять сделал паузу. Выждал немного и вздохнул: какие трудные люди! Как воды в рот набрали.
– Уже билет купили.
– Но она же сначала домой заедет? – наконец-то подал голос Ингмар.
– Это еще зачем? Что ей делать дома?
Ингмар не стал перечислять подходящие для вернувшейся из тюрьмы дочери занятия. Закрыл глаза и замер, будто заснул. Вместо него заговорила Мерта.
– Ей одежда нужна.
– Все уже упаковано. Лежит в сундуке у купца Лёвберга. Будем в городе, захватим.
– А супруга господина депутата? Она же поедет дочь встретить?
– Хотела. Да, она-то хотела, но… лучше не надо. Лучше не встречаться.
– Вот оно что… ну ладно. Можно и так.
– И билет тоже у Лёвберга. И деньги. Все, что ей нужно… Я подумал, Ингмару надо знать, как и что. Все устроено, так что ему не о чем беспокоиться.
Матушка Мерта не сказала ни слова. Головной платок сполз на шею. Она покачала головой и уставилась на фартук.
– Так что Ингмар может подумывать о новой невесте. – Депутат решил, что лед взломан, и продолжил: – Матушке Мерте нужна помощь. В таком большом хозяйстве одной не управиться.
Теперь молчали все трое. Депутат не выдержал первым – ему показалось, до этих пусть и уважаемых, но, что уж там скрывать, туповатых хуторян не дошли его намеки.
– Мы с женой решили устроить так, чтобы всем было хорошо.
Ингмар в начале разговора приложил немало усилий, чтобы скрыть радость. Вопрос решился: Брита уезжает в Америку, ему совершенно не обязательно жениться. Детоубийца не имеет права командовать в таком большом хозяйстве, как у него. А молчал потому, что посчитал недостойным открыто выказать удовлетворение. Теперь ему начало казаться, что молчание затянулось.
А депутат риксдага тоже замолчал. Надо дать этим тугодумам время переварить сказанное.
Матушка Мерта прокашлялась и потерла подбородок.
– Да… что ж, Брита свою вину искупила. Теперь наша очередь.
Прозвучало многозначительно, хотя все было гораздо проще: матушка Мерта хотела выведать, сколько они должны заплатить депутату за такое мудрое и всех устраивающее решение. Но Ингмар не разгадал намека. Вернее, разгадал, что это намек, но придал ему совершенно иной смысл. Он словно проснулся. Теперь наша очередь…
А что бы сказал отец на его месте? Вот услышь он все, что я услышал, – что бы он сказал? Отец сказал бы: не играй в кошки-мышки с Господним умыслом, Ингмар. Если ты позволишь Брите взять на себя всю вину, без наказания не останешься. Ее отец так легко выкидывает дочь из дома только ради того, чтобы занять у тебя денег. Это его дело. А ты? Разве ты вправе сойти с тропы, указанной Господом? Нет у тебя такого права, младший Ингмар Ингмарссон.
И еще вот что подумал этот самый Ингмар Ингмарссон-младший: наверняка отец за мной приглядывает. Подослал депутата, чтобы еще раз дать понять: подло взваливать на Бриту всю вину.
Он встал, плеснул в кофе коньяку и поднял чашку.
– Спасибо, что заехали, господин депутат, – и поднял чашку, будто и в самом деле провозгласил торжественный тост.
III
Занялся Ингмар березками на въезде – и провозился до полудня. Поставил две стремянки, на них пристроил доски – получилось нечто вроде строительных лесов. Несколько раз проверил, устойчивы ли, запасся прочной веревкой и начал пригибать верхушки молодых деревьев друг к другу – получалось нечто вроде арки. Дело оказалось не таким простым – тонкие, но упругие стволы раз за разом вырывались из удавки и выпрямлялись, возмущенно потряхивая блестящими ярко-зелеными листьями.
– И что это будет? – спросила матушка Мерта.
– Думаю, пусть так порастут. Пока.
Вроде бы и ответил, а что сказать хотел – неизвестно.
В полдень пообедали. Работники устроились спать прямо на дворе, в тени сараев и амбаров. Ингмар Ингмарссон тоже пошел передохнуть. Не спала только матушка Мерта, присела в гостиной с вязаньем.
Дверь из сеней с протяжным скрипом отворилась, и тихо вошла старушка с двумя большими корзинами на коромысле. Спокойно поздоровалась, поставила корзины на пол, присела на стул у двери и сняла плетеные крышки. Одна корзина доверху набита сухариками и крендельками, другая – свежеиспеченными хлебами. Хозяйка тут же бросила вязанье и подошла к гостье. И мы ее понимаем – глядя на такие сухарики, мало кто удержался бы. Особенно если представить, как ты макаешь их в горячий кофе.
Пока матушка Мерта перебирала хлеба, разговорилась с гостьей. Та, как и многие разносчицы, легко вступала в разговор – по-другому и быть не может, если ходишь с утра до вечера по хуторам.
– Ты, Кайса, умная женщина, тебе можно доверять, – на всякий случай подольстила хозяйка, вызывая на разговор.
– О, да… если бы я начала выбалтывать все, что слышу! Не приведи Господь. Весь приход давно бы перессорился. Лучше помалкивать.
– А мне кажется, иной раз ты чересчур уж молчалива. Одно дело помалкивать, другое… – Она задумалась, подбирая слово. – Другое дело – перепомалкивать.
Старушка глянула на нее и сразу поняла, что хозяйка имеет в виду.
– Господи, прости меня, – сказала она и неожиданно прослезилась. – Поговорила с хозяйкой в Бергскуге, а надо было к тебе идти.
– Вот как! Значит, уже и с риксдагдепутатшей поговорила…
Нелегко передать словами всю гамму чувств, вложенных матушкой Мертой в это сочиненное ею длинное слово.
А Ингмар Ингмарссон проснулся оттого, что дверь в гостиную открылась. Никто не вошел, не вышел, а дверь открылась. Странная история. То ли толкнул кто-то, то ли открылась сама по себе, хотя сквозняков вроде нет. Хотел было заснуть опять, но услышал разговор в соседней комнате.
– А скажи, Кайса, с чего ты взяла, что Ингмар Брите не нравился?
– Что ж, с чего взяла… не я взяла, все так говорили.
– Давай начистоту, Кайса. Со мной-то зачем хитрить? Я правды не боюсь.
– Ну что там – начистоту… А по совести, матушка Мерта, – тогда еще, три года назад: как ни приду в Бергскуг – у нее глаза на мокром месте. Так и ходит заплаканная. Как-то, помню, остались мы одни в кухне, я ей и говорю: жених у тебя, Брита, – позавидуешь. Шикарный жених. А она глянула на меня, будто я за дурочку ее считаю. И говорит: «Можно сказать, да. Шикарнее не бывает. Красавец писаный». Сказала она так, а я сразу Ингмара представила. Ну да, красавцем его не назовешь, но я-то никогда и не думала про это. Да и никто не думал. Красавец… Ингмарссонов все уважают, это да. А как услышала ее слова, как вспомнила Ингмара – что греха таить, не хотела, а улыбнулась. А Брита глянула на меня этак, повторила: шикарнее, мол, не бывает, – и убежала. Слышу – опять плачет. А когда уходить мне, подумала я вот что: все равно хорошо будет. Перемелется. У Ингмарссонов всегда все хорошо и как надо. А родители ее – чему удивляться? Будь у меня дочь на выданье да Ингмар Ингмарссон сделал бы ей предложение – ого-го! Сна бы не знала, пока та не согласится.
Ага… вот и секрет. Матушка схитрила: сама приоткрыла дверь. Вроде бы нечаянно, а на самом деле хотела, чтобы и он слышал этот разговор. Ей покоя не дает, что я завтра в город собрался. Подозревает, что привезу Бриту. Зря подозревает… не такой уж я герой.
– В следующий раз я ее видела, Бриту то есть, когда она уже сюда переехала. А спросить, каково ей у вас, никак – народу кругом полно. Посмотрела я на нее этак… со значением, и пошла к рощице. Смотрю – она за мной. «Кайса, – говорит, – когда вы последний раз были в Бергскуге?» – «Позавчера», – отвечаю. «Господи… а мне кажется, я уже год не была дома». И что на это скажешь? Что ни скажи, опять в слезы ударится. «Девочка моя, – говорю, – почему бы тебе не навестить родителей?» – «Нет, – говорит, – мне кажется, я уже никогда домой не вернусь». – «С чего бы это? Сходи. Там так красиво, в лесу полно ягод, а брусники, брусники! В заброшенные милы[2] будто крови налили». – «Неужели и брусника уже поспела?» – аж глаза вытаращила. «Пойдешь в Бергскуг, – говорю, – еду не бери. Ягод по дороге наешься досыта». Подумала-подумала Брита. «Нет, – говорит. – Не пойду я домой. Все равно сюда возвращаться, так в сто раз хуже будет».
«Только и слышу, – это, значит, я теперь ей говорю. – Только и слышу, – говорю, – какие хорошие люди Ингмарссоны. Замечательная семья». – «Да, – говорит, – хорошая семья». – «В приходе таких, пожалуй, и нет. Справедливые, честные люди». – «Ну да. Взять девушку силой у них за несправедливость не считается». – «И умные, как мало кто». – «Наверное… только как узнать, умные или нет, если молчат все время?» – «Так уж и молчат? Все время?» – «Говорят только то, что уж никак нельзя не сказать. Да и то могут промолчать».
Тут уж я и уходить собралась, да вспомнила: «А свадьба-то? – говорю. – Свадьба где будет? Здесь или в Бергскуге?» – «Здесь места больше». – «Гляди, чтобы не тянули со свадьбой». – «Через месяц», – говорит. А я вспомнила и аж вздрогнула: урожай-то – кот наплакал. И предупредила: не думаю, что в этом году свадьбу сыграют. Где деньги-то брать, ничего не уродилось. «Что ж, – говорит, – тогда утоплюсь».
А через месяц и я узнала: откладывается свадьба. Думаю, далеко ли до беды. Пошла к депутатше в Бергскуг. Нехорошо там, у Ингмарссонов, говорю. Беда может случиться. А она мне: «Какая еще беда? Мы Бога благодарим, что дочку так хорошо пристроили».
И с чего это мать так всполошилась? – подумал Ингмар Ингмарссон. Никто и не собирается ехать в город встречать Бриту. Понятно, за честь хутора беспокоится. А я-то что? Я, как говорится, сделал все, что мог. И перед лицом Господа скажу: хотел как лучше.
– А последний раз видела я Бриту зимой. Снегу тогда нападало, ужас. Помню, по тропинке шла в лесу. Тяжело – не приведи Господь. Оттепель как раз началась, скользь неимоверная, того и гляди в мокрую кашу свалишься. Присела отдохнуть – гляжу: не одна я в лесу. Еще кто-то сидит, прямо в сугробе. Встала, подошла поближе – Брита. «Что же ты, – говорю, – одна в лес-то собралась в такую погоду?» – «Собралась, как видите…» Вроде ответила – и не ответила; а я гляжу на нее и думаю: что ж ее и вправду в лес-то понесло? А она мне: «Присматриваю горку покруче». – «Золотце мое, что ты надумала? С горы, что ли, решила броситься?» Так и спросила, потому что вид у нее такой… короче, по всему видно: собралась бедняжка с жизнью расстаться. «Да, говорит. Надумала. Вот только найду горку повыше и покруче».
Я прямо обомлела, матушка Мерта. «Как тебе, – говорю, – не стыдно! У тебя все так устроилось, а ты вон что…» – «Злая я стала, Кайса». Что да, то да. И вправду злая. А она продолжает: «Того и гляди кого в грех введу, так уж лучше сама». – «Болтаешь, девочка, сама не знаешь что». – «Нет, нет… злая. А как переехала к ним, так что ни день, то злее и злее».
И поглядела на меня… а глаза дикие, совсем безумные.
«Они, – говорит, – только и думают, как бы меня мучить, а я только и думаю, как бы отомстить». – «Брита, опомнись! Хорошие, достойные люди!» – «Нет, они хотят меня опозорить». Я прямо обомлела. «Ты им так и сказала?» – «Я с ними вообще не разговариваю. Только и прикидываю, как бы им насолить. Дом поджечь? Он же души не чает в этом хуторе. Или коров отравить? Они все безобразные, будто родня ему». – «Говори, говори, Брита. Собака коли лает, не кусается». – «Не успокоюсь, пока что-то с ним не сделаю». – «Сама не знаешь, что несешь. Пока, вижу, не с ними, а с собой ты собралась что-то сделать».
Старушка взяла кренделек, пожевала и одобрительно кивнула.
– И знаете, матушка Мерта, из нее будто воздух выпустили. Обмякла вся и давай рыдать. Говорит, сама не знаю, что мне с этими мыслями делать. Проводила я ее домой. Обещала образумиться, только просила никому не рассказывать.
Просила и просила… а мне-то не по себе. Неладно с девушкой. С кем же, думаю, поговорить-то? С вами, Ингмарссонами? Вроде неудобно тревожить таких уважаемых людей по пустякам, а я…
Зазвонил колокольчик на крыше конюшни: дневной отдых кончился, пора за работу. Матушка Мерта воспользовалась случаем остановить разговорившуюся старушку и вставить слово:
– Послушайте, Кайса… как вам кажется, может у них когда-нибудь наладиться? У Ингмара с Бритой?
– Как это? – удивилась разносчица.
– Ну, я имею в виду… если она не уедет в Америку, захочет она с ним жить?
– А что я думаю? Ничего я не думаю. Вряд ли.
– Она же уже ему отказала.
– Да. Было такое. Отказала.
Ингмар сел в кровати, опустил ноги на пол и обратился сам к себе:
– Вот так, Ингмар. – Подумал немного и повторил, стукнув кулаком по краю кровати: – Вот так, Ингмар. Теперь ты знаешь все, что тебе нужно знать. И мамаша, значит, думает – послушаю эту болтовню и никуда завтра не поеду? Нашла простака. Услышит, мол, Ингмар, что он Брите не нравится, – и останется дома? Как же…
Он все сильнее колотил по краю кровати, будто гвозди забивал в непослушное дерево.
– А я хочу проверить. Проверить хочу! Еще раз! Мы, Ингмарссоны, если что не получается, начинаем сначала. Вот как мы делаем! Подумаешь – какая-то девка так его ненавидит, что чуть с ума не сошла.
Никогда раньше не испытывал Ингмар-младший такого унижения. Теперь он просто горел от желания поставить все на свои места.
– Быть такого не может, чтобы я не заставил Бриту полюбить наш хутор.
Стукнул в последний раз по кровати, подул на кулак и решительно встал. Пора за работу.
Наверняка эту Кайсу послал Большой Ингмар. Чтобы Ингмар-младший перестал сомневаться.
– Вопрос решен. Завтра еду в город.
IV
Ингмар Ингмарссон направлялся к внушительному зданию тюрьмы, гордо расположившемуся на холме на самом краю города. Шел, не оглядываясь и полузакрыв глаза. Медленно, как старик, и с таким трудом, будто тащил на спине колесную пару. Яркий крестьянский наряд оставил дома. Черный сюртук и белая крахмальная рубашка – ну, рубашка-то, само собой, успела измяться. Под стать рубашке и настроение: почти торжественное поначалу, но по мере приближения к цели все более подавленное. Проще говоря, страшновато было ему, Ингмару Ингмарссону.
Пересек усыпанный гравием двор и подошел к констеблю.
– Брита Эриксдоттер. Ведь у нее нынче заканчивается срок? Я не перепутал?
– Кого-то сегодня выпускаем. Вроде бы.
– Детоубийца.
– А, точно! Есть такая. До полудня выйдет.
Ингмар подошел к дереву, оперся спиной и стал ждать, не спуская глаз с тюремной проходной.
– По доброй воле мало кто сюда пойдет. Беда привела. Но тут, конечно, вот что, – продолжал он размышлять. – Тут еще, думаю, другое. Может, ей и не так тяжко, как мне. Отсидела – вышла, да и забыла помаленьку. А я-то что здесь делаю? Нечего и спрашивать. Большой Ингмар, кто ж еще? Это он приволок меня в город. Невесту забирать, надо же! И не откуда-нибудь – из тюрьмы… Из тюрьмы!
Поворчав, он представил, как мать Бриты выходит рядом с ней и передает ее руку ему, Ингмару. И они едут в церковь, а за ними еще десяток колясок. А вот еще картинка: Брита в свадебном платье, красивая и гордая, улыбается ему из-под венца.
Двери тюрьмы открывались и закрывались. Сначала вышел священник, потом начальник тюрьмы с женой; поглядели по сторонам и двинулись в город.
Когда двери открылись в очередной раз, он уже знал: это она. Зажмурился, не в состоянии шевельнуть ни рукой, ни ногой. Но все же собрался, поднял голову – так и есть. Брита стоит на крыльце. Сорвала головной платок и широко открытыми глазами смотрит по сторонам, поворачивая голову то направо, то налево. Тюрьма, если вы помните, на холме, с крыльца открывается вид на весь город, на пригороды, а если приглядеться, непременно различишь похожие на тучи тени родных гор на горизонте.
Постояв немного, она словно потеряла силы. Опустилась на ступеньку и закрыла лицо руками. Всхлипы были слышны даже с того места, где он стоял.
Ингмар Ингмарссон отлепил спину от дерева, подошел поближе и опять остановился.
– Не плачь, Брита.
Она вздрогнула и подняла на него глаза.
– О Боже… ты здесь!
Ее словно молния ударила. Как много зла ему причинила! И чего стоило ему прийти ее встречать… Бросилась на шею и опять разрыдалась.
– Господи, как я мечтала, чтобы ты пришел…
У Ингмара заколотилось сердце и защипало глаза. Неужели она и в самом деле так рада?
– Что ты такое говоришь, Брита? Ты мечтала, чтобы я…
– Хотела вымолить прощение.
Ингмар устроил на лице серьезную гримасу и словно стал выше ростом.
– Про это потом, – сказал он важно. – Пошли отсюда.
– Да, – покорно согласилась она. – Место неподходящее.
Они начали спускаться с холма.
– Я заходил к купцу Лёвбергу, – сообщил он.
– Там мой сундук.
– Видел я твой сундук. В коляске не поместится, телегу пришлем.
Брита остановилась как вкопанная – ведь он в первый раз намекнул, что собирается везти ее в свой дом.
– Как это? Нынче письмо от отца пришло. Пишет, ты не против, чтобы я плыла в Америку.
– Я вот что думаю: должен быть выбор. Не повредит. Откуда мне знать – согласишься ехать на хутор, не согласишься. Может, тебе как раз в Америку охота. Твое дело, но предложить-то можно.
Брита отметила: ни словом не намекнул, хочет он этого или нет. С другой стороны – может, просто боится, что не удержится и опять на нее полезет. Как в тот раз.
Ее одолевали сомнения. Мало кто в приходе одобрит, что такая преступница, как она, опять поселилась на хуторе Ингмарссонов.
Еду в Америку. Единственное, что могу для него сделать, – исчезнуть. Так скажи же ему – нет! Еду в Америку, и все тут. Скажи, не тяни!
И пока она обдумывала, в какие слова облечь отказ, услышала чей-то голос:
– Боюсь, у меня сил не хватит жить в Америке. Там, говорят, работать надо день и ночь.
Неужели она сама произнесла эти жалкие слова?
– Да, и я слышал, – спокойно подтвердил Ингмар. – День и ночь.
Брите стало очень стыдно. Она же сама сказала пастору нынче утром: еду в Новый Свет, хочу стать новым человеком. Свет новый – и человек новый, лучше, чем прежняя Брита. Долго шла молча и обдумывала: как бы ей взять свои слова назад? Можно, конечно, попробовать, но ее останавливало вот что: а вдруг она ему все еще нравится? Тогда было бы черной неблагодарностью не согласиться с его предложением.
Если бы удалось прочитать его мысли…
– У меня голова кружится от этого шума, – пожаловался Ингмар. – И народу как на ярмарке.
И протянул ей руку. Вот так, взявшись за руки, они двинулись к дому купца Лёвберга. Как дети, подумал Ингмар. Или как жених с невестой. Но тут же выбросил из головы – глупости какие! Жених с невестой, надо же. Важнее другое. Что будет дома, когда он явится на хутор? Что скажет матери и всем остальным?
Они дошли до лавки Лёвберга, где Ингмар оставил коляску. Лошадь наверняка отдохнула, корм он задал еще с утра. Приветливо покосилась черным блестящим глазом.
– Если ты не против, первый прогон за сегодня успеем.
Вот тут-то самое время сказать: я против. Не хочу. Поблагодарить и сказать: я не хочу.
Господи, дай мне знать, зачем он приехал, взмолилась Брита. Наверняка только из сострадания.
Ингмар тем временем выкатил коляску из каретного сарая. Только что покрасил, отметила Брита. Кожаная полость для ног блестит, будто ее маслом смазали, на подушках – новые наволочки. А на козырьке – подувядший букетик полевых цветов.
Пока она размышляла, что бы это могло значить, Ингмар начал запрягать. И сбруя начищена, и удила, и подпруга – ни пятнышка. А на хомуте еще один букетик.
Неужели я ему все еще нравлюсь? И он вправду рад меня видеть? Тогда лучше молчать. А то подумает, что я свинья неблагодарная и не понимаю, чего ему стоило за мной приехать.
Они отъехали уже довольно далеко от города. Ни он, ни она не произнесли ни слова. Это показалось Брите невыносимым. Она начала задавать вопросы – как там на хуторе, что соседи поделывают. И каждый раз, когда она называла новое имя, Ингмар чуть не вздрагивал. А что скажет Юнг Бьорн? А Кольос Гуннар – не начнет ли насмехаться?
Брита заметила: спутник с каждой минутой мрачнеет, односложно и чуть ли не с неприязнью отвечает на ее вопросы, – и ушла в себя. И опять – миля за милей в глубоком молчании. И так до постоялого двора, где вновь пришел черед удивляться: не успели сесть за стол, им тут же принесли кофе и свежий хлеб. Только что из печи. А на подносе – букет полевых цветов. Опять букет. Нетрудно догадаться – заказал еще накануне, по дороге в город. И что это с ним? Милосердие? Сострадание? Или просто вчера было хорошее настроение, а как увидел ее на крыльце тюрьмы, сразу испортилось? К завтрему, может, повеселеет?
Надо быть очень осторожной. Она и так принесла ему немало страданий. А может, он все-таки… Бывают же чудеса.
Заночевали на постоялом дворе. Встали рано и в скором времени уже увидели знакомый шпиль приходской церкви. Подъехали поближе – полно народу, звонят колокола.
– Господи, нынче же воскресенье! – воскликнула Брита и привычно сдвинула ладони.
Ей вдруг страстно захотелось поблагодарить Господа. Всем известно: начинаешь новую жизнь, начинай с молитвы.
– Как я хочу в церковь… – тихо сказала она Ингмару.
И, представьте, даже не подумала, как трудно и страшно ему появиться с ней на людях, да еще в церкви: настолько душа ее была полна просветленного восторга и благодарности.
Ингмар уже рот открыл, чтобы твердо сказать «нет!». Только этого не хватало. Откуда набраться храбрости, чтобы выдержать осуждающие взгляды и ядовитые реплики? И ведь сказал уже было, но прикусил язык – все равно не избежать. Не сегодня, так в другой день. И решительно свернул к церкви.
Въехали на церковный холм. На мощеном дворе тут и там сидели люди в ожидании службы и оценивали каждого вновь прибывшего прихожанина. Как только появилась коляска, обычный гомон стих и начались перешептывания и подталкивания – гляди-ка, кто явился! Ингмар покосился на Бриту – так и сидит с молитвенно сложенными руками, будто ничего не замечает, что творится вокруг. Она-то, может, и не замечает, но он-то, Ингмар, замечает, и еще как. Кое-кто даже делал короткую пробежку за коляской – не обознался ли? Уж кто-кто, а Ингмар точно знал: никто и не думал, что обознался. Соседи попросту не могли поверить, что он решился и привел ее в храм Господен – ее, задушившую невинного и беспомощного младенца.
И как выдержать? Это чересчур.
– Тебе лучше сразу пройти в церковь, Брита, – спрыгнул с коляски и помог ей сойти.
– Да, да, конечно. В церковь!
Она и собиралась в церковь, ей вовсе не хотелось встречаться с людьми.
Ингмар тем времени разнуздал лошадь и повесил на шею торбу с овсом. На него поглядывали, но разговор начать никто не решился. Он, стараясь казаться равнодушным, окинул взглядом собравшихся и неторопливой походкой направился в церковь. Все уже расселись по местам, начали петь первый псалом. Он прошел по главному проходу, поглядывая на женскую половину. Все скамейки заняты до последнего места – все, кроме одной: той, где сидела Брита. С ней никто не хотел садиться. Ингмар сделал еще пару шагов, крякнул, резко повернул на женскую сторону и сел рядом с Бритой.
Она вздрогнула, посмотрела вокруг расширенными от ужаса глазами – и все поняла. Куда девался ее восторженный порыв! Брита мгновенно впала в уныние. Даже не уныние – отчаянье. Не надо ей было с ним ехать, ох, не надо…
На глаза навернулись слезы. Чтобы никто не заметил, схватила с пюпитра сборник псалмов и сделала вид, что читает. Листала, не различая из-за слез ни единого слова, и вдруг ей попалась на глаза маленькая ярко-красная закладка в виде сердечка. Брита вынула ее и, не поворачивая головы, протянула Ингмару. Краем глаза заметила: положил закладку на широкую, грубую ладонь, повертел, пожал плечами и уронил на пол.
Что с нами будет, Господи… что с нами будет?
Они вышли из церкви первыми, как только проповедник сошел с кафедры, не дожидаясь последнего псалма. Ингмар торопливо надел узду. Брита пыталась ему помочь, но он не обратил внимания.
Когда прихожане начали расходиться, они были уже далеко. Думали и он и она примерно об одном: тот, кто совершил такое ужасное преступление, не имеет права жить среди людей. В церкви оба чувствовали себя как преступники у позорного столба. Одна и та же назойливая же мысль что у Бриты, что у Ингмара: из этой затеи ничего не выйдет.
Внезапно в глазах погруженной в грустные размышления Бриты что-то полыхнуло. Она подняла голову и обомлела. Весь хутор – и большой дом, и флигели, и коровник, и стойло, и даже собачья будка – все свежевыкрашено знаменитой фалунской красной краской в сочный, уютный цвет. Она сразу вспомнила, как на хуторе без конца повторяли – вот женится Ингмар-младший, так и дом перекрасим. И даже свадьбу поэтому отложили – не было денег на такую большую работу. Бедняга Ингмар… хотел все сделать как лучше. Но теперь и сам понял: взвалил на себя слишком тяжкий, а может, и неподъемный груз.
Все обитатели хутора сидели за обеденным столом.
– Гляди-ка, хозяин приехал, – сказал конюх в пространство.
Матушка Мерта не пошевелилась, так и сидела с полуопущенными веками.
– Все остаются на месте, – сказала она тихо, но весомо. – Из-за стола не вставать.
Помедлила немного и тяжело двинулась к двери. Только сейчас все обратили внимание, что хозяйка вырядилась весьма торжественно: шелковая шаль на плечах и шелковая же косынка. Должно быть, хотела придать себе уверенности.
Когда коляска остановилась, она уже стояла в дверях.
Ингмар тут же спрыгнул с козел, а Брита осталась сидеть. Он перешел на ее сторону и расстегнул полость.
– Ты что, так и будешь сидеть? Выходи!
– Нет… я не выйду. – Зарыдала, закрыла ладонями лицо и еле слышно прошептала: – Не надо было приезжать.
– О Господи… да выходи же!
– Отпусти меня в город! Я тебе не гожусь.
Кто знает, может, она и права, подумал Ингмар. Может, так и есть.
Подумал, но промолчал. Стоял с полостью в руках и ждал.
– Что она там говорит? – крикнула мать.
– Говорит, недостаточно хороша для нас. Не годится, – ответил Ингмар, поскольку Брита не могла вымолвить ни слова из-за слез.
– А почему плачет?
– Потому что я жалкая грешница, – прошептала Брита и прижала руки к сердцу: показалось, сейчас разорвется.
– Что? – не расслышала старушка.
– Жалкая грешница, говорит, – крикнул матери Ингмар. – Я, говорит, жалкая грешница.
Брита вздрогнула. Ингмар повторил ее слова так холодно и равнодушно, что она внезапно осознала весь ужас происходящего. Если бы он хоть чуточку ее любил, не стоял бы так, уперев руки в бока, не повторял бы эти страшные слова, будто не понимая их смысла. Теперь она знает все, что ей надо знать.
– А почему она не выходит? – не унималась старуха.
На этот раз Брита взяла себя в руки, проглотила слезы и твердо ответила сама:
– Потому что не хочу сделать Ингмара несчастным.
– Смотри-ка, – удивилась мать. – Все верно говорит. Пусть уезжает, Ингмар-младший! И чтоб ты знал: она не уедет, уеду я. Ночи не проведу под одной крышей с такой…
– Увези меня! Ради Бога, увези! – взмолилась Брита.
– Черт бы вас всех побрал! – рявкнул Ингмар и полез на козлы.
С меня хватит, решил он. Хотел как лучше.
Они выехали на дорогу. Расходящиеся после службы прихожане останавливались и глядели им вслед. Ингмару это быстро надоело, и он собрался было свернуть на узкую даже для одноконной коляски лесную дорогу. Дорогу эту и проселком-то назвать – польстить; сплошные ямы и пересекающие заросшую колею толстые извилистые корни.
Но как раз в этот момент его окликнули:
– Ингмар!
Он оглянулся. Почтальон обрадованно ему помахал, подбежал и вручил письмо. Ингмар кивнул и тронул вожжи. И только когда они въехали в лес, где их никто не мог видеть, достал из-за пазухи конверт. Брита положила руку ему на предплечье.
– Не читай.
– Не читать? Это еще почему?
– Нечего там читать.
– А ты-то откуда знаешь?
– Потому что от меня оно, это письмо.
– Тогда расскажи, что там написано.
– Не могу.
Брита залилась краской. Даже уши покраснели, а в глазах метался ужас.
– Не… все равно прочитаю. Письмо-то мне! – убедительно произнес Ингмар и начал вскрывать конверт. Она сделала попытку вырвать письмо, но он увернулся.
– О Боже… – простонала Брита. – Ингмар, я тебя умоляю! Прочитаешь, обязательно прочитаешь. Через пару дней, когда я уже буду в море.
Он, не слушая, развернул лист.
– Послушай, Ингмар… это тюремный пастор уговорил меня написать. Но он же обещал дождаться, пока я взойду на борт парохода! И не дождался – поспешил отправить. Ты не имеешь права его читать. Дождись, пока я уеду.
И опять попыталась выхватить письмо, но он довольно грубо оттолкнул ее руку. Наградил злым взглядом, спрыгнул с козел и отошел в сторону. Она тоже разозлилась. По-настоящему, как и раньше, когда ей не удавалось настоять на своем.
– Там нет ни слова правды. Меня пастор заставил. Все вранье. Ты мне совершенно не нравишься, Ингмар.
Он оторвался от чтения и посмотрел на нее взглядом, которому трудно подобрать определение. Удивленным? Просительным? Каким бы он ни был, этот взгляд, он заставил Бриту замолчать. Она осеклась на полуслове. Если чему-то тюрьма ее и научила, так это смирению.
Унизительно, конечно. Вопрос – заслуженно ли? Наверное, да.
И она приказала себе терпеть.
Ингмар тем временем дочитал письмо, смял в кулаке и издал странный хриплый звук.
– Ничего не понимаю, – сообщил он и топнул так, что над землей поднялось облачко сухой хвои. – Буквы вижу, а слов не понимаю.
Подошел к Брите и неуклюже ухватил ее за руку.
– Это правда – то, что там написано? Что я тебе нравлюсь? Говори – правда?
На него было страшно смотреть. И голос, голос… наверное, таким голосом зачитывают собственный смертный приговор.
Брита молча пожала плечами.
– Говори! Правда или нет? – спросил он с отчаяньем.
– Ну, правда, – произнесла она без выражения.
Он дернул ее за руку и сразу отбросил, как ядовитую змею.
– Значит, ты врешь, врешь! – выкрикнул он с улыбкой, которая больше напоминала оскал – ни унции веселья.
– Бог свидетель… как я молила Его, чтобы Он дал мне увидеться с тобой до отъезда.
– Какого еще отъезда?
– В Америку.
– Черта с два – в Америку! – рявкнул Ингмар.
Сделал несколько шагов. Встал на колени, прижался щекой к бронзовой кольчуге огромной сосны, а потом и вовсе сполз на землю и разрыдался. Брита соскочила с коляски, подбежала и присела рядом.
– Ингмар! Милый Ингмар!
Погладила по плечу. Никогда раньше она так его не называла.
– Я же безобразен! Ты сама говорила! – просипел он, захлебываясь от рыданий.
– И что? Говорила. Я и сейчас так думаю. – Ингмар, дернув плечом, сбросил ее руку, но рука тут же вернулась на место. – Дай договорить!
– Говори.
Он перестал всхлипывать и поднял голову.
– Помнишь, что ты сказал в суде три года назад?
– Помню.
– «Если бы она меня так не ненавидела, я бы на ней женился».
– Помню, помню…
– После того, что я сделала… Никогда не думала, что человек может… Меня как ударило, когда ты такое сказал. И, главное, где!
– Где-где… в суде, – проворчал Ингмар.
– После того, что я сделала! Я смотрела на тебя и думала – да он же самый красивый в зале! Самый красивый и самый мудрый. Единственный, с кем я смогла бы прожить жизнь и ни разу не пожалеть. Что там говорить, я попросту влюбилась! Была уверена, что ты и я созданы друг для друга. Даже не сомневалась, что ты приедешь меня забрать из тюрьмы. Ну как… долго не сомневалась, а потом начала, а потом вообще… даже не решалась надеяться…
Ингмар поднял голову.
– А почему не писала?
– Как это – не писала? Я тебе писала!
– Писала! Х-ха! Прошу меня простить, я виновата и все такое. О чем тут писать?
– А про что я должна была писать?
– Про другое.
– И как я могла решиться? Про другое! Скажешь тоже… Не хочешь ли, мол, на мне жениться, Ингмар? Так, что ли? После всего, что я натворила? Да ладно, что я… ты же уже знаешь. Написала, написала… В последний день в тюрьме. Исповедовалась, а пастор и говорит: ты должна ему написать. Взял письмо под честное слово: отправить только после моего отъезда. А он поторопился. Думал, я уже далеко.
Ингмар взял ее руку, прижал к земле и довольно сильно хлопнул ладонью.
– Я мог бы тебя ударить.
– Ты можешь делать со мной все, что хочешь, Ингмар, – спокойно и серьезно сказала Брита.
Он посмотрел ей в глаза. Душевная боль и муки совести придали ей особую, совершенно новую для него красоту. Он встал и навис над ней всем своим громоздким, неуклюжим телом.
– Чуть не дал тебе уплыть в Америку.
– Ты просто не мог за мной не приехать.
– Как это не мог? Еще как мог. Больше скажу: ты мне разонравилась. Вот, думаю, уедет в свою Америку – и гора с плеч.
– Я знаю. Отец так и написал – Ингмар очень рад.
– А мать моя? Смотрел на нее и думал: могу ли я ей такую сноху привести? Такую, как ты?
– Нет, конечно. Не можешь.
– И в приходе на меня тоже косо глядят. Судят-рядят, только не тебе, а мне кости перемывают: как он мог так с девушкой обойтись? Это я то есть. Как я мог с тобой так обойтись?
– Правы соседи. Плохо ты со мной обходишься. Вот – по руке треснул.
– Это прямо удивительно, как я был на тебя зол, как зол!
Брита промолчала.
– Каково мне было, тебе не понять. Где тебе понять.
– Ингмар… кончай.
– Мог бы и дать тебе уехать. Уехала – и с глаз долой.
– То есть ты так и продолжал на меня злиться? Даже когда мы ехали из города?
– Еще как! Смотреть не мог.
– А цветы?
– А что цветы? Соскучилась, думаю, три года цветов не видела.
– Так что же изменилось?
– Письмо. Прочитал письмо – вот и изменилось.
– Я же видела… видела и чувствовала: я тебе не нужна. Ты на меня злишься. И мне было очень стыдно, что к тебе попало это письмо… Ты меня разлюбил, а я наоборот – полюбила.
Ингмар внезапно тихо рассмеялся.
– Почему ты смеешься?
– Вспомнил, как мы, поджав хвосты, удрали из церкви. И как нас выпроводили с хутора. Пинком под зад, по-другому не скажешь.
– И что тут смешного?
– Будем бродить по дорогам, как нищие. Увидел бы нас отец!
– Сейчас тебе смешно. Но Ингмар… у нас ничего не получится. И во всем моя вина, только моя… – Глаза Бриты вновь налились слезами.
– Почему это не получится? Еще как получится. И знаешь почему? А вот почему. Потому что вот хоть сейчас спроси – ни до кого, кроме тебя, мне и дела нет.
Произнес он эту важную фразу довольно буднично – и надолго замолчал. Слушал ее сбивчивый, то и дело прерываемый слезами рассказ – как она по нему тосковала, как ждала – и постепенно успокаивался, как ребенок при звуках колыбельной.
Все произошло совсем по-иному, чем она себе навоображала. В последние месяцы в заключении Брита готовила нечто вроде исповеди. Вот выйдет на свободу, он ее встретит, и она, не давая ему рта открыть, начнет рассказывать, как мучит ее совершенный ею грех, как постепенно, месяц за месяцем, осознавала, сколько зла она ему причинила. Как пришло понимание, что она недостойна жить среди этих людей. И обязательно скажет: пусть никто не думает, что она в своей нелепой гордыне считает себя равной.
Но он ей даже возможности не дал произнести сто раз отрепетированный монолог. Прервал на полуслове.
– Ты хотела сказать что-то другое.
– Да. Ты прав.
– О чем ты все время думаешь. Что тебя давит.
– Ночью и днем давит…
– Так и скажи. Вдвоем-то легче тащить.
Ингмар посмотрел ей в глаза – испуганные и дикие, как у попавшей в капкан лисы. Она начала говорить, путано и бессвязно, и постепенно успокаивалась.
– Ну вот. Теперь полегче стало, – одобрительно кивнул Ингмар Ингмарссон.
– Да. Легче. Вроде бы и не было ничего.
– И знаешь почему?
– Почему?
– Потому что нас теперь двое. Теперь, может, ты не так рвешься в Америку?
Брита судорожно сцепила руки в замок.
– Ничего так не хочу, как остаться.
– Вот и хорошо.
Он тяжело встал и потоптался на месте, разгоняя кровь в затекших ногах.
– Поехали домой.
– Нет. Не решаюсь.
– Матери не бойся. Она не такая страшная. Сообразит, думаю: хозяин знает, что делает.
– Нет! Нет! Она же сказала: уйду из дома! Из-за меня! Разве я могу такое допустить? Нет у меня другого выхода. Придется ехать в Америку.
– Я тебе скажу кое-что. – Ингмар загадочно ухмыльнулся. – Нечего бояться. Есть кое-кто. Он нам поможет.
– Это кто же?
– Отец. Замолвит словечко, обязательно, он… – Ингмар запнулся: по дороге кто-то идет, прямо на них.
Кайса. Он даже не сразу узнал старушку – если и видел ее без коромысла с хлебными корзинами на плечах, то очень давно.
– Добрый день, Кайса.
Кайса подошла поближе и церемонно пожала руки: сначала Ингмару, потом Брите.
– Вот вы где. Надо же. А на хуторе с ног сбились, вас ищут. – Кайса перевела дыхание и продолжила: – Из церкви-то вы спешили куда-то, я хотела было Бриту, бедняжку, обнять – а вас и след простыл. Где ж, думаю, ее искать? Пошла к Ингмарссонам на хутор. Пришла, а пробст уже там. Зовет хозяйку, хватает за руку и чуть не кричит: дождались, матушка Мерта! Наконец-то! Какая радость! Теперь все видят, что и Ингмар-младший из той же славной породы Ингмарссонов! Теперь, думаю, пора называть его Большой Ингмар. А матушка Мерта, сами знаете, за словом в карман не полезет – а тут стоит, крутит концы платка и мало что понимает. «Что это такое господин пробст говорит, ума не приложу». – «Как это что? Он же Бриту домой привез! И уж поверьте, матушка Мерта, честь ему и хвала. Такое не забывают». – «О, нет, нет…» – Матушка-то твоя совсем растерялась. «Как я возрадовался, когда увидел их в церкви! Это, скажу я вам, лучше любой проповеди: Ингмар нам всем показал пример. Как его отец бы гордился!» Тут матушка Мерта выпрямилась и бросила платок теребить. «Серьезная новость». – «А разве они еще не дома?» – «Пока нет. Должно быть, сначала в Бергскуг поехали».
– Так и сказала? – Ингмар вытаращил глаза.
– А как же еще? Матушка-то твоя уже гонцов послала. На хуторе никого не осталось. Разбежались в разные стороны, вас ищут.
Кайса продолжала рассказывать все новые подробности, но Ингмар уже не слушал, потому что в воображении ему нарисовалась совсем другая картина.
Опять входит он в большой дом, где собрались все поколения Ингмарссонов.
– Здравствуй, Большой Ингмар, – встает отец ему навстречу.
– Спасибо, отец. Очень ты мне помог.
– Главное – хорошую жену найти. Остальное приложится.
– Никогда, если б не ты, не решился.
– Большое дело, – тут отец улыбнулся. – Мы, Ингмары, так и поступали, покуда род наш тянется. Господь попустит – и дальше так будет. Иди путями Божьими, делай, как Бог подскажет. Остальное, как сказано, приложится.
Первая часть
Учитель
В приходе, где жили Ингмарссоны, еще в начале восьмидесятых никто даже и не помышлял, что может быть другая вера, что служить Господу можно по-разному. Конечно, все слышали: то в одном уезде в Даларне, то в другом возникают новые секты. Взрослые люди в детских рубашонках лезут в ручьи и озера – так у баптистов выглядит крещенье. Смех, и только.
– Живешь в Эппельбу или в Гагнефе, ничего удивительного. А у нас в приходе ничего даже похожего не будет.
Люди веками держались за свои старые хутора, а чтобы в воскресенье не пойти в церковь – такого и представить никто не мог. Приходили все, кто хоть как-то держался на ногах. Зима, лето, лютый холод или жара – ничто не помеха. И это, кстати, важно и по другой причине: в битком набитой церкви сравнительно тепло даже в сорокаградусный мороз. Заодно и согреешься.
Но не стоит думать, что люди так исправно посещали церковь, чтобы послушать проповедь особо выдающегося пастора. Пробст, сменивший старого священника, служившего еще во времена Большого Ингмара, человек был замечательный, но особым красноречием по части донесения до прихожан слова Божьего, увы, не отличался. И что? Ходили в церковь не для того, чтобы развлечься красивой и волнующей проповедью, а из почтения к Господу. И по дороге домой, кутаясь в мех, если не все, то многие думали: ну не мог Господь не заметить, что даже в такой свинский холод я не пропустил воскресную службу. Пришел и отсидел.
И это очень важно. Что тут сделаешь? Пастор ничего нового не сказал – и что? Что здесь может быть нового? Прощенье, любовь к ближнему. Напомнил – и слава Богу.
Большинство были вполне довольны пастором. Никаких причин для недовольства. Разве то, что произнес священнослужитель, не есть слово Божье? Само собой – слово Божье, и уже поэтому прекрасно и убедительно. И только школьный учитель и кое-кто из старых, склонных к философическим размышлениям прихожан иной раз ворчал:
– У этого пастора всего одна проповедь в запасе. Только и говорит о Божьем промысле. Восхищается, как Создателю удается править миром. И ничего больше. Так бы и ладно, а вдруг появятся сектанты? Эта крепость не устоит, падет при первом штурме, а то и сама по себе.
Но сектанты не появлялись. Бродячие проповедники проходили мимо.
– Смысла нет, – отвечали они на вопросы. – Народ знать не хочет ни о каком Пробуждении. И Ингмарссоны, и другие погрязли в грехе.
А кто-то из них даже позволил себе насмехаться: дескать, колокола в приходской церкви вызванивают одно и то же: «Спи в грехе! Спи в грехе!»
Эти слова, разумеется, стали известны, и жители уезда возмутились до крайности. Посчитали за оскорбление. Как это так – ребенку известно: ни один прихожанин, услышав звон, не забывает прочитать «Отче наш». А не успеет пробить шесть вечера, все прекращают работу, мужчины приподнимают шляпы, женщины кланяются. Никто и с места не сдвинется, пока не прочитает вечернюю молитву. Мало того: все, кто живет или когда-либо жил в уезде, могут подтвердить: никогда Бог не был столь велик и столь почитаем, как в те моменты, когда при первом же ударе колокола останавливаются плуги, замирают поднятые косы. Люди уверены, что как раз в эти минуты Господь парит над их уездом и шлет им свое благословение. Наверное, там, вон за этим облачком в вечернем небе; нет, не за этим, а вон за тем, побольше. Это-то облачко маловато. Он бы за ним не уместился – да вы что! Сам Господь Бог! Со всей Его непредставимой огромностью, с непостижимым для человека сплавом добра, великодушия и всемогущества. В нашем мире, на земле, как вы и сами знаете, все по-иному. Даже и представить трудно доброго и великодушного, и притом всемогущего владыку. У нас теперь все наоборот: чем больше могущества, тем свирепее правитель.
Тут надо сказать, что в приходе пока не удосужились нанять настоящего, закончившего семинарию, школьного учителя. Руки не дошли. Роль учителя исполнял крестьянин-самоучка, человек неглупый и по-своему способный: не умей он управляться с сотней детей, вряд ли ему удалось бы сохранять за собой должность больше тридцати лет. К нему относились с большим уважением, никогда не называли иначе, чем Учитель. И он постепенно уверился, что за духовное состояние прихода отвечает не кто-то, а именно он. Его очень беспокоило, что пробст, настоятель церкви, совершенно не владеет искусством проповеди. Впрочем, пока речь шла только о новом обряде крещения, отмахивался; почему-то это не казалось ему настолько уж важным. Но когда услышал, что в других приходах замахнулись на главное таинство, что для причастия им вроде бы и церковь не нужна, прямо на хуторах и причащают, – тут он не выдержал. Сам учитель был небогат, даже, можно сказать, беден, но с присущей ему силой убеждения уговорил богатых земляков пожертвовать деньги на строительство молельного дома, который решил назвать миссией.
– Вы меня знаете, – сказал он. – Мне ничего не нужно, никакой корысти во мне нет. Хочу только проповедовать, чтобы у людей истинная вера не пошатнулась. Куда мы придем, если новоявленные проповедники начнут жужжать нам в уши – крестить надобно не так, а эдак? А причащаться не так, как дедами заведено, а вот так и вот так? Куда мы придем, если никто не объяснит людям, что есть истинная вера, а что ложная?
При этом учитель и пастор были на дружеской ноге. Прогуливались вместе: от пасторской усадьбы до школы и обратно, от школы до усадьбы. Никак не могли наговориться. Пробст иногда навещал приятеля, проходил в уютную кухоньку и беседовал с его женой, матушкой Стиной. Впрочем, что значит – иногда? Не иногда, а чуть не каждый вечер. Уж больно тоскливо было бедняге пробсту. Жена постоянно лежит в постели, в доме ни порядка, ни уюта.
Как-то зимним вечером сидели они, учитель с женой, у камелька. Сидели и беседовали о том о сем. Тихо и серьезно, как всегда. А в углу играла их двенадцатилетняя дочь. Звали ее Гертруд. Льняные волосы, румяные круглые щеки, веселые голубые глаза. Выглядела она вовсе не так, как остальные дети учителя – этакие умудренные опытом маленькие старички и старушки.
А этот уголок принадлежал только ей. Сегодня выдался удачный вечер: ни мать, ни отец ее не дергали. Сидела на полу и что-то строила из чурбачков и осколков стекла. Строила довольно торопливо: понимала, что в любой момент родители могут вспомнить про невыученные уроки или какую-нибудь срочную домашнюю работу. То и дело косилась на них и с удовлетворением кивала сама себе: повезло. Родители настолько заняты разговором, что не обращают на нее внимания.
А задумала Гертруд вот что: построить весь свой приход. Ни больше ни меньше – весь приход, с церковью, школой, приходским советом! Река и мост тоже должны быть на месте, а как же без реки!
Работа продвинулась уже далеко. Из камушков возведены окрестные холмы, в ущельях посажены деревья из еловых веток. Два больших заостренных камня изображают Клакбергет и Улофсхеттан, вершины по обе стороны реки; они словно сторожат все, что происходит в долине. И сама круглая долина выглядит довольно плодородной: Гертруд насыпала туда землю из цветочных горшков. И даже провела гребенкой, будто только что вспахали. Всходов еще не видно, но это легко объяснимо: на дворе ранняя весна. Если не выглядывать в окно, вполне можно представить: ранняя весна. Ничего еще не взошло.
А лучше всего получилось с рекой. Гертруд нашла в сарае длинные серповидные осколки оконного стекла, выложила их в извилистую линию и перекрыла шатким плавучим, так называемым понтонным мостом, соединяющим северную и южную части уезда.
Вот эти красные кусочки кирпича – расположившиеся на отшибе хутора и деревни. На самом севере среди полей и лугов спрятался в низине хутор Ингмарссонов. На склоне холма деревня Кольосен. А на юге, там, где река порогами и водопадами прорывается на волю, – водяные мельницы и фабрика Бергсона.
Все готово. Дороги между хуторами и спуски к реке выровнены и посыпаны песком. Посажены маленькие рощицы вдоль берега и у хуторов. Достаточно беглого взгляда – и сразу ясно: вот он, весь наш приход.
Получилось очень красиво.
Несколько раз поднимала голову, собиралась позвать мать полюбоваться, но каждый раз прикусывала язык. Лучше о себе не напоминать.
К тому же осталось самое трудное и самое главное: деревня с церковью. Она – в самом центре прихода. Много раз передвигала камни и осколки стекла – ничего не получалось. Усадьба фогта[3] упрямо наезжает на лавку, а если поставить дом доктора там, где он вроде бы и должен стоять, никак не найти место для особняка уездного предводителя. Не так просто все упомнить, а потом воспроизвести по памяти: церковь, пасторская усадьба, аптека, почтовая контора, богатые хутора с длинными рядами хозяйственных построек, постоялый двор, усадьба лесничего, телеграф…
И вот наконец все готово. Вся деревня с ее красными и белыми, купающимися в зелени постройками. Нет, не вся. А как же школа?
Девочка так торопилась построить все остальное, что забыла, с чего полагалось бы начать: школа. Белый двухэтажный дом на берегу реки с большим садом и высоченным флагштоком. Нет, было бы неправильно сказать, что забыла: она не забыла. Приготовила самые лучшие чурбачки, но отложила на потом, потому что не знала, как взяться за дело. А теперь все уже готово, и Гертруд грызли знакомые каждому строителю сомнения. Что-что, а школу хотелось бы сделать в точности: с двумя классами, один на первом этаже, другой на втором. Там же кухня и спальня, где она жила с родителями.
Надо торопиться. Вряд ли родители оставят меня в покое надолго, подумала девочка и погрузилась в размышления.
Тем временем из прихожей послышался топот: кто-то сбивает с сапог налипший снег. Повезло: можно начинать строительство. Пришел пробст, значит, тут же начнутся разговоры с мамой и папой. Теперь до нее никому дела нет и долго не будет, в ее распоряжении весь вечер.
Она начала поскорее закладывать фундамент. Ее нисколько не смущало, что школа оказалась величиной с пол-уезда; наоборот, это казалось разумным и справедливым.
Мать тоже услышала возню в прихожей. Встала, пододвинула к очагу старый стул с подлокотниками и повернулась к мужу.
– Скажешь ему все? Прямо сегодня?
– Да. Как случай подвернется в разговоре, так и скажу.
Вошел замерзший пастор, увидел пылающий очаг и улыбнулся, потирая руки, – наконец-то оказался в тепле. И тут же начал говорить. Никто во всем уезде не скажет плохого слова о пробсте: поболтать с ним о том о сем – одно удовольствие. Но вот ведь какое дело… Он так изобретательно, без всяких затруднений мог подхватить любую тему, что даже странно было, почему он не владел искусством проповеди. И в самом деле, трудно поверить: человек достойный, даже достойнейший, исключительно приятный человек, а тут заходил в тупик. Как только разговор касался духовных тем, он терялся, краснел, мучительно подбирал слова и ничего путного выдавить не мог. Оживлялся только, когда напоминал пастве о всемогуществе Бога. «Помните, – произносил он, подняв указательный палец, а то и всю руку, – это очень важно помнить: миром правит Господь. Ничто на земле не случается без Божьего промысла».
Учитель сразу взял быка за рога.
– Должен вам сказать, господин пробст. Приятная новость: мы построим молельный дом. Так сказать, миссию.
Пастор побледнел, обмяк, будто его покинули последние силы, и опустился на предусмотрительно пододвинутый хозяйкой стул. Если б не схватился за подлокотники, наверняка бы сполз на пол.
– Что вы такое говорите, Сторм? Миссия? Молельный дом? А что будет с церковью? Со мной?
– Церковь никуда не денется, – уверенно сказал учитель. – Как же без церкви? Миссия для того и нужна, чтобы церковь поддерживать, вот что я имел в виду. А вы и сами знаете – уж когда-когда, а церкви как раз сейчас очень нужна помощь. Слишком много всяких лжеучений развелось в стране.
– А я-то считал вас другом, Сторм.
Еще несколько минут назад он выглядел бодрым и счастливым, как выглядит бодрым и счастливым любой пришедший с мороза в тепло. А теперь словно уменьшился в размерах, и выражение лица такое, будто прощается с жизнью.
Нельзя сказать, чтобы учитель не понимал, отчего так огорчился пробст. Он, как и весь приход, прекрасно знал: в молодости пастор обладал блестящими способностями, но, как выражалась супруга учителя, вел образ жизни, отчего его еще в ранние годы настиг головной удар. И он уже никогда не стал прежним. Да пастор и сам это понимал, но старался забыть. И каждый раз, когда ему прямо или косвенно напоминали, что он не более чем развалина, приходил в отчаяние. А иной раз даже впадал в ступор, бледностью и неподвижностью напоминая мертвеца.
Вот и сейчас: сидит на стуле, закрыв глаза, будто и впрямь мертвый, и ни учитель, ни его жена не решаются нарушить молчание.
– Вовсе не должен господин пастор так глядеть на вещи, – стараясь унять басовые нотки, мягко сказал учитель.
– Молчите, Сторм! – внезапно воскликнул пробст, сделав ударение на слове «молчите», а фамилию почти прошипел: «С-с-сторм». – Я знаю, проповедник из меня никудышный, но никогда не думал, что вы хотите лишить меня должности.
Сторм промолчал, но сложил ладони перед грудью – показал: да что вы! Ничего подобного и в мыслях не имел!
Учителю к тому времени стукнуло шестьдесят. Он всю жизнь работал, но, несмотря на возраст, был в расцвете сил. Огромного роста, темная, медного оттенка кожа, внушительное, хотя и грубоватой лепки лицо. Рядом с маленьким, узкогрудым, лысым и сутулым пробстом он выглядел воплощением здоровья и силы.
Жена учителя несколько раз показала мужу знаками: уймись. Она считала так: кто сильнее, должен уступать. Сторм явно не ожидал такой бурной реакции пробста. Но уступить?
Нет, уступать он не собирался. И заговорил – медленно, ласково и убедительно. Зараза сектантства, сказал он, очень опасна. Секты вот-вот появятся и в нашем уезде – это вопрос времени, причем небольшого. И надо быть готовыми. Надо, чтобы было место, где можно разговаривать с людьми просто и ясно, проще, чем в церкви. Давать им образование. Объяснять Библию, особенно трудные для понимания места.
Жена учителя, матушка Стина, встала за спиной пробста и делала мужу отчаянные знаки: прекрати немедленно! Заткнись!
Уж она-то прекрасно понимала, что думает пробст!
«Вот как… значит, я не даю людям нужной веры? Не могу защитить прихожан от лжеучений? Значит, я вообще никуда не гожусь, если крестьянин-самоучка уверен, что может проповедовать лучше меня!»
Но учитель не унимался. Продолжал рассуждать – что именно, по его мнению, следует предпринять, чтобы уберечь паству от изготовившихся к нападению волков.
– Я пока никаких волков не видел, – сказал пробст, стараясь придать голосу невинные и оттого еще более ироничные интонации.
– Знаю. И я не видел. Но они уже в пути.
– В пути? – Слова учителя привели кроткого пробста в ярость. Он сумел побороть растерянность, поднялся со стула и побагровел. – Если кто и собирается настежь распахнуть перед ними ворота, так это вы. Разговор закончен, дорогой Сторм.
Взял себя в руки, повернулся к хозяйке и начал шутливо обсуждать свадебный наряд на последней свадьбе – матушка Стина обшивала всех невест прихода. Но даже она, простая крестьянка, прекрасно понимала, какой удар нанесен пастору, как стыдится он собственной неспособности донести до паствы слово Божье. И расплакалась, не смогла удержать слезы – так жалко ей стало священника.
А пробст никак не мог отделаться от горькой мысли: ах, если бы он не растерял свой юношеский талант говорить красиво и убедительно! Он бы мгновенно убедил этого недоучку, как глупа и опасна его затея.
И тут ему пришел в голову еще один довод.
– А откуда Сторм возьмет деньги?
– Мы создали предприятие, – выделив внушающее почтение слово, важно объяснил Сторм и назвал несколько фамилий – тех, кто пообещал помочь. Хотел доказать – гляньте, нам помогают никакие не злодеи и не интриганы, а добропорядочные хуторяне. Их-то уж никак не заподозрить, что они желают пробсту зла.
Пастор побледнел.
– И Ингмар Ингмарссон? Он тоже?
Новый удар. Пробст безоговорочно доверял Ингмару Ингмарссону, так же как безоговорочно доверял учителю Сторму. До сегодняшнего дня.
Постарался не выказать разочарования. Повернулся к матушке Стине и как ни в чем не бывало продолжил светский разговор. Не мог же он не заметить, что она по-прежнему плачет. Возможно, хотел ее утешить.
Сказал несколько приветливых слов и резко повернулся к Сторму.
– Оставьте эту затею, Сторм. Подумайте сами: что бы вы сказали, если бы я решил построить вторую школу, в двух шагах от вашей.
– Не могу, господин пробст.
Сказал и встряхнулся. Хотел выглядеть уверенным, смелым и спокойным.
Пробст надел меховую шубу и шапку, пошел к двери, но остановился.
Он весь вечер мучительно искал слова, которые могли бы заставить Сторма отказаться от безумного предприятия. Мысли теснились в голове, но привести их в порядок никак не удавалось: после апоплексического удара он потерял эту способность.
И тут он заметил в углу Гертруд в окружении чурбачков и осколков стекла. Остановился и некоторое время наблюдал. Совершенно очевидно: девочка была настолько поглощена игрой, что не слышала ни слова из беседы отца со священником. Глаза блестят, щеки раскраснелись.
Пастор подошел поближе.
– А что ты строишь?
– Ах, господин пробст, что бы вам не подойти пораньше! У меня тут весь наш приход был – очень красиво! Загляденье! И церковь, и школа, все-все…
– И куда же они подевались?
– А я разобрала все постройки, господин пробст. Теперь это будет Иерусалим.
– Что-что? – спросил ошеломленный пастор. – Ты хочешь сказать, что разрушила весь наш приход и собираешься на его месте строить Иерусалим?
– Да. Уезд очень красивый, ничего не скажешь, но я его разломала. Теперь здесь будет Иерусалим. Я строю Иерусалим.
Пастор провел рукой по лбу, соображая, что на это ответить. Внезапно его поразила мысль, такая ясная и четкая, как давно не бывало. Перед ним же ребенок, безгрешный ребенок!
– Мне кажется, девочка, твоими устами говорит кто-то высший.
И задумался: настолько странной и многозначительной показалась ему затея. Он несколько раз повторил про себя: я строю Иерусалим. Но тут же мысли спутались и свернули на привычный путь: Господня воля, промысел Божий. Подумать только, какие необычные пути выбирает Спаситель. Вот уж воистину – устами младенца…
Резко повернулся и, не снимая шубу, подошел к учителю.
– Я на вас не сержусь, Стром, – сказал он и сам удивился, как ясно и примирительно прозвучал голос. – Вы делаете то, что следует делать. По вашему мнению, конечно. Всю жизнь размышлял я и говорил о Боге… Как можно кого-то убедить, если сам не понимаешь, как Господь правит миром? А главное, мне кажется, вы считаете ваш замысел важным. Более того – необходимым.
И открылись им Небеса
Зимой чуть не каждый день, а иногда сутками шел снег, и, когда стало тепло, вода в Дальэльвене поднялась очень высоко. Природе показалось мало сотен и тысяч сбегающих с гор и холмов ручьев: непрерывно шел дождь, вода сочилась из каждой колеи, из каждой борозды. Вода поднималась и поднималась. Обычно спокойная, ласковая река превратилась в мутный бурный поток, несущий с собой бревна, кусты и ломающиеся с пушечным грохотом льдины.
Поначалу жители не особо беспокоились. Никто даже не поглядывал в сторону взбесившейся реки, разве что дети каждую свободную минуту бежали на берег и смотрели на грозное и величественное зрелище.
Вода несла с собой льдины, кусты, даже деревья. А потом и стиральные мостки, баньки, стоявшие у самого берега. Все чаще попадались полузатопленные лодки, обломки понтонных мостов.
– Наш тоже смоет, – решили дети. – Обязательно смоет.
Им, конечно, было страшновато, но интересно и весело: надо же, какое зрелище повезло увидеть.
Проплыла огромная сосна с вывороченными корнями, за ней белоствольная осина, вся в почках, набухших от долгого пребывания в воде. А вслед за подмытыми и унесенными деревьями появился все еще набитый сеном перевернутый сарай.
Тут забеспокоились и взрослые. Сообразили, что где-то на севере река вышла из русла, и поспешили на берег c баграми, веревками и шестами – не глядеть же сложа руки, как мимо проплывают полезные, а иногда и довольно ценные предметы.
На самом севере уезда, там, где почти никто не живет, на берегу реки стоял Ингмар Ингмарссон. Ему уже было почти шестьдесят, но выглядел он старше. Грубое, изборожденное глубокими морщинами лицо, согнутая спина. С виду неуклюж и беспомощен.
Стоял с длинным и тяжелым багром в руке и смотрел на наводнение – сонно и равнодушно. А взбесившаяся река гордо проносила мимо него свои трофеи, все, что ей удалось похитить с затопленных берегов. Словно хотела подразнить хуторянина – что ж ты такой нескладный? Ну нет, если кому и удастся что-то у меня отнять, то уж никак не тебе.
Но Ингмар Ингмарссон не обращал никакого внимания на проплывающие лодки и разбитые понтонные мостки. Даже попытки не сделал подцепить что-то приглянувшееся.
Ничего, думал он. Там, в селе, найдется кому поживиться.
И все же ни на секунду не сводил глаз с потока. Внезапно взгляд его упал на странный предмет. Он заметил его издалека. Трудно не заметить ярко-желтое пятно в буром одноцветном потоке.
Заметил и встрепенулся
– Вот этого я и боялся, – сказал он сам себе вслух.
Различить невозможно, но, если кто знает, как одевают маленьких детей в Даларне, – задача несложная.
Ясное дело – сидели и играли на мостках для стирки. Маленькие, не догадались вовремя убежать на берег.
Не прошло и минуты, как догадка его подтвердилась. Теперь ясно видно: на чем-то вроде плотика – трое малышей в желтых шерстяных кафтанчиках и желтых же шапочках. И другая его догадка верна: в самом деле, мостки для стирки. Долго им не продержаться. Уже видно, как потоки воды и громоздящиеся льдины отрывают доску за доской.
Дети были еще довольно далеко, но кому, как не Ингмару Ингмарссону, понимать все прихоти реки, на которой он провел всю жизнь. И место-то выбрал, потому что знал: тайные течения обязательно принесут мостки именно сюда. Повезет, удастся вытащить малышей на берег.
Ингмар Ингмарссон ждал. И дождался: мостки будто кто-то толкнул – и сразу жалкий плотик изменил направление. Повернулся, и его понесло к берегу. Теперь Ингмар ясно различал бледные, перепуганные мордашки и даже слышал перекрывающий рев потока плач.
Но с берега не достать. Он поспешно и решительно вошел в воду. Внезапно возникло странное чувство, будто незнакомый голос зовет его вернуться.
Ты уже не молод, Ингмар. То, что ты задумал, очень опасно. Опомнись.
Может, и в самом деле не стоит рисковать жизнью? Хотя… Брита, жена, та самая, которую он когда-то встречал у ворот тюрьмы, умерла этой зимой, и он ничего так не желал, как поскорее последовать за ней. Но и позволить себе умереть не мог: сын, которому собирался передать хутор, еще слишком мал. Надо держаться. Он должен перетерпеть жизнь ради этого мальчика.
Что же, пусть будет, как Бог того пожелает, решил он и двинулся дальше.
Если бы кто-то видел его в эти минуты, поразился бы произошедшим в нем переменам и сразу сообразил, почему беспомощного с виду старика называют Большим Ингмаром. Куда подевались сонливость и вялость! Вошел в реку, выбрал место, куда упереться шестом, чтобы не снес стремительный, грозно бурлящий поток. Постарался поглубже закопаться ногами в илистое дно. С невероятной для его возраста ловкостью уворачивался от грозящих сбить с ног или переломать кости обломков льдин и топляков. Точно уловил момент, зацепил багром мостки и хрипло крикнул:
– Держитесь!
Заторможенный плотик круто развернулся, подгнившие доски угрожающе затрещали, но не рассыпались. Ингмару удалось вывести плот со стремнины. Теперь можно отпустить. Он прекрасно знал: именно здесь подводное течение обязательно вынесет мостки на берег. Повернулся и в ту же секунду получил сильный удар в бок несущимся с потоком бревном. Как раз под занесенной рукой. Очень сильный удар: Большой Ингмар закачался, пытаясь сохранить равновесие, чуть не упал, но удержался и кое-как выбрался на берег, боясь посмотреть на последствия удара: наверняка грудная клетка вдребезги. Рот тут же наполнился кровью. Понял, что уже не может сделать ни шагу. Вот тебе и конец пришел, Ингмар Ингмарссон, успел он подумать – и потерял сознание.
Спасенные дети добежали до ближайшего хутора. Оттуда пригнали телегу и отвезли Большого Ингмара домой.
Сбегали за пробстом. Тот просидел у постели весь день, а вечером, не заходя домой, направился к учителю – настолько надо было ему с кем-то поговорить.
Учитель и матушка Стина уже знали: Ингмар Ингмарссон окончил свой земной путь. Горевали, конечно, и очень удивились, услышав легкие, едва ли не пританцовывающие шаги пастора, никак не соответствующие грустному событию.
Разумеется, учитель спросил, успел ли пастор причастить умирающего.
– Да-да… но если Большой Ингмар кого-то и ждал, то не меня.
– Как это? – удивилась матушка Стина.
– Вот так. – Пастор загадочно улыбнулся. – Он, можно сказать, сам себя причастил.
Задумался и продолжил:
– Не так-то легко, скажу я вам, сидеть у постели умирающего. Особенно когда уже не десятого и даже не сотого.
– Да уж, наверняка тяжело, – согласился учитель.
– А особенно когда умирает самый, можно сказать, знаменитый человек в уезде.
– Это уж совсем…
– Но, знаете, располагаешь-то по-одному, а получается по-другому…
Пастор внезапно перестал улыбаться. Задумался и довольно долго молчал. Матушка Стина с удивлением подумала: а с чего это глаза у пастора так и светятся под очками?
– А вы когда-нибудь слышали, Сторм? Или вы, матушка Стина? Слышали, что случилось с Большим Ингмаром, когда он был молод?
– Много чего хорошего я о нем слышал, – уклончиво ответил учитель.
– Это да… это уж, конечно, да. Но это… я и сам не знал до сегодняшнего дня.
И опять помолчал, а глаза засияли еще ярче.
– У Большого Ингмара арендовал надел некий…
– Как же, знаю. Тоже Ингмар. Отец так его окрестил из уважения к хозяевам земли. Его, чтобы не путать, называли Дюжий. Дюжий Ингмар. Дружили они с Большим Ингмаром.
– Именно так, Сторм. Дюжий Ингмар. И да – дружили они. Как-то раз… давно, когда Большой Ингмар был совсем молодым… в субботу вечером было дело. Короче, оба Ингмара приоделись и пошли в село развлечься.
И снова замолчал пастор. А глаза разгорались и разгорались, как звезды на вечереющем небе.
– Должно быть, прекрасная погода была. Иначе и представить трудно. Тихо и ясно. Я уже сказал – сумерки. Тот час, когда земля и небо меняются цветом. Небо зеленеет, а земля… знаете, как бывает: опускается вечерняя дымка, и все кажется бело-голубым. А может, и не опускается эта дымка, а поднимается от самой земли. И вот идут они, два Ингмара, что ж… идут и идут. Стали переходить через понтонный мост и замерли. Будто кто-то крикнул им: остановитесь, посмотрите на небо. Глянули и обмерли: распахнулся над ними небесный свод. Как занавес в театре отдернули. Так и стояли, взявшись за руки, пораженные открывшимся великолепием. Слышали ли вы когда-нибудь что-то подобное, матушка Стина? Или вы, Сторм? Вот ведь как! Стояли они оба, взявшись за руки, Большой Ингмар и Дюжий Ингмар. Стояли и глядели во все глаза.
Потом никогда и никому не рассказывали. Ну как никому: детям да самым близким: вот, мол, стояли как-то на мосту, а небесный свод раздвинулся, и увидели мы… Никому чужому – ни слова. Для них это было как бесценный клад, святой дар. Подумать только: им, только им и никому другому повезло увидеть Царство Небесное во всей его благодати.
Пастор наклонил голову, глубоко вздохнул и сказал с дрожью в голосе:
– Скажу от души: никогда и нигде не слышал ничего подобного. О… как бы мне хотелось постоять рядом с ними… А нынче, едва Большого Ингмара привезли домой, тут же велел послать за другом, Дюжим Ингмаром. Кто ж откажет? Сразу и послали. За мной, за доктором и за Дюжим Ингмаром. Не нашли: ушел в лес дрова рубить. В лесу разве найдешь. Но все равно – и в лес побежали искать, чуть не всем приходом. А Большой Ингмар лежит и тоскует.
Вот уже и я пришел, и доктор сразу за мной, а Дюжего Ингмара все нет и нет. А Большой-то Ингмар на нас даже не глядит. Тоскует. Уже умирать собрался. Скоро помру, говорит, что тут сделаешь. Только как бы не помереть, не повидав друга.
Лежит он, значит, на широченной кровати, укрыли его самым лучшим гобеленовым покрывалом. А глаза открыты: смотрит не на нас, а куда-то в сторону, будто видит то, чего никто не видит. Трех малышей, что он спас, тоже посадили на кровать, в ногах у него. Посмотрит на них – и тут же улыбается. Даже странно. Редко увидишь, как умирающий улыбается.
Нашли наконец арендатора. Еще не появился он, только шаги в сенях, а Большой Ингмар уже встрепенулся. Подошел Дюжий Ингмар к постели, умирающий взял его за руку, и лицо его просветлело, даже румянец появился.
– Помнишь, как небесный свод открылся?
– Еще бы не помнить! Заглянули мы с тобой в Царство Небесное.
Собрался с силами Большой Ингмар и повернулся к другу. Сияет весь, словно и не умирает. Вот туда я и собрался, говорит. Будто лучшей новости и быть не может.
Наклонился над ним друг, поглядел в глаза и сказал: скоро и я к тебе. Вот что он ему сказал. И дальше: только сейчас-то, сам знаешь, не могу. Надо дождаться, пока сын твой из паломничества вернется. Кивнул Большой Ингмар из последних сил. Знаю, мол, знаю. Как не знать.
Вздохнул последний раз – и умер.
– Красивая смерть, – сказал учитель.
Помолчали.
– Какое еще паломничество? – неожиданно спросила матушка Стина. – Что он имел в виду, Дюжий Ингмар?
Пастор ответил недоуменным взглядом.
– Кто его знает… – пожал плечами. – Большой Ингмар как раз помер, друг горюет… что ж я буду расспрашивать. Странно, конечно… очень странно. Тут вы правы, матушка Сторм.
Матушка Стина внимательно посмотрела ему в глаза.
– Пастор наверняка знает: многое болтают про Дюжего Ингмара. Говорят, будущее умеет предсказывать. Паломничество… – повторила она и задумалась.
Пробст потер лоб, будто решил таким незамысловатым способом привести в порядок мысли.
– Странно, странно… но только подумаешь, как Господу удается править миром, – и на тебе: ничто не кажется странным. Вообще ничто.
Карин Ингмарсдоттер
Осенним утром на перемене учитель и Гертруд прошли в кухню, где матушка Стина уже сварила кофе. И не успели даже глотка отхлебнуть, явился гость.
Хальвор Хальворссон, молодой хуторянин. Первый, кому пришло в голову открыть в селе лавку. Поскольку сам он родился на хуторе Тимсгорден, все, чтобы не путаться, называли его Тимс Хальвор. Красивый, между прочим, парень: высокий, стройный, всегда веселый. Но сейчас на лице его можно было прочитать все что угодно, кроме веселья. Поблагодарил за предложенный кофе, присел к столу и заговорил о чем-то с учителем.
Хозяйка устроилась со спицами на деревянном решетчатом диванчике у окна. Она всегда там сидела: хорошо видна дорога. Важно же знать, кто идет, куда и зачем. И вдруг бросила вязанье, покраснела и прильнула к окну – глазам не поверила. К школе направлялась высокая сутуловатая женщина, держа за руку подростка. Матушка Стина сделала над собой усилие и отвернулась от окна.
– Важные люди нынче на прогулке.
Хальвор уловил что-то необычное в ее голосе, встал и подошел к окну.
– Карин Ингмарсдоттер, если глаза не обманывают, – с трудом сохраняя безразличный тон, произнесла матушка Стина.
– Да-да… Она и есть. – Хальвор Хальворссон встал и начал оглядываться, будто искал запасной выход. Но в последний момент передумал и пожал плечами, хотя садиться не стал.
А дело тут вот в чем: прошлым летом, когда еще жив был Большой Ингмар, Хальвор посватался к Карин Ингмарсдоттер. Сватался не один раз, а несколько: все время находились какие-то «но» и «если». Старики сомневались, годится ли он в мужья для Карин. Дело не в бедности: Тимс Хальвор был довольно богат. Нет, не в деньгах дело, а вот в чем: богат-то он богат, но отец его пьяница. Всем известно: этот порок легко передается по наследству. В конце концов все же дали согласие.
Назначили день свадьбы. Перед оглашением Карин и Хальвор поехали в Фалун – купить обручальные кольца и книгу псалмов. Три дня их не было, а когда вернулись, Карин пошла к отцу. Не пойду я за него, сказала она решительно. Как, почему? Оказывается, Хальвор в один из этих трех дней напился допьяна и ей стало страшно, что он пойдет по стопам отца.
Хальвор страшно обиделся.
– Ты меня опозорила. Как мне жить с этим стыдом? Что обо мне люди подумают после того, как ты швырнула мне в лицо отказ? С порядочными людьми так не поступают.
Но Карин стояла на своем.
После этого Хальвор очень изменился. Сделался мрачным, неразговорчивым. Стоял в своей лавке с несчастным видом. Люди не одобряли поступок Карин. Она же все-таки дочка Большого Ингмара. Как она могла так обойтись с хорошим парнем?
И вот неизвестно зачем явилась Карин, а тут на тебе! Жених-неудачник собственной персоной.
Ясное дело, ни о каком примирении и речи быть не может. Карин еще осенью вышла замуж за Элиаса Элуфа Эрссона. Они с мужем жили на хуторе Ингмарссонов и после смерти Большого Ингмара занимались хозяйством. После Ингмара осталось пять дочерей и сын, но мальчик был слишком юн.
И вот Карин появилась в кухне. Ей чуть больше двадцати, но она всегда выглядела намного старше своих лет. И красавицей никак не назовешь – вся в свою родню. Тяжелые, полуопущенные веки, рыжие волосы и жесткие складки у рта. Но в семье учителя не обращали на это внимание. Им даже нравилось, что Карин унаследовала фамильные черты Ингмарссонов. Сразу видно – из хорошей семьи.
Карин, не успев открыть дверь, увидела Хальворссона, но даже виду не показала, что он ей неприятен. Подошла сначала к матушке Стине, потом к учителю, вежливо поздоровалась. Хальвору протянула руку, но все заметили: никакой сердечности в его рукопожатии не было. Так, едва прикоснулся к тыльной стороне ладони кончиками пальцев.
Она всегда немного сутулилась, а рядом с Хальвором согнулась еще больше. Хальвор, наоборот, встал и выпрямился во весь свой немалый рост. Может, и на цыпочки привстал – сделался еще выше, чем всегда.
– Значит, Карин решила прогуляться, – прервала матушка Стина неловкое молчание и пододвинула гостье стул, на котором обычно сидел пробст.
– Да… почему бы не прогуляться. Подморозило, ходить легко, ноги в грязи не вязнут.
– Это верно, – подтвердил учитель. – Ночью мороз ударил.
После этого важного обмена мнениями вновь наступило молчание. Минуты три никто не произносил ни слова. Хальвор неожиданно заторопился.
– Пора в лавку, – произнес он с натугой.
– Куда ж тебе торопиться, – вежливо, но с облегчением сказала матушка Стина.
– Из-за меня? – Голос Карин прозвучал почти нежно.
Хальвор пожал плечами и ушел. Наваждение сразу прошло, тем более учитель прекрасно знал, о чем хочет поговорить Карин. Он внимательно посмотрел на упорно молчащего мальчика. Еще маленький, если и старше Гертруд, то ненамного. Личико детское, но чересчур уж серьезный, как маленький старичок. И черты лица – сразу можно догадаться, из какого он рода.
– Думаю, Карин привела ученика, – улыбнулся учитель.
– Это мой брат. Ингмар Ингмарссон.
– Маловат для такого имени.
– Слишком рано отец нас покинул, – вздохнула Карин.
– Что верно, то верно. – Учитель погрустнел, и жена его тоже сделала скорбную мину.
– Ингмар учится в городской школе в Фалуне. Оттого-то и не приходил раньше к господину учителю.
– А что же, разве он не собирается там продолжать?
Карин на вопрос не ответила. Потупилась, опять вздохнула и сообщила:
– Говорят, очень хорошо он читает.
– Еще бы… только боюсь, мало чему могу его научить. Наверняка ученее меня.
– Что вы такое говорите, господин учитель! Вы наверняка знаете в сто раз больше. Он же еще маленький.
Снова, в который уже раз, наступило молчание.
– Да… тут вот еще что. Я не только про уроки. Думала спросить: не мог бы Ингмар у вас пожить?
Учитель и его жена поглядели друг на друга и не смогли скрыть удивления.
– Мы же тесно живем, – после паузы сказал Сторм.
– Могу расплатиться маслом и молоком. И яйцами…
– Ну, вообще-то…
– Большую услугу окажете, – вежливо перебила ее Карин.
Матушка Стина сразу поняла: вряд ли молодая богатая женщина ни с того ни с сего явилась бы с такой странной просьбой. Что-то не то. Что-то ее припекло. Но не расспрашивать же…
– Карин вовсе не нужно беспокоиться. Для Ингмарссонов сделаем все, что можем.
– Спасибо.
Матушка Стина и Карин остались обсуждать практические детали, а Сторм взял Ингмара за руку, повел в класс и посадил рядом с Гертруд.
За весь первый день мальчик не произнес ни слова.
Тимс Хальвор целую неделю даже близко к школе не подходил, будто боялся опять встретиться с Карин. Но как-то в дождливый день, когда за все утро в лавке не появился ни один покупатель, даже в окно никто не заглянул, Хальвор впал в уныние. Никуда я не гожусь, никто меня не уважает, решил он. И начал бередить свои душевные раны. С тех пор как Карин ему отказала, самоедство вошло в привычку. Травил себя и так и эдак, окончательно загрустил и надумал пойти к матушке Стине. Тоска одолела – а когда одолевает тоска, нет ничего лучше, чем поговорить с добрым и веселым человеком.
Запер пустую лавку, застегнул пиджак на все пуговицы и пошел в школу, не обращая внимания на ветер и колючий дождь.
Сам бы не мог объяснить почему – как только переступил порог школы, сразу поднялось настроение. Собирался было скоро уйти, но так и не сумел себя заставить. Беседовал с матушкой Стиной, пока не прозвенел колокольчик на перемену и не появились учитель Сторм и двое детей.
Хальвор встал пожать руку учителю и тут же сел, вроде бы не заметив протянутой руки маленького Ингмара. Продолжил разговор с матушкой Стиной. Ингмар постоял-постоял, опустил руку, сел и вздохнул – так же уныло, как вздыхала его старшая сестра.
– Хальвор зашел показать свои часы, – сообщила матушка Стина.
И Тимс Хальвор тут же достал из кармана новенькие серебряные часы. Небольшие, но очень красивые, с позолоченным цветком на крышке.
Учитель взял часы, открыл заднюю крышку, покачал головой и ушел. Вернулся с моноклем в глазу и долго рассматривал, как вздрагивают и передают друг другу движение крошечные шестеренки. Вернул часы Хальвору и поцокал языком.
– Никогда не видел такую тонкую работу.
Хальвор опустил часы в карман, при этом не выказал ни радости, ни даже удовлетворения от похвалы удачной покупке.
Ингмар ел молча. Допил кофе и спросил, разбирается ли господин учитель в часах.
– Представь себе, разбираюсь. Ты же и сам знаешь – должность такая: во всем разбираться.
Ингмар достал из жилетного кармана часы-луковицу. Большие и неуклюжие, особенно по сравнению с часами Хальвора. И цепочка под стать, простая и грубоватая. На крышке украшений нет, зато есть глубокая вмятина. Циферблат поцарапан, стекло разбито.
Учитель посмотрел на часы, поднес к уху.
– Стоят, – заключил он.
– Ну да. Ясное дело – стоят. Я только хотел спросить, может, учитель знает кого, кто мог бы их починить?
Сторм поднес часы к уху и слегка потряс. Внутри что-то загремело. Покачал головой.
– Ты, видно, гвозди ими забивал. Тут я вряд ли что могу сделать.
– А может, Эрик-часовщик починит?
– Вряд ли. Лучше поехать в Фалун и вставить новый механизм.
– Я так и думал. – Мальчик хотел забрать часы, но учитель Сторм удержал его руку.
– А и в самом деле: как так получилось? Не гвозди же, в самом деле?
– Отца часы. В кармане были, когда его бревно ударило.
Все повернулись к мальчику.
– Пасхальные каникулы, я как раз дома был, – с усилием продолжил Ингмар. – Одним из первых на берег прибежал. Мне конец, отец говорит, ты уж прости меня, сынок. Часы жаль, сломались. А я-то хотел, чтобы ты их подарил одному человеку. Скверно мы с ним обошлись. И сказал кому. Ну, часы подарить. Говорит: поезжай в Фалун, почини, а потом подаришь. Но я-то больше в Фалун не ездил. И что мне теперь делать?
Учитель, человек практического ума, тут же начал размышлять, не найдется ли оказия в Фалун. А матушка Стина пристально посмотрела на мальчика.
– А кому Большой Ингмар велел подарить часы?
– Не знаю, могу ли я называть его имя.
– Уж не Тимсу ли Хальвору, что здесь сидит?
– Да, – почти прошептал мальчик. – Ему.
– Так отдай прямо сейчас. Думаю, сломанным он еще больше рад будет.
Мальчик послушно встал, вытер часы рукавом и неуверенно подошел к Хальвору.
– Покойный отец велел передать вам эти часы, – сказал он громко, хотя Хальвор прекрасно слышал, что сказала матушка Стина.
Хальвор, который все время разговора мрачно смотрел в пол, внезапно закрыл глаза ладонью. Ингмар довольно долго протягивал ему часы, но тот его словно бы и не видел. Мальчик растерялся и оглянулся, ища помощи.
– Блаженны миротворцы! – торжественно произнесла матушка Стина.
Хальвор, не открывая глаз, сделал жест, будто отталкивает подарок. Тогда на помощь пришел учитель Сторм.
– Думаю, не стоит тебе отказываться от посмертного дара, Хальвор. Я всегда говорил: будь Большой Ингмар жив… кто-кто, а уж он-то понимал: с тобой обошлись несправедливо.
Бедняга Хальвор так и сидел, не отнимая от глаз ладони. Протянул другую руку, взял часы и тут же спрятал в карман.
– Уж эти-то часики никто у него не отнимет, – засмеялся учитель, глядя, как Хальвор суетливо застегивает пуговицы на пальто.
Тут, впервые за весь разговор, засмеялся и Хальвор. Встал, выпрямился, глубоко, с всхлипом, вздохнул и покраснел. Посмотрел на собравшихся – и все увидели, как сияют его глаза.
И представьте: Хальвор задумался ненадолго и начал расстегивать только что застегнутое пальто. Подошел к Ингмару и вынул свои новенькие шикарные часы.
– Я принимаю подарок твоего отца. А тебя прошу принять подарок от меня.
Положил часы на стол и ушел, не попрощавшись. В лавку так и не вернулся – весь день бродил по окрестностям. Двое хуторян из Вестгордена все же решили, несмотря на дождь, пойти в лавку, прождали пару часов и ушли, несолоно хлебавши.
* * *
Отец Элиаса Элуфа Эрссона, того самого, что женился на Карин Ингмарсдоттер, был человеком жадным и злобным. С сыном был строг и даже жесток. В детстве Элуф никогда не мог наесться досыта, отец гнал его на работу. Вырос – то же самое. Работа, работа, работа. По воскресеньям – работа. На танцы пойти – нечего и думать.
А когда Элуф женился, не дал ему ни кроны на обзаведение. Пришлось переехать на хутор к Ингмарссонам в подчинение к тестю. А там то же самое – работа с утра до ночи. Пока был жив Большой Ингмар, Элуф был вполне доволен жизнью. Трудился, трудился и трудился, ничего другого не желал. В приходе поговаривали: вот, мол, нашли Ингмарссоны зятя – лучше не придумаешь. Элуф и знать не знает, что в мире есть еще что-то, кроме работы.
Но после нелепой смерти Большого Ингмарссона Элуф начал пить. Искал веселые компании, завел друзей, кочевал с ними с одного постоялого двора на другой. Напивался чуть не каждый день и за каких-то пару месяцев спился окончательно.
Когда жена, Карин Ингмарсдоттер, в первый раз увидела мужа вдребезги пьяным, обомлела. Это Бог меня наказал, решила она. Бог не простил, что я так несправедливо обошлась с Хальвором.
А мужу не сказала ни слова. Не ругала, не предупреждала. Поняла: он обречен, как пораженное гнилью дерево. Ни поддержки, ни помощи не жди.
И она была права.
Но сестры ее были не так мудры. Им было очень стыдно, что с хутора всеми уважаемых Ингмарссонов то и дело слышатся выкрики и нестройное пьяное пение. Они то ругали Элуфа, то уговаривали – и Элуф, несмотря на природное добродушие, начал злиться. Прошли мирные времена: на хуторе Большого Ингмара ссоры следовали одна за другой.
Карин думала только, как бы сделать так, чтобы сестры съехали с хутора. Незачем им жить в такой обстановке, почему за ее грех должны расплачиваться они? И проявила при этом немало решительности и смекалки: за одно лето выдала замуж двух сестер, а еще двух отправила в Америку на попечение разбогатевших родственников. Сестры получили свою долю наследства: двадцать тысяч крон каждая. Карин осталась хозяйкой хутора. Но как только юный Ингмар достигнет совершеннолетия, придется ей со своим пьяницей-мужем куда-то съезжать.
И вот что удивительно: как удалось нерешительной и робкой Карин снарядить так много пташек в полет? Найти подходящих мужей, купить билеты в Америку? И ведь никто со стороны ей не помогал, а от пьяницы-мужа толку – как от козла молока.
Все бы шло, как задумано, если б не младший брат, будущий Большой Ингмар Ингмарссон. Он объявил настоящую войну. Слов на уговоры не тратил, действовал. Как-то вылил все спиртное, которое зять притащил домой, а в другой раз Элиас Элуф застал его, когда мальчик разбавлял перегонное водой.
И ничем хорошим это не кончилось. Осенью, когда пришла пора отвезти Ингмара в школу в Фалуне, Элуф, формальный опекун, решительно воспротивился.
– Ну нет, – сказал он. – Нечего ему делать в городской школе. Будет крестьянином, как я, как мой отец и как его отец. Скоро поедем с ним в лес закладывать милы. Это и есть учение, лучше всякой школы. Когда я был в его возрасте, там и жил всю зиму, в шалаше.
Как ни пыталась Карин его переубедить, Элуф был непреклонен. Пришлось удовлетвориться местной сельской школой.
Мало того – Элуф делал все, чтобы приручить Ингмара. Брал его с собой во все поездки. Мальчик неохотно подчинялся. Ему вовсе не хотелось не только принимать участие в попойках зятя, но даже присутствовать. Согласился, только когда тот поклялся: только в церковь и в лавку, больше никуда. Слово, разумеется, не сдержал. Как только Ингмар садился в коляску, гнал лошадей к кузнецам на рудник в Бергсоне или, без лишних затей, на постоялый двор в Кармсунде.
Поначалу Карин радовалась. Ей казалось, что присутствие мальчика будет сдерживать мужа. Во всяком случае, не будет валяться в придорожной канаве. И лошадей не загубит.
Но как-то раз Элуф явился домой в восемь утра. Ингмар спал в коляске.
– Займись братцем, – крикнул он жене. – Налакался, как свинья, и дрыхнет. Идти сам не может.
Карин чуть не потеряла сознание, даже пришлось присесть на ступеньку крыльца, чтобы побороть головокружение. Тут же вскочила, бросилась к коляске, схватила Ингмара и отнесла в дом. Мальчик вовсе не спал – он был без сознания и совершенно холодный. Как мертвый.
Уложила его в постель, укрыла одеялом, пошла в кухню, где завтракал Элиас Элуф. Схватила его за плечо.
– Жри, жри… Нажрись, чтоб надолго хватило. Если ты напоил брата до смерти, придется хлебать тюремную похлебку.
– Вот оно что… – удивился Элуф. – Давно не слышал. Ты, оказывается, умеешь говорить! Лучше бы молчала, чем нести сама не знаешь что. Немного перегонного никому еще не вредило.
– Я уже сказала, повторять не буду. – Карин сжала плечо мужа тонкими сильными пальцами. – Если умрет, двадцать лет тюрьмы тебе обеспечено.
И, не дожидаясь ответа, вернулась к брату. Тот тем временем отогрелся и пришел в сознание. Прийти-то пришел, но не мог пошевелить ни рукой, ни ногой, ему было очень плохо.
– Карин… я, наверное, сейчас умру.
– Ну нет, не умрешь. – Она присела на край кровати.
– Я не знал, что они мне давали.
– Вот и слава Богу, – серьезно сказала Карин.
– Если умру, напиши сестрам. Откуда мне было знать, что это спиртное?
– Неоткуда. Ясное дело – неоткуда.
Мальчик пролежал весь день в лихорадке. Даже сознание терял время от времени.
– Только отцу не говори, – попросил он внезапно.
Карин вздрогнула, но постаралась ответить как можно спокойнее:
– Нет, что ты. Отцу никто не скажет.
– Но если я умру, он же узнает. Стыд какой…
– Тебе нечего стыдиться. Ты ни в чем не виноват.
– А он скажет: головой надо было думать. Смотреть, что тебе дают… а теперь весь приход будет знать, как я напился пьяным. Что скажут работники, что скажет Лиза… а Дюжий Ингмар?
– Ничего они не скажут.
– Все равно… лучше бы ты сама им рассказала, как дело было. Они же там всю ночь пили, а я что… я прикорнул на лавке. На постоялом дворе в Кармсунде. А тут Элиас… разбудил и говорит: «Замерз небось? Иди, дам тебе кое-что, согреешься. Вода, говорит, с сахаром, ничего больше». Дает стакан – и вправду: горячо и сладко, что тут плохого? А он, оказывается, намешал туда чего-то. Что отец бы сказал?
Карин встала и приоткрыла дверь. Элуф так и сидит в гостиной, пусть слышит.
– Если бы только он был жив, Карин! Если бы только он был жив!
– И что тогда, Ингмар?
– Он бы его убил! Ну а как? Ты разве так не думаешь?
Элуф насмешливо хохотнул. Ингмар услышал его смех и побледнел. Карин поспешила опять закрыть дверь.
Но подействовало. Элиас Элуф заметно присмирел и, когда Карин решила отвести Ингмара в школу, не сказал ни слова.
* * *
И представьте: чуть не на следующий день после того, как Хальвор получил посмертный подарок от Большого Ингмара, в лавку повалил народ. Приходили в сельскую церковь на службу – и обязательно заворачивали к Хальвору, послушать рассказ о часах покойного Ингмара Ингмарссона. Стояли в своих длинных, до полу, меховых шубах и слушали, чуть не перегнувшись через прилавок. Удивление и почтение читалось на обветренных, покрытых глубокими морщинами лицах. В конце рассказа Хальвор доставал часы и показывал всем мятую крышку, разбитое стекло и исцарапанный осколками циферблат.
– Вот оно что… вот, значит, куда бревно-то пришлось. Кабы не часы, может, и сразу бы убило, а так еще вон что… успел с людьми поговорить. Это для тебя большая честь, Хальвор, – такие часы.
Хальвор часы показывал, но из рук не выпускал. Ни на секунду. Поглядели – и ладно.
И как-то, когда он в сотый раз, окруженный группой крестьян с соседних хуторов, рассказывал трогательную историю посмертного подарка Большого Ингмара, кто-то попросил дать ему разглядеть часы поближе. Хальвор посомневался, но все же передал часы. В торжественном молчании хуторяне разглядывали часы, цокали языками и осторожно передавали друг другу.
И в этот момент в лавке появился Элиас Элуф. Все были настолько поглощены разглядыванием часов, что никто и внимания на него не обратил. Он тут же понял, что происходит, – Элуф, само собой, тоже слышал рассказы про луковицу тестя. Вообще-то он ничего против Хальвора не имел, но ему показалось нелепым и смехотворным: надо же, взрослые, много повидавшие люди, едва дыша, передают друг другу разбитые, ни к чему не годные часы.
Он подкрался сзади, выхватил часы из рук очередного крестьянина, подошел к прилавку и поднял над головой. Не забывайте – он не держал зла на Хальвора, хотел лишь немного подразнить.
Хальвор хотел вырвать часы, но Элуф отскочил и поднял руку высоко над головой, будто подманивал собаку мозговой косточкой.
Хальвор, вне себя от ярости, оперся рукой и одним прыжком перемахнул прилавок. Вид у него был такой, что Элуф испугался и бросился бежать. И тут ему не повезло – на крыльце поскользнулся, ударился о ступеньку спиной, скатился вниз и остался лежать. Не сделал даже попытку убежать.
Хальвор вырвал у него часы и в сердцах пнул пару раз ногой.
– Что ты меня пинаешь? – простонал Элиас. – Посмотри лучше, что у меня со спиной.
Хальвор еще раз замахнулся, но Элиас не сделал даже попытки защититься от удара.
– Помоги мне встать…
Тут Хальвор остыл и попытался поднять обидчика. Ничего не вышло. Пришлось кое-как погрузить его на телегу и отвезти домой. Вскоре выяснилось, что Элиас сломал позвоночник.
После этого злосчастного случая муж Карин Ингмарсдоттер с постели уже не вставал – отнялись ноги. Но говорить мог: днем и ночью, утром и вечером одно и то же – принесите выпивку.
Доктор наистрожайшим образом запретил давать больному спиртное. Начнет пить, сказал, при такой неподвижности быстро допьется до смерти. Но Элиас не сдавался: кричал, требовал перегонного. Днем еще бы ладно, но он особенно старался именно по ночам, никому спать не давал. Совсем обезумел.
Это был самый тяжкий год в жизни Карин. Муж настолько ее измучил, что она сама не понимала, как выдерживает потоки злобной брани, перемежающиеся бессмысленными криками, воплями и проклятиями. Хутор превратился в ад.
Как мы уже знаем, Карин пошла к учителю, попросила взять Ингмара на пансион. Сказала: дома пусть не появляется, даже на Рождество. Нехорошо у нас на хуторе.
Ингмарссоны жили в этих краях с незапамятных времен. Нечему удивляться, что и работники, и конюхи, и слуги – все приходились хозяевам родственниками. Близкими, дальними и очень дальними, но родственниками. Многие выросли вместе – одна семья. Если бы не так, хутор давно бы опустел. Мало кому под силу выдерживать крики и проклятья сутками напролет.
Ночи, когда Элуф давал им возможность более или менее выспаться, – по пальцам пересчитать. А он постоянно находил все новые способы сделать их жизнь окончательно невыносимой. Приходилось время от времени уступать.
Так Карин прожила зиму, лето и еще одну зиму.
* * *
У нее был тайный уголок, куда она приходила, чтобы побыть одной и подумать о своей горькой жизни. Узкая скамеечка, летом скрытая от посторонних глаз вьющимися зарослями хмеля. Садилась, подпирала кулаком подбородок и смотрела в никуда невидящими глазами. С хутора ее скамейку не видно, зато ей открыты все окрестности: луга, поля – до самого леса и горы Клакбергет.
Стоял апрель, вечерело. Карин чувствовала себя вконец измотанной. Конечно, причины на то были. К тому же каждому известно: ранней весной с людьми такое бывает. Сходит почерневший, потерявший всю свою зимнюю красоту снег, земля серая и скучная, ее еще не успели омыть первые весенние дожди. Солнце уже пригревает понемногу, но дует холодный северный ветер. Летом-то и ветер не страшен, от него защищает разросшийся хмель, но сейчас хмель спит на земле, заботливо укрытый еловым лапником, и ветру есть где разгуляться. Обрывки бумаги, сухие стебли и прошлогодние листья затевают на поле причудливые танцы. Скоро, очень скоро весна вырвет рукав из цепких лап зимы и всерьез займется весенними делами. Все признаки налицо: на опушке еще лежит вал потемневшего снега, но горы окутаны туманом, уже зазолотились верхушки берез, а самое главное – воздух. Весенний воздух ни с чем не спутаешь. Достаточно глубоко вдохнуть, и сразу понятно: весна. Надежда есть, и она наверняка исполнится, но Карин все равно. Очень уж она устала.
Вряд ли, подумала Карин. Вряд ли я переживу еще и это лето.
Вот-вот подойдет время сева, потом сенокос, потом надо печь хлеба, прясть, ткать, шить, да еще предстоит большая весенняя стирка. Ни за что не справиться.
– Как бы я хотела умереть, – медленно и раздельно сказала Карин вслух. – Для чего я живу? Только чтобы не дать Элуфу умереть от перегонного.
Вздрогнула и подняла глаза. Хальвор Хальворссон – в двух шагах. Прислонился к ограде и молча смотрит на бывшую невесту.
Когда он успел появиться? Видно, не только что пришел, давно стоит.
– Так и думал, что найду тебя здесь. Предчувствие… да нет, какое предчувствие. Помню. Как что случится нехорошее – ты сразу сюда. Горевать.
– Тогда-то мне не о чем было горевать.
– У тебя всегда есть о чем горевать. А нет – сама придумаешь. О чем бы, мол, мне погоревать.
Стоит небось и думает – какая ты дура, Карин, что не пошла за меня, красивого и достойного парня. Да еще и радуется – так тебе и надо! Получила, что заслужила. Пришел поиздеваться.
– Я был у вас на хуторе, говорил с Элуфом. Собственно, его-то я и хотел повидать.
Карин не ответила. Выпрямилась, прикрыла глаза и сложила руки на коленях. Продолжай строить насмешки, Хальвор, мне все равно.
– Я ему сказал вот что: я виноват в твоем несчастье. Ты же не где-то сломал спину, а у меня в лавке.
Хальвор подождал – что она скажет? Правильно я поступил или нет? Но Карин молчала, и он продолжил:
– Вот я и говорю ему – не хочешь ли пожить у меня? И обстановка другая, и люди…
Карин открыла глаза, но опять не сказала ни слова. И не пошевелилась.
– Так и сделаем. Завтра утром отвезу Элиаса Элуфа к себе. Думаешь, я не знаю, почему он так легко согласился? Решил, у меня ему будет легче до выпивки добраться. Но ты же понимаешь, Карин, – потакать я не буду. Не больше, чем ты. Значит, завтра… тут, значит, так. Я ему приготовлю комнату рядом с лавкой. А что? Дверь открыта, пусть хоть на людей поглядит.
Только сейчас Карин сообразила, что Хальвор не подтрунивает, а говорит правду.
Вот это да! А ведь Карин всегда думала, что Хальвор сделал ей предложение не по любви, а только потому, что она богата и из хорошего рода. У нее даже мысли не было, что она ему нравится. Понимала – она вовсе не из тех девушек, что по вкусу мужчинам. И сама даже не думала влюбляться. Ни в Хальвора, ни в Элиаса.
А сейчас? Приходит и предлагает помощь в самый тяжелый, самый невыносимый момент жизни… это ж что-то неслыханное. Почему он так добр ко мне? Неужели я ему нравлюсь? Наверное… надо же! Наверное, я ему нравлюсь. Иначе откуда такая забота?
Сердце забилось – сильно и тревожно. Никогда такого не было. С чего бы это? И сразу поняла с чего. Необъяснимая щедрость и доброта Хальвора отогрела ее душу. И оказалось, не так-то трудно подобрать название никогда не испытанному чувству. И подбирать нечего: любовь. В душе ее вспыхнула любовь.
Хальвор продолжал посвящать ее во все новые и новые детали своей затеи, будто боялся, что она станет возражать.
– Элуфа тоже жалко. К тому же у меня он вряд ли станет так выкобениваться, я ж хозяин на хуторе.
Карин показалось, что, если она скажет хоть слово, сделает хоть одно движение, сразу себя выдаст. Хальвор тут же поймет: она в него влюбилась. Но что-то же надо ответить!
Хальвор замолчал. Стоит и внимательно смотрит, ждет ответа.
Она заставила себя встать, подошла к бывшему жениху, погладила его по руке.
– Благослови тебя Бог, Хальвор, – голос сорвался, и пришлось повторить: – Благослови тебя Бог.
Как ни старалась она, чтобы в ее словах не прозвучало ничего, кроме благодарности, что-то он заметил. Взял ее за руки и притянул к себе.
– Нет! – воскликнула она в ужасе. – Нет, нет!
* * *
Элиаса перевезли к Хальвору и положили в комнате с дверью в лавку. Он прожил там лето, а к осени умер.
Тело его предали земле. На похоронах матушка Стина подошла к Хальвору.
– Пообещай-ка мне знаешь что?
– Что? – удивился Хальвор.
– А вот что: имей терпение с Карин.
– Ясное дело – терпение, – согласился Хальвор, не особенно понимая смысл ее слов.
– Она стоит того, чтобы ее добиваться. Даже если пришлось ждать семь лет.
Сказать можно, сделать куда труднее. Как это: имей терпение? Он уже через две недели после похорон понял: к Карин подкатываются женихи. То один, то другой.
Как-то воскресным вечером сидел Хальвор на крыльце, глядел на дорогу и вдруг обратил внимание: что-то уж слишком много парадных колясок катит к хутору Ингмарссонов. Вот проехала коляска исправника, за ней дрожки одного из инспекторов на руднике в Бергсоне. Потом появился сын хозяина постоялого двора в Кармсунде. А напоследок сам уездный судья Бергер Свен Перссон. Немолод, очень богат. Женился, овдовел, снова женился – и снова овдовел.
Тут Хальвор не выдержал. Встал и двинулся через мост к хутору Ингмарссонов.
– И что? – сказал он сам себе. – Имею я право узнать, с чего бы разъездились эти таратайки?
Хальвор задумал неторопливую прогулку, но очень скоро обнаружил, что все ускоряет и ускоряет шаг. Не надо бы… глупость все это. Матушка Стина предупреждала – наберись терпения. Ладно… подойду к калитке и погляжу, что и как.
Бергер Свен Перссон и еще трое пили кофе в усадьбе. За хозяина был юный Ингмар Ингмарссон – пришел домой по случаю воскресенья. А Карин отговорилась – дела, мол, в кухне, все служанки ушли в молельный дом слушать проповедь учителя Сторма.
Скучища, конечно, смертная. Сидят, прихлебывают кофе и молчат. О чем говорить? Женихи почти не знакомы друг с другом, думают только, как бы улучить момент, проскользнуть в кухню и поговорить с Карин наедине.
И тут дверь отворилась и в гостиной появился еще один гость. Ингмар Ингмарссон тут же пошел навстречу и пригласил к столу. Повернулся к Бергеру Свену Перссону и представил вновь прибывшего.
– Тимс Хальвор Хальворссон.
Как вы и сами догадались, Тимс Хальвор не стал ждать у калитки.
Свен Перссон даже не приподнялся. Махнул слегка рукой и сказал не без насмешки:
– Приятно встретить знаменитость.
И тут – надо же! – младший Ингмар пододвинул Хальвору стул с таким грохотом, что необходимость отвечать на сомнительное приветствие отпала сама собой.
Внезапно заговорили разом все женихи. Хвалили друг друга, словно почувствовали: чтобы вывести Хальвора из игры, надо держаться заодно.
– А какой шикарный конь у судьи, – начал инспектор. – Видели?
Бергер Свен Перссон покивал – спасибо, мол, конь и в самом деле хоть куда, – и, в свою очередь, похвалил инспектора: оказывается, тот прошлой зимой завалил огромного медведя. Сын хозяина постоялого двора в Кармсунде получил свою порцию похвал, адресованных, правда, не столько ему, сколько его отцу – тот раскошелился и построил новый молельный дом. Потом инспектор и сын успешного строителя молельных домов объединились и начали восхищаться богатством и мудростью Свена Перссона. При этом проявили такое красноречие, что с каждым словом Хальвор чувствовал себя все более и более недостойным присутствовать на таком высоком собрании. Он горько жалел, что пришел.
Карин принесла кофейник со свежесваренным кофе. Увидела Хальвора и расцвела, не смогла скрыть радость. Правда, тут же взяла себя в руки: уместно ли, что Хальвор явился чуть ли не сразу после смерти мужа? Что люди подумают? Наверняка решат, что Тимс Хальвор специально уморил Элиаса, чтобы поскорее добраться до его вдовы.
Приличнее было бы подождать два-три года. Тогда соседи наверняка все забудут. Или, по крайней мере, сообразят: никаких попыток ускорить кончину ее мужа из чистого нетерпения Хальвор не предпринимал.
Куда он торопится? Знает же, что я все равно никого, кроме него, не выберу.
С приходом Карин в гостиной воцарилась тишина. Все пристально наблюдали: интересно, как она поздоровается с Хальвором? Пожали друг другу руки. Нет, рукопожатием не назовешь. Так, прикоснулись кончиками пальцев, вот и все рукопожатие.
Очевидная формальность и даже холодность приветствия привела остальных женихов в хорошее настроение. Судья, сложив особым образом губы, слегка присвистнул, а инспектор и вовсе не удержался – разразился хохотом.
Хальвор медленно повернулся к нему.
– И что же так рассмешило господина инспектора?
Инспектор не нашелся что ответить. Может, и ответил бы, наверняка нашел бы обидные слова, но не посчитал уместным затевать ссору при Карин.
Будущий владелец постоялого двора тоже внезапно рассмеялся.
– Вспомнил своего гончего пса, – пришел на помощь инспектор. – Гнал-гнал зайца, почти догнал – и на тебе. Остановился и уступил другому гончаку.
Карин покраснела как рак и начала разливать кофе.
– Бергер Свен Перссон и вы, господа, прошу извинения. Только кофе, спиртное на хуторе не держим.
– И правильно, – важно кивнул Перссон. – И я не держу.
Инспектор и сын трактирщика досадливо промолчали. Сообразили: судья выиграл сразу несколько очков. А исправник не сдавался: красиво и убедительно заговорил о вреде спиртного и пользе трезвости. Карин кивала чуть не после каждого его слова – обрадовалась, что она не одинока в своем отношении к перегонному. Даже такой влиятельный и уважаемый человек, как судья, разделяет ее взгляды.
Судья время от времени поглядывал на Хальвора – тот сидел хмурый, не произнес ни слова и даже не пригубил кофе.
Нелегко ему, подумал Бергер Свен Перссон. Особенно если, как поговаривают, он все-таки помог Элиасу распрощаться с земным существованием. И что? В любом случае – избавил Карин от спившегося и невыносимого мужа.
Поскольку судья посчитал, что он близок к цели, причин для враждебности к Хальвору у него не было. Поднял чашку с кофе так, будто собрался произнести тост.
– Выпьем, Хальвор. Ты оказал ей большую услугу.
Хальвор не пошевелился. Он уставился на Свена Перссона, не зная, как принять его слова. Прозвучало более чем двусмысленно. А инспектор рассмеялся.
– Вот именно – услугу. Еще какую услугу! Это уж да. Это уж точно.
– Да-да, – подхватил, ухмыляясь, сын трактирщика. – Всем услугам услуга.
Карин выскользнула из гостиной, но далеко не ушла, осталась стоять за дверью – так, чтобы слышать, о чем говорят женихи. Ну зачем Хальвор явился так рано? Наверное, решил, что она все равно за него не выйдет. И как в воду глядела: Хальвора заподозрили, что он уморил ее пьяницу-мужа.
Я не вынесу, если опять его потеряю, – она прижала руку к лихорадочно бьющемуся сердцу.
Некоторое время никто не произнес ни слова. Потом послышался скрип отодвигаемого стула.
– Хальвор уже уходит? – растерянный голос Ингмара.
– Да. Не могу задерживаться. Попрощайся от моего имени с Карин.
– Так, может, Хальвор пройдет в кухню и попрощается сам?
– Нет. Мы уже наговорились.
Сердце забилось еще сильнее, хотя минуту назад казалось – сильнее некуда. Теперь Хальвор на нее окончательно обиделся – и правильно. Чему удивляться? Даже руки толком не подала. А когда остальные начали его дразнить – как она могла не вступиться? Трусливо убежала. Теперь наверняка решил, что ей на него плевать. Ушел и больше никогда не придет.
Как она могла так поступить? Она, чье сердце изнывает от любви?
И, словно молния ударила, вспомнила слова покойного отца. Мы, Ингмарссоны, никого не спрашиваем, как поступить. У нас один советчик – Бог.
Карин решительно открыла дверь и преградила дорогу Хальвору.
– Как так, Хальвор? Уже собрался уходить? А я-то думала, поужинаешь с нами.
Хальвор растерялся. Он никогда ее такой не видел. Перед ним была другая Карин – раскрасневшаяся, с блестящими глазами. Губы дрожат… В ней было что-то невыносимо трогательное и привлекательное. Но он никак не мог сообразить, что она хочет.
– Я… я думал уйти и больше никогда не приходить…
– Думал, не думал… садись поскорее и пей свой кофе!
Взяла его за руку и подвела к столу. Преодолеть страх стоило огромных усилий, но она справилась. Теперь все подумают, что она в сговоре с Хальвором. Что они вместе помогли Элиасу отправиться на тот свет. Карин как огня боялась насмешек и издевательств. А теперь решила – неважно. Пусть знает – я готова разделить с ним и это. Я все готова с ним разделить.
– Бергер Свен Перссон! И вы все тоже. Я еще не говорила с Хальвором, сами понимаете почему – недавно овдовела и вроде как неприлично. А теперь думаю – нет, пусть все знают: я охотнее выйду за Хальвора, чем за кого-то еще! – Голос ее дрогнул, но Карин взяла себя в руки. – Говорите что хотите, мне все равно. Ни я, ни Хальвор ничего плохого не сделали.
Сказала и прижалась к Хальвору, словно искала защиту от готового обрушиться на нее потока бранных слов и обвинений.
Наступило молчание, вызванное не столько ее словами, сколько случившимися в ней переменами. Уже далеко не юная вдова выглядела моложе и намного красивее, чем когда-либо за всю свою предыдущую жизнь.
– Карин… когда Ингмар передал мне часы твоего отца, я думал: вот. Ничего более удивительного и прекрасного произойти не может. Оказывается, был не прав… оказывается, может.
Карин машинально кивнула и напряглась. Ей было страшно, будто ждущему приговора преступнику.
И тогда поднялся Бергер Свен Перссон, человек, во всех отношениях заслуживающий уважения, – иначе каким бы он был судьей?
– Что ж… нам остается только пожелать тебе счастья. Если Карин кого выбрала, будьте уверены: человек он добрый и безупречный.
Сион
Вряд ли кого-то удивит, что учителя приходской школы отличала некоторая самоуверенность. И осуждать не стоит: всю жизнь старый Сторм делился с земляками знаниями. Все, что знают хуторяне, они узнали от него и ни от кого другого. И то, что он знает намного больше других, понимают все, и в первую очередь он сам. И разве повернется у кого-то язык обвинять старого учителя, что он смотрит на прихожан, независимо от возраста, как на детей? Или упрекать, что он считает себя умнее и образованнее любого из жителей прихода? Думаю, все учителя таковы. Особенно старые. Они помнят всех земляков детьми, с круглыми розовыми щечками и кроткими невинными глазенками.
В одно из зимних воскресений учитель и пастор задержались после службы в небольшой сводчатой ризнице – поговорить про Армию Спасения.
– Хорошо придумали, – похвалил пастор. – Даже в голову не приходило, что такое возможно.
Учитель глянул на него с осуждением. Не хочет ли пастор сказать, что он не возражал бы, если бы эта безумная затея пустила корни и в их уезде?
– Надеюсь, пастору не придется с ними повстречаться, – сказал он с нажимом.
Пастор давно признал превосходство учителя и обычно старался не возражать, но на этот раз решил его подразнить.
– А почему вы так уверены? – спросил он. – Почему бы Армии Спасения не появиться и у нас?
– Если будем держаться заодно, вы и я, служитель Божий и скромный учитель, эта зараза сюда не проникнет.
– Заодно? И знать не знал, что господин учитель так высоко ценит мою скромную персону. Вы же в моей помощи не нуждаетесь, проповедуете сами на своем Сионе и прекрасно справляетесь.
Учитель помолчал, а потом тихо и печально произнес:
– Вы же ни разу не слушали мои проповеди.
Что правда, то правда. Миссия была для пастора постоянным источником раздражения. Еще когда строился дом, он дал себе слово: ноги моей там не будет. Порог не переступлю. Но старые друзья оставались старыми друзьями, и ни один не хотел обидеть другого просто так, ни за что ни про что. С чего бы? Опасения пастора не оправдались. Да, каждое воскресенье по вечерам учитель проповедовал в миссии, но – вы удивитесь! – количество прихожан на воскресных службах не уменьшилось, если не увеличилось. Утром люди охотно шли в церковь, а вечером собирались в молельном доме.
Ну нет, подумал пастор. Зря я на него обижался. Прошло четыре года – и никаких трений, никакого раскола. Что за вред, если прихожане лишний раз послушают слово Божье? Старый друг – всегда старый друг. Надо показать, что я по-прежнему люблю его и ценю его дружбу. Пойду-ка послушаю, что он проповедует на своем Сионе.
И в результате этой маленькой размолвки пастор в тот же вечер появился в миссии.
Пока шел, вспоминал время, когда строилось здание. Сколько было ожиданий! Учитель чуть не летал по селу. «Должно быть, сам Господь, – говорил он соседям. – Никак не иначе, сам Господь меня надоумил. Теперь все будет по-другому».
Но ничего особенного не случилось. Все шло по-старому.
И как это объяснить? Видать, надоумил Господь, а потом подумал – ладно. Займусь чем-нибудь другим.
Он даже пробормотал эти слова вслух и тут же стыдливо улыбнулся: надо же, какие странные мысли внушает иной раз Всевышний.
Сион учителя представлял из себя довольно большой зал с выкрашенными в светлый, почти белый цвет стенами. Ряды скамеек, больше никакой мебели. На стене деревянные гравюры по дереву: Лютер и Меланхтон[4] в меховых накидках. Бегущий по периметру потолка бордюр составлен из красиво выписанных библейских изречений в цветочных рамках и изображений архангелов с трубами. А один из архангелов, по-видимому Гавриил, даже и с тромбоном. Над помостом в торце зала – олеография, изображающая Доброго Пастыря[5].
Людей много, но не слишком; ровно столько, сколько нужно, чтобы поднялось настроение. Чтобы прихожане чувствовали себя не заброшенными одиночками, а частью целого, членами большого сообщества единомышленников. Кстати, люди часто не понимают, насколько важно это ощущение. Все приоделись, вынули из сундуков народные костюмы, а женщины надели накрахмаленные, широченные белые капоры, как у сестер милосердия. Кажется, не люди пришли на проповедь, а собралась стая огромных белокрылых птиц – вот-вот взлетят.
Учитель заметил пробирающегося в передние ряды пастора уже после начала проповеди. «Ты, Сторм, человек редкостных дарований, – похвалил он сам себя. – Все тебе удается. Наконец-то даже служитель Божий явился послушать твою проповедь».
За четыре года учитель объяснил прихожанам Библию от первой до последней страницы. Сегодня он говорил о Небесном Иерусалиме, упоминаемом в Откровениях Иоанна Богослова, и об ожидающем праведников вечном блаженстве. Можно только догадываться, как он обрадовался, что и пастор пришел послушать его проповедь! Там, в Небесном Иерусалиме, подумал учитель Сторм, я тоже буду стоять на кафедре в окружении умных и послушных учеников.
Он так живо представил себе эту картину, что мечта получила неожиданное развитие: а если и сам Господь придет меня послушать, так счастливее меня и не найти в мире человека! А почему бы нет – пришел же Его служитель, вон он сидит.
А пастор, услышав про Небесный Иерусалим, насторожился. Что-то его обеспокоило, какие-то предчувствия, а какие именно – он и сам не мог бы сказать.
Но тут, посреди проповеди, тихо открылась дверь и в молельный зал вошли несколько прихожан, человек двадцать. Вошли один за другим и остановились у дверей, чтобы не мешать.
Ну вот, подумал пастор. Я же чувствовал – что-то произойдет.
И не успел Сторм сказать «аминь», раздался голос:
– Нижайше прошу разрешения добавить несколько слов.
Пастор не стал оборачиваться. Он и так знал, кто это. И все знали. Такой нежный, ласковый, почти детский голосок был только у одного человека в уезде. Хёк Матс Эрикссон, кто ж еще. Ни у кого больше нет такого забавного голоса.
К помосту протиснулся маленький, чрезвычайно добродушного вида человечек. За ним, явно для придания ему храбрости, еще несколько мужчин и женщин.
Все замерли и подумали об одном и том же. Все – и учитель, и пастор, и все прихожане. Наверняка что-то случилось. Большое несчастье. Король умер. Или война началась. А может, утонул кто. И даже не один, а сразу несколько – к примеру, лодка перевернулась.
Но нет. Поглядеть на Хёка Матса – никак не скажешь, что явился с грустными новостями. Вид торжественный и взволнованный, а на губах улыбка, которую он, правда, старается удержать.
– Вот что хочу сказать. И учителю, и всем, кто тут есть. В прошлое воскресенье сидел я с домашними и что-то снизошло на меня. Не скажу, чтобы дух какой мне явился, – ничего такого не видел, но вдруг начал я проповедовать. Никогда не проповедовал, а тут на тебе! Мы даже Сторма слушать не пошли. Всегда ходим, а тут не пошли – а как пойдешь? Если кто помнит – гололед был в тот день, шагу не сделать. А без слова Господня тоска разбирает, сил никаких нет. И вдруг понял: что ж я-то? Я тоже могу. В то воскресенье проповедовал, и сегодня тоже. А мои говорят: иди в миссию, к людям, а то что ж: говоришь – мед и патока, а никто не слышит. Только мы.
Тут Хёк Матс понизил голос и сообщил: оказывается, он и сам удивился – с чего бы дар проповеди открылся у такого незначительного человека, как он, Хёк Матс?
– А потом подумал: и что такого? – и добавил доверительно: – Ведь и сам учитель Сторм, он тоже из крестьян, а тут, понимаете…
И начал говорить, не дожидаясь, пока учитель придет в себя от изумления.
– Хёк Матс имеет в виду, что он собирается проповедовать прямо сейчас? – перебил его Сторм.
– Ну да… – Человечек заметил мрачную мину учителя и заметно стушевался. – Ну да, я вот… прошу господина учителя разрешить, то есть… господина учителя и всех, кто здесь есть…
– На сегодня все, – решительно произнес Сторм.
– Несколько слов только, – взмолился человечек чуть не со слезой в голосе. – Идешь, бывало, за плугом или уголь пережигаешь, а слова-то вот они… куда их денешь?
Учитель начал злиться. И в самом деле – этот безобидный, на первый взгляд, хуторянин испортил ему такой замечательный, такой достойный день.
– Матс Эрикссон пытается выдать собственные измышления за слово Божье, – произнес он с осуждением, будто изобличал недостойную ересь.
Хёк Матс не нашелся что возразить. Учитель открыл книгу песнопений.
– Поем номер сто восемьдесят седьмой. «Открой окно Иерусалиму».
Сказал и подумал – как все же хорошо, что пришел пастор. Пусть сам убедится – никакой ереси.
Но не успели закончить петь, поднялся еще один. Юнг Бьорн Улофссон, муж одной из дочерей Большого Ингмарссона. Высокий, гордый человек, владелец усадьбы в церковном селе.
– А мы-то думали, прежде чем окорачивать Матса Эрикссона, господин учитель сначала с нами посоветуется, – спокойно сказал он.
– Вы, значит, думали, мальчик мой? – спросил учитель так, будто разговаривал с провинившимся школьником. – Если вы так думали, позвольте напомнить: в этом зале никто, кроме меня, говорить не будет.
Юнг Бьорн покраснел как рак. Он вовсе не собирался ссориться с учителем, хотел только утешить Хёка Матса. Хёк Матс, он же добрый, мухи не обидит, а его зазря унизили. А тут такой надменный ответ. Какой я ему мальчик? Но не успел ничего сказать – подал голос один из тех, кто пришел вместе с новоявленным проповедником.
– А что? Я слышал, как Хёк Матс проповедует. По-моему, здорово у него получается. Даже очень. Пусть и все послушают.
Сторм взял себя в руки и продолжил тем же учительским тоном, будто разговаривает с неразумным подростком.
– Но ты же прекрасно понимаешь, Кристер Ларссон, что это невозможно? Если я позволю Хёку Матсу проповедовать сегодня, в следующее же воскресенье и ты захочешь, а потом и Юнг Бьорн, а за вами и все остальные.
На фоне смеха ответ Юнга Бьорна прозвучал особенно резко:
– Еще бы понять, почему Кристер и я будем проповедовать хуже, чем учитель. А вдруг не хуже, а то и лучше.
Поднялся Тимс Хальвор – надо как-то успокоить людей.
– Думаю, прежде чем приглашать новых проповедников, надо спросить тех, кто пожертвовал деньги на строительство Сиона.
Кристера Ларссона тоже задели слова учителя.
– Помнится, когда мы строили этот зал, договаривались – это не церковь. В церкви-то да, там только у одного есть право толковать слово Божье.
Наступило тяжелое молчание. Еще час назад всем казалось само собой разумеющимся: проповедует учитель и только он. А теперь словно глаза открылись. И в самом деле: хорошо бы послушать кого-то еще, вдруг скажет что-нибудь интересное и поучительное. И новое лицо на помосте – тоже неплохо. Почему бы нет?
Возможно, на том все бы и закончилось, если бы не Кольос Гуннар. Еще один свояк Тимса Хальвора, высокий, худой мужчина с темным лицом и острым взглядом. Он, как и другие, хорошо относился к учителю, но природная задиристость взяла верх.
– Да… пока строили, только и говорили: свобода, свобода. А как выстроили, не припомню ни одного свободного слова. Ни одного!
Учитель побагровел. За все время перепалки впервые прозвучал по-настоящему злой и обидный упрек.
– Вот что я тебе скажу, Кольос Гуннар. Все, что ты слышал в этих стенах, – проповедь истинной свободы, той свободы, что завещана нам Лютером. Но свобода проповедовать все, что пришло в голову, – это не свобода, а суета сует.
– Учитель хочет заставить нас поверить, что все новое – ерунда и никуда не годится. Он, мне кажется, ничего не имеет против, когда мы следуем новым методам ухода за животными или, там, покупаем всякие новые машины. Но, оказывается, нам не положено знать, кто и как ухаживает за садами Господними. Не доросли, значит.
Учитель вздохнул с облегчением: возможно, в словах Гуннара и не было такого уж злого умысла. Он улыбнулся.
– Гуннар, возможно, считает, – произнес Сторм, стараясь, чтобы слова его прозвучали как шутка, – то есть Гуннар полагает, что в нашей миссии имеет смысл проповедовать какую-то иную веру? Не лютеранскую?
– Новая вера ни при чем, – Гуннар повысил голос. – Речь не о том, какую веру проповедовать. Речь о том, кто ее станет проповедовать. Насколько мне известно, Хёк Матс такой же добрый лютеранин, как и учитель, и как наш пастор.
Учитель в пылу спора совсем забыл про пастора. Тот сидел совершенно неподвижно, опершись подбородком на рукоятку трости, и неотрывно смотрел на учителя.
Эх, лучше бы я его не приглашал, подумал учитель. Надо же – именно сегодня…
Вдруг его осенило – что-то похожее он уже пережил. И не раз. Такое бывает в школе: обычный день, обычный урок, на дворе прекрасная погода, окна нараспашку – и вдруг на подоконник садится маленькая птаха и принимается петь. И дети, как по взмаху дирижерской палочки, просятся выйти, начинают ссориться, кричать, не слушают ни приказов, ни уговоров. Что-то похожее случилось и сегодня. Явился безобидный Хёк Матс, прочирикал что-то – и все как с цепи сорвались. Что ж – покажу-ка я пастору, как справляться с непослушными учениками.
Сначала пусть ссорятся, пока не устанут, решил учитель и отошел от края помоста. Взял со стола стакан воды, отпил немного, поставил на место и сел на стул. В ту же секунду разразилась настоящая буря. Все старались перекричать друг друга, но соглашались на одном: мы все лютеране, такие же, как учитель. С чего он взялся учить нас, как мы должны поступать, а как не должны?
Можно подумать, что эта мысль пришла им в голову только что. Обиделись, что учитель дал безобидному Хёку Матсу от ворот поворот. Но, оказывается, возмущение зрело давно, чуть ли не самого начала, как только построили миссию. Ну ладно в церкви, но в Сионе-то – почему должен молчать даже тот, у кого есть что сказать?
Учитель не вмешивался в спор. Подождал, пока остынет накал, и решил: самое время. Надо показать им, кто хозяин в доме.
Он встал и ударил кулаком по столу так, что стакан жалобно зазвенел.
– Хватит! Молельный дом не место для ругани и споров. Я ухожу. И вы уходите, мне надо погасить свечи и закрыть на ключ.
Некоторые послушно пошли к дверям – не забудьте: почти все они учились у Сторма и привыкли ему подчиняться. Знали: если уж он по столу колотит, ничего хорошего не жди. Но большинство остались сидеть.
– Учитель подзабыл: мы уже не дети. Мы взрослые люди. Что ж он решил: стукнет кулаком по столу и все разбегутся?
Дискуссия продолжилась. Начали обсуждать, кого бы хотели послушать – последователей Вальденстрёма[6] или евангелистов.
Учитель смотрел на спорящих едва ли не с ужасом.
Он вдруг сообразил: ведь они уже и в самом деле не дети, не его ученики. Взрослые люди с серьезными, строгими лицами, и никакой власти над ними у него давно нет. Как же с ними говорить?
А спор все разгорался. Кольос Гуннар, Юнг Бьорн и Кристер Ларссон старались перекричать друг друга, вносили все новые и новые предложения. Бедный Хёк Матс, из-за которого все и началось, пытался успокоить спорящих, но его никто не слушал.
Учитель вновь покосился на пастора. Тот словно застыл: сидел неподвижно и не сводил с учителя блестящих от возбуждения глаз.
Наверняка вспоминает тот вечер, когда я его ошарашил – вот, мол, будем строить миссию. Он протестовал, а я упирался: нет, Сион будет построен.
И, похоже, он был прав. Вот и результат: лжеучения, секты, раскол.
Он уже знал, что делать. Выпрямил спину, гордо вскинул голову и достал из кармана стальной ключик от молельного зала. Повернул несколько раз, чтобы на него попал свет. Ключ вспыхнул холодным стальным блеском так ярко, что многим показалось, будто в зале сверкнула молния.
– Я кладу ключ на стол, – сказал он. – И больше к нему не прикоснусь. Потому что теперь вижу: вместо того чтобы закрыть двери лжеучениям и распрям, я сам их открыл.
Положил ключ на стол, взял шляпу и направился к пастору.
– Спасибо, господин пастор, что пришли. Как видите, не приди вы именно сегодня, другого такого случая уже бы не представилось.
Адская охота
Почти все были уверены: Элиас Элуф Эрссон вел такую неправедную жизнь, так скверно поступил с Карин Ингмарссон и ее младшим братом, что покоя в могиле ему не видать как своих ушей.
Намеренно растратил все деньги, и свои, и Карин, – все сделал, чтобы после его смерти ей пришлось туго. Столько долгов, что Карин подумывала расстаться с хутором, отдать его кредиторам. Так оно и было бы, если бы не Хальвор Хальворссон. Хальвор был достаточно богат, чтобы выкупить хутор и расплатиться с долгами. А вот что Элиас Элуф сделал с двадцатью тысячами крон, которые Большой Ингмар оставил маленькому Ингмару, неизвестно. Пропил, проиграл, спрятал – так и осталось тайной. Некоторые утверждали, что взял с собой в могилу. Так или эдак – от двадцати тысяч не осталось и следа. Собственно, никто и не знал, что они пропали; выяснилось только при описи имущества покойного. Искали несколько дней, но так и не нашли.
Когда Ингмару сообщили, что он беден как церковная крыса, он посоветовался с Карин: что делать? Что до него, охотнее всего он стал бы учителем. Попросил, чтобы она разрешила ему продолжать жить в школе, а потом, когда выйдет возраст, поступить в семинарию.
– Там, в селе, – сказал Ингмар, – я могу брать книги и у учителя, и у пастора. И к тому же помогать Сторму учить читать самых маленьких. Это полезная практика, – добавил он важно. Очевидно, повторил запомнившееся выражение учителя.
Карин задумалась.
– Ты, наверное, не хочешь появляться на хуторе, пока не стал хозяином…
Гертруд, дочь учителя, узнав, что Ингмар опять будет жить в школе, скорчила недовольную гримасу. Если уж приглашать в дом мальчишку, пусть это будет красавчик Бертиль, сын исправника, или веселый Габриель, сын Хёка Матса Эрикссона.
Эти двое, и Бертиль и Габриель, очень ей нравились, а что касается Ингмара… Если бы ее спросили, как она к нему относится, вряд ли она смогла бы дать связный ответ. Нет, нельзя сказать, чтобы он ей не нравился: помогал с уроками, выполнял любую ее просьбу. Слушался во всем, будто раб. Но при этом был настолько робок и неуклюж, что она быстро от него уставала. Компаньон для игр – никакой. Конечно, можно им даже восхищаться, это как посмотреть: упорный, трудолюбивый, учится едва ли не лучше всех. А можно и презирать: если ты такой уж умный, так покажи им, где раки зимуют!
У Гертруд голова всегда полна странных фантазий, она охотно делится ими с Ингмаром. Если он исчезает хотя бы на пару дней, начинает беспокоиться – не с кем поговорить. А как появится, тут же пожимает плечами: с чего бы это я по нему скучала?
Девочке было совершенно все равно, богат Ингмар или беден. Ее совершенно не волновало, что он принадлежит к едва ли не самому уважаемому роду не только в приходе, но и во всем уезде. Она обращалась с ним немного свысока. Но вот что удивительно: когда Гертруд узнала, что Ингмар не собирается предпринимать никаких усилий, чтобы вернуть украденное богатство, и хочет стать школьным учителем, она страшно разозлилась.
Что она предполагала, какие планы для него строила – нам не узнать никогда.
Надо сказать еще вот что: дети учителя получили очень строгое воспитание. Они постоянно работали, никакие развлечения не поощрялись. Но ранней весной, когда Сторм перестал читать проповеди в миссии, матушка Стина глянула на него и сказала:
– Слушай-ка, Сторм, хватит. Пусть молодые побудут молодыми. Не стыдно тебе? Вспомни нас с тобой, когда нам было по семнадцать! Танцевали с заката до рассвета.
И повторяла чуть не каждый день: с заката до рассвета.
Как-то в субботу вечером в гости явились Хёк Габриель и Гунхильд, дочь присяжного заседателя.
Еще год… какое там год, даже месяц назад и представить такое было невозможно: в зале миссии устроили танцы!
Гертруд чуть не прыгала от радости – подумать только, танцы! А Ингмар идти не захотел. Взял книгу и присел на решетчатую кушетку у окна. Все попытки Гертруд вырвать у него книгу ни к чему не привели: Ингмар покраснел, помрачнел, но книгу не отдал.
– Сразу видно, древнего рода, – вздохнула матушка Стина. – Говорят, такие никогда и не бывают детьми.
А Гунхильд, Габриель и Гертруд были в восторге. Тут же начали собираться на танцы куда-нибудь еще. Гертруд спросила разрешения у отца, но первой ответила матушка Стина.
– Если пойдете к Дюжему Ингмару – разрешаю, – сказала она. – Я буду спокойна. У Ингмара собираются только известные и достойные люди. Там домик для игр и для танцев. Ты, Сторм, называешь его «бельведер», – почему-то она произнесла это слово с некоторым презрением, выпятив нижнюю губу и выговаривая «е» как «э»: бэлвэдэр. – Какой там бэлвэдэр! Сарай и есть сарай.
– При одном условии, – прервал ее учитель. – Гертруд без Ингмара ни на какие танцы не пойдет. Только с Ингмаром. Он за ней присмотрит.
Все трое упорхнули искать Ингмара.
– Никуда я не пойду, – твердо сказал юноша, не отрывая глаз от книги.
– Никакого смысла его просить, – сказала Гертруд таким странным тоном, что Ингмар невольно на нее посмотрел.
До чего ж Гертруд красива, просто ужас! Особенно после танцев. А сейчас глянула гневно, поджала губы и отвернулась. Как она, наверное, его презирает! Скучный, надутый, некрасивый. И глупый – даже не соображает, как хорошо быть молодым.
Что еще оставалось Ингмару, как не согласиться?
Пару дней спустя Гертруд с матерью сидели вечером в кухне и ткали. Внезапно Гертруд заметила: мать забеспокоилась. Остановила станок и прислушалась.
– Не понимаю, что за звуки. Ты разве не слышишь, Гертруд?
– Почему ж не слышу? Там кто-то есть. В классе над нами.
– И кто же это может быть? В такое-то время! Нет, ты только послушай, что там творится!
И в самом деле: топот, прыжки, беготня.
Им стало не по себе – и Гертруд, и матушке Стине.
– Никого там нет… – прошептала мать.
– Но кто-то все же есть!
– Никого не может быть! – повторила матушка Стина с нажимом. – А я слышу эту возню каждый вечер. После ваших танцев.
Гертруд сообразила: мать боится привидений. А не дай Бог уверится – прощай, танцы. Кому понравится, когда у тебя над головой пляшут привидения?
Она решительно встала из-за станка.
– Пойду погляжу.
Но матушка Стина успела ухватить ее за юбку.
– С ума сошла! Не позволю.
– Мамочка, надо же узнать, как и что? Не дрожать же каждый вечер от страха!
– Так… хорошо. Пожалуй, ты права. Пойдем вместе.
Тихо, стараясь не топать, поднялись по лестнице. Дверь открыть не решились. Матушка Стина присела на корточки и заглянула в замочную скважину. И смотрела довольно долго, время от времени давясь от смеха.
– Кто там, мамочка? – Гертруд несколько раз легонько подтолкнула мать. – Кто там? Что там?
– Сама посмотри! – Мать сделала страшные глаза. – Но чтоб ни звука!
Гертруд нагнулась и заглянула в скважину. Учительский стол и парты сдвинуты в стороны, поднялись тучи пыли – никто не двигал мебель уже много лет. И в облаке мерцающих в закатном солнце пылинок, сжимая в объятиях стул, кружится Ингмар.
– Он что, спятил? – вырвалось у Гертруд.
Мать приложила палец к губам, взяла Гертруд за руку и потащила вниз по лестнице. И только там расхохоталась, да так, что никак не могла остановиться.
– Он… учится… танцевать! – сказала она сквозь смех. – Раз уж обещал пойти с вами в бэлвэдэр, хочет научиться танцевать. Напугал до смерти. Слава Богу, мальчику тоже хочется быть молодым. А как же еще? – Матушка Стина внезапно сделалась серьезной. – Что ж он, не человек, что ли! Но смотри, Гертруд! Никому ни слова!
И вот наступила суббота. Молодежь собралась на крыльце школы. Стина придирчиво всех оглядела. Как же хороши, прямо сияют. Мальчики в желтых кожаных брючках и зеленых домотканых жилетах поверх ярко-красных рубах. А Гертруд и Гунхильд надели кофты с широкими белыми рукавами, шали в цветочек и клетчатые юбки, подбитые снизу красным сутажом. И, конечно, фартучки – тоже с цветочным рисунком.
Наконец матушка Стина закончила смотрины, одобрительно кивнула, и четверка двинулась в путь.
Стоял прекрасный весенний вечер. Поначалу шли молча. Гертруд украдкой поглядывала на Ингмара, каждый раз вспоминала, как тот танцевал со стулом, и еле сдерживалась, чтобы не прыснуть. То ли от этого воспоминания, то ли от предвкушения танцев в павильоне Дюжего Ингмара – на душе почему-то стало очень хорошо. Думалось так легко и приятно, что она даже отстала немного. И начала сочинять сказку. Про деревья – как на них появляются первые листья.
Наверное, им, мирно спящим всю зиму, тоже не дают покоя смутные мечты. Им снится, будто уже настало лето. Зеленеют луга, буйно цветут кусты шиповника, в пруду белеют кувшинки, валуны покрыты ползучей линнеей. А из прошлогодних листьев прямо на корнях выглядывают белые мордашки седмичника. И деревья думают во сне: как же они сами-то выглядят среди всей этой роскоши? Голые и некрасивые. Им становится стыдно. В точности как людям, когда им снится, что они ни с того ни с сего появились на улице голышом. Ни прикрыться, ни убежать – ноги как ватные.
У всех бывают такие сны.
Им, деревьям, кажется: все над ними смеются. Жужжат шмели – ясное дело, дразнятся. Сороки хохочут, у них это получается особенно обидно. Дрозды распевают насмешливые песенки.
Боже мой, как же нам приодеться? Как скрыть наготу? – в отчаянии думают деревья. Но нечем, нечем, ни один листочек даже не собирается проклюнуться. И в мыслях такого нет. И деревьям становится так страшно, что они просыпаются.
Просыпаются, смотрят вокруг – ба! Да это же сон! Всего лишь сон! Никакого лета и в помине нет! Летом даже не пахнет! Слава богу, не проспали.
Ан нет… может, еще и не проспали, но самое время проснуться.
Гляньте-ка: лед-то уже сошел, тут и там выглядывают подснежники, пробивается молодая трава. И не от стыда мы проснулись, а от щекотки: под корой уже бурлят горячие весенние соки. Спасибо, спасибо, как раз вовремя. Пора. Хватит спать. Пора одеваться и выходить в свет.
И березы поскорее выпускают желто-зеленые клейкие листочки. А ольха лучше бы не торопилась – не листья, а уродцы: маленькие, сморщенные… никакого сравнения с ракитами: у тех, как только почка открывается, сразу появляются изящные зеленые стрелки.
Гертруд шла и улыбалась своим фантазиям. Ей захотелось отвести Ингмара в сторонку и поделиться придуманной историей.
До хутора Дюжего Ингмара не меньше часа ходьбы. Они шли вдоль берега, и Гертруд все время немного отставала. Садилось солнце. Река вдруг сделалась совершенно алой, а на серый ольховый кустарник будто вылили бочку расплавленного золота. Волшебство продолжалось минуту, не больше, – то ли солнце опустилось еще ниже, то ли облачко набежало. А жаль; кусты словно застеснялись неуместной роскоши и после купания в золоте поблекли, стали совсем уж невзрачными.
Ингмар начал что-то говорить, но внезапно прервался на полуслове, остановился и словно онемел.
– Что такое? – спросила Гунхильд.
Он заметно побледнел.
Попытка проследить за его взглядом ни к чему не привела – никто ничего не увидел. Ну, не то чтобы ничего: большой хутор в степи, исчерченной квадратами и прямоугольниками наделов, холмы на горизонте. Как раз в эту секунду солнце добралось и до усадьбы. Окна проделали тот же фокус, что и река: разом вспыхнули, а стены и крыша покраснели.
– Не спрашивайте ни о чем, – шепнула подбежавшая Гертруд. – Это же его родной хутор, хутор Ингмарссонов. Ему наверняка нелегко его видеть. Он уже два года тут не был. С тех пор как пропало его наследство.
Ингмар очнулся и догнал товарищей.
– Пошли по тропинке.
По вьющейся по опушке тропе расстояние было чуть больше, но Ингмару, скорее всего, было больно и обидно идти по земле своих предков.
– Ингмар! Ты же хорошо знаешь Дюжего Ингмара?
– Да… отец с ним очень дружил.
– Говорят, он умеет колдовать, – сказала дочь заседателя Гунхильд. – Это правда?
– Ну нет… Вряд ли, – ответил Ингмар, но не особенно уверенно.
– Я же вижу, ты что-то знаешь, – не унималась Гунхильд. – Расскажи же!
– Учитель сказал – нечего верить в такую чепуху.
– Учитель сказал! Он ничего такого не видел, вот и сказал. Ни один учитель не может запретить видеть то, что видишь, и верить в то, во что веришь.
На Ингмара и в самом деле нахлынули воспоминания детства, и ему очень захотелось поделиться с друзьями.
– Ну что я могу рассказать… разве то, что сам видел. Своими глазами. Зима была, отец с Дюжим Ингмаром в лесу работали, уголь выжигали. Далеко отсюда. Перед Рождеством Дюжий Ингмар и говорит: иди-ка ты, Большой Ингмар, праздновать домой, побудь с родными, а я здесь останусь. Так и решили. В Сочельник мать послала меня в лес: отнеси-ка ты Дюжему Ингмару праздничной еды и возвращайся с отцом.
Вышел я рано и к полудню был на месте. Отец с Дюжим как раз закрывали яму. Выгребли угли, разбросали по снегу – пусть остывают. Дым такой, что неба не видать. Дело небезопасное: где угли тесно лежат, вспыхнуть им – плевое дело. Потому и жгут уголь зимой, пожара боятся. А когда закрывают яму – адова работа. Только и гляди, чтобы лес не загорелся. Там, в яме-то, жар – как в преисподней. Отец только меня увидел, говорит – боюсь, сынок, домой тебе одному придется идти. Не могу я Дюжего Ингмара без помощи оставить.
А Дюжий перешел на другую сторону кучи, его и не видать за дымом, голос только: «Иди, иди, Большой Ингмар. Справлюсь. И хуже бывало».
Постоял он там – и на тебе: дыма все меньше и меньше.
Подходит ко мне, берет у меня узел и говорит:
«Ну, поглядим, что за гостинцы мне Брита прислала. Пойдем, паренек, покажу, какая у нас с отцом горница».
А горница вот какая – большой валун, и к нему три стены пристроены из перевитых еловым лапником жердей. Шалаш, одним словом.
«Ты небось и не думал, что у нас тут с отцом такая роскошь, – сказал Дюжий Ингмар и со смехом просунул руку сквозь лапник. – Ни ветра, ни мороза – ничего не боимся».
Подошел отец и тоже засмеялся. Даже глядеть на них было весело: черные от угольной копоти, насквозь пропахшие дымом. А отец… Я никогда не видел его в таком хорошем настроении, – сказал Ингмар-младший и продолжил рассказ. – В их шалаше только я мог стоять в полный рост. Вместо постелей – наваленный лапник, в середине обложенный камнями пылающий очаг. Вот и вся обстановка, но говорю же: никогда не видел ни отца, ни его тезку такими веселыми… да что там веселыми – счастливыми.
Присели на пол и открыли узел с едой. «Не знаю, стану ли я с тобой делиться, – это Дюжий Ингмар говорит. – Брита же все это мне прислала». – «Уж смилуйся, – отец отвечает. – Сочельник все-таки. Милосердие и все такое». – «Ну да ладно, не помирать же тебе от голода, бедному жигарю».
Вот так оно и было. И перегонного выпили, конечно. А я, помню, думал: «Как могут быть люди такими счастливыми? И главное, с чего? Ну, выпили немного, перекусили – и всех дел.
«А матери скажи, пусть присылает завтра еще. – Дюжий Ингмар устроил свирепую гримасу. – Скажи так: муж ее, обжора этакий, смел все подчистую. Бедняге Дюжему крошки не досталось». Я тоже подыграл: «Да, говорю, да; все так и было. Смел подчистую».
И тут я вздрогнул: треск какой-то снаружи, будто кто-то кинул пригоршню камушков в костер. Не сильно затрещало, отец даже не заметил. А Дюжий Ингмар только плечами пожал. «А, – говорит, – вот оно как», – и отрезал еще кусок ветчины. Потом опять треснуло, на этот раз посильнее. Встал Дюжий Ингмар, прожевал, буркнул что-то вроде: «Вот уж не думал, что такая спешка», вышел из шалаша и крикнул: «Загорелось маленько! Сиди-сиди, Большой Ингмар, лопай мою ветчину, сам управлюсь».
Мы с отцом не вымолвили ни слова, переглянулись только и плечами пожали.
Дюжий Ингмар вернулся очень быстро. Опять начались шутки и смех. И что ты будешь делать – опять затрещало.
«Опять, значит», – буркнул Дюжий Ингмар, вышел из шалаша и так же быстро вернулся.
Тут отец и говорит: «Вижу, вижу, могу спокойно идти домой, друг. У тебя есть кому помочь в случае чего».
И пошли мы домой, отец и я. И вот что я вам скажу: ни до, ни после никто даже не слышал, чтобы у Дюжего Ингмара загорелся уголь, – закончил Ингмар своей рассказ, поджал губы и многозначительно покивал.
Гунхильд рассмеялась, а Гертруд, наоборот, замолчала. Вид такой, будто испугалась чего-то.
Начинало темнеть. Небо поменяло цвет. Золотой расплав на горизонте остыл, сделался синим, и синева эта с каждой минутой становилась все темнее и глубже. Где-то за лесом еще пряталось солнце, и в темнеющих кронах то и дело загорались зловещие красные огоньки, похожие на глаза троллей.
Гертруд не могла прийти в себя от удивления: впервые слышала, чтобы Ингмар так разговорился. Мало того: выпрямился, поднял голову и зашагал легко и уверенно.
Вот что значит – ступить на родную землю, подумала она. Она никак не могла понять, почему эта мысль не доставила ей никакого удовольствия. Даже не похвалила себя за меткое наблюдение. Встряхнулась и начала подшучивать над Ингмаром – неужели он и в самом деле собрался танцевать?
А вот и бэлвэдэр: небольшой серый домик с крошечными окнами, если и впускающими дневной свет, то очень скупо. Из домика доносились звуки скрипки и топот танцующих, но девушки все равно остановились и поглядели друг на друга.
– Мы не ошиблись? Разве тут можно танцевать? Больше одной пары не уместится.
– Перестаньте! – засмеялся Габриель. – Домик не такой маленький, как выглядит.
У открытой двери стояли раскрасневшиеся юноши и девушки. Девушки обмахивались платками, молодые люди поснимали короткие черные куртки и остались в ярко-зеленых жилетах и не менее ярких красных рубахах с длинными широкими рукавами.
Вновь прибывшие протиснулись в дверь. Первый, кого они увидели, был Дюжий Ингмар. Приземистый, с большой головой и длинной, чуть не до пояса, бородой, он со скрипкой в руке стоял на каминной доске, чтобы не мешать танцующим.
«Если он не гном, значит, тролль, – тут же подумала Гертруд. – А если и не гном, и не тролль, наверняка их близкий родственник».
Хижина и в самом деле оказалась больше, чем они думали. Но запущенная: бревна кладки изъедены жучками-древоточцами, потолочные балки почернели от копоти. Заметно, что в доме живет вдовец. Дети давно уехали в Америку, осталась одна радость: собирать по субботам молодежь и смотреть, как юноши и девушки веселятся и танцуют под звуки его древней скрипки.
А скрипач Дюжий Ингмар знатный: ни одной фальшивой ноты, ритм, будто у него часовой механизм внутри. Но тут с ним что-то случилось: увидев Ингмара Ингмарссона, рванул смычком так, что скрипка взвизгнула, как мартовский кот. Танцующие остановились, будто в игре «замри».
– Ничего, ничего, – крикнул старик. – Пляшите, пляшите, ребятки!
Ингмар Ингмарссон положил руку на талию Гертруд. Гертруд удивилась, но не очень – как вы помните, она знала секрет юноши. Но рукой на талии дело и ограничилось: с приходом еще четверых в хижине стало так тесно, что не повернуться. Разумеется, Дюжий Ингмар не мог этого не заметить.
Он вновь прервал игру и постучал смычком по каминной доске.
– Для сына Большого Ингмара в моем доме всегда найдется место.
Все, как по команде, посмотрели на Ингмара и немного расступились. Ингмар настолько растерялся, что застыл как истукан. Пришлось Гертруд взять его за руку и вывести на более или менее свободное место.
Доиграв танец, арендатор подошел к Ингмару и протянул руку. Ингмар хотел было ответить на рукопожатие, но старик в притворном испуге отдернул руку.
– Ой, ой! Осторожнее с учительскими ручками, сломаешь, не приведи Господи… Ты же в учителя собрался или как?
Он подвел всех четверых к шкафчику у стены, бесцеремонно отодвинув пару пришедших посмотреть на танцы крестьянок. Достал хлеб, масло и бутыль с квасом.
– Обычно я не приглашаю на угощение, – сказал Дюжий Ингмар, ни к кому не обращаясь. – Танцуйте сколько хотите, на том и все. Но Ингмар Ингмарссон и его друзья – другое дело. В моем доме Ингмар – желанный гость.
Пока они ели, Дюжий Ингмар пристально смотрел на Ингмара.
– Значит, вот как решил. Учителем будешь.
Ингмар ответил не сразу. Молча закрыл глаза, потом губы его слегка искривились – должно быть, хотел изобразить улыбку.
– Все равно дома от меня никакого проку.
Хотел пошутить, а вышло грустно.
– Никакого проку? – удивился старик. – Откуда тебе знать? Элуф и двух лет не прохозяйничал. И Хальвор тоже не вечный.
– Хальвор сильный и здоровый парень. – Ингмар подумал и добавил: – И непьющий.
– Но ты же знаешь – как только ты сможешь выкупить хутор, Хальвор с Карин тут же съедут.
– С чего бы это? Надо быть совсем дураком, чтобы добровольно оставить хутор Ингмарссонов.
Внезапно раздался треск: угол столешницы, который все время теребил Ингмар, остался у него в руке.
– Если ты надумал стать учителем, точно не оставят, – задумчиво произнес Дюжий Ингмар.
– Вы так думаете?
– Думаю, думаю… ты когда-нибудь стоял за плугом?
– Нет.
– А углежогом работал? А сосны валил? Погоди-ка… – Старик вроде бы только что заметил нанесенный Ингмаром-младшим ущерб и провел пальцем по слому столешницы. – Неплохо, неплохо… пожалуй, не стоит бояться тебе руку пожимать. Ручонка уж никак не учительская. На ярмарке можно показывать. Тоже мне… учитель! – Он хохотнул, хлопнул Ингмара по плечу и вскочил. – Шутник ты, парень, вот что я тебе скажу.
Последние слова он произнес, уже стоя на камине со скрипкой в руке. После разговора с Ингмаром настроение у старика заметно поднялось: он заиграл польку и начал притоптывать ногой в такт – все быстрее и быстрее.
– Эта полька в честь младшего Ингмара! Хо-хей, танцуют все!
Красавицы Гертруд и Гунхильд были нарасхват, не пропустили ни одного танца. А Ингмар почти не танцевал. К нему подходили и подходили люди. Выглядело так, будто они давно не испытывали такого удовольствия – подумать только, поговорить с самим Ингмаром Ингмарссоном!
Гертруд очень огорчилась: ей показалось, Ингмар совсем про нее забыл. Конечно… сообразил, кто он есть – сын самого Ингмара Ингмарссона. А ее отец всего-то школьный учитель. И тут же удивилась: с чего бы ей так горевать?
В перерывах между танцами многие выбегали во двор, хотя весенняя ночь выдалась очень холодной. Потные, разгоряченные, простудиться – пара пустяков. Но уходить никто не хотел.
– Потанцуем еще немного, пусть хоть луна появится, не идти же в такую темень…
Наконец Гертруд улучила момент поговорить с Ингмаром, но тут появился хозяин.
– Пойдем-ка со мной, Ингмар, хочу кое-что тебе показать, – и взял юношу под руку.
Они продрались сквозь густой кустарник за домом.
– Посмотри-ка вниз.
В овраге что-то тускло поблескивало, оттуда доносился смутный рокот.
– Лонгфорсен, – сказал Ингмар. – Знаю я этот порог.
– Еще бы не знал! Конечно, Лонгфорсен. А какая от него польза, тоже знаешь?
– Ну, мало ли… можно мельницу поставить. Или лесопилку.
Старик захохотал, время от времени забавно ухая.
– И кто же, по-твоему, поставит здесь мельницу? – Он подтолкнул Ингмара к самому краю обрыва. – Или, час от часу не легче, лесопилку? Кто заработает на этом деле? А там, глядишь, и выкупит хутор Ингмарссонов?
– И кто же? – Ингмар пожал плечами, а Дюжий Ингмар начал с жаром развивать свой план.
План заключался вот в чем: ты, Ингмар Ингмарссон, должен уговорить Тимса Хальвора поставить на пороге лесопилку и отдать тебе, Ингмару Ингмарссону, в аренду. Старик, оказывается, уже давно обдумывал, как вернуть знаменитый хутор его полноправному владельцу, наследнику Большого Ингмара.
Луна и в самом деле появилась над горизонтом. В ее свете стали заметны белые кружева пены в ущелье. Ингмар, не двигаясь, смотрел вниз.
– Ну ладно, пошли танцевать!
Ингмар не пошевелился. Старик не стал его торопить.
Сразу видно – правильный парень, подумал он. Вот что значит – потомок! Старая школа. Сначала думает, потом говорит.
Оба вздрогнули – настолько внезапно прозвучал хриплый и злобный лай.
– Ты слышал, Ингмар?
– Да. Собака зайца гонит.
– Ночью?
Снова послышался лай, на этот раз ближе. Очевидно, собака бежала прямо на них.
Дюжий Ингмар схватил юношу за руку.
– В дом! Быстро!
– А что это? – Ингмар успел пожать плечами.
Старик дернул его за руку так, что он чуть не упал.
– Шевелись же! И молчи! Ни слова!
Несколько саженей до хижины они почти пробежали. Лай повторился – совсем близко.
– Что это за собака? Скажите же, что это за собака?
– Быстро в дом!
Старик втолкнул Ингмара в сени, вошел сам, но оставил дверь приоткрытой.
– Все в дом! – проревел он таким зычным голосом, что юноша присел. – Все в дом!
Дюжий Ингмар повторил призыв «все в дом» раз десять, переминаясь с ноги на ногу от нетерпения, и тревога его передалась ничего не понимающим танцорам.
Дождавшись последнего, торопливо закрыл дверь, набросил тяжелый крюк и задвинул засов.
– Вы что, спятили? Горный пес на свободе, а вы прогуливаетесь.
По взмокшим спинам побежали мурашки – злобный лай доносился уже со двора.
– А что это за зверь такой? – спросил один из работников. – И вправду пес?
– Хороший вопрос, Нильс Янссон. Можешь выйти и дать ему косточку, если есть желание.
Наступил тишина. Все напряженно вслушивались в хриплый, захлебывающийся яростью, ни на секунду не прекращающийся лай. Пес, судя по всему, несколько раз обежал вокруг хижины. Многие побледнели – было что-то в этом лае дикое и пугающее, никто и никогда ничего подобного не слышал. Ну нет, никакой это не пес, теперь уже все поняли. Жуткое создание, вырвавшееся из самой преисподней.
Все боялись даже пошевелиться. Все, кроме хозяина. Он обошел хижину, закрыл ставни и погасил свечи.
– Нет, не надо! – истерически выкрикнул женский голос. – Пожалуйста! В темноте еще страшнее.
– Ты еще не понимаешь, что страшнее. Знаю, что делаю. Вам же лучше.
Кто-то из девушек схватил его за полу.
– А этот… этот пес… Он опасный?
– Сам-то пес не больно. А вот кто за ним…
– Что значит – за ним? Кто еще за ним?
Старик прислушался. В темноте приложил палец к губам, хотя никто не мог видеть его предупреждающий жест.
– Ш-ш-ш… никто не говорит ни слова. Ни слова!
Пес продолжал нарезать круги вокруг дома, не прекращая свой леденящий душу лай.
Внезапно лай стал тише – горный пес, судя по всему, бежал к порогу.
– Слава Богу, – сказал кто-то рядом с Дюжим Ингмаром и ойкнул – старик чувствительно смазал его по губам.
Наступила полная тишина.
Откуда-то с гор, скорее всего с Клакбергета, послышался короткий необычный звук. Возможно, порыв ветра, хотя больше похоже на охотничий рог. Потом еще раз, и еще, и вслед за этим нарастающий грохот и вой, будто с гор сходит огромная лавина. Или грозовое облако, набитое молниями и громами, сорвалось с колосников, грохнулось оземь и сметает все на своем пути.
Вот оно у подножья горы, вот уже накрыло лес и катится к их убежищу. Все невольно втянули головы в плечи. Я бы удивилась, если бы кому-то из них пришла какая-либо другая мысль, кроме самой простой: «Нам конец». А главное – пугала не сама смерть. Что тут сделаешь – умирают все. Но молодым людям казалось, что за их душами явился сам князь тьмы. Преисподняя вырвалась из бездны – иначе откуда бы, среди грохота и воя, взяться этим отчаянным рыданиям и жалобам? Cтонам, яростным угрозам, зловещему хохоту?
Теперь накрыло и танцевальный бельведер Дюжего Ингмара. В диком шуме ясно различались угрозы, плач, пронзительные вскрики охотничьего рога, горестные и безнадежные вздохи привидений, потрескивание тысяч костров, дьявольский хохот и взмахи огромных крыльев. Хижину закачало, как лодку в бурю. Грохот на крыше, будто по ней скачет табун дикий лошадей, глухие удары – должно быть, совы и летучие мыши, не рассчитав, налетали на высокую, как и у всех в этих краях, дымовую трубу.
На талию Гертруд легла рука.
– На колени, Гертруд, – прошептал Ингмар. – На колени. Молим Господа о помощи.
И вот что интересно: минуту назад Гертруд была уверена, что смерть неизбежна, настолько силен и непреодолим был охвативший ее ужас. И пусть, и пусть, думала она, не смерть страшна, но ведь это же сам ад выпустил охотников за нашими душами! Что с нами будет?
А теперь, когда рука Ингмара легла на талию, оцепенение прошло, сердце вновь начало биться. Она прижалась к нему – только быть с ним рядом, и уже не страшно. Странная история: Ингмар же и сам напуган до полусмерти, но рядом с ним она чувствовала себя в безопасности.
Адский шторм понемногу стихал. Возможно, и не стихал, а удалялся – тем же путем, что и горный пес несколько минут назад: к порогу, через Лонгфорское болото и дальше, к холмам в предгорье Улуфсхеттан.
Наступившую мертвую тишину можно было сравнить разве что с тишиной в танцевальной хижине Дюжего Ингмара. Никто не произнес ни слова, не шевельнулся. В темноте даже можно было подумать, что все поумирали от страха – если бы не слышалось судорожное, с всхлипами, дыхание только что беззаботно веселившихся юношей и девушек.
Так продолжалось довольно долго. Глаза привыкли к темноте, и уже можно было различить фигуры парализованных страхом молодых людей. Кто-то без сил опустился на пол или сел на скамью у стены, другие стояли, прислонившись к стене в очень странных позах: если бы не опора, наверняка рухнули бы на пол.
Так прошло несколько часов. За это время кое-кто успел покопаться в своей душе, а многие пришли к важному решению: пора начинать новую жизнь. Что-то я, должно быть, сделал не то. Иначе не обрушилась бы на нас такая беда. Наверное, именно я согрешил, думал каждый из них. Иначе с чего бы вся эта нечисть выкрикивала мое имя?
А у Гертруд таких мыслей не было. Зато была другая. Она сказала себе вот что: без Ингмара я жить не смогу. Теперь знаю точно. Он всегда должен быть рядом. Кто еще защитит меня и успокоит?
Постепенно начало светать. Маленькие, давно не мытые окна не без труда просеяли скупой утренний свет. Они посмотрели друг на друга – бледные, испуганные лица. Какая разница с тем, что было вечером, пока они танцевали!
Начали щебетать птицы, укоризненным мычанием напомнила о себе корова Дюжего Ингмара: не пора ли задать мне корм? Мяукнул под дверью кот, попросил впустить – когда начинались танцы, он исчезал и прятался в одному ему известных местах.
Но никто не расходился. Только когда над горизонтом появился красный, еще не успевший раскалиться добела шар солнца, гости начали по одному выскальзывать в дверь, не прощаясь и стараясь не привлекать внимания.
Разрушения, принесенные дьявольским ураганом, оказались весьма значительными. Большая ель рядом с крыльцом вырвана с корнем – чудом не упала на домик. Забор повален, планки веером лежат на земле. Трупики разбившихся летучих мышей и сов.
А на горе Клакбергет, на широкой полосе, где прошла загадочная лавина, вообще не осталось ни одного дерева.
Смотреть на все это было довольно страшно.
Тем временем утро набирало силу. По случаю воскресенья подниматься никто не спешил. Лишь кое-где заспанные хозяйки, не особенно торопясь, плелись задать животным корм. На одном из хуторов на крыльце стоял хозяин и чистил воскресное платье: тер, подносил к глазам, качал головой и опять начинал тереть щеткой. А вот семья: мать, отец и ребенок, все приоделись – видно, собрались на воскресную службу.
И никто, ни одна душа не знает, что за адская охота шла в лесу в эту ночь.
Они подошли к реке. Постройки здесь стояли все теснее и теснее, будто набирались сил, чтобы в излучине собраться в деревню с высокой, добротной церковью. Даже просто посмотреть на церковь – и то становится спокойнее. И главное, все как и быть должно. Собака владельца постоялого двора, как всегда, дремлет рядом с конурой. Как всегда, сияет начищенная вывеска лавки, а рожок почтовой конторы висит там, где ему и полагается висеть, – над дверью. Ночью в него, судя по всему, никто не трубил. Деревню шторм миновал.
Приятно посмотреть и на куст черемухи – последний раз, когда они здесь были, он еще и не думал цвести. И на зеленые скамьи в пасторской усадьбе – еще вчера их не было.
Все эти мирные картинки, конечно, успокаивали, но до самого дома никто не решался произнести ни слова.
Гертруд остановилась на крыльце школы.
– Все, Ингмар. Я танцевала в последний раз.
– Да… я, пожалуй, тоже.
– И еще, Ингмар… ты же будешь священником, да? Или в крайнем случае учителем. Так много темных сил вокруг нас, кому же с ними бороться, если не тебе?
Ингмар некоторое время пристально ее изучал.
– А ты слышала голоса? Я, к примеру, слышал…Что они тебе шептали?
– Что я грешница, что злые силы непременно придут за мной, потому что я без ума от танцев.
– Тогда я тебе скажу, что слышал я. Все Ингмарссоны, уж не знаю сколько поколений, проклинали меня. Как я мог даже подумать, чтобы стать кем-то еще? Я должен быть крестьянином, работать в лесу и на пашне. Как и все мои предки. Решено.
Хельгум
В тот вечер, когда молодежь собралась на танцы у Дюжего Ингмара, Хальвор был в отъезде. Карин легла спать в маленькой спаленке и посреди ночи вскочила в холодном поту: настолько страшен был сон. Вроде бы Элиас жив и устроил в доме большую пьянку. Она явственно слышала звон стаканов, грубый хохот и пьяные возгласы.
Мало того: шум становился все сильнее и сильнее, казалось, вот-вот гуляки повыбивают окна и разнесут в щепки лавки и стол. Тут Карин проснулась.
И вот что странно: она уже не спит, а шум продолжается. Весь дом точно бьет озноб. Звенят стекла в окнах, сверху то и дело доносится характерное дребезжание сносимой с крыши черепицы, а старая груша у торца хлещет ветвями стену дома, точно хочет наказать за то, что та закрывает ей свет.
Ни дать ни взять – ночь перед Судным днем.
Ветром выдавило стекло, весь пол покрылся осколками. Карин услышала над самым ухом злобный хохот – тот самый, что слышала во сне.
Услышала и решила: пришел мой час. Никогда в жизни ей не было так страшно. Показалось, что сердце перестало биться. Она оледенела от ужаса, не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой.
Ночная буря закончилась так же быстро и неожиданно, как началась. Карин понемногу пришла в себя. В комнату ворвалась ледяная весенняя ночь. Надо по крайней мере встать и заткнуть разбитое окно – но, едва поднялась с кровати, ноги подломились и она чуть не упала. Это еще что такое?
Карин не стала звать на помощь. Пройдет, решила она. Успокоюсь немного, и все пройдет. Полежала, попробовала еще раз – и на этот раз и в самом деле упала рядом с кроватью. Она не чувствовала ног, не понимала сигналов, которые они ей посылают.
Пролежала на полу до утра. Как только ее нашли, тут же послали за доктором. Доктор приехал очень быстро, но проку было мало. Ума не приложу, сказал он. Никаких признаков болезни, а ходить не может. Должно быть, от испуга. И заключил:
– Скоро поправишься.
Карин слушала доктора, кивала, кивала, но ей-то лучше знать, в чем дело. Элиас приходил к ней ночью, это он в отместку парализовал ее ноги, и ходить она не будет никогда.
За весь день Карин не произнесла ни слова. Лежала и размышляла: как же Господь дозволил такое? Перебрала все свои прегрешения, старалась судить как можно строже – но нет. Этого она не заслужила. Она не совершила ни единого настолько тяжкого греха, чтобы за ним последовало такое наказание.
Бог ко мне несправедлив, решила Карин.
Во второй половине дня попросила отвезти ее в миссию Сторма – понадеялась, что новый проповедник Дагсон сможет объяснить, в чем она так уж провинилась перед Господом, что Он отнял у нее дар движения.
Дагсон был популярен, он проповедовал замечательно, даже превосходно, но никогда не собирал столько народу, как в этот вечер. Понять можно: весь приход ни о чем другом не говорил, только о ночной буре и невероятных событиях в бельведере Дюжего Ингмара.
Напуганы были все. Собрались в надежде, что сила слова Господня поможет им преодолеть страх. В зале уместилось не больше трети желающих послушать Дагсона. Благо у проповедника голос такой, что, если открыть окна, слышно и снаружи.
Дагсон, разумеется, уже знал, что произошло. И прекрасно понимал: людей нужно как-то утешить. Понимать-то понимал, но начал проповедь с того, что еще больше всех напугал: заговорил о преисподней и князе тьмы. Сатана и его прислужники рыщут по ночам, расставляют ловушки и капканы для заблудших душ.
Многих начала бить дрожь. Даже представить мир, полный соблазнов, притаившуюся за каждым из таких соблазнов нечисть – и то помереть можно от страха. Куда ни кинь – все грех. Вся жизнь, оказывается, – хождение с закрытыми глазами по бездонному обрыву. Человек – как дикий зверь в лесу, обложенный со всех сторон охотниками.
Дагсон говорил, как узка праведная дорога, как трудно ее найти, – и говорил с такой страстью, что многим показалось: в небольшом зале миссии воет пропахший горящей серой ветер, тут и там вспыхивают адские огни.
Конечно, у крестьян в Даларне не было слишком большого запаса сравнений, но нарисованная проповедником картина более всего напоминала лесной пожар. Уж лесных-то пожаров они насмотрелись. Пылающие деревья, рассыпающиеся огненные снопы раскаленных сосновых иголок, тлеющий мох… Не нужно иметь чересчур уж сильное воображение, чтобы различить в перехватывающем дыхание и разъедающем глаза дыму хохочущих и пляшущих чертенят. Они так и норовят швырнуть в тебя горящей головешкой, поджечь одежду или спалить волосы на голове.
А Дагсон всё не унимается. Гонит людей сквозь дым и серные испарения, огнь впереди, огнь позади, и справа, и слева. Выхода нет – душа ваша обречена.
Но постепенно, далеко не сразу, – смотрите, смотрите! – говорит он и выводит прихожан на лужайку. И как же она уцелела в этом аду? Свежо, прохладно, сочная зелень. Ни запаха дыма, ни даже намека на бушующее совсем рядом море огня. А посреди лужайки сидит Иисус. Он воздевает руки, как птица крылья, чтобы защитить птенцов от опасности. И люди ложатся у ног Его и понимают – опасность позади, ничто им уже не грозит.
Дагсон говорит так, будто сам испытал нечто подобное. Вот и все, что надо: лечь у ног Иисуса, ощутить всей душой исходящий от него мир и покой и не бояться опасностей, которые то и дело преподносит нам жизнь.
Проповедник закончил и оглядел собравшихся. Прихожане, которые до того боялись проронить хоть слово, подходили к нему и, всхлипывая, благодарили за прекрасную проповедь. Кто-то даже сказал, что слова проповедника пробудили в нем истинную веру. Ни больше ни меньше.
Но Карин Ингмарсдоттер даже не шевельнулась. Дагсон закончил проповедь, она подняла тяжелые веки и посмотрела на него, словно упрекала: как же ты, проповедник, не можешь объяснить, за что мне ниспослана такая тяжкая кара.
Внезапно послышался мужской голос, да такой громкий, что все обернулись.
– Позор и горе тем, кто дает камень просящему хлеба! Горе и позор!
Карин хотела повернуться и посмотреть, кто же осмелился стыдить проповедника, но не смогла пошевелиться.
Привезший ее работник рассказал: оказывается, в середине проповеди у молельного дома остановилась двуколка. И слова осуждения выкрикнул некий мужчина, высокий и смуглый. Никто не знал, откуда он взялся. Рядом с ним в двуколке сидела красивая светловолосая женщина. А вот ее-то кое-кто узнал – а может, показалось, что узнал. Вроде бы одна из дочерей Дюжего Ингмара. Уехала в Америку и там вышла замуж. А этот верзила, должно быть, ее муж. Многие все же сомневались: поди узнай в одетой по-городскому даме шуструю девчушку в традиционном приходском наряде!
Но вот что интересно: этот чужак сказал именно то, что подумала она. Словно бы угадал ее мысли. И некоторое время спустя все заметили: Карин никогда не появлялась даже поблизости от миссионерского дома.
Ближе к лету в приходе появился баптистский проповедник. Он крестил прихожан, поскольку, как считают баптисты, принятие крещения должно быть актом обдуманным и сознательным. Нельзя считать крещением, когда крестят неразумных младенцев, – о какой сознательности может идти речь? И когда Армия Спасения начала свою работу, Карин попросила отвезти ее на одно из собраний.
Весь приход бурлил. Кто-то называл все происходящее духовным пробуждением, кто-то досадливо морщился. Хотя многие, казалось, нашли то, что искали.
Но никто, ни евангелисты, ни баптисты, ни один человек не смог убедить ее примириться с постигшей ее страшной и беспричинной карой.
* * *
Владельца придорожной кузницы звали Биргер Ларссон. Кузница маленькая, с крошечными прорезями вместо окон и низкой дверью. Биргер делал заготовки для ножей, чинил замки, ковал ободья для колес и санные полозья. Чаще всего ему приходилось подковывать лошадей. А когда ничего такого не подворачивалось, делал гвозди.
Как-то летним вечером в кузнице кипела работа. Сам Биргер стоял у наковальни и плющил шляпки, старший сын без передышки ковал заготовки, одну за другой. Еще один из сыновей раздувал меха, а третий подносил уголь, поворачивал в горне железо, пока оно не достигнет белого каления, и только тогда давал кузнецам. Даже четвертый сын, семи лет от роду, был при деле: остужал готовые гвозди в чане с водой и связывал в пучки по дюжине в каждом.
И вот в самый разгар работы явился гость. Смуглолицый, очень высокий: чтобы пройти в дверь, ему пришлось согнуться чуть ли не вдвое.
Биргер Ларссон прервал работу.
– Пожалуйста, не сердитесь, что мешаю, – приветливо сказал гость. – Никакого дела у меня нет. Просто я сам в молодости работал кузнецом… и, знаете, с тех пор не могу спокойно пройти мимо. Руки чешутся.
Он мог бы этого не говорить, потому что Биргер Ларссон и сам заметил: жилистые, загрубевшие руки с валиками мозолей; только у кузнецов бывают такие руки.
Вежливо спросил – кто он, откуда родом. Посетитель отвечал так же вежливо, но уклончиво. Собственно, Биргеру Ларссону и не так важно было все это знать; ему понравился обходительный гость. Он вытер руки, вышел вместе с ним на почерневший от угольной сажи пригорок, где стояла кузница, и начал хвастаться своими сыновьями. Конечно, тяжеловато было, пока маленькие, зато теперь – все помощники.
– Вот увидите, еще несколько лет, и, как пить дать, разбогатею.
Гость улыбнулся.
– Да, вы правы. Приятно смотреть, как сыновья помогают отцу в работе. Греет душу. Но я хотел спросить о другом.
Он положил Биргеру руку на плечо, пристально посмотрел в глаза и продолжил:
– Я вижу, как помогают ваши сыновья в обычной жизни. Но готовы ли вы принять их помощь и в жизни духовной?
Биргер непонимающе уставился на гостя.
– Как это?
– Понимаю, вы никогда не задавали себе этот вопрос. Подумайте, прежде чем мы встретимся опять.
Снял тяжелую руку с плеча кузнеца и, не прекращая улыбаться, пошел своей дорогой.
А Биргер Ларссон вернулся в кузницу, провел рукой по жестким, бронзового оттенка волосам и продолжил работу.
Но странный вопрос чужака не выходил из головы. Что он сказать-то хотел?
Что-то в этом есть, чего я пока не понимаю, решил кузнец Биргер Ларссон. Может, потом пойму.
* * *
Происшествие в лавке Тимса Хальвора случилось на следующий день после разговора чужака с кузнецом Биргером Ларссоном. Собственно, происшествия не случилось, а могло бы случиться, если бы ему не помешал примечательный разговор.
Тут надо пояснить: после свадьбы с Карин Хальвор занялся делами большого хутора Ингмарссонов, а в лавке теперь хозяйничал свояк, Кольос Гуннар.
Гуннар уехал за товарами, и за прилавком стояла Брита Ингмарсдоттер.
Ах, как красива была Брита! Она унаследовала от матери, жены Большого Ингмара, не только имя, но и внешность. Никто, даже старожилы, не могли припомнить, чтобы в роду Ингмарссонов когда-либо была такая красавица.
Но вот что странно: хотя Брита ни единой чертой не напоминала родственников по отцовской линии, она унаследовала от отца врожденное чувство справедливости и понимания – что хорошо, что плохо и где проходит граница.
Когда Гуннар был в отъезде, Брита управлялась с лавкой по-своему. Приходил, к примеру, старый капрал Фельт с трясущимися руками и умолял продать бутылку – она наотрез отказывалась. А за ним приходила нищая дурочка Лена Кольбьорн. Надумала, видите ли, брошку красивую купить. Никакой брошки Брита ей, само собой, не продала, зато отправила домой с подарком: пять фунтов ржаной муки.
Дети не решались даже заглядывать в лавку, когда за прилавком стояла Брита. Нечего тратить последние эре на изюм и карамельки. А односельчанок, надумавших купить тонкие и легкие городские ткани, отсылала к домашним ткацким станкам.
В этот день покупателей было совсем уж мало. Долгие часы провела Брита в одиночестве, переставляя с места на место нехитрые товары. А потом села, уставилась в только ей известную точку и поняла: больше не выдержит. Ее охватило отчаяние. Прошла в подсобное помещение, принесла стремянку, нашла веревку и закрепила ее на крюке в потолке. Брита работала быстро, на все приготовления ушло несколько минут. И уже собралась сунуть голову в петлю, как услышала скрип двери. В лавку вошел покупатель. Видно, осмотрелся, никого не увидел и приоткрыл дверь в подсобку.
Брита медленно слезла со стремянки. Покупатель ни слова не сказал, прикрыл дверь и вернулся в лавку. Она видела его и раньше – высокий, кудрявые черные волосы, густая борода, большие натруженные руки. Ничего необычного, если бы не острый, пронзительный взгляд. Одет по-городскому, но видно, что из рабочих. Уселся на шаткий стульчик у входа и не сводит с нее глаз.
Брита, не произнеся ни слова, даже не спросив, что ему нужно, встала за прилавок, всем своим видом показывая: покупай, что хотел, и уходи. Но незнакомец так же молча сверлил ее взглядом. И взгляд необычный – у нее возникло странное чувство: пока он на нее так смотрит, она даже пальцем не может шевельнуть.
Ей и в самом деле стало не по себе. И что он думает? Если он будет вот так сидеть и смотреть, я и не сделаю то, что хочу? Должен же сообразить: не успеет он уйти… не вечно же здесь будет высиживать этот странный покупатель.
Брита молчала. Лихорадочно подыскивала слова, которые заставили бы его уйти.
Если бы что-то можно было изменить или по крайней мере поправить, если бы я надеялась хоть как-то перетерпеть жизнь, ты мог бы мне помешать. Но поправить ничего невозможно. Болезнь неизлечима…
Да что ж такое? Сидит и смотрит. И молчит, как в рот воды набрал.
А я скажу тебе вот что, продолжила Брита свой молчаливый монолог. Для нас, Ингмарссонов, стыдно торговать в лавке. Как все славно было у нас с Гуннаром! Меня предупреждали – не ходи за него. Люди его не любят, кто их знает… за острый язык, должно быть. А мне он нравился. И жили мы замечательно, душа в душу, и продолжали бы, если б не эта чертова лавка.
Она передохнула и продолжила свою никому, кроме нее, не слышную оправдательную речь.
Ровно с той-то поры, как отдал ему Хальвор лавку, все пошло наперекосяк. Торговать-то можно по-разному. Как он понимает – и как я понимаю. Смотреть не могу, как Гуннар продает спиртное пьяницам. Сообрази сам: лавка в деревне – не то, что в городе. Все тут друг друга знают. И я знаю, что кому нужно, а что кому во вред. Пусть люди покупают, без чего жить нельзя, а не то, что их в могилу сведет. А Гуннар говорит – глупости. Торговля, мол, и есть торговля. Сами знают, что им нужно. Не дети.
Брита бросила на посетителя яростный взгляд, будто возмутилась: как он не поймет ее молчаливые объяснения и не уберется восвояси!
Но ты-то, мне кажется, можешь понять! Как жить с таким стыдом? Мы сажаем односельчан, соседей наших и родственников, в долговую яму, отнимаем последнюю корову или пару несчастных овец. И ничего уже сделать нельзя. Хорошо не будет. Так что иди-ка ты своей дорогой и не мешай мне покончить с этим позором.
И странная история: пока Брита произносила свою немую отповедь, она немного успокоилась и неожиданно для себя тихо заплакала. Каким-то образом подействовал на нее этот совершенно незнакомый человек, не сказавший не единого слова. Просто сидел и смотрел.
Как только он заметил ее слезы, встал и пошел к выходу. Задержался на пороге, оглянулся, прокашлялся и сказал низким глубоким голосом:
– Не вздумай делать с собой ничего плохого. Скоро, скоро, не горюй. Скоро настанет праведная и счастливая жизнь.
И ушел. У Бриты долго еще стояли в ушах тяжелые шаги на крыльце, будто кто-то медленно бил в большой барабан.
Она поспешила в подсобку, быстро сняла веревку с крюка, отнесла стремянку на место, села на сундук и просидела, не шевелясь, не меньше двух часов. Странное чувство: будто она долго бродила во тьме, да такой кромешной, что и собственной руки не видать. Долго ли заблудиться – вот она и заблудилась. Не понимала, куда пришла, – зато понимала, что каждый шаг грозит гибелью, что она на краю бездны, откуда нет возврата. Но откуда-то из мрака услышала крик: остановись! Ни шагу дальше! Не двигайся с места, дождись, пока взойдет солнце! И почему такое простое решение не пришло ей в голову без постороннего совета?
На душе стало легко и радостно. И что теперь? А теперь вот что: сижу на сундуке и посреди бела дня жду, когда взойдет солнце.
У Дюжего Ингмара была дочь. Звали ее Анна Лиза. Она много лет назад уехала в Америку и там вышла замуж за человека по имени Юхан Хельгум. Тоже швед, между прочим. Он был членом небольшой секты, которая исповедовала свое собственное вероучение. Анна Лиза появилась в приходе как раз на следующий день после адского шабаша в ночь танцев – приехала с мужем наведать старика-отца.
Хельгум почти все время бродил по деревне. Знакомился с сельчанами, заводил разговор о самых обычных вещах. Нет. Обычных – неверное слово. Он говорил обо всем, что составляет суть и смысл крестьянской жизни в Даларне. А потом клал тяжелую руку на плечо и произносил несколько утешительных слов. Или напоминал о религиозном пробуждении.
С тестем Хельгум почти не виделся. Тот с утра до ночи работал на пару с юным Ингмаром Ингмарссоном – строили лесопилку на Лонгфорсе. Старик давно не испытывал такой гордости, как в тот день, когда строительство закончилось, завыли рамные пилы и вместо тяжелых неуклюжих бревен по скрипучим каткам поползли ровные, душистые доски с янтарными капельками смолы.
Как-то раз Дюжий Ингмар, возвращаясь после работы, встретил Анну Лизу и удивился: дочь явно испугана. Вид такой, будто собралась спрятаться.
Старик поспешил домой. У самого крыльца остановился и нахмурился. Сколько он себя помнил, у крыльца рос огромный куст шиповника. Он берег его как зеницу ока, не позволял никому сорвать даже лепесток с невзрачных, но головокружительно пахнущих диких роз. Объяснить такую заботу несложно: Дюжий Ингмар знал, что в корнях этого куста любит отдыхать маленький народец.
Куст срублен. Понятное дело – зять. Кому же еще? Он даже слышать не хочет про всякие предрассудки. Терпеть не может.
В руке у Дюжего Ингмар был топор – так и не успел положить в сарай для инструментов. Он покрепче сжал топорище и шагнул в дом. Посреди комнаты стоял Хельгум с Библией в руках. Пристально посмотрел в глаза тестю и громко прочитал: «И что приходит вам на ум, совсем не сбудется. Вы говорите: “будем, как язычники, как племена иноземные, служить дереву и камню”. Живу Я, говорит Господь Бог: рукою крепкою и мышцею простертою и излиянием ярости…»[7]
Дюжий Ингмар, ни слова не говоря, вышел во двор. Эту ночь он провел на сеновале, а через пару дней отправился с Ингмаром валить лес и жечь уголь – на всю зиму.
* * *
Пару раз Хельгум проповедовал в молельном доме. Наше учение – и есть истинное христианство, сказал он. Впрочем, чужак был не особо красноречив, не то что, к примеру, Дагсон, и сподвижников у него не прибавлялось.
Те, с кем он встречался на дорогах, те, кто испытал на себе его взгляд и слышал вроде бы не к месту сказанные, но наполненные таинственным смыслом слова, ожидали от него невесть каких подвигов и на кафедре проповедника. Но нет: как только он пытался произнести связную речь, тут же начинал заикаться, смущаться и мямлить. Речи его, мягко говоря, наводили скуку и утомляли.
А Карин Ингмарсдоттер к концу лета совсем зачахла. Понуро сидела в своем кресле, и мало кто слышал от нее хотя бы слово. Никаких улучшений в ее состоянии не замечалось, ходить по-прежнему не могла. После проповеди Дагсона Карин ни разу не обращалась ни к проповедникам, ни к пастору – сидела и молча размышляла о своем несчастье. Как-то раз передала Хальвору слова отца: мол, нам, Ингмарссонам, бояться нечего. Пока мы идем по указанному Господом пути – чего нам бояться?
– И что? – спросил Хальвор. – Большой Ингмар был прав.
– Нет. Теперь я знаю: это не так.
Бедняга Хальвор не знал, чем помочь. Предложил встретиться с новым проповедником, но Карин наотрез отказалась.
– Ему нечего мне сказать, – мрачно прошептала она и опять надолго замолчала.
В одно из воскресений Карин сидела в одиночестве у окна. Уже наступил август, солнце припекало не так жарко, как в июле. В воздухе был растворен такой покой, что Карин начала клевать носом, и в конце концов ее сморил сон.
Проснулась, потому что услышала под окном разговор.
Подойти и посмотреть Карин не могла. Она не видела говорившего, но ее поразил его низкий, сильный и бархатистый голос. Никогда даже не думала, что у мужчин бывают такие красивые голоса.
– Теперь я знаю, Хальвор. Ты считаешь это нелепостью. Как это так: простому, необразованному кузнецу открывается истина, перед которой останавливаются в смущении и которую не могут понять ученые господа.
– Именно так, – голос Хальвора. – И не понимаю, откуда у тебя такая уверенность.
Это же Хельгум, зять Дюжего Ингмара. И Хальвор. Попробовала дотянуться и приоткрыть окно пошире, но из этой попытки ничего не вышло.
– Ну, допустим, – продолжил Хельгум. – В Писании сказано: если тебя ударят по левой щеке, ты должен подставить правую. Или наоборот, точно не помню. Короче, не противься злу. И не только это… там много чего похожего. И как это в жизни? У тебя украдут лес, а ты подставишь другую щеку и скажешь: а не возьмете ли и лужок в придачу? Вот этот или вон тот? Если ты не будешь защищать то, что принадлежит тебе, отберут все – и картошку, и семя для посева, все. Весь твой знаменитый хутор, Ингмарсгорден.
– Пожалуй, да… если, конечно, я не того… да, так оно и будет.
– Так что же имел в виду Христос? Разве это? Один грабит другого, а тот щеки подставляет? Думаю, это он так… сболтнул. А скорее всего, вообще не говорил ничего похожего.
– Не пойму, куда ты клонишь.
– Клоню я вот куда. Надо еще хорошенько поразмыслить. Сам погляди: мы же добились таких успехов с нашим христианством! Ни воров, ни убийц, никто не обижает вдов, сироты как сыр в масле катаются. Никто никого не трогает, никто никому не вредит – дейcтвительно, религия у нас хоть куда! Иначе как же нам было добиться таких успехов?
– Кончай богохульствовать… ясное дело, хотелось бы, чтобы было получше… – вяло, почти сонно возразил Хальвор. Ему был не по душе явный сарказм собеседника.
– Хотелось бы… вот у тебя сломалась молотилка, а тебе хотелось бы, чтобы она работала. И что ты делаешь? Смотришь, что в ней не так. И ведь не успокоишься, пока не найдешь поломку. А тут еще хуже: никак не удается заставить людей жить по заветам Христа. Если учитель не может научить ученика, то что-то никуда не годится: либо учитель, либо ученик, либо само учение. Ученики были разные, учителя тоже, а вот учение… не пора ли приглядеться, нет ли ошибки в самом учении?
– Не думаю, чтобы в учении Христа было что-то не так.
– Что ты, что ты! Все так! В начале было все так. Но могла же случиться поломка! Одно колесико сломалось, всего одно маленькое колесико – и на тебе, стоп машина…
Он запнулся, видимо, подбирал новые доводы и доказательства.
– Расскажу, что произошло со мной. Всего-то пару лет назад. Думал, начну-ка я жить по христовым заветам, как нас Церковь учит. И знаешь, чем дело кончилось? Работал я тогда на фабрике. Едва другие увидели, чем я дышу, тут же перевалили на меня всю работу. А потом повесили вину за кражу, которую я не совершал. Даже в тюрьме посидел.
– Не повезло. Но не всегда же натыкаешься на таких. Видно, тебе особые мерзавцы попались.
– Во-во! Точно то же самое я себе и сказал. Чуть не слово в слово – вот, мол, неудача какая. Наткнулся на таких исключительных негодяев. А потом подумал: легко быть истинным христианином где-нибудь в ските. Или если ты вообще один на земле – и никаких злодеев. Вообще никого. Больше скажу: мне сначала даже понравилось в тюрьме. Можно вести праведную жизнь без помех. Никто тебе не завидует, никто не пакостит, ничто не беспокоит. Сыт, крыша над головой. А потом подумал: и что за смысл в праведной жизни в одиночестве? Какая от тебя польза? Как мельница: лопасти крутятся, жернова вращаются в свое удовольствие, а зерна никто не насыпал. Но Господь же населил землю множеством людей! Наверняка задумал другое: людей будет много, они будут друг друга поддерживать и помогать. И тогда я понял наконец: дьявол исхитрился и украл кое-что из Писания. Несколько слов всего. Но знал, что красть, дьявол все-таки. С тех пор все и пошло не в ту сторону.
– Не может быть! – усомнился Хальвор. – Откуда у нечистого такая власть?
– Я даже предполагаю, какие именно слова он украл. Что-то в таком роде: раз хочу жить по-христиански, значит, должен поддерживать других и сам искать поддержку.
Хальвор промолчал, а Карин начала быстро кивать: она была полностью согласна с такой трактовкой и вслушивалась, как могла, – боялась пропустить хоть слово.
– Вышел я из тюрьмы, пошел к товарищу и говорю: помоги мне. Прошу его, значит: помоги! Помоги мне вести праведную жизнь! – Карин услышала это троекратное «помоги», и на глазах ее выступили слезы. – И что же? Нас стало двое – и поверь, сразу на душе легче. Потом появился третий, четвертый – и с каждым новым братом по духу жить становилось все светлее и легче. Сейчас нас тридцать человек, мы живем все вместе в доме в Чикаго. У нас все общее, делим все поровну, жизнь каждого из нас ясна и понятна. И дорога, которую мы выбрали, тоже ясна и понятна. И это не узенькая тропинка, где каждый шаг надо пробовать ногой, не провалишься ли. Нет-нет. Широкая, светлая дорога. А всего-то и дел: относиться друг к другу по-христиански, не пользоваться из корысти чужой добротой. Не унижать тех, кто отказывается показывать зубы и когти.
Хальвор по-прежнему молчал.
– Ты же понимаешь, Хальвор: задумаешь что-то серьезное, большое – ищи союзников и помощников. Ты же, к примеру, не потянешь один такое большое хозяйство. И вдвоем не потянешь. Если каждый будет тянуть в свою сторону, набирай хоть тыщу – все равно не потянешь. А ты решил вести христианскую жизнь один, без помощи таких же, как ты. И главное, даже не пытаешься искать единомышленников, потому что знаешь заранее – не найти. Думаю, я и мои друзья в Чикаго, мы на верном пути. Уверен: это и есть единственно правильный, святой Иерусалим, спустившийся к нам с Небес. И дары Святого Духа, доставшиеся первым христианам, ныне вручены и нам. Кто-то из нас слышит голос Господен, кто-то проповедует, другие исцеляют больных…
– А ты? – прервал его Хальвор. – Ты сам-то что? Больных, к примеру, можешь лечить?
– Да, – уверенно сказал Хельгум. – Могу. Тех, кто мне поверит, – могу.
– Ну-ну… – задумчиво протянул Хальвор. – Только я вот что хочу сказать: трудно поверить чему-то… не тому, чему тебя учили в детстве. Другому.
– Может, трудно, а может, и не очень. Но в чем я если и уверен, так вот в чем: ты, Хальвор, очень скоро станешь помогать нам строить новый Иерусалим.
Хальвор промолчал. Хельгум попрощался и ушел, а уже через минуту Хальвор появился в спальне Карин – и тут же заметил, что жена его сидит у полуоткрытого окна.
– Слышала, что Хельгум сказал?
– Да. Слышала.
– Говорит, может вылечить любого, кто в него поверит. Любого, говорит, вылечу.
Карин слегка покраснела. Необычное понимание христианства, о котором говорил Хельгум, почему-то было ей намного ближе, чем все, что она слышала раньше. В нем был практический смысл и простота, которая казалось ей неотразимо разумной. Не рассуждать о высоком, как другие проповедники, не пугать загробными мучениями, а действовать. Карин вовсе не была свойственна излишняя чувствительность, и богатым воображением она не отличалась. С трудом представляла жуткие сцены наказания грешников, о которых талдычили проповедники и даже пасторы в церкви. Не хватало воображения. Но вслух она сказала нечто другое. Она сказала вот что:
– Мне не нужна никакая религия, кроме той, что исповедовал мой отец.
На том разговор и закончился.
Спустя пару недель Карин сидела в гостиной в большом доме. Уже наступила осень, со двора доносились хищные вздохи северного ветра. Комнаты выстудило, пришлось растопить печь. Она, не отрываясь, смотрела на причудливую игру огня и пыталась отвлечься от мрачных размышлений. В комнате никого не было, кроме ее годовалой дочки – та сидела на полу рядом и играла цветными кубиками. Девочка только что научилась ходить, но пока неохотно пользовалась новым для нее умением. Считала, что ползать куда удобнее и естественнее.
Внезапно открылась дверь и вошел темноволосый кудрявый мужчина с черной окладистой бородой. Карин никогда его не видела, но догадалась сразу: Хельгум.
Гость поздоровался и спросил, где Хальвор.
– Муж уехал на собрание. Скоро вернется.
Хельгум присел. Не сказал ни слова, только время от времени бросал на Карин пристальные взгляды. Наконец гость прервал молчание.
– Мне говорили, вы больны.
– Да. Больна. Уже полгода не могу ходить. – Карин постаралась, чтобы ответ ее прозвучал сухо и обыденно.
– А я все собирался прийти и помолиться за вас, – сказал необычный проповедник.
Карин промолчала. Опустила тяжелые веки и смутно подумала: прячусь в раковину, как улитка.
– Матушка Карин, возможно, слышала, что Бог наградил меня даром целителя?
Карин такое вступление не понравилось.
– Спасибо, что вы про меня подумали, – сказала она холодно. – Но, думаю, ничего из этого не получится. Я не меняю веру отцов.
– А вы считаете, что Богу так уж важно, в какие слова облечена вера? Для Господа нашего важно одно: праведная жизнь. А вы, как мне кажется, всегда пытались жить именно так. По справедливости.
– Вряд ли Господь захочет мне помочь. Зачем тогда наказывать?
Наступило неловкое молчание.
– А спрашивала ли себя матушка Карин, за какие грехи послано ей такое наказание?
Карин не ответила, только сжалась внутренне. И вправду, как улитка.
– А я думаю, не за грехи. Что-то подсказывает мне, что Господь так поступил, потому что хотел еще большего почитания.
Карин рассердилась так, что даже щеки покраснели. Не думает ли Хельгум, что Господь наслал на нее паралич только ради того, чтобы явился этот горе-проповедник и ее исцелил? Совершил чудо?
Проповедник новой религии встал, подошел к Карин и положил ей на голову тяжелую руку.
– Хочешь, я за тебя помолюсь?
От его руки по всем телу побежали горячие, радостные токи, но Карин была так раздражена его наглостью, что стряхнула руку и даже замахнулась, будто хотела его ударить. Собралась сказать что-то обидное, но слов не нашлось. Посмотрела так, будто он тяжко ее оскорбил.
А Хельгум не удивился. Пожал плечами.
– Не стоит отмахиваться от Господа, – сказал он и пошел к двери.
– Не стоит, – с вызовом сказала Карин. – Надо смиренно принимать его кару.
– Говорю тебе: сегодня, в этот день, в этом доме, случится чудо.
Карин угрюмо промолчала.
– Думай обо мне – и спасешься, – сказал Хельгум и вышел.
Карин выпрямилась в кресле. Щеки ее горели, будто плеснули кипятком.
Неужели нельзя оставить меня в покое в моем собственном доме? – ее обуревала ярость. Подумать только, сколько проходимцев мнят себя посланниками Господа!
Внезапно она заметила: внимание ее крошечной дочки привлекло ярко и весело разгоревшееся пламя. Ни с того ни с сего – никто дров не подбрасывал. Девчушка встала на ножки и пошла к печи.
– Назад! – крикнула Карин.
Но какое там!
Малышка пару раз упала, смеясь при этом тем неотразимым, булькающим смехом, которому не может противостоять ни один взрослый. Но каждый раз, забавно кряхтя, упрямо вставала и шла к огню.
– Господи, помоги мне, Господи, помоги мне… На помощь! – крикнула Карин во весь голос, хотя прекрасно знала: в доме никого нет. На помощь прийти некому.
Девчушка подошла совсем близко к огню – и случилось именно то, чего Карин боялась: от треснувшего березового полена отскочил уголек и упал на желтое платьице.
И в ту же секунду Карин обнаружила себя стоящей на ногах. Не успела даже удивиться: бросилась к печи и рванула к себе девочку. И только когда стряхнула и затоптала все искры, только когда убедилась, что девочка даже не обожглась, – только тогда до нее дошел смысл произошедшего.
Она встала на ноги! Мало того, она может ходить и даже бегать…
Наверняка в эти секунды Карин испытала самое сильное душевное потрясение в своей жизни. Самое сильное потрясение – и самое большое счастье. Куда больше, чем может представить себе человек.
До нее дошло: она под защитой Господа. Она – орудие и исполнитель Божьего промысла. Посланный Богом святой человек вошел в ее дом, чтобы вразумить ее и исцелить заблудшую душу.
* * *
В эти дни Хельгум довольно часто стоял на крыльце хижины Дюжего Ингмара. Стоял и ни о чем не думал, любовался на окружающий пейзаж – с каждым днем он становится все прекраснее и прекраснее. Луга, и поля, и лес примеряют осенние уборы – кто желтый, кто красный, кто темно-бордовый. Березовая роща чуть поодаль напоминает волнующееся море расплавленного золота. И что удивительно – даже в ельнике тут и там мелькают золотые медальоны: березы не унимаются, не забывают золотить погожие осенние дни, даже если их опавшие листья заблудились в густом хвойном лесу. Чуть не каждая елка щедро украшена позолоченными игрушками.
Всем известно: даже самая убогая серая лачуга выглядит празднично, когда вечером зажигают свечи. И бедный шведский ландшафт в такие дни словно примеряет не доставшиеся ему по географической прихоти королевские уборы. Все в золоте; должно быть, даже на поверхности солнца сияния ничуть не больше. А может, и поменьше: не зря же ученые говорят, что и на солнце есть пятна.
Но Хельгум, глядя на роскошную игру красок, думал совсем о другом. Он думал о наступающем времени, когда волей Господа весь приход засияет истинной святостью, когда дадут всходы семена слов, брошенных им этим летом в души прихожан, когда можно будет собирать урожай справедливости и добра.
И вот первая ласточка: пришел Тимс Хальвор и пригласил его с женой в Ингмарсгорден.
Когда гости появились на огромном хуторском дворе, все было прибрано и красиво, потрудились немало. Не видно обычного хуторского беспорядка – выметены и собраны в вороха медальоны опавших листьев, инструменты снесли в сараи, телеги откатили на задний двор.
«Должно быть, не мы одни приглашены», – не успела подумать Анна Лиза, как догадка ее подтвердилась: Хальвор открыл дверь в гостиную, где было полно людей. И странная тишина – большая редкость, когда собирается столько народа. Самые уважаемые люди прихода сидят на поставленных вдоль стен длинных скамьях и торжественно молчат. Хельгуму все они, или почти все, уже знакомы.
Первый, кого он заметил, – Юнг Бьорн Улофссон с женой Мертой Ингмарсдоттер. И Кольос Гуннар с Бритой. Кристер Ларссон и Исраель Тумассон с женами – все они так или иначе родня Ингмарссонов. Пришла и молодежь: сын Хёка Матса Эрикссона Габриель, дочка присяжного заседателя Гунхильд и многие другие. Человек двадцать, не меньше.
Хельгум и Анна Лиза обошли всех, поздоровались за руку. По окончании процедуры Тимс Хальвор сказал:
– Мы, члены общины, много и долго думали над тем, что говорил нам Хельгум этим летом. Многие здесь принадлежат старинным родам, чьи предки всегда старались жить по-божьи, соблюдать заповеди. И если Хельгум хочет нам помочь, мы готовы идти за ним.
На следующий же день по деревне поползли слухи: на хуторе Ингмарссонов учреждена некая община. Ее члены утверждают, что им якобы известен единственный путь к истинному христианству и спасению.
Новый путь
Прошла осень, прошла долгая зима. Начал таять снег, и как раз в это время оба Ингмара – Ингмар-младший и Дюжий Ингмар – вернулись из леса. Пора запускать новую лесопилку. Всю зиму они жгли уголь и валили лес. Ингмар-младший сказал, что чувствует себя медведем. Вылез из берлоги и никак не может привыкнуть к сияющему в открытом небе солнцу. Все время щурился. Его раздражал неумолчный шум порога и громкие голоса на хуторе – уши привыкли к тишине. И в то же время радовался как ребенок. Вот так действует на людей весна. Юноша чувствовал себя ничуть не старше весенних побегов на березах. К тому же любой может представить, как приятно спать в постели после нескольких месяцев в насквозь продуваемом шалаше. Или насладиться домашним обедом.
А жить у Карин, в Ингмарсгордене, – даже описать трудно, до чего ж хорошо. Она заботилась о нем совершенно как мать. Велела сшить младшему брату новую одежду, никогда не забывала подложить лакомый кусочек, будто он и правду маленький ребенок.
И сколько новостей, и какие необычные эти новости! Пока они с Ингмаром работали в лесу, до них, конечно, доходили слухи о проповеднике новой веры, некоем Хельгуме. А теперь Ингмар слушал рассказы Карин и Хальвора – как они счастливы, какое наслаждение доставляет помогать другим встать на истинный путь. Когда юноша сообразил, в чем суть нового учения, что любовь к ближнему – уже не произнесенная с кафедры заповедь, а имеет простой и понятный смысл для его близких, он сказал только одно слово:
– Красиво…
И подумал: не просто красиво. Прекрасно.
– Мы даже не сомневаемся – ты пойдешь за нами, – сказала Карин.