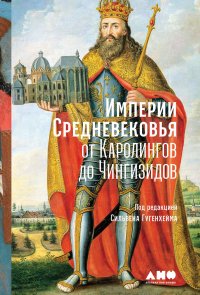Читать онлайн До свидания, мальчики. Судьбы, стихи и письма молодых поэтов, погибших во время Великой Отечественной войны бесплатно
- Все книги автора: Коллектив авторов
© Шеваров Д. Г., составление
© ООО ТД «Никея», 2022
© АНО Центр «Никея», 2022
* * *
Ушли на рассвете
Летом 1942 года поэт Семён Гудзенко вышел из госпиталя и вернулся в Москву. Однажды на улице Горького он услышал шаги за спиной. Оглянулся: незнакомая женщина. «Простите, – говорит, – ошиблась. У вас стрижка, как у моего сына. Сзади вылитый Вова. Извините…»
В XXI веке 9-го Мая по той же улице течет людская река – идет шествие Бессмертного полка. И вдруг обжигает мысль: а как же те мальчики, чьи фотографии некому нести? Ведь несут родные родных, а у тех нецелованных или не успевших жениться ребят не осталось потомков. Их сыновьям было бы сейчас под восемьдесят, внукам – под шестьдесят, правнукам – около тридцати, праправнуки пошли бы нынче в школу…
Но, быть может, они – эти погибшие безусые мальчики – там, в ином мире, на особом счету? И 9-го Мая не люди, но ангелы проносят их чистые образы?
Мало кто из тех ребят успел до войны выпустить сборник стихов или опубликовать свои стихотворные опыты в литературных журналах. Многие не увидели напечатанной ни одной своей строчки. Их архивы, и без того скудные, утрачены в войну или после нее, а уцелевшие рукописи далеко не все опубликованы. От некоторых юношей, пробовавших себя в поэзии, и рукописей не осталось – лишь свидетельства близких, друзей или однополчан о том, что они писали стихи.
Кто-то из подкованных читателей, пролистав эту книгу, строго спросит: как можно называть поэтами тех, кто лишь мечтал о литературе и писал еще ученически? Вот и образы что-то банальны, и рифмы хромают…
Им давно, еще во время войны, ответил танкист Сергей Орлов:
Когда-нибудь потомок прочитает
Корявые, но жаркие слова
................................
Как дымом пахнет все стихотворенье,
Как хочется перед атакой жить…
И он простит мне в рифме прегрешенье…
Он этого не сможет не простить.
Пускай в сторонку удалится критик:
Поэтика здесь вовсе ни при чем.
Я, может быть, какой-нибудь эпитет —
И тот нашел в воронке под огнем.
Здесь молодости рубежи и сроки,
По жизни окаянная тоска…
Я порохом пропахнувшие строки
Из-под обстрела вынес на руках.
А еще мне неотступно вспоминается пушкинское: «А мы с тобой вдвоем предполагаем жить…»[1].
Мальчики 1941 года видели себя в русской культуре, дышали ею и предполагали жить. И это позволяет нам – независимо от того, сколько стихотворений они успели написать, – предполагать в них поэтов. И помнить, что за каждым именем – огромный мир чувств, мыслей, надежд, в одночасье прерванных войной. Быть может, среди этих ребят, где-то в братской могиле, лежит и тот новый Пушкин, которого мы ждем до сих пор.
В мае вечерние сумерки слишком быстро переходят в утренние. Не звоните, будильники. Не греми, рукомойник. Помолчите, репродукторы.
Дайте дописать стихи.
Дмитрий Шеваров
Май 2020 года
1941
Баста! Мы уже воспеты
В гимнах, панегириках, стихах.
Маршируют ротные поэты
В розовых кирзовых сапогах.
Воронами голуби кружили.
По полям клубился фимиам.
Где-то пушки бегло говорили,
Музы к ним снаряды подносили…
Николай Зиновьев 1941
ЛЕОНИД КРАПИВНИКОВ 19 лет
АЛЕКСЕЙ ЛЕБЕДЕВ 29 лет
БОРИС СМОЛЕНСКИЙ 20 лет
ГЕОРГИЙ ВАЙНШТЕЙН 22 года
Леонид Крапивников 19 лет
«Я вернусь таким же утром синим…»
Боец парашютно-десантной роты авиации Черноморского флота. Погиб 19 или 20 сентября 1941 года во время десантной операции под Одессой.
Стихи, которые Леонид Крапивников успел написать в первые месяцы войны, пропали. У матери осталась лишь тетрадка с его довоенными, школьными текстами.
В 1972 году в Киеве вышла его посмертная книга. В 1984 году ее переиздали. Тираж был совсем маленький. Найти этот 37 – страничный сборник сейчас нелегко.
Леонид Осипович Крапивников родился 19 декабря 1921 года в Киеве. Учился в школе № 69. С детства сочинял стихи. В седьмом классе он написал поэму, посвященную спасению челюскинцев, и лично вручил ее Отто Юльевичу Шмидту.
Первые навыки прыжков с парашютом Леонид получил в киевском аэроклубе. После школы он пошел учиться в политехнический институт. В 1940 году, остро чувствуя приближение войны, Леня оставил институт и поступил в Ейское военно-морское авиационное училище. В числе самых способных курсантов он обучался по отдельной ускоренной программе. В начале войны, очевидно, приписав себе шесть лет (в документах Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации годом рождения Леонида Крапивникова числится 1916 вместо 1922), служил в 32-м истребительном полку 62-й истребительной бригады ВВС Черноморского флота. В связи с обнаружившейся болезнью глаз Леонид был переведен в технический состав полка, а вскоре добровольцем вступил в парашютно-десантную роту флотской авиации. Моряков, желавших служить в таком подразделении, было много; отбирали только тех, кто имел опыт парашютных прыжков и в совершенстве знал стрелковое оружие.
В середине сентября румынская армия почти вплотную приблизилась к Одессе. Вражеская дальнобойная артиллерия обстреливала акваторию порта. Обороняющиеся попросили у Ставки подкрепление. В ответ пришла директива: продержаться 6–7 дней до подхода резервов. Тогда командование Одесского оборонительного района решилось на отчаянный шаг – ударом с моря контратаковать намного превосходящие силы немецко-румынских войск. Операцию поручили 3-му полку морской пехоты. 1600 морпехов должны были высадиться ночью с шести кораблей в районе села Григорьевка.
Но первыми в бой пошли краснофлотцы парашютно-десантной группы Черноморского флота, и среди них – Леонид Крапивников. Их рейд должен был отвлечь внимание противника от морских пехотинцев, нарушить управление частями румынских войск. На подготовку десантникам дали всего три дня. Они и познакомиться-то друг с другом толком не успели.
Каждый десантник был вооружен пистолетом-пулеметом ППШ, двойной нормой патронов, шестью гранатами, десантным ножом. Командиром группы назначили старшину Анатолия Кузнецова.
Поздним вечером 21 сентября 1941 года на аэродроме в Евпатории небольшой отряд из моряков-десантников принял на борт бомбардировщик ТБ-3. В половине второго ночи, когда корабли подошли к месту высадки морпехов у Григорьевки, ТБ-3 выбросил десант через бомболюки в четырех километрах севернее деревни Шицли. Тихоходный четырехмоторный ТБ-3 был мало приспособлен для десантирования, и в условиях сильного ветра парашютисты рассеялись на большой площади.
Леонид Крапивников оказался оторван от основной группы, приземлившись на другой стороне Аджалыкского лимана в районе Старых Беляр. Очевидно, еще при приземлении по десантнику открыли огонь, он был ранен. Жители села Дофиновка укрыли бойца, но кто-то выдал его. Леонид попал в плен. Военный историк Олег Каминский, работавший во Фрайбургском военном архиве, нашел там протокол допроса Леонида Крапивникова. Этот сухой документ свидетельствует о стойкости 19-летнего краснофлотца.
О дальнейшей судьбе Леонида в немецком архиве сведений нет. Каминский считает, что его расстреляли сразу после допроса. Место захоронения неизвестно.
В декабре 1941 года мать Софья Михайловна, находясь в эвакуации в Средней Азии, получила извещение, что сын пропал без вести 19 сентября. А в донесении о потерях написали: «Не вернулся с боевого задания 13.IX.41».
Только через семь месяцев после его гибели, в мае 1942 года, обстоятельства героической смерти Крапивникова прояснились. Софья Михайловна получила похоронку, подписанную военкомом части старшим политруком Пронченко:
Извещение
Ваш сын погиб смертью настоящего советского патриота во время высадки десанта в районе Одессы. Личный состав части поклялся отомстить немецким захватчикам за смерть лучшего товарища – Леонида Крапивникова.
Из десанта вернулись тринадцать товарищей Леонида. Девять человек погибло. Боевое задание они выполнили: посеяв панику в тылу врага, отвлекли внимание от морского десанта. Противник был отброшен от Одессы на пять, а местами и на восемь километров. Морпехи нанесли большой урон двум румынским дивизиям, захватили дальнобойную артиллерийскую батарею, обстреливавшую город.
Защитники города приободрились. Дядя моей мамы Евгений Рымаренко, аспирант кафедры языкознания Одесского университета, писал родным 26 сентября 1941 года: «Я жив, здоров. Защищаю Одессу от румынских полчищ, стремящихся захватить и уничтожить наш прекрасный город. Писать много нечего: À la guerre comme à la guerre (На войне, как на войне!)…»
В ночь на 1 октября в Одессу прибыли представители Ставки с директивой: «В связи с угрозой потери Крымского полуострова в кратчайший срок эвакуироваться войскам Одесского района на Крымский полуостров».
Утром 16 октября последний корабль с нашими военными покинул Одессу. Сводка Информбюро о том, что войска оставили Одессу, поразила всех – и в тылу, и на фронте. В брошенный город без боя вошли румынские части. И все-таки это произошло почти на два месяца позже, чем рассчитывал Антонеску – он планировал провести парад своих войск в Одессе 23 августа.
За сентябрь и начало октября из Одессы морем успели эвакуироваться почти сто тысяч жителей. Эта цифра была бы больше, но для гражданского населения не хватало кораблей, а значит, и пропусков на эвакуацию. Почти 250 тысяч человек остались в городе.
Вернувшиеся десантники из группы Кузнецова были награждены орденами Красного Знамени, один – орденом Ленина. Подвиг Леонида Крапивникова до сих пор никак не отмечен.
В 1944 году в освобождении Одессы участвовал артиллерист Константин Левин – ровесник Леонида Крапивникова. Левин написал стихи-эпитафию (они были опубликованы лишь полвека спустя):
Я буду убит под Одессой.
Вдруг волны меня отпоют.
А нет – за лиловой завесой
Ударят в два залпа салют…
Левин был тяжело ранен, но выжил, а после войны поступил в Литературный институт им. А. М. Горького.
Близ полузаброшенного села Григоровка (так оно теперь называется) Коминтерновского района Одесской области ветшает установленная тридцать лет назад стела с надписью: «На этом месте будет сооружен памятный знак Одесскому воздушному десанту, выброшенному 22 сентября 1941 года».
Из писем Леонида Крапивникова маме:[2]
…Мамочка, когда я уезжал, мы договорились с тобой, что, как только начнутся солнечные дни, Ты закроешь стекла моего шкафа, чтобы книги не выгорали. Сделала ли Ты это? Вообще, если увидишь хорошие книги – покупай (мне денег не высылай), а особенно постарайся достать «Витязя в тигровой шкуре» в переводе Бальмонта…
…Я получил новое назначение – инструктора по укладке парашютов – в первую эскадрилью. Ты спрашиваешь – чему я здесь, на фронте, учусь? Всему – как жить и воевать.
Тебя, наверное, интересует, летаю ли я сам? Уже нет. И вряд ли буду. У меня что-то случилось с глубинным зрением: я не вижу земли, когда иду на посадку.
…Между боевыми вылетами на задание я много читаю, думаю, готовлюсь к тому великому труду и учебе, которые ждут нас всех, когда разобьем Гитлера.
…Я страшно за Тобой скучаю. Ну, ничего, вернусь из армии, буду работать для Тебя, и Ты сумеешь отдохнуть. Получила ли Ты мое письмо, в котором я писал, что больше не летаю, а служу рядовым краснофлотцем-десантником в одной из авиачастей?
…Ты пишешь, что там, в селе, где ты отдыхаешь, есть библиотека. Советую Тебе прочесть еще раз Лескова – он как лекарство от беспокойных мыслей и волнений…
…А вот когда отвоюем, тогда буду учиться. Хочется быть морским инженером и поступить на литературный факультет. Оба эти пути мне доступны…
Стихотворения Леонида Крапивникова[3]
О тебе деревья говорят
1
Надвигается сумрак серый,
И печален заброшенный сад.
Молодые, как пионеры,
За окном деревья шумят.
День на западе остывает,
Торжествует упрямая мгла.
Где ты бродишь, моя дорогая?
Где тропинка твоя пролегла?
2
Он такой печальный, этот вечер,
Звезды загораются в пруду.
Неужели я тебя не встречу,
Звездочкой своей не назову?
Не поймаю глаз лучисто-серых,
Не пойду с тобой в наш старый сад,
Не скажу: шумны, как пионеры,
О тебе деревья говорят.
1 мая 1928 года
Автору 6 лет[4]
О старости
Словно вор, крадется старость,
Злая старость – седина.
Только мы с тобой остались
Непокорны, как весна.
Только мы с тобой остались
Молодыми навсегда.
Словно птицы, разлетались
По далеким берегам,
Словно птицы, собирались
Теплым мартом по домам.
Если утро песней брызнет —
Отвори пошире дверь.
Если песня та о жизни —
Этой песне ты не верь.
Эта песня – только вестник
Горькой тяжести потерь.
До 1937
* * *
Журавли над озером хлопочут,
Млечный Путь уходит в синь до дна.
Очень много ярких звезд у ночи,
Только девушка одна.
Птицы улетают на рассвете —
Наша осень птицам холодна.
Очень много дальних стран на свете,
Только девушка одна.
Но опять весна лучами брызнет,
И земля проснется, голодна.
Очень много есть дорог у жизни,
Только девушка одна.
Каждый день с упрямой жизнью споришь,
А она по-прежнему бледна,
Много есть у человека горя,
Только девушка одна.
Я вернусь
Покидал я город на рассвете.
Я да ветер шагали в тишине.
Только дети, маленькие дети,
Испугавшись, плакали во сне.
Матери от крика просыпались.
Наши матери чисты, как грусть.
Только тополя со мной прощались.
Это им ответил я: вернусь!
Я вернусь таким же утром синим.
Песню ту, что прежде, запою.
Я глаза оставлю молодыми,
Только волосы посеребрю.
А пока прощайте, дорогие,
Ветер свеж – дорога далека.
По небу уходят молодые,
Быстрые, как птицы, облака.
Птица
Сын засыпал.
И сквозь сумрак весенний
в угол склонялись бесшумные тени.
Важно кивали друг другу навстречу
и убегали, сгущаясь, как вечер.
Вдруг он спросил, тишины не расстроив:
«Мамочка, что это – счастье – такое?
С кем оно дружит и где оно ходит?
Кто его утром, проснувшись, находит?»
«Милый, – ответила мать, улыбаясь, —
счастье, сынок, это птица такая.
Светлая птица заденет крылом.
Птица умчится – и нет ничего».
Выросла ночь.
А ребенку не спится —
в черной кайме пролетает жар-птица,
Яркие искры роняет кругом,
спинку кровати задела крылом.
В раме оконной зажгла, погодя,
свежий огонь наступившего дня.
Песня про девушку
Несчастлива эта девушка, что пилота полюбила
За упрямые, глубокие, темно-серые глаза.
У проснувшегося вечера потемневшие ветрила,
У проснувшегося вечера потеплевшие глаза.
Пусть гитара затаенная брызнет радостными струнами,
Тишину многоголосую долгим эхом оборвав.
И, обычно молчаливая, до росинки каждой лунная,
До травинки каждой звездная, ночь трепещет, как струна.
Пробужденьем дня напуганы – видишь – звезды стали холодны,
Серп луны, такой заманчивый, голубой рассвет украл.
Небо ждет нас посветлевшее, неспокойное, как молодость.
Небо грозное, как молодость, нам покорно, как штурвал.
И дорогами знакомыми нас оно встречает ветрами,
За крылом, мотором взорвана, уплывает тишина.
Отзвук ночи, голос девушки погребен под километрами.
И гитара громкострунная навсегда заглушена.
Нет, несчастлива та девушка,
Что пилота полюбила,
Что пилота целовала
В темно-серые глаза.
Геньке
Навсегда мы в сердце сохранили
Солнечные пятна на стене.
Мы ладонью зайчиков ловили.
Не поймали. Нет.
Нынче наше детство миновало.
Отзвенело, как ручьи весной.
Мы с тобой шагали от вокзала
Незнакомой улицей прямой.
Только глаз одних не позабыли,
У которых смех на самом дне.
Счастье мы ладонями ловили.
Не поймали. Нет.
1938–1940
1. Парашютно-десантная рота авиации Черноморского флота, 1941 г.
2. Одесса. Осень 1941 г.
3. Рисунок из книги стихов «Возвращени изданной в Киеве в 1984 г.
4. Бойцы морской пехоты в Одессе. Октябрь 1941 г.
5. Учетно-послужная карточка Леонида Крапивникова
Алексей Лебедев 29 лет
«Полгода замуж не спеши…»
Командир штурманской боевой части подводной лодки «Л-2». Погиб в боевом походе в ночь на 14 ноября 1941 года на траверзе маяка Кери в Финском заливе.
Жена Вера вспоминала: «Леша не любил трескучих фраз, таких обязательных в то время, очень чувствовал ложь. Он как-то сказал, когда нам на глаза попалась фамилия очень тогда модного Лебедева-Кумача: «Я рад, что я просто Лебедев. Лебедев без кумача».
Алексей родился 1 августа 1912 года в Суздале.
Отец – юрист, мать – учительница. Дед по материнской линии – священник суздальского храма Николая Чудотворца.
Семья часто переезжала из города в город в связи со служебными назначениями отца. В 1927 году переехали в Иваново-Вознесенск, где Алексей окончил школу № 27.
В начале 1930-х отца арестовали и расстреляли. Алексей уехал на Север, служил юнгой и матросом.
В 1933 году Алексея призвали в армию, служил на Балтийском флоте. В 1936 году поступил в Ленинградское высшее военно-морское училище имени М. Фрунзе.
Первая публикация – в 1934 году в газете «Красный Балтийский флот». Первый сборник стихов выпустил в 1939 году. В том же году Алексей был принят в Союз писателей СССР В 1940 году вышла его вторая книга «Лирика моря». 11 ноября 1941-го Алексей послал жене письмо. В нем были и стихи:
Зелено-льдистый небосвод
Над невысокими горами,
Давно разбитый бурей бот
Изглодан солнцем и ветрами.
Четыре буквы на корме,
Позеленевшие литеры
В холодной синей полутьме
Слагают кратко имя Веры.
Рисунок бронзовых литер,
О, как напомнил он о многом
Во глубине Аландских шхер,
У берегов, забытых Богом…
В ночь на 14 ноября 1941 года на траверзе маяка Кери в Финском заливе подводная лодка «Ленинец-2» подорвалась на мине и потеряла ход. Экипаж боролся за спасение своего корабля, но в час ночи раздался второй взрыв, разрушивший всю кормовую часть. Лодка начала тонуть. Лейтенант Лебедев отдал свой спасательный жилет товарищу, а сам погиб в студеных водах Балтики. Из экипажа спаслись всего три человека.
Алексею было 29 лет. В его офицерской карточке в графе «где похоронен» написано: «Предан морю».
Уходя в последний поход, Алексей предвидел свою гибель. И писал об этом поэт с той же твердостью и ясностью, с какой командир штурманской боевой части лейтенант Лебедев отдавал приказы.
… И если пенные объятья
Назад не пустят ни на час
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас, —
Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать —
Ты на штабной бумаге белой
Об этом сможешь прочитать.
Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши…
Жена Алексея Вера Петрова-Лебедева до конца жизни отказывалась верить в его смерть и замуж больше не выходила.
Она его любит, как прежде,
И сердце, объятое тьмой,
Не может не биться в надежде,
Что Леша вернется домой…
И долгие-долгие годы
Все ждет-поджидает вдова,
Когда же придет из похода
Подводная лодка Л-2…
Это строки «Баллады об ожидании» поэта Бронислава Кежуна.
Алексей Лебедев был посмертно награжден медалью «За оборону Ленинграда» и навечно занесен в списки воинской части ВМФ.
В Иванове, Суздале и Кронштадте именем Алексея Лебедева названы улицы.
В ивановском Литературном сквере установлен бюст Лебедева и мемориальные доски – на здании школы № 27 и Инженерно-строительной академии (бывший индустриальный техникум). Мемориальная доска на доме, где он жил, установлена в Суздале.
В 2017 году мемориальная доска появилась и на школе № 29 в Костроме, где учился Алексей. В августе 2008 года в Суздале открыт памятник Алексею Лебедеву.
Стихотворения Алексея Лебедева
* * *
Ты помнишь скамейку на Марсовом поле
И ветра сквозняк ледяной,
Какою родною до взрыва, до боли
Была ты, девчонка, со мной?
И все это было, как жизни начало.
И радость не знала краев.
В руках твоих тонких и милых лежало
Тяжелое сердце мое.
Расстались… И, вновь уходя, как в изгнанье,
С холодным норд-остом в борьбе,
Шепчу, подавляя скупое рыданье:
«О нет, мы не лгали себе».
1941
* * *
Или помните, или забыли
Запах ветра, воды и сосны,
Столб лучами пронизанной пыли
На подталых дорогах весны.
Или вспомнить уже невозможно,
Как видение дальнего сна.
За платформой железнодорожной
Только сосны, песок, тишина.
Небосвода хрустальная чаша,
Золотые от солнца края,
Это молодость чистая ваша,
Это нежность скупая моя.
* * *
В июне, в северном июне,
Когда излишни фонари,
Когда на островерхой дюне
Не угасает блеск зари,
Когда, теплу ночей поверив,
Под кровом полутемноты
Уже раскрыл смолистый вереск
Свои лиловые цветы,
А лунный блеск опять манил
Уйти в моря на черной шхуне, —
Да, я любил тебя, любил
В июне, в северном июне.
1939
* * *
Метет поземка, расстилаясь низко,
Снег лижет камни тонким языком,
Но красная звезда над обелиском
Не тронута ни инеем, ни льдом.
И бронза, отчеканенная ясно,
Тяжелый щит, опертый о гранит,
О павших здесь, о мужестве прекрасном
Торжественно и кратко говорит.
1941
Тебе
Мы попрощаемся в Кронштадте
У зыбких сходен, а потом
Рванется к рейду серый катер,
Раскалывая рябь винтом.
Под облаков косою тенью
Луна подернулась слегка,
И затерялась в отдаленье
Твоя простертая рука.
Опять шуметь над морем флагу,
И снова, и суров, и скуп,
Балтийский ветер сушит влагу
Твоих похолодевших губ.
А дальше – врозь путей кривые,
Мы говорим «Прощай!» стране.
В компасы смотрят рулевые,
И ты горюешь обо мне.
… И если пенные объятья
Нас захлестнут в урочный час,
И ты в конверте за печатью
Получишь весточку о нас, —
Не плачь, мы жили жизнью смелой,
Умели храбро умирать —
Ты на штабной бумаге белой
Об этом сможешь прочитать.
Переживи внезапный холод,
Полгода замуж не спеши,
А я останусь вечно молод,
Там, в тайниках твоей души.
А если сын родится вскоре,
Ему одна стезя и цель,
Ему одна дорога – море,
Моя могила и купель.
Август 1941
1. Обложка книги стихов Алексея Лебедева «Огненный вымпел»
2. Обложка книги стихов Алексея Лебедева «Морская купель»
3. Алексей Лебедев, 1935 г.
4. Учетно-послужная карточка Алексея Лебедева
Борис Смоленский 20 лет
«…И на Карельском перешейке еще находят наши дневники»
Рядовой, стрелок легкострелковой бригады. Погиб 16 ноября 1941 года под Медвежьегорском.
Все его стихи – как тугие паруса, полные ветра. Любое из них кажется для нас сейчас, сегодня. И как больно думать, что котомка с его военными стихами лежит где-то в земле, а при жизни он опубликовал лишь 24 строки. О публикации он сообщил в письме домой: «Сегодня испытал забытое наслаждение, читая на всех углах „Окно карело-финского ТАССа“ – здешнего РОСТА. Посредине – сводка Сов-информбюро, по бокам – две больших… карикатуры с 24 строками, а подписи – мои. Я был, когда „Окно“ выходило из-под типографской машины, радовался по-щенячьи». Вознаграждение Борис перечислил в фонд обороны.
Борис родился в 1921 году в Новохоперске, но родного городка не помнил – родители переехали в Москву. Отец, Моисей Пантелеймонович Смоленский, был разъездным корреспондентом и часто брал сына в командировки. Моря и города, полустанки и тайга, степи и горы… Семья жила на чемоданах. В 1933 году отца, уже известного очеркиста, одного из создателей «Комсомолки», командировали в Новосибирск – редактировать местную газету. В 1937-м Моисея Пантелеймоновича арестовали, и все попытки родных узнать о его судьбе были напрасны. Вскоре арестовали и мать (освободили через несколько месяцев).
Борис с сестрой вернулись в Москву. Взрослые заботы не согнули подростка, он все успевал: учился в школе, зарабатывал на хлеб, писал стихи и влюблялся. Поглощенный событиями в Испании, учил испанский язык и переводил Гарсиа Лорку. Вскоре его переводы прозвучали по радио и были приняты к печати. Вместе с другом Женей Аграновичем он написал песню «В тумане тают синие огни…», а вместе с Павлом Коганом и Георгием Лепским – «Бригантину».
Любимые композиторы Бориса Смоленского – Бах и Григ. Любимый художник – Ван Гог. Борис не расставался с двухтомником его писем. Любил слушать пластинки с записями скрипача Фрица Крейслера. Ходил под парусом. Евгений Агранович вспоминал: «Он бредил бурями и парусами, мечтал о кораблях и океанах…» Вот его строки из стихотворения этого периода:
Я капитан безумного фрегата,
Что на рассвете поднял якоря
И в шторм ушел…
А вот четверостишие Евгения Аграновича о Борисе:
Лицо Бориса стал я забывать
И не могу сейчас его увидеть,
Но смех узнал бы и узнал привычку:
Все раздавать, делиться и дарить…
Борис поступил на водительский факультет Ленинградского института инженеров водного транспорта. И еще одна поразительная деталь из его короткой биографии: когда Борису исполнилось восемнадцать, он взял на воспитание маленького мальчика, у которого погибли родители.
В армию Бориса Смоленского призвали еще до войны и, как «сына врага народа», отправили на север, в стройбат. Вчерашние студенты корчевали пни, расчищая площадку для строительства аэродрома близ деревни Бесовец. «К ночи снова вышел на работу, – писал Борис домой весной 1941 года. – Дул резкий северный ветер, пошел сначала град, потом снег. В поле было нестерпимо. Мы работали спиной к ветру, то и дело отбегая к кострам. Часа через два меня перевели на корчевку леса. Мой сосед по котелку, боец одного со мной отделения – Ярослав Смеляков. Сегодня вечером мы собираемся читать друг другу стихи и переводы…»
Смеляков вспоминал: «Борис мне казался иногда упавшим с Луны, он даже и на марше наборматывал стихи. Когда не удавалось долго ни поесть, ни попить и мы зарастали густой щетиной, он заскорузлыми пальцами вытаскивал свою тетрадку и что-то кропал…»
21 июня 1941 года Борис писал домой: «В ушах у меня все время звучит музыка, истосковался по стихам…»
Как странно сейчас находить в его стихах отзвуки не только тех поэтов, которых он любил (Маяковского, Хлебникова, Гумилёва, Тихонова), но и тех, что придут в русскую поэзию через многие годы после его гибели: Юрия Визбора и Александра Городницкого, Саши Башлачёва и Юрия Шевчука. Очевидно, поэзия – столь многомерное пространство, что оно сообщается не только с прошлым, но и с будущим.
Из письма Бориса Смоленского: «Изредка отбросишь лопату, вытащишь из кармана записную книжку нацарапаешь две строки – и снова за работу. Так я написал песню нашего батальона, и сейчас все роты ходят на работу под мою песню». Текст этой батальонной песни не сохранился. И некому было его вспомнить.
Пропала и рукопись первого сборника стихов, который Борис готовил для Петрозаводского издательства. Тетради со стихами Борис хранил в вещмешке, а где еще он, рядовой солдат, мог их хранить?
В письме любимой девушке, написанном сразу после 22 июня, он краток: «Все в порядке. Война с Германией, я в армии. Ты ведь знаешь, у меня никогда не было желания отсиживаться за чужими спинами. Борис».
Он был рад, что вместо кирки или лопаты у него в руках винтовка. Пусть и образца 1912 года.
В начале октября три финских дивизии прорвали фронт и захватили Петрозаводск. 2-ю легкострелковую бригаду и 37-ю стрелковую дивизию бросили в прорыв, и они оказались в окружении. «У нас был один танк, – вспоминал чудом выживший боец. – Только один. Он ходил по шоссе…»
Отчаянные бои под Медвежьегорском по сути были расстрелом почти безоружных.
Борис Смоленский погиб 16 ноября 1941 года. В середине декабря 2-ю легкострелковую бригаду расформировали «вследствие безвозвратных потерь».
Из ответа на запрос семьи поэта:
Смоленский Борис Моисеевич, 1921 г. рождения, уроженец города Новохоперска, призванный в С. А. райвоенкоматом г. Москвы, значится погибшим 16 ноября 1941 г. Похоронен: н/п Падун Медвежьегорского района, Карело-Финской ССР.
Когда-нибудь участники поискового движения найдут его вещмешок со стихами и дневниковыми записями. Скрученные листки из блокнота он мог положить в гильзы или спрятать в пустой фляге.
В его довоенных черновиках есть две скупых строчки. Борис не оставил к ним комментария, но они, наверное, и не нужны.
И на Карельском перешейке
Еще находят наши дневники.
Стихотворения Бориса Смоленского[5]
* * *
Моя песня бредет по свету,
Как задорный посвист моряны,
Как струя горячего света,
Как зеленый вал океана…
Капитаны, на шхунах-скорлупках
Уходившие в море без слов,
Берегли, как любимую трубку,
Синий томик моих стихов.
Лейтенант, что с фортами спорил,
Что смеялся над злостью стихий,
Южной ночью читал над морем
Мне на память мои стихи.
1936
* * *
Берег печаль расставанья таит,
Значит – прощай, земля!
Мы променяли игрушки твои
На быстроту корабля.
В резком норд-весте скрипит такелаж,
Взлет и провала момент.
Вырвется выстрелом вымпел наш,
Взовьется полощущий тент.
Парус по ветру тоскует давно!
Шторм, бригантину креня,
Резким порывом бросает одно:
Что же, прощай, земля!
Машут нам тучи прощанием дня,
Низко над морем бегут.
Мы отправляемся – слышишь, земля, —
Звезды срывать на бегу!
Гребни форштевень, как нож, распластал,
Валятся мачты вперед.
Пенистый след за кормою отстал —
Слышишь, как юнга поет?
Вновь улыбнется нам Южный Крест,
Ветром полны лиселя.
Берег исчез, крепнет норд-вест,
Значит – прощай, земля!
1937
Гулливер
Я все еще исполнен детской веры,
Что, силу в одиночестве растя,
Меж нами проживают Гулливеры,
Прикованные к собственным страстям.
Но из упорной гордости мышиной,
Что все, мол, одинаково должны,
Портные по старинному аршину
Кроят им лилипутские штаны.
И Гулливер живет среди уродцев,
Но ночевать не может в их домах,
И только все, за что он ни берется,
Имеет гулливеровский размах.
А лилипуты с прытью обезьяньей
Кричат ему:
– Довольно! Не рискуй!
А непомерность всех его деяний
В тоску и грусть вгоняет мелюзгу.
Тогда, отчаясь, он идет к заливу
И бродит под луною по ночам,
Влюбляется, конечно, несчастливо,
Отступится – и сразу закричат:
– Ты не хотел, как мы, так получай же!
Мы раньше знали. Ах, какой кошмар! —
Бьют розгами, конечно, не случайно,
Плюют в глаза, а пачкают башмак.
И только вот когда он умирает
И дело нужно подводить к концу
Могильщик лилипутий заявляет,
Что трех аршин не хватит мертвецу.
И все скорее плакать:
– Умер милый!
Он жил средь нас.
Каким он был большим! —
И роют поскорей ему могилу
Уже на гулливеровский аршин.
1937–1938
* * *
Переполнен озорною силой,
Щедрый на усмешку и слова,
Вспомню землю, что меня носила,
И моря, в которых штормовал.
Вспомню дни скитаний и свободы,
Рощи, где устраивал привал,
Реки, из которых пил я воду,
Девушек, которых целовал…
По ночам работается лучше,
Засыпают в городе огни…
Над домами, по прозрачным тучам
Бродит месяц, голову склонив.
Я ему открыл окно ночное,
В мире – тишина и синева…
Заходи, поговори со мною —
Долго не видались, старина…
1939
* * *
Пустеют окна. В мире тень.
Давай молчать с тобой,
Покуда не ворвется день
В недолгий наш покой.
Я так люблю тебя такой —
Спокойной, ласковой, простой…
Прохладный блик от лампы лег,
Дрожа, как мотылек,
На выпуклый и чистый лоб,
На светлый завиток.
В углах у глаз – теней покой…
Я так люблю тебя такой!
Давай молчать под тишину
Про дни и про дела.
Любовь, удачу и беду
Поделим пополам.
Но город ветром унесен,
И солнцу не бывать,
Я расскажу тебе твой сон,
Пока ты будешь спать.
1939
* * *
В эту ночь
Даже небо ниже
И к земле придавило ели,
И я рвусь
Через ветер постылый,
Через лет буреломный навет.
Я когда-то повешен в Париже,
Я застрелен на двух дуэлях,
Я пробил себе сердце навылет,
Задохнулся астмой в Москве.
Я деревья ломаю с треском:
– Погоди, я еще не умер!
Рано радоваться, не веришь?
Я сквозь время иду напролом!
В эту ночь я зачем-то Крейслер,
В эту ночь
Я снова безумен,
В эту ночь
Я затравленным зверем
Раздираю ночной бурелом.
1930-е
* * *
Как на башне желтой долго
Колокол бьет тяжелый,
И на ветер желтый долго
Раскрываются звоны.
Но на башне желтой гулкий
Колокол сник тяжелый.
Только ветер пылью света
Одевает голых.
По дорогам горе бродит,
Созывая к бою.
Горе, коль народ в разброде,
А страна в разбое.
(Из переводов Ф. Г. Лорки) 1930-е
* * *
Учебник в угол – и на пароход,
В июнь, в свободу, в ветер, в поцелуи.
И только берега, как пара хорд,
Стянули неба синюю кривую.
* * *
Я круга карусели не нарушу,
Игра закономерна и горда.
Но что любовь? Прелестная игрушка,
Иль ветром перерезана гортань,
Или плевок под грязными ногами,
Или мираж над маревом морей,
Иль просто сердце вырывает Гамлет
Скорее,
чтоб не жгло,
чтоб умереть…
1939
* * *
Сегодня наш последний вечер,
Темно, и за окном январь.
Ни слова, ни огня, ни крика.
Пусть тишина, как на пари.
Открой рояль. Сыграй мне Грига
И ничего не говори. Молчи.
Пусть будут только тени
На клавишах и на висках.
Я спрячу голову в колени,
Чтоб тишину не расплескать.
1939
* * *
Полустудент и закадычный друг
Мальчишек, рыбаков и букинистов,
Что нужно мне? Четвертку табаку
Да синюю свистящую погоду,
Немного хлеба, два крючка и леску,
Утрами солнце, по ночам костер,
Да чтобы ты хоть изредка писала,
Чтоб я тебе приснился… Вот и все.
Да нет, не все… Опять сегодня ночью
Я задохнусь и буду звать тебя.
Дай счастье мне! Я всем раздам его…
Но никого…
1939
* * *
А если скажет нам война: «Пора», —
Отложим недописанные книги,
Махнем: «Прощайте» – гулким стенам институтов
И поспешим по взбудораженным дорогам,
Сменив слегка потрепанную кепку
На шлем бойца, на кожанку пилота
И на бескозырку моряка.
1939
* * *
Я сегодня весь вечер буду,
Задыхаясь в табачном дыме,
Мучиться мыслями о каких-то людях,
Умерших очень молодыми,
Которые на заре или ночью
Неожиданно и неумело
Умирали,
недописав неровных строчек,
Недолюбив,
недосказав,
недоделав…
1939
* * *
Найди на рукописи смятой
Клочки слепых бессвязных строф.
Так пахнут тишиной и мятой
Полотна старых мастеров,
Так слову душно в тесной раме,
Так память – зарево костра,
Так море пахнет вечерами,
Так морем пахнут вечера.
1941
1. Письмо матери Бориса Смоленского
2. Борис Смоленский
3. Автограф стихотворения
Георгий Вайнштейн 22 года
«Белым снегом засыпает черные ресницы…»
Рядовой. В 1941 году ушел добровольцем в ополчение. Обстоятельства гибели неизвестны.
«Стихотворений последних лет в личном архиве не осталось, что не значит, что их нет нигде. Может, их отдавали писательнице Дубинской, когда она собиралась писать книгу о Жорике. Может, где-то в архивах…
От семьи Жорика не осталось никого. Все, кажется, было за то, чтобы Жорика забыли все и навсегда.
Но его не забыли. Тетрадь со стихами Георгия хранится у меня».
А. Анпилов
Рассказывает поэт Андрей Анпилов:
Жорик Вайнштейн родился в 1919 году. Сто лет прошло.
Есть фото 1924 года, в Берлине. Может, отец там работал по торговой линии. Может, тетя Фанни была по старой памяти с концертами и вывезла сестру с племянником.
Как бы то ни было, детство Жорика было сравнительно золотое, книжное. Один ребенок на всю семью, на двух сестер и брата.
Георгий Вайнштейн учился в ИФЛИ[6] с 1939-го, писал стихи, в 1941-м ушел добровольцем на войну и не вернулся. Немного стихотворений осталось да перевод плача Ярославны.
В интернете нашлись два фрагмента из мемуаров. Про школу и про институт.
«Есть в списке и Жора Вайнштейн. Он вспоминается пухленьким маменькиным сыночком. Они жили вдвоем с матерью, отца у Жоры не было. Мать его боготворила и частенько провожала в школу.
Жоржик тоже ушел на фронт и пал смертью храбрых в бою. Потом мы все узнали, что мама Жоржика не смогла вынести горя. Она выбросилась из окна той комнаты, где так счастливо жила до войны со своим единственным сыном…» (Надежда Манжуло)
«Жора Вайнштейн тоже был эрудитом, из числа ходячих энциклопедий. Он мог часами не закрывать рот, выдавая разнообразную информацию. От него я узнал о переводах Омара Хайяма, сделанных Тхоржевским, о чудесных дневниках Жюля Ренара… Жора хорошо знал немецкий, переводил Гейне, писал и сам стихи… Их (нескольких друзей мемуариста, ифлийцев. – А. Анпилов) стихи были книжные, с литературными героями. В них не было никакого бряцания оружием и «всех победим»… Их мир – это мир одиноких чудаков, способных страдать, но неспособных на зло.
Со своими стихами они не вылезали на трибуну и не мнили себя будущими поэтами, которые теперь могут пренебрегать науками. Интересы их были связаны с книгами, умудрялись они как-то оставаться вне житейского и вне буршеско-студенческого. Фигуры их сугубо штатские, они были освобождены не только от армии, но даже и от физкультуры. Однако каким-то образом оказались в армии и не вернулись…
Они были несколько странными – то, что называлось „заумными“, и трудно представить, что им могла предложить грядущая эпоха, если бы они остались живы…» (Г. Н. Эльштейн-Горчаков)
Георгия Вайнштейна не вспоминают в кругу сокурсников и в кругу тех, кто был чуть моложе и кто вернулся стихами – Когана, Кульчицкого, Майорова.
В РГАЛИ, кстати, есть записка, написанная рукой Пастернака: «Пропустить на мой вечер студентов Павла Когана и Георгия Вайнштейна».
Стихи, что остались от Жорика, – с печатью дара, хотя еще неизвестно – какого. Переводчик бы вышел точно, судя по ученому складу и отзывам – литературовед бы получился нерядовой.
А может – и настоящий поэт.
Жаль, что сохранившаяся тетрадь – школьная еще. Стихи памяти Кирова, Первое мая, лирика, перевод, проба сюжета… С этими вещами Жорик пришел в ИФЛИ. Много совсем детского и газетного: взвейтесь-развейтесь.
Видно, что на слуху девятнадцатый век, Лермонтов. И двадцатый – Маяковский, Багрицкий, Светлов.
Опыта еще никакого, одни предчувствия. Ветер, буря, шторм, пурга.
Не обманули предчувствия, когда в 1938-м Жорик писал:
Белым снегом засыпает
Черные ресницы…
Жорик
Две строки в тетрадке детской:
«Черные ресницы
Белым снегом засыпает…» —
Только сохранится,
Фотография на память —
Эта пара строчек,
Жил на свете мальчик Жорик,
Маменькин сыночек.
Умник, неженка, любимчик
Дядин, сбоку бантик,
Сладкоежка и отличник,
Скептик и романтик,
Стал бы, может, русским Гейне,
Мог в живых остаться,
Или парадоксов гений,
Вроде Померанца.
Белым снегом засыпает
Черные ресницы,
Словно буквы заметают
Белые страницы,
Как с ифлийским факультетом —
Филоло́г, историк —
Стал убитым ты поэтом
В сорок первом, Жорик.
Принял в сердце пулю-дуру,
Покачнулся слепо,
Не вошел в литературу,
А шагнул на небо.
Был ты маменьким сыночком
И надеждой дяди,
Пожелтевшим стал листочком
В клетчатой тетради.
Не ходил ты, бедный Йорик,
В ногу общим строем,
Стал ты снегом, тихий Жорик,
Ветром и героем.
Тихий мальчик засыпает,
Словно песня снится:
«Белым снегом засыпает
Черные ресницы…»
Андрей Анпилов
Январь 2019
Стихотворения Георгия Вайнштейна[7]
Прощание
В черной мгле зажглась звезда далекая,
Буйный ветер зарыдал и стих,
Ты ушла печально, одинокая,
Бросив мне холодное «прости».
................................
И я вспомнил тот весенний вечер,
Когда милой я тебя назвал,
В этот вечер нашей первой встречи,
Помню… я тебя поцеловал.
Это ложь, что мы с тобой расстались,
Это ложь, что ты ушла в туман,
Ты ушла – вокруг меня осталась
Только ночь, сводящая с ума.
Буйный ветер воет и рыдает,
Сердце мне своей тоскою рвет,
Это по тебе, моя родная,
Ураган бушует и поет.
Это по тебе, моя родная,
Майской ночью соловьи грустят,
Твой туманный облик вспоминая,
Вспоминая твой печальный взгляд.
Пусть же громче завывает вьюга,
Заглушив бренчание гитар,
Так прощай же, милая подруга,
Пропадай, крылатая мечта.
Я пошел дорогою далекою,
Я сложил печально-звонкий стих,
Я догнал подругу черноокую
И вернул последнее «прости».
В черной мгле зажглась звезда далекая,
Злобный ветер зарыдал и стих…
Ты ушла печально-одинокая,
Унося мой запоздалый стих.
Плач Ярославны[8]
Ранним утром, светлым утром
Ярославна причитает,
Одинокою кукушкой
Робко голос подает.
Ранним утром, светлым утром
Ярославна причитает.
И тоскует и рыдает
У Путивлевских ворот.
«Я кукушкой полетаю
По широкому Дунаю,
Над Каялой помахаю,
Я бобровым рукавом.
Рану Игоря промою
Я студеною водою,
Чтоб он смог опять сражаться
С басурманом Кончаком».
Ранним утром, светлым утром
Ярославна причитает,
И горюет и тоскует,
И кукует и поет:
«О могучий славный ветер,
Ты летишь на легких крыльях,
Ты качаешь и волнуешь
Мутно-синий небосклон…»
Унеси меня, могучий,
За туманы, скалы, тучи,
Где парят под облаками
Только соколы да ты.
Ах, зачем, владыка-ветер,
Ты развеял мою радость,
Растрепал мою одежду,
Разорвал мои цветы?»
Ранним утром, светлым утром
Ярославна причитает,
И томится и вздыхает,
И страдает и поет:
«Днепр могучий и прекрасный,
Ты пробил ущелья в скалах,
Сделай так, чтоб я не знала
Ни печалей, ни забот.
Днепр могучий и прекрасный,
В нежной зыбкой колыбели
Ты баюкал, ты лелеял
Станиславовы ладьи.
Почему же ты не хочешь
Мужа милого взлелеять?»
Ранним утром, светлым утром
Ярославна причитает,
Ярославна тихо плачет,
Ярославна слезы льет:
«Солнце, радостное солнце,
Ты сверкаешь изумрудом,
Но твоя улыбка, солнце,
Гибель Игорю несет…»
Ранним утром, светлым утром
Ярославна причитает,
Одинокою кукушкой
Робко голос подает.
И тоскует и рыдает
У Путивлевских ворот.
1935
Вечер
Мутный вечер, звезды светят,
Грохают трамваи,
И толкает в спину ветер,
Думать помогает.
Ветер яростный и грозный —
Злобно рвет и мечет,
Он срывает с неба звезды,
Словно это свечи.
Он бушует и рыдает,
Он ревет и злится…
Белым снегом засыпает
Черные ресницы.
В небе матовым кораллом
Светит месяц тускло.
Только… отчего вдруг стало
Тяжело и грустно?
Знать, недаром дико воет
Ураган могучий.
Над моею головою
Понависли тучи.
Знать, недаром ветер воет
И плюется стужа…
Над моею головою
Черный ворон кружит.
Темнота. Вдали лишь виден
Свет от светофора,
Да на небе ходит месяц —
Старый желтый ворон.
Звезды в небе – словно свечи:
Светят, да не греют.
Пролетай, проклятый вечер,
Что ли, поскорее.
1938
1. Жорик Вайнштейн, 1924 г.
2. Георгий Вайнштейн, 1941 г.
3. Московские ополченцы уходят на фронт 23 июня 1941 г. Из фотохроники
1942
Поэт был бледен от ранений.
Почти что мальчик был поэт,
Но им владело вдохновенье.
Был Сталинград. И был рассвет.
Семён Гудзенко
НИКОЛАЙ МАЙОРОВ 22 года
ВАСИЛИЙ КУБАНЁВ 21 год
АЛЕКСАНДР ПОДСТАНИЦКИЙ 20 лет
ПАВЕЛ КОГАН 24 года
ЕВГЕНИЙ ПОЛЯКОВ 21 год
ВЛАДИСЛАВ ЗАНАДВОРОВ 28 лет
НИКОЛАЙ КОПЫЛЬЦОВ 22 года
Николай Майоров 22 года
«Мы лишь дети, которых снова ждут домой…»
Рядовой, помощник политрука пулеметной роты 1106-го стрелкового полка 331-й Брянской Пролетарской стрелковой дивизии. Погиб 8 февраля 1942 года у деревни Баранцево Смоленской области.
Самая важная прижизненная публикация Николая Майорова появилась 1 мая 1940 года в газете «Московский университет». Тогда было напечатано стихотворение-манифест «Мы». Прочитав его, Михаил Кульчицкий записал в дневнике: «Майоров – глыба»[9].
Но для литературных чиновников Коля оставался выскочкой, провинциалом, которого полезно щелкнуть по носу. Один редактор на папке со стихами Майорова написал: «…не подходят. Вернуть автору».
Коля не унывал. Поэт Николай Глазков вспоминал: «Коля Майоров никогда не сомневался, что он поэт, но не искал этому подтверждения. Для него была характерна та спокойная уверенность, которую я встречал у знакомых мне летчиков…»
Николай Майоров родился в деревне Дуровке Сызранского уезда Симбирской губернии. Через полгода семья вернулась на родину отца – в деревню Павликово Гусевского уезда Владимирской губернии, где прошло детство поэта. В 1929 году семья Майоровых переехала в Иваново-Вознесенск. Николай Майоров окончил ивановскую 33-ю среднюю школу (ныне это школа № 26 им. Д. А. Фурманова). В 1937-м он поступил на исторический факультет Московского университета. Входил в литературную студию при газете «Московский университет», посещал семинары в Литературном институте им. А. М. Горького.
В 1939-м Коля сделал предложение Ире Пташниковой, и они решили пожениться.
Но девушку, увлеченную археологией, альпинизмом и верховой ездой, напугала перспектива погрязнуть в быту. Она мечтала заниматься наукой. На каникулы умчалась в экспедицию в Среднюю Азию, оставив Колю с разбитым сердцем.
Николай с горя написал стихи о том, что он «в полубреду» за четыре строчки Бориса Пастернака готов и от любимой отказаться.
Когда к осени Ира вернулась, запальчивые стихи Коли дошли до нее. Он пытался неловко объясниться, но девушка смертельно обиделась.
И полвека спустя ей тяжело было вспоминать об этом эпизоде: «Ну как же так? Сперва прям… вот как! Ах, любовь! А потом вдруг… В то время мы были максималистами…»
А потом – 1941 год.
Из воспоминаний Ирины: «Окна были широко открыты. И не все сразу поняли, что же произошло, когда с площади донеслась передаваемая всеми радиостанциями Союза грозная весть. Но все, один за другим, вдруг поднялись и вышли на улицу, где у репродуктора уже собралась толпа. Война!.. Помню лицо пожилой женщины, в немом отчаянии поднятое к репродуктору, по нему текли слезы… У нас с Николаем в это время как раз была размолвка. Увидев друг друга, мы даже не подошли, поздоровавшись издали…»
Поэт, счастливый в любви, редко о ней пишет. Коля почти каждый день писал о любви. В этих стихах было много ревнивых нот, много юношеской горести – Коля был невысок, не широк в плечах, не умел «производить впечатление».
Идти сквозь вьюгу напролом.
Ползти ползком. Бежать вслепую.
Идти и падать. Бить челом.
И все ж любить ее – такую!
Забыть про дом и сон,
Про то, что
Твоим обидам нет числа,
Что мимо утренняя почта
Чужое счастье пронесла…
Товарищ его юности Даниил Данин вспоминал о Коле: «Ничего завидного во внешности – ничего впечатляющего, что заставило бы на улице оглянуться прохожего… Еще меньше, чем на поэта, Николай Майоров был похож на записного героя».
В стихах он часто говорил о себе – «нескладный».
Я шел веселый и нескладный,
Почти влюбленный, и никто
Мне не сказал в дверях парадных,
Что не застегнуто пальто…
Столичные девушки не видели в нем гения. Для них он был просто парнишкой из Иванова, который пишет стихи. На их надменность он отвечал дерзостью:
Мне нравится твой светлый подбородок
и как ты пудру на него кладешь.
Мальчишку с девятнадцатого года
ты театральным жестом обоймешь…
Николай учился на втором курсе истфака, когда понял, что его призвание – поэзия. Из автобиографии, написанной 4 сентября 1938 года при поступлении в Литературный институт: «Подаю заявление о принятии в Ваш институт, ибо хочу одновременно с историческим образованием получить литературное. Все более и более убеждаюсь, что хороший историк должен быть и литератором и – наоборот. Кроме того, очень люблю литературу и, несмотря на трудность работы в двух институтах, очень желал бы являться студентом Вашего института. Вот уже несколько лет я пишу стихи, имею несколько прозаических опытов. Стихи печатал в университетской многотиражке. В „Вечерней Москве“ была помещена моя статья о профессоре нашего университета Т. Н. Грановском…»
В начале июля 1941-го Ира и Коля расстались навсегда.
Из воспоминаний Ирины: «Я очень хорошо помню этот вечер. Заходило солнце, и запад был багровым. На широком дворе выстроились повзводно уезжающие на рытье окопов студенты. Помню Николая в этот момент – высокий, русоволосый, он смотрел на кроваво-красный запад широко распахнутыми глазами… Видно, и у меня в этот момент шевельнулось тяжелое предчувствие и горестно сжалось сердце, только я бросилась к Николаю, и мы крепко обнялись. Это была наша последняя встреча…»[10].
Перед уходом Николай оставил портфель с рукописями знакомым. Портфель не найден до сих пор.
Осенью 1941-го Коля прошел пешком пол-России с такими же, как он, вчерашними студентами и школьниками. Для них не хватало вагонов и грузовиков, как потом для них не хватило оружия, боеприпасов и просто хлеба. Какие стихи стучали Николаю в виски на этом пути, мы никогда не узнаем.
В январе 1942-го 1106-й стрелковый полк, в котором служил вчерашний студент Коля Майоров, удерживал деревню Баранцево на Смоленщине. Все, что могло в деревне гореть, сгорело. Рыть окопы в сорокаградусные морозы и под шквальным огнем было невозможно, укрытия не найти. Они лежали в сугробах с допотопными винтовками, отстреливаясь, пока могли.
Рядовой Николай Петрович Майоров погиб 8 февраля 1942 года.
Рядовой Майоров. Это звучит так же, как если бы написать: рядовой Пушкин. Останься Коля жив, он вырос бы в великого русского поэта. Стихи Майорова говорят об этом.
О том же нам говорит и дата его гибели: 8 февраля. Тот самый день, когда Пушкин был смертельно ранен на дуэли.
После войны Ирина Пташникова долго искала могилу Коли. Оказалось, что в похоронке было неверно указано название деревни: написали Баренцево вместо Баранцево.
Приехав в эту маленькую деревушку, Ирина нашла заброшенный холмик, где, по словам местных жителей, во время войны были похоронены два бойца. Как их звали – никто не ведал.
Не удалось Ирине найти и однополчан Коли. Даже когда в начале 1960-х на всю страну прогремела посмертная слава Николая Майорова, никто из его фронтовых товарищей не откликнулся. Видно, некому было откликаться.
Сейчас имя Николая – на одной из плит мемориала в селе Карманове Гагаринского района Смоленской области. Недавно кармановской школе присвоено имя Николая Майорова.
Память о поэте бережно хранят и в ивановской школе № 26, где учился Майоров. Здесь воссоздан его класс.
Горько, что утрачен дом, где жили Майоровы. На рубеже 1990-х его снесли, не смутившись тем, что на доме была мемориальная доска в память о Коле.
Из «Ходатайства Секретариата правления Союза писателей СССР о выплате родителям погибших на фронтах Великой Отечественной войны, а также на Финском фронте поэтов Н. П. Майорова, П. Д. Когана, М. В. Кульчицкого и Н. К. Турочкина гонорара за издание сборника „Сквозь время“, 25 января 1965 года»:
Родители Н. Майорова – отец Майоров П. М., 82 лет, получает пенсию по старости в размере 45 рублей в месяц, мать – Майорова Ф. Ф., 76 лет, получает пенсию за сына в размере 16 рублей в месяц…
Письма Николая Майорова Ирине Пташниковой
Сентябрь 1941
Ирина, здравствуй!
Недавно мне Н. Шеберстов передал твою открытку – спасибо, что ты еще помнишь обо мне. Когда я находился на спецзадании, я почему-то не отчаивался получить от тебя письмо. Но представь себе, всем писали, я же почти все 2 месяца не имел ни от кого ни одного письма. И ты не догадалась. Адрес же наш всему истфаку был известен. Ну да ладно – не сетую. Чем это я заслужил от тебя письмо? Конечно, ничем.
А все-таки ждал.
В Москву прибыли 9 сентября. Я страшно загорел, окреп. Работать было очень трудно, но об этом когда-нибудь после подробнее расскажу, если удастся свидеться.
…В 418 школе на одной двери нашел случайно твою фамилию: ты там жила. Как был бы я рад, если бы там жила ты и сейчас!
Но я бью себя за излишнее проявление лирического восторга. В райвоенкомате прошел медкомиссию. Ждем, когда возьмут в армию. А когда, неизвестно: может, сегодня вечером, а может – через месяц. Я получил назначение на работу в Можайск, но это – простая формальность. Я не безногий, чтоб ехать на работу. Из Москвы выезд райвоенкоматом запрещен.
Если после войны буду жив, буду проситься работать в Среднюю Азию, – мне надо найти тебя. Когда это будет и будет ли?
Почти все ребята успели сдать госэкзамены и получить дипломы. А я – прогулял. Возможно, сдам числа 15-го, а не сдам – пусть…
Ты в открытке желаешь мне мужества, если буду в бою. Спасибо. Хотя ты знаешь, что в этом деле я не отличусь, но что могу сделать – сделаю.
Ну, желаю тебе здоровья в счастья! Живи хорошо. Целую.
Ник.
P. S. Все же смею надеяться на твое письмо. Привет от К. Титова, Н. Шеберстова и В. Малькова, которые всегда хотели видеть, чтоб я был вместе с тобой, а посему особенно зло лают на меня сейчас. Я не утерплю и вслед этому письму пошлю второе.
22 октября 1941
Здравствуй, Ирина!
Опять хочется тебе писать. Причем делаю это без надежды получить от тебя ответ: у меня нет адреса. Сейчас я в армии. Мы идем из Москвы пешком по направлению к Горькому, а там – неизвестно куда. Нас как население, годное к службе в армии, решили вовремя вывести из Москвы, которой грозит непосредственная опасность. Положение исключительно серьезное. Я был раньше зачислен в Яросл<авскую> летную школу. Но когда вокруг Москвы создалось напряженное положение, меня мобилизовали в числе прочих. Сейчас направляемся к формировочному пункту, расположенному где-то около Горького. 15–16–17 октября проходила эвакуация Москвы. Университет эвакуируется в Ташкент, к тебе. Ребята вышли из Москвы пешком – эшелонов не хватило. Многие ребята с нашего курса поспешили сняться с военного учета и смыться заблаговременно из Москвы. Меня эта эвакуация прельщала не тем, что она спасала меня в случае чего от немецкого плена, а соблазняла меня тем, что я попаду в Ташкент, к тебе. В конце концов, я перестал колебаться, и мы вместе с Арчилом Анжапаридзе (только вдвоем) не снялись с учета и вот сейчас уже находимся в армии. Вообще, подробно тебе об этих днях – по-своему интересных – расскажу после.
Идя в армию, я лишал себя возможности увидеть скоро тебя. А хотелось видеть тебя!
Сейчас нас, людей самых разных возрастов и профессий, ведут по шоссе Энтузиастов по направлению к Мурому. Идем пешком. Устали ноги. Прошли Ногинск и Покров. В какую часть я попаду – не знаю. Адреса у меня пока нет… Хотелось бы видеть, какая сейчас ты? Целую крепко (очень). Ник. Извини, письмо без марки – нет.
8 ноября 1941 года
Здравствуй, Ирина!
Опять пишу. Мы уже за Арзамасом. Скоро перейдем Волгу. В общей сложности мы должны пройти пешком около 1000 км, из них половина осталась за спиной. Через месяц, возможно, наконец прибудем на формир<овочный> пункт, а там неизвестно, куда определят. От фронта мы почти также сейчас далеки, как я сейчас далек от тебя. Очень беспокоюсь за братьев, а равно и за родителей. Едва ли сейчас в Иванове спокойно.
В Муроме встретили некоторых ребят из Унив<ерсите>та, они эвакуируются (= бегут) в Ашхабад (а не в Ташкент, как я было писал тебе). Среди них Б., Х., Л. и многие др. Увидев нас (меня и Арчила) в шинелях <…>, оглядывали нас, как старик Бульба сыновей своих некогда. Пятый курс (не наш) в большинстве своем вот так маскируется по эшелонам, направляющимся в Среднюю Азию.
Ну, живу пока ничего. Тяжеловато, но кому нынче легко? О тебе думать хочется, а еще больше – видеть тебя. Ты не обязана этому верить – я знаю. Смеешься, поди, небось?
А это – так. Жалею, что у нас неловко все как-то вышло, виноват целиком я, па-а-длец! А самое страшное – едва ли удастся увидеть тебя, слишком взаимно противоположные направления приняли дороги наши. Мне 22 года, впереди армия, фронт и вообще черт знает что. Еще страшнее то, что ты думаешь обо мне, пожалуй, не совсем хорошо. И – права. Вот и стучу себя в грудь кулаком, а иногда такое настроение – забыла; ладно, все перемелется… А верстовые столбы без конца, идешь-идешь, думаешь-думаешь и опять где-нибудь выплывешь, и все – сызнова. Курю. Думаю. Ругаю. Всех. Себя. Иногда разговаривать ни с кем не хочется. Даже с Арчилом. Насуплюсь и молчу. Тяжело идти, но я, дай бог, более или менее вынослив. Плохо очень с питанием. Есть с чего быть злым. Сплю на шинели, шинелью покрываюсь, в головах – тоже шинель. Не подумай, что их – три шинели. Все это случается с одной шинелью.
А рядом идут куда-то поезда. Может, и в Ташкент. И вдруг рассердишься – да что я, в самом деле? Перемелется все. Будем веселыми. И ты хорошо живи: веселей, бери все, что можно, а вообще мне тебя не учить. Это я просто от злости, бешусь. Злых я люблю, сам – злой. Ну, целую. Еще раз, еще. Ваш покорный слуга. 8 ноября 41. И зачем я пишу все это? А?..
18 декабря 1941
Ирина, здравствуй!
За последнее время никому так много не писал писем, как тебе. Не знаю, радоваться или плакать тебе по этому случаю. Домой я не писал полтора месяца, – не знаю, что уж обо мне там теперь думают. О братьях ничего не слышу. А как бы хотелось все обо всех знать! Сегодня, 18 декабря, ровно 2 месяца, как я в армии. По этому случаю и пишу, домой, тебе, братьям. Я чуть было не был демобилизован (по приказу по НКО о дипломниках), но почему-то задержали. А то я хотел было ехать в твои края. А теперь перспектива такова. До Нового года нас обещают маршевой ротой отправить на фронт. Но яснее никто ничего не знает. Скучна жизнь, да ничего не поделаешь, война. Многого бы хотелось, да не все есть. Сейчас приходится меньше требовать, а больше работать.