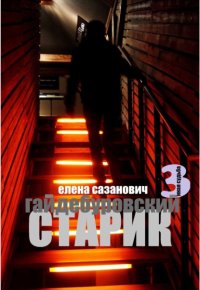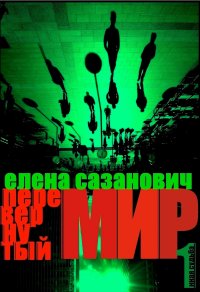Читать онлайн Убить Гиппократа бесплатно
- Все книги автора: Елена Сазанович
© Сазанович Е.И., 2022
© ООО «Издательство «Вече», 2022
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2022
Сайт издательства www.veche.ru
«…Я написал эту невероятную историю на всякий случай. Да, она невероятна, но не фантастична, поверьте! Я не знаю, сможете ли вы мне поверить. И главное – захотите ли. И не захотите ли признать меня просто сумасшедшим. Ведь это проще всего. Гораздо проще, чем поверить. Или признать очевидное. Хоть и невероятное. Но у меня больше нет входа и выхода, кроме как написать Это. Мало ли что… Мало ли что может со мной случиться. Время такое… Впрочем, не будем о времени, это другое измерение. И не мне в нем разбираться. Да и работает оно не на меня. Мне не повезло. Как и многим… И даже если я напрасно написал это письмо… Даже не письмо это вовсе. Письмо все равно – нечто лаконичное и личное. А то, что я написал… Не знаю, какое этому дать определение. Какую подобрать формулировку. Литератор бы назвал это прозой (даже если негодной). Прокурор – признанием (даже если неполным). Но то, что есть у меня на руках, то и есть. Негодное или неполное – это и есть. И пусть. Это все равно будет. Хоть время не в моей компетенции, но одно я знаю наверняка – оно бесконечно. Значит, есть шанс, маленький шанс, что когда-нибудь время поработает и на меня. И на мою правду. Хотя я сам в это почти не верю…
С уважением, Георгий Павлович Кратов
Впрочем, проще вы меня вычислите по моему прозвищу Гиппократ. Хотя, прошу прощения, это прозвище нигде не указано. Ни в метрике, ни в паспорте, ни в дипломе, ни даже в справке о регистрации брака. Его знают лишь близкие. А близких… Мне кажется, близких у меня уже нет. Хотя трудно поверить, чтобы у человека не было близких. Но почему-то именно со мной это случилось. Впрочем, не думаю… Что только со мной… Это было бы совсем уж печально.
(Подпись)»
Я аккуратно сложил стопку исписанных листов в большой конвертный пакет. И даже скрепил сургучной печатью. На пакете большими печатными буквами написал: «Вскрыть в случае моей смерти». Осталось довериться адвокату, и все. Я ничего не забыл? Нет, пожалуй, ничего. И все. Только довериться адвокату. Хотя разве сейчас можно кому-нибудь доверять?..
Но я сам написал – если нет входа и выхода… И даже оконной форточки. Если выбирать не приходится… Приходится выбирать из того, что есть, даже если уже нет ничего…
Я вышел на улицу, сжимая в руках пакет. Я даже побоялся положить его в сумку, вдруг сумку где-нибудь оставлю? В метро, например. Или в кафе, куда я по пути собирался заскочить, чтобы выпить рюмочку для храбрости, чтобы избавиться от сомнений. Ох уж эти проклятые сомнения!.. Жить людям мешают на свете две вещи – они сами и их сомнения.
Ну, зачем столько сегодня солнца? Зачем? Его же так долго не было! Так долго не приходила весна! И мне это было только на руку. Вернее, на руку моему настроению. Хотя у настроения нет рук. И эта моя мысль была совершенно неверной, даже безграмотной.
Черт, мысли путаются, путаются, хотя я еще даже не выпил. Может, если выпью, мысли обретут свой природный порядок? Не знаю, я уже давно ничего не знаю. Что делать, что не делать. И, к сожалению, слишком много понимаю. Лучше бы я ни черта не понимал! Насколько было бы проще. Как я завидую, искренне завидую людям, которые ничего не понимают и не хотят понимать. Они просто живут. Просто, просто. С сомнениями или без. Какое это имеет значение? Вот для них, наверное, и солнце в радость! Наконец-то – думают люди. И так ведь просто радоваться солнцу. Хотя бы только солнцу, даже если уже радоваться нечему. А может, я слишком упрощенно думаю о людях? Или о солнце?.. Опять, черт, опять ничего не знаю!..
Я зажмурил глаза, слезившиеся от солнечного света. Какой природный парадокс! Чтобы ни случилось, солнце может светить всегда! Даже если сейчас упадет атомная бомба. Даже в это время будет светить солнце! Как будто ничего не случилось. Как будто солнцу все равно!..
Нет, я не прав, конечно, не прав… Я давно заметил, как природа реагирует на время. В каждом времени свое время года. И даже если солнце приходит в свой час, оно все равно другое. Вот как сейчас. Больное, что ли… Как красивый, светлый, но больной человек…
Боже, я все о своем. О больных и болезнях. Вот у меня уже солнце даже стало больным. И это правда. Этот неестественно яркий свет, пыльный, дрожащий, как в лихорадке, сдавливающий со всех сторон, даже агрессивный. И какой-то обреченный, что ли… И операция уже не поможет… Только осталось время для завещания.
Интересно, если бы солнце могло написать завещание, что бы оно нам завещало? Завещало бы свой солнечный свет?.. И еще более интересно – кому бы все завещало? Нет, точно могу утверждать – кому угодно. Да кому угодно! Вон той гусенице, черно-белой, переползающей «на красный» светофора. Скорее, скорее к траве! Хоть какой. Грязной, мусорной, изувеченной, но траве… Или вон тому голубю. Белому с черными пятнышками. Прямо как далматинец. Как похожи!.. В природе мы все похожи. Гусеница на голубя, голубь на собаку, собака на человека, человек… Я не знаю, может быть, на медведя коала, а может, на пятнистую жабу-альбиноса…
Какая чушь лезет мне в голову! Наверное, потому, что солнце бьет мне прямо в макушку. Больное солнце. И заражает меня больными мыслями. Больными ассоциациями. Больное, больное солнце. И я ничем не могу ему помочь. Даже если я отличный врач. Я его не могу вылечить… Только время. Но у каждого времени свое солнце. Нам досталось такое… Больному времени – больное солнце. И нам от этого солнца еще, еще больнее. И мы сами больные… И мир болен. И его не спасут никакие лекарства и операции, никакие президенты и послы дружественных стран, никакие медики и священники…
Я перевел дух и вытер рукавом вспотевший лоб. Наконец-то вот оно, первое попавшееся кафе, где я смогу часок посидеть, выпить и подумать. И хотя мысли давно сводят меня с ума, все же они должны быть. Даже в сумасшедшем виде. Они как необходимо жизненные органы тела. Даже если мысли сводят с ума. Это как хроническая болезнь. Хотя, возможно, это просто крылатое выражение – мысли сводят с ума. Красивое выражение. Для поэтов. Для мудрецов. А иногда для простых обывателей. А на самом деле ничего они не сводят. Ерунда все это! А вот без них действительно грозит сумасшествие… Жаль, мы не знаем, сколько вокруг нас сумасшедших. А их с каждым годом все больше и больше! И так не хочется, чтобы мир стал одной большой палатой, в которую иногда заглядывает очень больное солнце… Которое никогда и никому не оставит своего завещания. На солнечный свет…
Я сел за столик и постарался отвлечься изучением меню. Пожалуй, мне это удалось. Я был голоден. Нервы шалили. И я хотел их успокоить – просто едой. Удивительно, но простые вещи так успокаивают! Вкусный бифштекс, бокал вина, теплая ванна, книжка, поцелуй… Да мало ли что… Впрочем, они меня уже давно не успокаивают.
Хотя я лгу. Сам себе. Меня иногда успокаивают транквилизаторы, которые я в последнее время стал принимать. Хотя как врач всегда был категорически против таких методов успокоения. И лишь в крайнем случае советовал их пациентам. Удивительно, как они настаивали на этом. Нет, не потому что были зависимы. В них жило другое. Более страшное, более безнадежное и более неизбежное. Они хотели вырубиться и уснуть. Смерти боялись. А вырубиться и уснуть – нет… Я вдруг подумал, что многие этого хотят. И их с каждым годом становится все больше и больше. Подсознательно, не признаваясь в этом даже себе, каждый просто хотел смерти. Он знал, что проснется, после транквилизаторов. Но ведь мог и не знать, если бы не проснулся… Меня пугала эта тенденция к нежеланию полной жизни, а лишь к полному покою. Ведь сон существует независимо от нас. И дело даже не в страхе перед бессонницей.
И однажды я принял эти правила игры в покой. Мнимый покой. Впрочем, я не утверждаю… Потому что уже тоже больше не мог… Просто жить. Все чаще мне хотелось вырубиться и уснуть. Я, наверное, плохой врач. Я не победил болезнь, а просто принял ее как неизбежность… Я слишком был уверен в себе. Есть вещи, которые теплой ванной не заглушить. И даже бокалом вина. Я это уже знаю. Точно знаю…
Я огляделся. Удачное место. Очень простое (ненавижу вычурные рестораны). А это… Даже можно назвать забегаловкой. Но было бы не точно и даже оскорбительно. Это было нарочито простенькое кафе. С деревянными столиками и деревянными лавками. И даже с репродукциями голландских художников на деревянных стенах. И даже с ромашками в глиняных горшочках. В таких кафешках наверняка любил бывать Моцарт. И в таких кафешках проще напиться. Хотя это и не Австрия. И при чем тут Моцарт вообще? Лучшее, чтобы он тут сделал, устроил маленький дебош. И ромашки бы валялись на полу, и разбитые осколки глиняных горшков, и синяк под глазом у официанта… Так что Моцарт тут ни при чем. Он только мешает. Вернее, помешал бы, если бы… И напиваться я не собирался, как он. Мне предстояло очень важное дело. И я положил пакет на колени. Вот так будет надежнее.
К столику приблизился молоденький официант.
– Я вас слушаю!
Господи, как он не похож на официанта, который посмел бы приблизиться к Моцарту. Впрочем, я больше чем ошибался. К Моцарту наверняка подходили и не такие. Но вот поверьте, Моцарт бы этого пальцем не тронул. Свой кулак пожалел. Таких было мало в те времена.
Официант улыбнулся. И вопросительно взметнул брови. Он ждал моего заказа.
И почему они всегда вот так делают бровями? Их так обучают? Где? В Оксфорде? В Кембридже? В колледжах Москвы, которые совсем недавно именовались ПТУ? Не важно. В ПТУ все же учили… А здесь… Улыбаться учат… Я давно уже не верил в эти улыбки… Впрочем, зачем я так? Может, он и неплохой парень. Может, даже добродушный. Вполне доволен жизнью. И посетителями. А может, и совсем наоборот. С тайными пороками и потаенными злобненькими мыслишками. Вот я с утра надумал отдыхать, а он вкалывает…
Тьфу, ты. Что со мной? Зачем я так? Какое мне вообще до него дело?! Как и ему до меня. Мы видим друг друга в первый и последний раз… Почему я подумал – последний? Почему? Ведь я могу еще не раз заглянуть в это кафе, оно не так далеко от моего дома…
– Вы уже выбрали? Могу предложить…
Как всегда – эта тягучая навязчивость. Как я хочу свободы!
Он не успел договорить, как я молча протянул бумажку, где записал блюда, которые хотел заказать.
Официант недоуменно повертел бумажку в руках.
Он не знал, да и как он мог знать, что я давно придумал такой способ, чтобы лишний раз не общаться с людьми. И прикидывался немым. И на листе бумаги мог написать все, что можно было сказать. Я давно понял, что не стоит тратиться на лишние слова. Жаль, что многие этого не понимают… И я как врач, как неплохой врач, заявляю – поменьше слов. Только это может продлить нашу жизнь и жизни других. Спасти от многих ошибок, разочарований, потерь. Вот такое незамысловатое лекарство для продления жизни я придумал когда-то. Может, это лекарство более философское. Но жаль, как жаль, что философия так и не стала наукой, способствующей развитию медицины. Хотя давным-давно. Очень давно. Это было именно так. В те времена, когда еще был жив Гиппократ…
– Но не проще было бы сказать, что вы желаете?
Официант вновь по привычке взметнул брови. Он был плохим учеником в колледже.
В ответ я промычал что-то нечленораздельное. Вот! Сработало! Официант сочувственно посмотрел на меня. И даже если он по натуре злобный и у него тайные пороки – на глазах подобрел.
Испытанный способ! Жалость! Вот сейчас жалость к немому. А если бы я имел неосторожность завести с ним диалог? Неизвестно, чем бы еще все закончилось. Нет, мои нервы мне еще пригодятся. А любой диалог хоть капельку нервов, но сжигает.
Официант даже слегка поклонился несчастному немому и удалился в кухню. Даю голову на отсечение, он быстро выполнит заказ. Во-первых, из-за жалости. А во-вторых, из-за того, чтобы я поскорее покинул их заведение, поскольку испытывать жалость никто не желает. Вызывающих жалость нигде не любят. И свои нервы жалеют все…
Но зачем я мысленно поклялся своей головой? Она и так еле держится. Нет, нужно быть осторожнее. Как нельзя разбрасываться словами, так и мыслями. Вот-вот, мыслями. Хотя они неизбежны. Хотя они неизбежно забивают голову. И голова тяжелеет, словно в нее забили тысячу гвоздей. Но нет, это не гвозди, это просто мысли.
Я потер виски, из которых торчала тысяча гвоздей. Но не поранил пальцы. Господи! И страшно, и нет! Как-то нет страха, когда за спиной смерть. И когда он исчезает? Если реально чувствуешь смерть. Если уже знаешь. Я знаю уже наверняка как врач, что люди, обреченные и знающие о своем обречении, не испытывали такого страха, как здоровые и счастливые. Они думали о другом. Это не страх. Это какое-то… Какое-то уже другое, что ли, измерение. Или уже понимание, ну, хотя бы начало понимания жизни и ее конца. И, скорее, желание высказаться. А может, и наоборот. И просто подумать, как помочь близким, чтобы им стало легче. Я не знаю…
Близкие… Были ли они у меня? Конечно, ну, конечно же, были. И я, наверное, до конца не понимал, что теряю, когда они уходили. Ведь кроме близких никто нам помочь не может. И мне уже никто не может помочь…
Вот отец… Он словно предчувствовал смерть. Хотя был не из тех, кто скажет – предчувствую. Он был настолько реален, настолько правилен, что ли, настолько правдив… Он не понимал, что за правдой всегда стоит что-то большее. И слава богу! Помню, он что-то захотел подарить мне на память. Зачем? Ведь он был не настолько стар, чтобы на память. Но он захотел. Отвергая все предчувствия. Предчувствия просто за него внесла жизнь.
– Гера, самое лучшее – это… Я не знаю, что самое лучшее… Что самое лучшее, что я могу тебе подарить, сынок…
Так он тогда сказал. Он не знал.
Сынок. Он всегда называл меня сынком при всей его сдержанности и замкнутости. Это меня убивало и это меня возрождало…
Что подарить? Я знал. У меня не было очков. Они просто разбились накануне. И я подумал, это правильный подарок. И сказал ему об этом. Он не обрадовался. Я знаю, почему. Слишком бытово, слишком практично, слишком свежо – очки побились накануне.
Но отец не стал противиться и повел меня в магазин. Странным был мой отец! Он еще не знал, что магазины уже другие, что очки уже другие и цены уже другие, что очки теперь – один из самых дорогих товаров, он тоже не знал, что зрение теперь на вес золота! Что можно обойтись без почки, как врач отец это знал. А очки уже стоили почки. А возможно, и сердца… Отец долго смотрел на ослепительную витрину с ценами. И я увидел, как он съежился и поник. Я помню это мгновение. Поник. Он просто поник. А я почему-то взбодрился и объяснил, что очки теперь дорого стоят, что папа не понимает в ценах и я все куплю себе сам. Домой мы шли молча. Два глухонемых.
А утром я увидел на своем столике часы. Простенькие такие. С таким же простеньким ремешком. Папа не знал (или не хотел знать), что часы уже не носят и давно все узнают время по мобильникам. Папа, мой папа, верил еще в какое-то другое время. О котором я не узнаю. О котором не узнают многие. Но которое существует. Независимо от нас.
Когда мне плохо, я всегда надеваю эти часы. Они – мой талисман. Хотя в талисманы я не верю. В них не верил и мой отец.
Мой отец свято верил в другое. В клятву Гиппократа. Он был врач от Бога, хотя я подозревал, что в Бога он тоже не верил как истинный ученый-практик. Но о Боге тогда принято было говорить всем. Это считалось правилом хорошего тона. Во времена, когда в обиходе превалирует крайне дурной тон, в словах обязательно следовало упоминать Бога. Мой отец упоминал Бога в очень редких случаях.
– Я не знаю, сынок, есть ли на свете Бог. Но если он есть, запомни – наместники его на земле – не правители и не священники. Наместники его на земле только врачи. Потому что только от них зависит в конечном счете жизнь человека. Поэтому врач как никто другой должен быть абсолютно профессионален и абсолютно честен. Даже если ничего в мире абсолютного нет. Врач должен, обязан быть абсолютным!.. От него в конечном итоге зависит и смерть человека. А что важнее жизни и смерти? Все, что кажется более важным: и любовь, и подвиг, и честь – это тоже жизнь и смерть. И можешь представить, сынок, что судьба, целая судьба человека порой находится в руках одного врача!.. Поэтому врача часто и приравнивают к Богу. Поэтому у врача должна быть и такая же ответственность. Божественная. Даже если он сам в Бога не верит… Ты запомнишь мои слова?
Я запомнил эти слова. Навсегда. Хотя и не был таким идеалистом, как мой отец. В эти слова я поверил. Эта вера меня и привела к гибели…
Я встряхнул головой и посмотрел на часы отца. Что ж. Скоро принесут. Я знаю, наверняка знаю, что для немого всегда делают поблажки. И не ошибся. Мне принесли все, что заказал. И я залпом выпил бокал вина…
Папа мне говорил: «клятва Гиппократа – святое, и ты должен ее соблюдать». Господи! Странная вещь, может, чудовищная, но иногда я думал: хорошо, что папа умер, так ничего и не поняв…
Гиппократ… Когда у меня появилось это прозвище? В институте, пожалуй. В школе не докумекали. Георгий Павлович Кратов, а проще – Гиппократ. И кто же мне ее придумал? Ах да, Валя Лисецкий. У него тоже было прозвище – Лис…
Мы тогда любили давать прозвища. Это было характерно для того, нашего времени. Прозвища и клички. Необидные и безобидные. И всем нравилось. Хотя к Лису его прозвище никак не подходило. Он не был хитрым, он не был подлым. Он даже не читал Экзюпери, он был не очень начитанным. Но прозвище прижилось. Лис.
Он был хорошим парнем. На первый взгляд не слишком умным, на второй – умным. Мы сдружились. И когда нам объявили, что пришла пора давать какую-то клятву врача, мы переглянулись. И перемигнулись. Но дали ее. Перефразированного Гиппократа. Клятву, которую давали во всех медицинских вузах. А потом мы вместе уехали за город. И там произнесли настоящую клятву. Ту, которая стоит жизни врача. И которая никогда не будет стоить жизни пациента.
Мы торжественно произнесли клятву. Стоя. Взявшись за руки. Мы не предлагали друг другу порезать палец или еще что. Чтобы скрепить клятву кровью. Мы в нее просто верили… Мы были слишком молоды…
ТЕКСТ КЛЯТВЫ ГИППОКРАТА
«Клянусь Аполлоном, врачом Асклепием, Гигеей и Панакеей, всеми богами и богинями, беря их в свидетели, исполнять честно, соответственно моим силам и моему разумению следующую присягу и письменное обязательство: считать научившего меня врачебному искусству наравне с моими родителями, делиться с ним своими достатками и в случае надобности помогать ему в его нуждах; его потомство считать своими братьями.
Это искусство, если они захотят его изучать, преподавать им безвозмездно и без всякого договора; наставления, устные уроки и все остальное в учении сообщать своим сыновьям, сыновьям своего учителя и ученикам, связанным обязательством и клятвой по закону медицинскому, но никому другому.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. Я не дам никому просимого у меня смертельного средства и не покажу пути для подобного замысла; точно так же я не вручу никакой женщине абортивного кессария. Чисто и непорочно буду я проводить свою жизнь и свое искусство. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами.
Что бы при лечении, а также и без лечения я ни увидел или ни услышал касательно жизни людской из того, что не следует когда-либо разглашать, я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. Мне, нерушимо выполняющему клятву, да будет дано счастье в жизни и в искусстве и славе у всех людей на вечные времена, преступающему же и дающему ложную клятву да будет обратное этому».
Мне нравился Валька Лис. А ему, как и мне, нравился Гиппократ. Пожалуй, Гиппократ и благословил нашу дружбу.
А еще мне нравился Валька, потому что был какой-то основательный, что ли. Твердо стоял на земле. И твердо знал, что можно земле дать и что у нее взять. И это – хорошая, умная сделка. Он никогда не попадал в истории. И я был уверен, что никогда и не попадет. Казалось, его судьбу можно прочитать у него на лице. На широкоскулом, открытом, простом лице.
Бог не мудрствовал, когда лепил его образ. Прямой нос, зеленые близорукие глаза, спрятанные под круглыми очками, вьющиеся рыжеватые волосы. Бог, пожалуй, не мудрствовал, и когда сочинял его судьбу. Из семьи преподавателей мединститута. Отличник и староста класса в школе. Красный диплом в институте. Как и положено, после окончания вуза женился. Тоже на очень основательной, очень милой и скромной девушке в очках. Из провинции. И познакомились они непременно в клинике, где практиковал Валька. Он, как и следовало, справедливо сделал карьеру. И стал главврачом одной из самых престижных клиник столицы. Его жена Иришка была здесь старшей медсестрой хирургического отделения… Если Бог хотел показать пример наглядного счастья, то точно выбрал для этого Вальку и Иришку.
После окончания института я редко встречался с Лисом. Жили мы в разных спальных районах, и времени практически ни у кого не хватало, разве что на телефонные разговоры. Но с годами стали все реже созваниваться, пока окончательно не упустили друг друга из вида.
Столкнулся я с Валькой случайно, в центре, когда мимо парка спешил на деловую встречу. Хотя и был выходной, она была для меня крайне важна. Я искал новую работу.
Поначалу я его не узнал. Вернее, не то чтобы не узнал. Просто не имею привычки глазеть на прохожих. Это тоже один из моих принципов. Не мозолить глаза. В основном смотрю под ноги или куда-то в неопределенную даль. Считаю, что встреча глазами со случайными людьми тоже необязательна.
Во взглядах, как и в словах, я тоже видел тайное значение. Взгляды, как и слова, могут вызывать и злость, и раздражение, и печаль. А этого добра в жизни и так хватает. И зачем его к себе лишний раз притягивать?
Вот только поэтому я и не узнал Вальку.
– Гиппократ! Не может быть! Это ты? Неужели ты, что ли?!
Я недоуменно обернулся. Я уже стал забывать свое юношеское прозвище.
– Ну конечно ты! Кто же еще! Вот болван! Как всегда, ничего не замечаешь!
Валька бросился ко мне, и мы крепко обнялись.
– Валька! Лис! Ну конечно, Лис! Кто же еще! Как я давно тебя не видел!
– Еще бы! Словно и не в одном городишке живем!
– Да, в большом городе у каждого есть свой город. Или городок.
Валька Лис обернулся и кивнул даме с собачкой. Безусловно, это была Иришка. И хотя я ее видел один раз в жизни, на свадьбе у Вальки, я ее не мог не узнать. Сейчас такие редко встречаются. Валька не мог ее не полюбить. Хотя я допускал, что никто бы в нее не влюбился, кроме Вальки. Скромная, приветливая и милая. В юбочке до колена. Стрижка-завивка делала похожей ее на мальчишку-подростка.
Она смущенно потупила глаза. И поправила очки на переносице.
– Я вас хорошо помню, Гера. Вы нам еще сервиз такой чайный подарили, помните? Гжель. И еще дождь шел, на нашу свадьбу. И гжель была так кстати!
Тот сервиз был самым глупым подарком в моей жизни. Но на этом настоял папа. Он считал, причем категорично, что дарить деньги лучшему другу – верх неприличия. Да и друг может обидеться.
Папа еще жил старыми понятиями. Я сомневаюсь, чтобы друг обиделся. Но я почему-то не хотел обижать отца. Не Лиса, а отца. И подарил сервиз.
– Вы знаете… – Иришка приветливо улыбнулась. – Ваш подарок был самым лучшим и самым запоминающимся. Потому что других и не было. Все подарили деньги. А мы до сих пор пьем чай из гжели, и ни одна тарелочка, ни одна чашечка не разбилась! И особенно любим пить из гжели в дождь…
Иришка радовалась, как ребенок. А мне почему-то на душе стало так тепло, нет, так жарко, что я расстегнул ворот рубахи. Хотя шел дождь. Господи, мне бы такой простоты, понятливости и незамысловатости! Гжель, дождь, свадьба… Хотя ведь и у меня было нечто подобное! И дождь, и даже свадьба! И даже гжель была! Валька не мудрствовал и сделал мне на свадьбу ответный подарок. В виде гжели (ну, конечно, от души, ну, конечно, не назло…).
За эту прямолинейность и простоту я тоже любил Лиса. Да и гжель мне нравилась, потому что нравилась моему отцу. Но, в отличие от семьи Лисецких, семья Кратовых так ни разу из гжельских чашек чай и не попила. Даже в дождь…
Собачка Лисецких радостно бегала возле меня. Еще чуть-чуть – и она бы протянула мне лапу. И я бы не удивился. Вот еще! Ведь даже собака была такой незамысловатой и приветливой! И похожей на Вальку и Иришку! Рыженькая, плотненькая, кудрявая. Ей так не хватало очков! Впрочем, они у нее были. Беленькие аккуратненькие круги обрамляли добродушные глаза. И я с ужасом вспомнил своего неадекватного пса. Ну почему, почему именно у меня все не так?! Даже гжель, даже собака и даже дождь!..
Я не помню, кого первым возненавидела моя жена Ада – меня или гжель. Возможно, все одновременно. Во всяком случае, во время нашей первой большой ссоры в меня полетела тарелка из гжели. Потом с завидной регулярностью в меня летели чашки, блюдца, ложки, салатницы. Один раз в меня полетела даже пельменница. Последним, по-моему, был кофейник… Так разбился наш свадебный сервиз. Так разбилась моя семейная жизнь. Но голова моя все же осталась целой. Я умел увертываться от ударов.
А еще Ада ненавидела дождь. Почему-то именно в дождь у нее обострялась истерика. Почему-то именно в дождь она растрепанной кошкой металась по квартире и размахивала кулачками. А потом, закрывшись в спальне, истерично плакала.
Хотя в день нашей свадьбы шел дождь. И она весело смеялась. И повторяла:
– Как я люблю дождь, Герка! Если бы ты знал! И как обожаю гжель! Это что-то из ретро! Ни у кого такого быть сейчас не может! Все так стандартны, Герочка!
Я верил ей.
Когда она лгала мне? Возможно, всегда…
А ведь я ее очень любил. Впрочем, теперь уже не знаю. Возможно, я влюбился не в нее, а в небо…
Мы познакомились в небе, высоко-высоко от земли. Ада была стюардессой. И соответствовала всем стандартам этой профессии.
Вначале я увидел ее длинные худые ноги, потом тонкую талию и наконец, подняв голову, – узенькое хорошенькое личико с немного впалыми щечками. Мой принцип глухонемого на сей раз не сработал.
– Так вам кофе, чай, сок или… – повторила она хрипловатым голосом, в котором проскальзывали нотки раздражения.
– Или?
– Фу, а я уже подумала, что вы глухонемой.
– Теперь уже нет. – Я улыбнулся.
– Вылечились?
– Точнее, меня вылечили.
– Вам повезло. Наверное, на хорошего врача нарвались.
Ада по-прежнему была серьезной и нотки раздражения в голосе стали еще ярче.
– Пока не знаю. – Я улыбнулся во второй раз, еще приветливее.
Сколько раз, гораздо позднее, я проклинал себя, что изменил своим принципам. Принципам нельзя изменять! Я теперь это знаю точно. Если ты их нарушил, то они могут запросто разрушить твою жизнь. Сколько раз, гораздо позднее, я думал, что если бы следовал своему железному правилу не вступать в необязательные беседы, возможно, моя жизнь бы удалась. Во всяком случае, удалась бы гораздо больше.
Но в те мгновения невесомости я уже не думал ни о чем. Я летал и в прямом, и в переносном смысле. И летел в головокружительную неизвестность. И мне наивно казалась, что Ада послана мне самим небом. В прямом и переносном смысле. Впрочем, возможно, я и не ошибался. Насчет неба.
Сколько раз, гораздо позднее, я ей повторял:
– Ада, ты мне послана адом.
Мне нравился каламбур, который я сочинил. И я даже научился варьировать:
- – Ада, ты вышла из ада!
- Ада – ты сама ад!
- Ад для тебя, Ада!
- Нет ада, кроме Ады!..
И все в таком духе. Как ни странно, эти вариации действовали на мою жену магически. Иногда даже я улавливал в ее глазах искорки восхищения. И тоненькая рука с тарелкой из гжели застывала в воздухе. Впрочем, ненадолго…
– Как твоя Ада?
Мне показалось на секунду, что в меня полетела очередная гжельская тарелка. И я вздрогнул. Слава богу, в меня вежливо полетел всего лишь вопрос Лиса. И слава богу, он вывел меня из внезапно нахлынувшей волны воспоминаний, как из гипноза. Лис был отличным врачом.
– Ада? В аду, пожалуй. Мы расстались. – Я пожал плечами.
– Сочувствую.
Я недоуменно посмотрел на Вальку.
– А я думал, ты меня поздравишь.
– В общем, и то и другое. – Валька почесал затылок.
…Ада с первого взгляда возненавидела Вальку. Она не могла простить ему гжель. Валька же не умел ненавидеть. Но все понимал. А этого было вполне достаточно. Возможно, в том числе и поэтому мы практически перестали видеться с Лисом…
Повисло неловкое молчание, которое разрядил мелкий дождь.
– Знаешь, Гиппократ, пойдем-ка ко мне. Мы тысячу лет не виделись! Посидим, вспомним. – Валька запнулся. Он не помнил, что можно вспомнить. – Вообще просто посидим.
Я посмотрел по сторонам.
– Так ты уже в центр перебрался?
– Странный ты, Герка. Годы идут, все течет, все изменяется. У кого-то в лучшую сторону, у кого-то наоборот. А ты словно застыл во времени. Я вот переехал. В центр. Кто-то, у кого в худшую, уехал подальше. А ты… Ты, Герка, все на одном месте?
– В общем да… Хотя… Хотя вот подумываю о другой работе.
– А! Давай сегодня же вместе и подумаем. У меня.
Я был готов пойти к Вальке. Тем более что в этом случае исчезала необходимость в сегодняшней деловой встрече. С появлением Вальки у меня появлялся шанс… Хотя я вдруг подумал, что Лис пригласил меня из вежливости. И у него нет желания принимать гостей. И когда я осторожно отказался, Валька облегченно вздохнул.
– Жаль, ну да ладно. В другой раз обязательно.
– В другой раз.
– Знаешь, дружище, позвони-ка ты мне завтра. Окей? Только обязательно! Думаю, смогу тебе помочь. Только позвони! Не выламывайся. Я не шучу. У нас тут перестановка кадров намечается. Что-нибудь точно придумаем, вот увидишь. Не вешай нос!
Валька говорил быстро, словно извинялся. Но я почувствовал, что насчет работы он не лгал. И искренне желал мне помочь. А я знал, что помочь он сможет. Лис был человеком слова. И дела тоже. Дела, пожалуй, даже в большей степени.
Иришка все это время молчала. Я даже забыл про нее. Как и про их добродушную собачонку, бегавшую вокруг нас. Они были такие тихие, ненавязчивые, милые, что я вновь с ужасом вспомнил Аду. Катись ты, Ада, в ад!.. И я почти с благоговением посмотрел на Иришку. Она улыбнулась. У нее была очень приятная улыбка.
– Очень рада нашей встрече, Гера. Вы позвоните. Валя умеет держать слово.
– Да, знаю. – Я крепко пожал руку Иришке…
Черт побери! Не женитесь на стюардессах! Даже если очень любите небо. Потому что к небу стюардессы не имеют никакого отношения. Они даже его не видят, не слышат, не понимают. Самые земные на земле – стюардессы! Как моя Ада. Жить стюардессой было у нее в крови. Даже когда она уже не смогла летать, на земле она оставалась тоже стюардессой, то работая в каком-то баре, то организовывая какие-то фестивали, то устроившись каким-то риэлтором.
В сущности, все это не имело никакого значения. Ада оставалась прислуживающим и очень активным персоналом. Мечтающим о нужных знакомствах. И стреляющим хорошенькими глазками налево и направо. Хотя редко попадающим в цель. (Впрочем, в меня попала…) И все время ей нужно кому-то что-то подносить…
Не женитесь на тех, кто подносит. Это потом… Потом, потом, когда женитесь, уже сами решите – что и кому подносить.
Это просто звучит красиво – стюардесса. Потому что мы все мечтаем о небе. И думаем, что там работают исключительно бесстрашные и благородные люди. Далеко, далеко не все… Ведь небо – это и ад и рай. Впрочем, как и земля…
Не женитесь на стюардессах! Женитесь лучше на медсестрах! Я это мог сделать тысячу раз. И ни разу не сделал. О чем до сих пор жалею…
Я вновь бросил на Иришку благоговейный взгляд. Моя мечта о спокойной, уютной жизни не сбылась. Она сбылась у Вальки. И я искренне ему позавидовал. Когда они, взявшись за руки, как дети, уходили по тенистой аллее и рядом бежала их собачонка, весело помахивая хвостом. Втроем они были так похожи. Рыженькие, плотненькие, кудрявые, в круглых очках.
И мелкий дождик был им к лицу. И моросил на их счастливые лица. И где-то в уютной квартире их поджидал уютный сервиз из гжели. Из которого они опять будут пить чай, сидя за круглым столом.
Так ясно, до сладкой боли в сердце, я представил эту картину. Собачка за столом, рядом со своими хозяевами, с чашкой в лапе, шумно прихлебывая, лакает чай… И эта картина не вызывала ни капли удивления. Эта картина не была модернистской, а очень даже реалистичной.
Впрочем, модернизм, реализм – всего лишь слова. Все дело в воображении. У меня этого было с избытком. Как и чувства горечи, что на воображении моя жизнь и заканчивается. А реальность, настоящая, прочная, надежная, к которой можно прикоснуться, которую можно пощупать и понюхать, осталась разбитой и выброшенной на свалку осколками гжельского сервиза. Настоящая реальность досталась другим. В том числе моему лучшему другу Вальке. Мне остался лишь мелкий дождь. Мелкая жизнь. И огромное воображение. Что с ним делать, я совершенно не знал. Я готов был продать его какому-нибудь поэту, художнику, но сегодня и они вряд ли бы купили. Сегодня и они предпочитают надежную реальность…
И я почему-то представил Аду в аду. Она не извивалась на сковородке. Она просто сидела одна за круглым столом сред белых стерильных стен, уставленных белой стерильной мебелью. И только сервиз из гжели был бело-голубым. А с потолка моросил мелкий дождик. Ада ежилась. Ей было очень холодно и очень одиноко. И я ее пожалел. И из чайничка показалась струйка пара ароматного чая. Согревайся, Ада, в аду…
Я поежился и успокоился… В конце концов, не все в жизни так уж плохо. Дом мой стоял на месте. На месте сидел сумасшедший мой пес. За окном крапал дождь. И рядом не было Ады. Разве что не хватало гжельского сервиза. Но совсем чуть-чуть…
Стоп. О чем я? Вранье! Мне не хватало главного – моих родителей. И кто сказал, что родители более всего важны в детстве. Да, конечно, важны. Но для себя я уяснил другую, возможно, для кого-то спорную истину. Чем старше становишься – тем больше нуждаешься в матери и отце. И тем более чувствуешь одиночество. Без них… Стоп. Это уж совсем больная тема. А темы я лечить не умею. Не научился. Так, кажется, говорила мне мама. Мама!.. Я сжал виски. И опрокинул голову. Чтобы почувствовать капли дождя на лице…
Брехня! При чем тут гжель? Ада ненавидела мою мать. Опять брехня! Не мать. Мать она в живых не застала. А вот ее имя… Рая… Оно всегда было живым. Оно жило в моей квартире, ненавязчиво, где-то в уголке, возле иконки. Но так высоко, что дотянуться до него, смахнуть его веником или вытереть влажной тряпкой не было никакой возможности. И оно – имя – было просто копией моей матери. Как иконка… Где бы ни проявлялась моя мать – в счастье или в беде. На рассвете или при закате. В морозной стуже или с солнечными зайчиками. То всегда цвели лилии… Более точно я выразиться не могу. И менее красиво. И объяснить, пожалуй, тоже.
Она была редким человеком. Рай для Раи. И ад для Ады. Как же все прямолинейно, даже топорно. И тем не менее все это – правда. Потому что правды бывают всякие. Даже топорные. Ада и Рая никогда бы не ужились в одном пространстве. Как и в одном времени. Даже если пространство и время – понятия эфемерные. По Канту…
Хватит! Какое мне дело до Канта. Эфемерность – это его прерогатива. Его тема. Я эту тему вылечить никогда не сумею… И его корона мне не нужна. Как и ничья другая. Мне на жизнь хватит Раи. И Ады…
Валька сдержал слово. Уже следующим утром я сидел у него в просторном кабинете. И он, постукивая костяшками пальцев по дубовому столу, возбужденно строил за меня планы.
– Так вот, Герка, теперь у тебя начнется иная жизнь! Совершенно иная! Ты мне поверь, своему старому товарищу. И матерому волку. Я же понимаю – участковый поликлиники… Это не то что не сахар. Тут и на соль не хватит. Мало того – копейки, и перспектив – ноль целых ноль десятых. И такая тоска-а-а! Жалобы одиноких старушек и свирепая очередь у кабинета! С ума сойти!
– Мой отец всю жизнь проработал участковым и не жаловался. – Не знаю почему, но мне вдруг стало до ужаса обидно за свое место под солнцем и еще обиднее за своего отца. – Кстати, и Чехов был участковым, по сути. И гордился!
Валька расхохотался во весь голос.
– Удивляюсь я на тебя, Гера! Тогда что ты тут делаешь? Если не хочешь жаловаться, а хочешь гордиться. И при чем тут Чехов? При чем тут твой отец?
В целом Валька был прав. И Чехов, и отец были ни при чем. А я сидел у Вальки в кабинете и выбивал новое место под солнцем.
– Я так понимаю, что с женой ты расстался из-за этого…
– Из-за чего? – спросил я с любопытством.
Мне самому было интересно, почему мы развелись с Адой. Сам я понятия не имел. Я-то думал из-за гжели. И из-за имени матери. Неужели все сложнее? Похоже, обо всем знал Валька.
– Так это же ясно, как дважды два! – Валька постучал себе по высокому лбу. – Ада… С такими амбициями, с такой внешностью… Если хочешь – летающая в небе! Не меньше. Ну, разве она могла вынести приземленную жизнь участкового терапевта? Да и разве это жизнь?!
– Ну, вообще-то в небе летают лишь ведьмы. Стюардессы в самолетах, герметизированных и технически оснащенных. И не технически тоже. Но ладно… Будем считать – это не про Аду. Она была же какой-никакой, но моей женой.
Мне хотелось объяснить Вальке другое. Что это тоже была моя жизнь. И это я… Я не мог вынести Аду. И все гораздо, гораздо сложнее. Но почему-то передумал. Разве он мог понять, что такое ад. Разве он мог понять, что ад – это Ада.
– Кстати, ты действительно джентльмен. Я понятия не имел, что ты сочувствуешь моей жене.
– Брось, Герка! – Лис со всей силы хлопнул меня по плечу. – Ты прекрасно знаешь, как я к ней относился! Такую стерву еще поискать! Извини, конечно. Но с другой стороны, я объективен. Если выбрал ее для жизни – так дай жизнь, которую она хочет. Не заслуживает, а хочет! Такова печальная правда семьи!
– У тебя она не печальная. Но не будем об этом, Герка.
– Давай не будем. Этот разговор не для кабинета, а для кабака. А я тебе вот что предлагаю…
От его предложения у меня перехватило дыхание. Я знал, что эта клиника одна из лучших и самых дорогих. Но все же… Или я просто давно привык к минимуму?.. Пожалуй, именно тогда я вдруг впервые в жизни понял глубинный смысл фразы: продать душу… Это когда слабость по всему телу. Покалывание в пальцах рук и ног. Перебои дыхания и учащенное сердцебиение. А в том месте, где, по сути, должна находиться душа – невесомость. Как воздушная сахарная вата. Которая все тает, тает. (Как в детстве. Когда в детстве и душа не нужна. Потому что она есть всегда…) Оставляя приторное послевкусие…
Но детство давно прошло. И мне не хотелось воздушной сахарной ваты. Я вообще никогда ее не любил. Не знаю как другие, но в этот момент я вдруг до ужаса стал неприятен сам себе. И одновременно мне было на это наплевать.
– Сколько-сколько? – Я облизал пересохшие губы.
Валька блеснул очками и равнодушно повторил сумму. Эта сумма была для Вальки пустым звуком. Но для убедительности он постучал карандашом по столу.
Я развязно развалился в кресле. И посмотрел Вальке в глаза. Черт побери, жадность не знает границ! А продажа души не знает предела ее цены! Черт побери!.. Черт, похоже, меня услышал.
– Ну, Валька, стоит подумать. – Я почему-то зевнул и мерзенько усмехнулся.
– Гиппократ, ты что? Чокнулся?! Я тебе хорошую цену предлагаю, и то только потому, что прекрасно знаю – ты настоящий профессионал и никогда не подведешь. Знаешь, команда – это большое дело. Ты что, Гера?
Я встряхнул головой. Похоже, у меня помутился разум. И при чем тут продажа души? Если все элементарно. Просто в этой клинике высокие ставки. И все. Что за чушь я себе вообразил? Черта какого-то? Ну и бред! Я просто так же буду работать. Так же блюсти клятву Гиппократа, которую мы с Валькой когда-то произнесли вслух. И буду за это просто получать солидные деньги. И папу, конечно, не забуду! Еще чего! И маму! И иконку, рядом с которой покоится ее имя. И Чехова по-прежнему буду любить! Вот еще! При чем тут продажа души?..
И вдруг мне до слез стало жалко свою маму. Если у нее появлялись деньги, то ей тут же нужно было кому-то помочь. А отец? Он работал за такие копейки. И не считал их. Он считал спасенные жизни. Он считал, что только жизнь человека имеет настоящую цену, потому что бесценна. Наверное, так считал и Чехов. И вдруг мне до слез тоже стало его жаль…
Но сердце успокоилось. Температура вернулась к норме. И я вдруг физически ощутил, где находится душа. Я чувствовал, что она материальна. Что в ней циркулирует кровь. Что у нее есть болевые точки. Я даже почувствовал маленький шрамик, который сегодня появился на ней. Я вдруг понял, что по-настоящему можно узнать, где находится душа, лишь когда на секунду ее потеряешь. Но уже на второй секунде можно потерять душу навсегда. Слава богу, я это вовремя осознал. Второй секунды у меня не случилось. И, надеюсь, не случится никогда.
Как назло, я взглянул в окно, за которым на улице шумно и громко продавали воздушную сахарную вату. И дети ее покупали. Черт! Здесь я ни при чем!..
Я постарался естественно улыбнуться Вальке. И честно посмотрел в его честные светлые глаза.
– Ты что, Лис, я же пошутил. Шуток не понимаешь? Да после моей старой зарплаты я тебе в ноги должен кланяться! С утра до вечера!
Валька расхохотался.
– Нет, дружище. Этого не получится. С утра до вечера ты будешь работать. А иногда и по ночам. Вот так. Причем обещаю – на износ. Деньги здесь платят приличные, но не зазря. Их приходится отрабатывать по полной.
– Ну, Лис, я всегда работал по полной. И без денег. Так что мне не привыкать. Клятву Гиппократа я помню. От зубов отскакивает.
– Клятва Гиппократа… – Валька почему-то задумчиво посмотрел за окно. – Клятва Гиппократа… М-да… Словно это было и не на нашей планете… И совершенно в другом измерении…
– Не понял. – Я нахмурился.
Мне не понравилась ни Валькина задумчивость, ни его тон.
– А даже если и так. Даже если на другой планете и в другом измерении. Какое это имеет значение? Клятва-то осталась! Ее ни изменить, ни поправить. И ей не изменить… Даже если все и вся в мире изменяются.
– И ей не изменить, – как эхо повторил Валька. – Но если все и вся изменились… Черт!
Валька посмотрел на часы. И вскочил с места.
– Мне пора, сам понимаешь, дела не ждут…
Конечно, был рабочий день, даже для продавца сладкой ваты. И я понимал, что дела не ждут. Но мне показалось, что дела еще могли бы чуточку подождать. Просто Валька не захотел продолжать разговор. И мне это не понравилось. Шрамик на моей душе слегка кольнул. Он был совсем свежий и еще не зарубцевался. И мне это не понравилось еще больше…
А из распахнутых окон, как назло, доносилось громкое и базарное: «Покупайте сладкую воздушную сахарную вату!..»
* * *
При этих воспоминаниях, да именно о шрамике, в глазах появилось множество темных пятнышек, и я стал видеть мир словно сквозь пятнистую сетку. Мысли вдруг стали отрывочными, как отдельные бессвязные слова. И воспоминания отрывочны, как безграмотно смонтированные кадры. Дорогая мебель, дорогой район… Лучше, чтобы напротив церкви… Или пруда. А в пруду чтобы лебеди. На крайний случай – утки… И мой сумасшедший пес держит в лапах чашку из темного чешского стекла. Она стоит целых 500 долларов… Белые стены, ни одного пятнышка. И запах нашатыря и валокордина… Лис в черной марлевой повязке. Иришка в стерильных перчатках со шприцом из гжели… На операционном столе лежит человек. Под наркозом… Как же его звали… Не помню. Не может быть, чтобы не помнил… Я же помню! Ведь с него, пожалуй, все и началось… Или гораздо раньше?.. Господи, как же его звали?..
Я ударился лбом о стол. И очнулся.
Голова гудела. Хотя, возможно, это гудела бежавшая за окном электричка. Я со всей силы надавил на веки. И перевел дух. Неужели я умудрился так напиться? Этого не может быть, я ведь даже не добил бутылку вина. Впрочем, вчера ночью я отогнал бессонницу хорошей дозой феназепама. Ко всему прочему постоянно шалящие нервы. И страх… Тут даже напиваться необязательно. И без вина можно свалиться с ног.
Я на секунду успокоился. И налил себе остатки вина. И вдруг вспомнил. И хлопнул себя по коленям. Пакета не было… Сердце бешено заколотилось. Я огляделся. Посетителей в кафе тоже не было. Только я. И маячащий у барной стойки официант. Так. Нужно успокоиться. Взять себя в руки… Никто, никто на всем белом свете не знал о том, что я вчера написал. А сегодня сложил в пакет и скрепил его сургучной печатью. Значит, пока я вырубился, пакет просто свалился.
Я залез под стол – ничего. Обшарил пол под близстоящими столиками и стульями – ничего. Пакета нигде не было.
Мои руки задрожали. Мысли запрыгали в бешеном танце. И я уже не в силах был их остановить. Кто, зачем, когда? Впрочем, разве не я сам совсем недавно вынес себе приговор и даже простился с жизнью? Я сам все чувствовал. Нет, черт побери, знал! Знал, что за мной могут следить! Разве не поэтому я и пришел сюда, в это случайное кафе? Передохнуть. И успокоится. В безопасном месте.
Нет, похоже, для меня безопасных мест уже нет. На всей огромной круглой планете не найдется для меня хоть одного маленького безопасного местечка. И это надо безоговорочно признать.
Голова по-прежнему гудела. Конечно, это не электричка. Я вдруг понял – просто в вино мне подсыпали снотворное. Кто? Какой глупый вопрос.
Я взмахнул рукой, подзывая официанта. Он мигом очутился возле меня. Я внимательно на него посмотрел. Я хотел его на всякий случай его запомнить. Молодой парень, таких сотни тысяч. Высокий, худой, светловолосый. И такой прямой. Такие не сутулятся. Ничего зловещего в открытом незамысловатом лице. Я посмотрел на его бейджик.
– Дима, – вслух прочитал я. – Приятно познакомиться, Дима.
– А мне приятно вас слышать. – Он почтенно склонил голову. – Я-то думал, вы немой.
– Как видишь, от стресса и немые могут заговорить.
– Стресса? – Дима недоуменно взметнул брови. – Спят не от стресса, скорее, от усталости. Вообще-то, у нас тут не положено. Но, вижу, человек вы совсем измотанный. К тому же немой. Пожалел – потому и не будил… А вы вовсе не немой. А вовсе даже наоборот.
Этот факт, пожалуй, его обидел больше всего. Словно доверчивого ребенка.
– Скажи, Дима. С какой стати я так крепко и так внезапно заснул?
Дима невинно пожал плечами, захлопав длинными светлыми ресницами.
– От вина, пожалуй, а от чего еще?
Дима ловко убрал со стола пустую бутылку и пустой бокал.
– Скрываешь улики?
– Не понял?
На лице Димы появилось такое искреннее недоумение, что на секунду я даже растерялся. Но, конечно, не поверил. Конечно, это бред, если я потребую, чтобы официант не уносил бутылку с бокалом. И что скажу? Отдай мне, чтобы я отдал их на экспертизу? Из-за того, что в вашем чертовом кафе посетителям подсыпают снотворное? И как я тогда буду выглядеть? Знаю, прекрасно знаю – как… Дима бы вновь недоуменно захлопал ресницами. И уже вместо немого представил бы меня параноиком или сумасшедшим.
Нет, игру нужно вести осторожнее. Учитывая, что сейчас козыри не у меня. А на карту поставлена моя жизнь. Черт с ним, с бокалом. И с бутылкой. Даже если мне подтвердят тысячи экспертов, что там было снотворное, куда я пойду с этим заключением? Да и где найти этих экспертов? А что там было снотворное, я и сам догадался.
Еще я догадался, что где-то там, за углом, возможно, даже за углом этого кафе, меня поджидает смерть. При этой мысли я вновь похолодел. И потому как можно раскованнее развалился на стуле. И добродушно улыбнулся Диме. И посмотрел прямо в его светлые глаза.
– Что-то мало в вашем кафе народу. А что, пока я кимарил, так никто и не заскочил перекусить?
Дима стойко выдержал взгляд. И даже печально вздохнул. И непринужденно почесал за ухом. Мол, вот какой я простой, бесхитростный паренек.
– Да уж, незадача. Ни одно человека! Но у нас всегда так утром. Кафе-то небольшое, не очень известное. Это вам не центр какой-нибудь! Да и просто у нас тут все, – начал жаловаться Дима. – Да и зарплата небольшая. И чаевые никакие. Вот так и перебиваемся. Жить практически не на что! А я еще учиться хочу. Знаете, за учебу такие бабки нужно выложить! А где их взять? Если пашешь в такой забегаловке…
От такого монолога впору было заплакать. Но мне показалось (хотя, возможно, только показалось), что Дима на что-то намекает. Ах да, скорее всего, на то, что если кто предложит большие деньги, то он не откажется. Видимо, он и не отказался, когда ему заплатили за то, чтобы меня усыпить. И украсть мой бесценный, вернее очень ценный, пакет.
Дима даже по-своему был честен. Похоже, в глубине души его даже мучили остатки совести. Раз он произнес такую жалобную речь. Мол, не виноват я вовсе! Если платить за учебу нечем!
А может, и впрямь не виноват? Кто теперь отказывается от денег? Я знаю одного. Это – я… Я не просто отказался от денег. Практически я добровольно отказался от собственной жизни. Так что Дима гораздо умнее меня. Возможно, потому, что гораздо моложе?..
Безусловно, парень не расколется. В его кармане шуршат бумажки. И я даже слышу это шуршание. Но сам я, похоже, влип… Впрочем… Впрочем, нужно теперь хорошенько подумать.
Скорее всего, меня захотят убрать. Потому нужно все взвесить и решить что делать. Чтобы этого не произошло… В этой кафешке, похоже, побоятся. Вон, уже появились и первые посетители. Ничего подозрительного. Парень с девушкой. Скорее всего, студенты. А вон и старичок с газетой. Нет, они неопасны. И они свидетели… Значит, безопасней всего побыть пока здесь и подумать. Хорошенько подумать, что делать дальше.
– Вас рассчитать? – Дима с надеждой посмотрел на меня.
И по его тону, и по взгляду было понятно – он хотел, чтобы я поскорее убрался отсюда. Чтобы вместе со мной из его сегодняшнего утра убрались и все его неприятности. Его стыд и угрызения совести, которые ему хорошо финансово компенсировали. Нет человека – нет проблемы…
Нет, Дима, все не так просто. Возможно, когда нет человека – проблемы только начинаются. Будем вместе надеяться, что это не про тебя. Потому что мне тебя искренне жаль. Причем от всего сердца я желаю тебе учиться. Только не знаю, чему ты научишься за такие деньги.
– Рассчитать? – Я усмехнулся. – Похоже, мне предстоит рассчитаться по полной… Но не обращай внимания на мои слова, Дима. Это я так. Сам с собой разговариваю. Тем более давно просто так не болтал. Да и утро располагает. И выпитое вино. Знаешь, Дима, принеси-ка мне еще бутылочку. Мне нравится твоя забегаловка. Знаешь, и Моцарту бы здесь понравилось. Удивлен? Да ладно. Тебе, похоже, действительно нужно учиться. Впрочем, и мне не помешало бы… А я еще посижу здесь. К тому же время наступило обеденное, так что принеси мне еще и перекусить. Ты, надеюсь, не против?
Дима вздрогнул. И искренне расстроился. Определенно он был против.
– Против? Как можно! А вы, я вижу, на работу не торопитесь, – Дима не выдержал, чтобы меня не уколоть.
– Не тороплюсь. Уже не тороплюсь. А вот ты поторопись. Хотя понятно – работа не волк… Но я действительно проголодался.
В глазах официанта мелькнули злобные огоньки. На долю секунды, но я заметил. А он не так прост. И, похоже, всю жизнь был уверен, что он – хороший, простодушный парень. И даже кичился этим. И, похоже, теперь всю свою сознательную жизнь будет обвинять меня за то, что я разбил этот хрупкий образ.
Значит, пакет у них в руках. С моим прощальным письмом или завещанием. Или… Мое откровение тянуло на роман. Что ж, приятного вам чтения! Хотя что нового они могут там открыть для себя? Что…
Я писал, как начал работать на новом месте в клинике Лиса. И как мне безумно нравилось там работать. Я особо не парился на литературные изыски. Что-то вроде и работа непыльная, и деньги, о которых можно только мечтать…
Хотя я никогда не мечтал о деньгах. Мне казалось, мечты – это что-то другое, нематериальное. Что мечты не зависят от посторонних людей и случайных обстоятельств. В детстве я мечтал, что открою новую звезду. В юности – что изобрету лекарство от рака. В молодости – что встречу настоящую любовь, с которой мы вместе откроем новую звезду и изобретем лекарство от рака.
Потом я понял, что звезды открывают астрономы. Лекарство от рака изобрести невозможно, потому что оно давно уже изобретено. А любовь зовут Ада. И все это, возможно, называется разочарованием…
И лишь работая в клинике Лиса, я понял, что деньги – тоже мечта. И не хотел с этим мириться. И очень быстро смирился. Списав все на разочарование.
Я писал, как стал мечтать о смене квартиры. В новом районе. Непременно центральном… И мне хотелось, чтобы напротив окон стояла церковь. И в определенные часы били колокола. Так громко, громко. Чтобы на душе становилось радостно. На тихой душе… Ну, если не церковь, то хотя бы пруд. В котором плавали бы белые лебеди. Ну, если не лебеди, то хотя бы утки. Или тот парень, которого я встретил – голубь, такой смешной, как далматинец. Белый с черными пятнами. Хотя я не знаю, плавают ли голуби в пруду. А почему бы и нет? Если в небе летают. Не одно ли и то же?.. Вот моя Ада летала в небе и прекрасно плавала. Она была невесома – и в небе, и на земле, и в пруду. Странное существо. Наверное, ведьма… И почему я ее вспоминаю? Наверное, любил. Наверное, печалюсь, что она меня не любила. А может, все-таки любила? Когда-то. Хотя бы часок, хотя бы минуту, хотя бы секунду. Хотя я не знаю, хватает ли секунды для любви. Мне кажется, хватает. А возможно, эта секунда и есть любовь… Хотя гжель простить Аде не могу… А вот за маму простил легко. Потому что мама ее давно простила…
Еще бы по утрам я подкармливал уток в пруду. И голубей, особенно далматинца. Правда, не знаю, умеют ли голуби плавать… И любовался бы белыми кувшинками… И мебель бы я поменял в доме. Моя совсем старенькая, старомодная, еще родительская. Я бы купил что-нибудь стильное. Только не белое. Белого цвета мне на работе хватает. К тому же я не настолько пижон. И книжный шкаф бы себе купил. Обязательно, хотя держать в доме книги уже не принято. Но я бы от них ни за что не отказался. Я не настолько жлоб. К тому же мне все равно, что обо мне подумают. Я всегда хочу быть собой. А новый престижный район и новая мебель – просто элементарное желание уюта.
Все же не права была моя мама. Все же не прав был мой отец. И Чехов тоже не прав. Это я заявляю со всей ответственностью. Что он там написал: жить среди народа, а не на Малой Дмитровке! Ерунда какая! Можно прекрасно думать и о народе, и жить в новой квартире в центре, с новой мебелью, и работать в престижной клинике, и получать большие деньги, и… В общем, одно другому не мешает. Что – я хуже стану лечить, если буду жить лучше?
Впрочем, на этот вопрос я себе ответил позднее. Категорично и прямо. И этот ответ подвел меня к краю пропасти. Где я сейчас и сижу. Эта пропасть на данный момент имела вид забегаловки, за столом которой я и сидел, глядя на бутылку вина. И здесь мог бы даже сидеть сам Моцарт. Если бы жил, конечно…
Тихо. Спокойно. С первого взгляда и не скажешь, что пропасть. Но я-то знаю, знаю, что на краю. И об этом знаю не только я…
А еще я написал про машину. Ведь на машине гораздо удобнее добираться до работы. Какую я хотел марку? Мне было почти все равно. Ведь я не настолько сноб…
М-да, и зачем я это все это писал? И кому это интересно? Я чувствую смерть, а пишу про какую-то мебель и уток. И даже про голубя. Который ко мне, наверное, никогда больше не прилетит… Впрочем… Думаю, без этих деталей мой дальнейший рассказ невозможен. Нет, конечно, возможен, но он выглядел бы не так ярко. К тому же я хотел рассказать всю правду. А правда заключалась в том, что я оказался не настолько хорош. В отличие от моих матери, отца, Чехова и моего тезки Гиппократа.
…Так как же была его фамилия? Того пациента, что умер на операционном столе. Такая простая фамилия. Как странно, почему-то сложное всегда запоминается легче, чем простое. Уралов или Уваров? Уралов, Уралов, конечно, от Урала… Но почему он умер? Сколько раз я задавал себе этот вопрос! И сколько раз находил на него ответ. Ведь врачи не боги. Да мало ли от чего может умереть человек. К тому же он уже был далеко не молод… Да, я наблюдал его. И это я отправил его на операцию. Пустяковую операцию. И сердце у него было в полном порядке. Помню, я еще удивился: это же надо, и не молод, а сердце как часы. А во время операции эти часы остановились… Я его даже плохо помнил в лицо. Простое лицо, как и фамилия.
Поначалу я винил себя. Хотя был уверен, что врачебной ошибки не было и быть не могло. Тогда почему остановилось сердце? Впрочем, в этом возрасте… Даже такое сердце может не выдержать наркоз.
Помню, мне было очень плохо. Хотя я и был уверен, что не виноват.
Я сидел у Лиса в кабинете и бубнил под нос что-то невнятное. Типа что все мы смертны, что врач – неблагодарная профессия, что даже если не виноват – все равно виноват…
Тогда Лис резко меня перебил.
– Брось, Гера. Скажи, что ты хочешь от меня услышать? Тогда я скажу то, что ты хочешь услышать. Может, тебе полегчает… Наша клиника – одна из самых лучших и самых продвинутых. Но и здесь, и здесь допускается определенный процент смертности. И это неизбежно. Неизбежно, черт побери! Иначе это была бы не клиника, а священное место. Но священных мест не бывает. Во всяком случае, там, где царствует наука. А наука еще не изобрела панацею от всех болезней и средство для бессмертия. И ты не хуже меня это знаешь! И не хуже меня знаешь, что в пожилом возрасте при операции допускается определенный риск! И даже самые лучшие часы могут внезапно остановиться!..
– И все же… Мне казалось, всему есть объяснение! – Я вяло пытался сопротивляться.
– Извини, дружище. Но ты работал в поликлинике. Участковым. Там действительно всему можно было найти объяснение. Если ты, конечно, лечил язву, гастрит или даже ишемическую…. Но здесь не терапевтическое лечение! Это хирургия. Пойми, хирургия! Здесь как в совместном творчестве. Это художник, писатель или музыкант создают шедевры один на один с собой. А в театре, кино, балете – целая армия. У нас примерно то же. За жизнь пациента отвечают многие! И ты знаешь это не хуже меня! И терапевт, и нарколог, и анестезиолог, и ортопед, и хирург, и медсестры, и, и, и…Они могут выполнять работу тысячу раз на «отлично». В нашей клинике это – факт. Но их отличная работа не означает стопроцентную гарантию. Еще есть сам пациент. Его организм, его воля, его выдержка! А для верующих – еще и вера. Так что… Так что наш разговор может быть бесконечным или очень коротким. Я предпочитаю второе. И очень заинтересован, чтобы ты продолжил у меня работать.
– И я в этом заинтересован. – Я усмехнулся. – И все же мне стало бы гораздо легче, если бы я… Ну, запомнил его лицо, что ли. Хотя бы только лицо…
– Гера, хватит этих сантиментов! Это, в конце концов, глупо! В конце концов, относись к работе как к работе. Работа не любит философов. А в нашей – философия только мешает. Ты уж не мальчик. Должен понимать, что в пациенте, как это ни кощунственно звучит, мы должны в первую очередь видеть пациента. А потом – человека. Только тогда у него будут реальные шансы на выздоровление. А человеком он пусть останется для родных и друзей. Со своим лицом и своими чувствами… Иначе действительно возможна врачебная ошибка. В этом – последнем – случае никакой врачебной ошибки не было. Заявляю со всей ответственностью.
– Странный у тебя подход к врачеванию. – Я не скрывал своего раздражения. – Словно это не с тобой мы когда-то давали клятву Гиппократа.
Валька тяжело поднялся. Подошел к окну. И забарабанил по стеклу пальцами, почти в такт дождю.
– Со мной, Гера, со мной. Просто ты должен усвоить, что пациент в поликлинике или на дому разительно отличается от пациента на операционном столе. В первом случае ты можешь себе позволить чеховские сантименты. Потому что пациент, как правило, умирает долго. Когда просто болеет. И тогда ты, черт побери, можешь даже погрузиться в его судьбу! Это право врача. Хотя я таких врачей давно не встречал. Но пациент в хирургии… Это другой случай. Хирург должен мгновенно решить – жизнь или смерть. Ну, или отсрочка смерти.
– Но я, даже работая в хирургии, остаюсь терапевтом.
Валька резко обернулся и посмотрел прямо мне в глаза… Как же все-таки он постарел за это время. Потяжелел, что ли. И наша дружба потяжелела, что ли?
– Ты, работая терапевтом, остаешься в хирургии. И поэтому принимаешь все правила игры нашего отделения. Это не приказ. Это дружеский совет.
Мне этот совет не понравился. Особенно выражение «правила игры». Оно, конечно, образное. Я не совсем тупой. Но Валька наверняка имел в виду нечто иное. А если нет… Если какая-то игра и впрямь существует? Как существуют и ее правила? Но тогда я вряд ли буду хорошим игроком…
Разговор с Валькой меня не успокоил. Я даже боялся, что мне будет сниться умерший на операционном столе. Но он так ни разу и не приснился. Возможно, потому, что я не запомнил его лица? И возможно, Валька был прав? Лица пациентов запоминать нельзя…
Окончательно я успокоился, когда нашему отделению вскоре была выписана премия за успешное завершение квартала. Деньги были немалые, и я купил новую итальянскую мебель. Папину, старенькую, пришлось выбросить. Если бы у меня была дача, я бы ее свез туда. Но дачи у меня не было. Хотя это не означало, что я всю жизнь должен был жить среди старья. И старых воспоминаний. Жизнь – это движение. Одно умирает, другое рождается и заполняет пустоты. Топтание же на месте похоже на добровольную смерть.
Да и мебель была действительно красивой. В общем-то, я хотел все устроить как-то поуютнее. Но не получилось. Уют – слишком архаично. Все же мебель должна соответствовать современным стандартам. И стеклянный столик. И угловой диван с баром. И лаконичные полки…. Я немного печалился, что в гарнитуре не оказалось книжного шкафа. Но ничего, надо что-нибудь придумать. Не хочу отказываться от своих привычек! Ни за что! Я ведь обожаю читать! Куплю его потом. Отдельно. Как-нибудь… А пока у меня нет времени на эти материальные удобства…
Валькин совет я выполнил наполовину. Я не вникал в судьбы пациентов. Избегал разговоров с ними на душещипательные темы. Но настойчиво пытался запоминать их лица. И по лицам даже угадывал характер, словно упражнялся в физиогномике. Хотя читать по лицам в нынешнее время было все труднее и труднее. Почти невозможно. Практически все ходят в масках. Впрочем, это меня и спасало. Вернее, спасало мой душевный покой.
Но что-то случилось. Нет, не с моей теорией, не с моей практикой и не моим желанием понять лица и нравы больных. Я просто увидел ее…
Она лежала в палате, как и тысячи пациентов… Она была похожа на всех них… Такая же… В больничной пижаме. И даже в больничных тапочках. Я знаю все про тапочки. Чаще их приносят с собой, впрочем, как и пижаму. И по лицам знаю – кто захотел именно в больничных, а кто – нет. В больничной обуви ходили в основном старики или одинокие. Или одинокие старики. А она была другая, совсем другая. Та, что не должна быть в больничных. Значит, она сознательно их надела. И как ни странно, они ей шли. Это, пожалуй, единичный пример. Чтобы больному шли к лицу больничные тапочки. Коричневые, из искусственной кожи. А возможно, просто, что бы она ни надела, ей все было бы к лицу.
Из-за тапочек я и обратил на нее внимание… А может, и не поэтому…. Может, я просто обратил на нее внимание. Хотя как врач знал, что нельзя обращать внимание на пациентов. Я вообще все знал…
«В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного, особенно от любовных дел с женщинами и мужчинами, свободными и рабами…» Какие знакомые строчки! Тьфу ты! Это же Гиппократ. И почему я стал его забывать? Наверное, слишком древний слог. И древнее мировосприятие. И все же. Этика врача во все времена одинакова. Но я ведь и не собираюсь иметь любовные дела с пациентками. Еще чего! И впервые в жизни обратил на одну из них свое внимание. И, возможно, даже не потому, что она мне понравилась внешне. Или какие-то подленькие мыслишки прокрались в голову… Она просто была другой.
Если честно, я сразу подумал – она не пациентка. Это случайный человек, случайно забредший в нашу клинику. И я не потому теперь так думаю, когда уже все знаю наверняка. Она действительно была случайной. Хотя почему люди с приятным лицом и приятными манерами не могут заболеть? Конечно, могут. И они болеют. Еще как!
Но тогда я готов был дать голову на отсечение. (Слава богу, у нас нет этой средневековой казни…) Я готов был дать голову на отсечение? (Слава богу, этого не могло случиться…) Я готов был дать голову на отсечение! (Хотя, скорее, меня просто пристрелят или собьет машина…) Я готов был дать голову на отсечение, что она была не просто пациенткой… И зачем я про это подумал? Не потому ли, чтобы себя оправдать? С пациентками нельзя иметь любовные дела. А не с пациентками очень даже можно… Пожалуй, все свое свободное время я посвятил тому, чтобы доказать, что эта женщина не больна.
В общем-то, я оказался прав. Если человек называет себя больным, это еще не означает, что он болен. Диагноз ставят компетентные люди. Врачи. Такие, как я…
Она поступила в отделение хирургии с приступом аппендицита. Под утро. Но аппендицита как такового не обнаружилось. Да, по сути, ничего не обнаружилось. Она сдала все анализы. И результаты анализов оказались вполне приличными. Ее можно было сразу же выписывать. И я заглянул к ней в палату.
Я так хорошо помню то утро. Осеннее, прохладное утро. Последние солнечные дни. Солнце на прощанье почему-то всегда особенно красиво, свежо, миролюбиво. И даже всегда кажется настоящим. И совсем не кажется больным. Даже если оно поселилось в больничной палате. А возможно, все на прощанье такие? Впрочем, как врач я этого не замечал.
Мне показалось даже, что это ее личное солнце. И никто на него не имеет права, что она принесла его с собой. И включила в своей палате. А на улице – хмурь, тучи и дождь. Как вчера.
И мне почему-то показалось, если она сейчас уйдет, то унесет с собой солнце. И придется долго-долго его ждать. До самой весны.
Она сидела на койке, в спортивном костюме, скрестив ноги по-турецки и уплетая за обе щеки фисташки. И смотрела телевизор. У кровати вызывающе стояли больничные тапочки. Вообще все было как дома. Словно она к больнице не имела никакого отношения… Если бы не тапочки. Казалось, она вот-вот вскочит с кровати и примется за утреннюю гимнастику. Если бы не тапочки. Они меня откровенно раздражали. От них даже шел запах больницы. И этот коричневый цвет, и эта потрескавшаяся кожа. Хотя совсем недавно я приветствовал тех пациентов, кто пользовался именно больничными шлепками. Для чего-то же мы их закупили!
Но это было вчера. А сегодня я со злостью разглядывал эти тапочки. И мне даже захотелось пнуть их ногой.
– Вам в них удобно? – первое, что я спросил у нее.
Ни «здрасьте», ни «как вас зовут», ни тем более «как вы себя чувствуете». А именно со злостью и раздражением: «Вам в них удобно?»
– Очень, очень удобно! – Она вызывающе щелкнула орехом.
– Просто у нас вполне разрешается и вполне допускается приходить со своими тапочками. Думаю, домашние гораздо уютнее.
– Ага, – тут же согласилась она. – И мягкие, и пушистые. И в виде мишек, и в виде слонов.
– Тогда в чем проблема? – Я нахмурился.
Я не любил иронии со стороны пациентов. Тем более хорошеньких пациенток.
– А разве это проблема? – Она почесала за ухом.
И я заметил, что у нее слегка оттопыренные уши. Такие часто бывают у подростков.
– Просто мне ваши тапочки больше подходят. Должно же хоть что-то напоминать о том, что я в больнице, а не дома. А то… И телевизор, и диван, и кофейник, и белые стены.
Я откашлялся. И вполне серьезно ответил:
– Мы сделали все, чтобы наша современнейшая клиника отвечала запросам пациентов. Чтобы она не напоминала им о болезнях, а, напротив, создавала впечатление, будто они в санатории или в доме отдыха. И вот-вот вернутся домой.
– Но ведь не все возвращаются?
Я вздрогнул. Она что-то хотела сказать? Или мне показалось? Конечно, конечно, показалось.
– Безусловно, не все. Как и не все возвращаются с плаванья, полета, даже из дома отдыха. Люди вообще не всегда возвращаются. А не вернуться из больниц – это, увы, более естественно, чем откуда бы то ни было. Даже с войны… Но вас этот вопрос точно не касается. Потому что вы точно вернетесь домой. И совсем скоро.
Ее солнце стрельнуло в меня своим лучом. И мои глаза заслезились. А она громко щелкнула фисташкой.
– Это еще почему?
– Почему вернетесь домой? Это предельно ясно.
– Нет, почему скоро?
Я пожал плечами и открыл папку с историей ее болезни. Точнее, с историей ее не болезни.
– Так, так. Ядвига Пичугина. Поступила ночью с приступом аппендицита. Анализы все хорошие. Рентген хороший. Самочувствие хорошее. Приступ быстро прекратился. Необходимость в операции отпала, поскольку это форма вялотекущего аппендицита. Который неудобств не причиняет. Только в самых исключительных случаях. – Я оторвал голову от истории болезни. – Как у вас, к примеру. Исключительный случай.
– Не понимаю, если аппендицит есть, почему он не может болеть?
– Во-первых, аппендицит не болит. Это его воспаление вызывает острую боль в животе. Впрочем, вам эти детали знать необязательно. Во-вторых, опасен острый аппендицит. А в-третьих, чтобы вы знали, отросток слепой кишки есть у каждого. И каждый прекрасно с ним живет. И не чувствует его. А если он воспаляется, то боль в животе длится от 4 до 6 часов, при повышенной температуре. Чего у вас явно не наблюдалось.
Она глубоко вздохнула, словно искренне расстроилась, что у нее не острый аппендицит.
– Значит, доктор, в вашей больнице неправильно ставят диагноз. И у меня болело что-то другое.
Только я попытался заглянуть в ее глаза, как в меня вновь выстрелил луч ее солнца. Я зажмурился.
– Вы что-то имеете против нашей клиники?
– Нет, просто ошибаться могут везде.
– Могут. Но не в вашем случае, – довольно резко отрезал я. Хотя никогда себе не позволял резкого тона с пациентами. Но мне по-прежнему казалось, что она симулянтка. – Учитывая, что у вас вообще не было никакого случая. Основные анализы мы сделали. У вас все в порядке. И вы можете возвращаться домой.
Я посмотрел за окно. Там по-прежнему было ее солнце. Свежее, бодрое и совсем не больное. Мне стало тоскливо. Мне вновь показалось, что она вот-вот заберет его с собой. И я его до весны не увижу.
– Но…
Я запнулся. Как мальчишка. Хорошо, что еще не покраснел.
– Что «но», доктор?
– Но, чтобы окончательно убедиться, что у вас все в порядке, лучше, если вы еще задержитесь до утра. (А про себя почему-то подумал: ну хотя бы еще три денечка.) Мы вас еще понаблюдаем.
– Понаблюдайте, доктор, понаблюдайте. – Она протянула мне горстку фисташек.
Я отрицательно покачал головой. У меня давно болел зуб. И я давно собирался к стоматологу. Но так и не собрался. Хотя стоматологический кабинет находился на первом этаже нашей клиники. И я решил сегодня же его посетить. Я тоже любил фисташки.
Ее солнце стреляло мне в спину своими лучами, пока я шел к двери. И я чувствовал его физически. Мне было почти жарко. И вокруг было так светло. Мне давно не было так тепло, светло и спокойно. Наверное, потому, что я безоговорочно поверил, что еще три дня будет солнце. Что на три дня осень взяла отсрочку. А потом она заберет солнце с собой… Кто она? Пациентка или осень? Или они вместе? Заберут солнце, которое мне никогда не принадлежало… И убегут…
– Доктор! – Она окликнула меня в дверях. – Доктор, в палате не хватает фикуса. Ну, чтобы совсем по-домашнему.
Я не обернулся. Наверное, потому что не хотел знать – серьезны ли были ее глаза или смеялись? Не хотел знать – задумчиво ли было ее лицо или насмешливо? Не хотел знать – понравился ли я ей или совсем наоборот?
В любом случае в этот же вечер я распорядился поставить в ее палате фикус. И этим же вечером посетил зубного врача.
Следующей ночью я дежурил. Дежурство как дежурство. Я уже привык к ночным дежурствам. Ничего особенного. Впрочем, опять лгу. Зачем? Мне эти дежурства очень даже нравились. Я был одинок. А ночи одинокого человека всегда проходят лучше на работе, чем дома. Дома одиночество обостряется. Оголяется, что ли. Как наэлектризованные провода. Стоит прикоснуться – и ток по всему телу. Болезненный, очень болезненный ток, до агонии. И чтобы он не оказался смертельным, есть один выход – уснуть. И вечный сон заменить на кратковременную маленькую смерть. Смерть на одну ночь. Смерть до утра… Но как это тяжело! По ночам дома бороться с одиночеством. И как это легко! С одиночеством бороться на работе.
Вот поэтому я любил ночные дежурства. И думаю, каждый одинокий человек подпишется под моими словами: работать легко по ночам. И жить по ночам легко на работе.
Я включил чайник. И машинально подошел к зеркалу. Странно, никогда не замечал, что в моем кабинете есть зеркало. Я вообще не любил зеркал. И всегда считал, что без них жить проще. Мы бы никогда не узнали – красивы мы или нет. Не придирались бы к своему носу. И не ругали форму своего лица. Мы бы никогда не увидели свои первые морщины на лице. И последние тоже. И не узнали бы, что состарились. Мы для себя всегда были бы одинаковы. И всегда оставались собой. Мы бы не винили время в своих неудачах. И не клеймили внешность за свои поражения. И, возможно, у нас больше времени и больше желания оставалось бы на философию. И, возможно, в первую очередь мы научились бы конструировать свою душу. И свой разум. А не свое тело и свой внешний вид. Конечно, со стороны нам бы как друзья, так и враги не преминули бы напомнить, что мы хуже выглядим. Что у нас болезненный вид. И круги под глазами. И вообще за последнее время мы чертовски постарели…
Но что такое слова? Это просто слова! Может, они и бывают образными, но реального изображения лишены. Это всего лишь звуки, которым можно доверять, а можно и нет. Они даже не имеют зеркального отражения… Что такое слова по сравнению с зеркалами.
А еще зеркала никогда бы не бились. Если бы их не было. Вдруг тогда поменьше бы бились и наши судьбы? И наши жизни… Впрочем, о чем это я? Я не философ-идеалист. Я врач-практик.
И все равно я не любил зеркала. Но они существовали. И я вынужден был с ними смириться. Хотя при любом случае старательно их избегал.
Но в это дежурство я вдруг подошел к зеркалу. Странно, но на этот раз оно меня не разочаровало. А даже взбодрило. Тщательно выбритый, подстриженный, помолодевший. Если открыть рот – там можно даже увидеть пломбу… Жаль, зеркало не может отображать не только слова, но и запахи. Иначе сейчас оно бы непременно источало аромат дорогущей туалетной воды, которую я почему-то приобрел накануне. Зато галстук, купленный тысячу лет назад, но с тех пор заброшенный, зеркало хорошо отразило. Как и то, что он не вышел из моды. Хотя я не знаю, есть ли сейчас мода. Скорее всего – нет. И зачем мне галстук, я сейчас надену халат, и галстук почти будет не виден. Хотя разве галстуки надевают для красоты? Нет, безусловно, нет. Галстуки предназначены для солидности, строгости и уверенности в себе. Можно сказать, для повышения самодостаточности. Сегодня я хотел выглядеть солидным, строгим и особенно уверенным в себе.
Зачем? Затем, что мне нужно расспросить пациентов об их самочувствии и пожелать спокойной ночи. Стоп. Не то. Для этого я никогда не надевал галстук и не покупал туалетную воду. Просто среди пациентов была одна пациентка… У нее еще фикус в палате. И больничные тапочки у кровати. Но это-то тут при чем? Разве из-за фикуса надевают галстук?
Я совсем запутался. Пожалуй, пора. Я бросил умоляющий взгляд на зеркало. Оно отразило вполне симпатичного мужчину около сорока лет. С довольно мужественным широкоскулым лицом. Слегка раскосыми проницательными глазами. В белом халате, из-под которого неожиданно выглядывал дорогой галстук. Мне вдруг показалось, что в этого мужчину можно влюбиться. Может быть, не зря придумали зеркала…
Мое ночное дежурство было предсказуемым. Я обошел все палаты. Расспросил всех пациентов о самочувствии и всем пожелал спокойной ночи. К ней я заглянул в последнюю очередь.
Она не щелкала фисташки. Она читала книгу. Настольная лампа освещала ее круглое лицо. Но я по-прежнему не мог его уловить. Почему-то ярче всего были видны ее по-детски оттопыренные уши. А книга делала выражение лица умнее. Все книги всегда делают лица умнее. Жаль, что лица не могут сделать книги умнее. Хотя умные книги в этом не нуждаются.
Я хотел спросить, что она читает. А вместо этого у меня почему-то вырвалось:
– Угостите фисташками?
Она отложила книгу в сторону. И ее лицо слегка поглупело.
– Они закончились.
Я растерялся. Я чувствовал, что теперь и мое лицо глупеет на глазах. И я схватился за ее книгу. Она пришлась очень даже кстати. Это был Достоевский. А я думал, что девушки с круглым лицом и оттопыренными ушами Достоевского не читают.
– Я и не знал, что девушки еще читают Достоевского, – глупо, тем более с поумневшим лицом, пробубнил я.
– Это чтобы побыстрее уснуть, доктор, – отрывисто ответила она. И зевнула, не прикрыв рот ладошкой? – А вообще у меня самочувствие нормальное, температуры нет и…
Она запнулась. Она хотела сказать: спокойной ночи. Она хотела от меня отвязаться. И мне стало так грустно, словно у меня вновь отобрали солнце. Хотя ночью его не могло быть априори.
– Спокойной ночи, – опередил я ее.
Видимо, ей стало стыдно.
– Очень красивый фикус. Я даже его полила. И галстук мне ваш нравится.
Как она могла заметить галстук? Ведь он совсем не виден из-под халата. Я еще больше смутился. И отложил книгу на тумбочку. Мое лицо вновь поглупело. Мне следовало давно уйти, я это чувствовал. Свой долг врача я уже выполнил. И о самочувствии узнал, и пожелал спокойной ночи. Но я не уходил. Хотя прекрасно знал, что уходить всегда нужно первым. Зная, что тебя не задерживают. Это не так болезненно.
Меня не задерживали. И мне было от этого чуточку больно. Мне так хотелось с ней поболтать. Но она, похоже, соблюдала режим. Похвально.
– Жаль, доктор, что я не могу вас угостить фисташками. – Она вновь демонстративно зевнула.
Она словно куда-то торопилась. То ли уснуть. То ли дочитать Достоевского. Хотя мне казалось и то, и другое неправдоподобным. Кто в мире торопится спать или читать Достоевского?
И я подумал, что зря запломбировал зуб. Похоже, в ближайшее время поесть фисташки мне так и не придется.
Вернувшись в свой кабинет, я вдруг почувствовал себя одиноким. А ведь никогда, никогда еще на работе я не чувствовал одиночества. Почему, почему оно вновь безжалостно и навязчиво нагнало меня? Только потому, что какая-то лопоухая девчонка не захотела со мной поболтать? Какие глупости. Что я себе вообразил! Она не девчонка! Не так уж она и молода. Просто выглядит так. Пусть свои уши за это благодарит. Она всего лишь одна из пациентов. Которым следует строго соблюдать режим. И я принципиальный сторонник клятвы Гиппократа. И прозвище у меня Гиппократ. Прозвища зря не дают, их заслуживают. И я не имею права относиться к пациентам по-человечески…
Тьфу ты! Что я болтаю? Конечно, по-человечески. Но не по-другому. А как это – по-другому? Я спорил с собой, убеждал себя. Пытался с помощью валерьянки утихомирить свое взбунтовавшееся сердце. Но переубедить себя мне не удалось.
Я опять посмотрел в зеркало. На меня смотрел влюбленный человек. Гладковыбритый, аккуратно подстриженный. С мужественным широкоскулым лицом. В галстуке. От которого пахло дорогим парфюмом. И даже зуб был запломбирован. В завершение совершенного образа. И я подумал в очередной раз, что в этого человека можно влюбиться. Мое отражение меня победило. Зеркала победили мой мир. Он стал прозрачным, сквозным. И я поежился от сквозняка.
К середине ночи мне вздумалось перекурить свой совершенный и прозрачный образ. В себе разбираться мне уже не хотелось. И я, достав из ящика стола пачку сигарет, вышел на балкон. Да, именно на балкон. В нашей клинике были балконы.
Изначально она была задумана как санаторий или дом отдыха. Эта идея принадлежала Вальке Лису. Чтобы больница внешне никоим образом не напоминала больницу. Упаси боже! Чтобы, один раз взглянув на нее, никто не посмел сказать: а ведь тут лежат больные люди, некоторые очень даже больные, а некоторые вообще при смерти. Словно суть вопроса зависела от внешнего вида. Словно внешний вид мог победить болезни и противостоять смерти. Словно больные исчезнут, если больничные стены будут окрашены в салатовый цвет. А палаты будут напоминать жилые комнаты. Хотя никто не задумывался, что жилые комнаты сегодня скорее напоминают больничные палаты.
Иногда создавалось впечатление, что эта игра в красивости специально уводит от сострадания и переживаний. Мы откровенно говорим о болезнях больному, понимая, как это ему больно. И в то же время избегаем внешней правды. Чтобы в том числе и прохожий, посмотрев на комфортабельный, веселенький вид клиники, равнодушно прошел мимо. Возможно, буркнув под нос: а неплохо тут больные пристроились.
Впрочем, разве только больницы это касается? Это касается всего в нашей жизни. Вот Достоевский не боялся настоящей правды. Чтобы больно было не только больному, но и здоровому ближнему. В том числе было бы больно самому писателю. И он бы этой боли не избегал. Это и есть сострадание.
Хотя вполне можно было строчить развлекательную ерунду. И по ночам спать спокойно. Но сейчас у писателей другая миссия. Писатели спокойно спят по ночам. И прохожие равнодушно проходят мимо больниц. И никому уже не больно. И только физическая боль еще может причинить страдание. Но если в жизни осталась лишь физическая боль, разве мы мало отличаемся от животных? А возможно, в этом и заключается сегодня основная миссия мира? Чтобы он стал однородным. Страшная миссия…
Я вышел на балкон. И вдруг понял, что и мне тоже давно уже не больно. Давно. Больно – это конкретное слово, из жизни, что ли. А если больна душа? Нет, я понимал, когда я физически болен. Это другое. Хотя уже казалось, это одно и то же. И фраза «душа болит» уже выглядит не просто анахронизмом, а банальностью и безвкусицей. За такую фразу становится стыдно. А мы выше этого. Потому что циничнее, увереннее, равнодушнее. Правда, мы еще помним, что такое душа. Но не знаем, зачем она нужна. Если понимаем лишь физическую боль. И то исключительно свою.
Я закурил. Я не винил Вальку. Он хотел как лучше. К тому же он шел в ногу со временем. Можно сказать, даже бежал. И, по сути, это верно. Правда, балконы в палатах оказались ошибкой. Открытыми их нельзя было оставлять, потому что больные там тайком покуривали. Даже были случаи, некоторые хотели выброситься… Потому балконы в палатах заколотили. А зачем нужны заколоченные балконы? Валька пока придумать не смог. Но, как всякий энергичный человек, идущий, вернее, бегущий в ногу со временем, активно его искал. Я был уверен, что он найдет ответ. Потому что нельзя допускать бесхозяйственности. И расточительства. И попустительства. Ведь в эти балконы вложены большие деньги.
Я стоял на балконе и курил. Вот в моем кабинете балкон был как нельзя кстати. И в Валькином тоже. Валька тоже курил. Впрочем, наши кабинеты располагались рядом, и балкон был один на двоих. Его разделяла лишь узенькая перегородка.
Вдруг я заметил, что из-за перегородки просачивается слабый луч света. Возможно, мне это кажется. А возможно, и нет. Валька был, конечно, ответственный человек. Но бывали случаи, когда он забывал выключать настольную лампу или компьютер. Я переступил через перегородку. Конечно, на этот раз опять компьютер.
Монитор горел тусклым синим светом… Лучше бы синим пламенем. Компьютеры я ненавидел. Как и всю новомодную технику. Нет, я не был ярым противником научно-технического прогресса. А просто считал, что он не должен происходить так резко и навязчиво. И тем более обгонять самого человека. Душа которого давно уже не болит. Да и как может болеть душа, если она давно заложена в компьютер и ее можно легко починить?
Я осторожно открыл балконную дверь. Она даже не скрипнула. Сам не знаю, почему я сделал это осторожно. Ведь для этого не было никакой причины. Просто, наверное, сработал элементарный инстинкт. Ночью все нужно делать тихо и осторожно. Ночь не любит скрипучих дверей. Ночь не жалует громких шагов… И я тихо переступил порог Валькиного кабинета. И застыл на месте. Мгновенно у меня даже во рту пересохло.
Я увидел ведьму. Или приведение. Или русалку. У меня не было времени разобраться. Да и разница небольшая. Я плохо ее различал в темноте. Я увидел только длинные черные волосы с синевой, бледный профиль лица с синевой, и белые одежды с синевой. И мне показалось, что она что-то толчет в ступе. И над чем-то колдует.
Впрочем, мое видение продолжалось одно мгновение. Единственный слабый источник света – компьютер – вдруг потух. И ведьма, от которой остались только белые одежды, вылетела в едва приоткрытую дверь. Не утверждаю, на метле или еще как…
Я перевел дух. Или у меня галлюцинации, или я сошел с ума, или все это чушь собачья. И включил свет. Вместе со светом в кабинет вернулась реальность. Нет, все же научно-технический прогресс – это совсем неплохо. Особенно я приветствую изобретение электрической лампочки. Хвала Яблочкову и Лодыгину! Так и быть – Эдисону тоже! Хвала электрификации всей страны!.. И что я, врач-практик XXI века, себе вообразил? Право, смешно! Ведьму! Это когда вот-вот полетят на Марс. Когда мобильники, скайп и компьютеры. Цифровая спутниковая связь и искусственная сетчатка глаза! Когда в любой момент можно увидеть лицо человека, находящегося от меня за миллионы километров. И запросто с ним поболтать. И почувствовать запах через компьютер!.. Какие, к чертям собачьим, ведьмы?
Правда, почему-то все эти аргументы мне показались не очень убедительными. Когда я вдруг вспомнил еще один продукт научно-технического прогресса – телевидение. Допотопность его мышления и варварство его сплетен. Когда вдруг вспомнил уровень общественного образования. И слепую веру людей. В ведьм, чертей, домовых, гадалок, экстрасенсов и прочих. А еще человеческое мышление. И восприятие невероятной информации.
Похоже, я оправдывал себя. Я ничем не отличался от темных людей XXI века. И тоже безоговорочно поверил в ведьму.
Нет уж, в отличие от них, я еще помнил, что являюсь врачом-практиком. Материалистом и реалистом. А папа у меня вообще был ученым. Хоть и работал простым терапевтом. Как Чехов. И Чехов – мой любимый писатель и тоже – врач-терапевт. И тоже реалист и материалист. Хотя и писатель. Потому что тоже ученый…
В итоге я окончательно запутался, работая сам себе адвокатом. В общем, пошли все к чертям собачьим! Учитывая, что чертей не существует. И собаки к ним никакого отношения не имеют… Поэтому я сумею во всем разобраться. И найду эту «ведьму». Которая окажется простым воришкой. Даже если в белых одеждах. Может, это и вовсе был медицинский халат?
Я тщательно осмотрел кабинет. Все было на своих местах. Конечно, только Валька сможет вынести окончательный вердикт – не украдено ли чего? Но внешне все довольно прилично. Не разбросано, не побито, не разгромлено. Я решил выйти в коридор. И дернул ручку двери. Черт! Дверь была заперта! Значит, не было никого! Значит, галлюцинации! Или все-таки ведьма?! Похоже, я возвращаюсь к исходному. К человеку XXI века. Прилипшему к компьютеру. И сжимающему в руках мобильник. Как спасательному кругу. В современном стеклянном доме, обустроенном в стиле минимализма и напоминающем больничную палату. С головой, забитой лабиринтом дремучих, примитивных, запутавшихся мыслей. Распутывать которые человек не желает. И даже не может. Учитывая, что мысли его давно не болят. Как и душа.
Щелкнув ручкой дверного замка, я вышел в коридор. В дальнем конце дежурила медсестра. Вернее, дежуря, дремала. Как жаль, что мое дежурство не совпадает с дежурством Иришки, жены Лиса! Вот кто ответственный работник! Вот при ее дежурстве невозможно никакое ЧП! Никакие воры! Не говоря уже о ведьмах или привидениях…
Я скучал по Иришке в ночные дежурства. Она просто излучала настоящую реальность, спокойствие и уют. Особенно когда брала гжельскую чашечку в руки, наливала туда из гжельского чайника ароматный дымящийся чай и гжельской ложечкой размешивала сахар. А еще она пила чай из гжельского блюдечка, конечно, если чай очень горячий. Хотя, признаюсь, всего этого я не видел. Но ярко представлял эту картину, сотканную из гжельского уюта, гжельской реалистичности и гжельского умиротворения…
Это я постоянно вспоминал, когда болела душа. И мне казалось, что только такие, как Иришка, способны вылечить душу. Она воистину была медсестра от Бога. И не только для пациентов…
И я в который раз позавидовал Лису. И в который раз пожалел, что не дежурю с Иришкой…
* * *
Увы, это была не Иришка. Это была всего лишь медсестра с очень медсестринским именем – Мила. Но несмотря на милое имя Мила, несмотря на то, что она была очень мила собой, она не любила свою работу. И предпочитала на ней спать. Иногда красить ногти. В это дежурство она, похоже, успела и то, и другое.
В коридоре пахло лаком, а Мила мило дремала на стуле. Валька давно бы ей голову свернул и обломал бы все ее накрашенные ногти. Валька есть Валька. Но он был слишком… Слишком хороший… Даже для Милы. Он давно хотел ее уволить, но почему-то не увольнял. Валька был просто добрым парнем. Хоть и бегущим в ногу со временем.
– Милая Мила, – тихо позвал я медсестру.
Она тут же проснулась. И сразу приняла строгий вид. Ни сна на лице, ни следов сновидений. Ни частого моргания спросонья. Ни зевоты. Секрет профессионала.
– Да, Георгий Павлович?
– Да, Мила. Вы не видели случайно – никто сейчас не прошел по коридору?
– Прошел? Я вас не понимаю. Я бы точно заметила! Я бы никого не пропустила. – Мила ответила уверенно, даже не моргнув глазом. – К тому же кому тут быть! Это вам не бульвар и не спортплощадка, чтобы тут прогуливаться или бегать. Слава богу, наша клиника современная. У каждого в палате свой туалет. Это вам не допотопные больницы, где туалет один на всех, и тот на коридоре. Так что…
– Я вас понял, Мила! Вы все очень аргументированно объяснили. Можете дальше продолжать…
У меня чуть не вырвалось в рифму – спать. Но я вовремя остановился. Мне не хотелось ночных разборок с Милой. Да и прямых доказательств сна на дежурстве не было.
– Продолжать дежурство.
– Я и продолжаю.
Милое лицо Милы выглядело очень глупым, хоть и уверенным.
– Кстати, Мила. А что вы всю ночь делаете? Я ни разу не видел вас с книжкой. Кстати, она была бы вам к лицу.
– Странный вы, Георгий Павлович. На дежурстве я дежурю. Что же еще? Я выполняю все инструкции. Читать не положено, разве не так? Чтение – это нарушение правил.
– Вы правильный человек, Мила. И ответственный. Я рад за вас.
Лицо Милы стало еще строже и еще глупее. Не могу понять, как это возможно совместить – строгость и глупость одновременно. Но Миле это всегда удавалось. Возможно потому, что она искренне верила в свою правильность и ответственность.
И я в очередной раз вздохнул по Иришке. Она всегда сомневалась в своей ответственности и правильности. Но более правильного человека я не видел. Ее лицо было всегда умным. И с книгой в руках, и с гжельской чашкой. За круглым столом.
Я двинулся по коридору. По пустынному коридору своей больницы. Ночью мне она нравилась еще больше. И репродукции русских, французских, голландских художников вдоль стен выглядели настоящими именно ночью. И мне казалось, что я иду по художественной галерее. Может, Лис действительно прав? Когда думаешь, что ты в музее, а не в больнице, стоны больных за стенами, на которых развешаны картины, не слышны. И, безусловно, нам от этих стонов уже не больно. Больно только больным.
Может, Лис прав? Боль должен испытывать только тот, кто болеет? И этой боли на каждого за жизнь хватит… Но мне казалось по-прежнему, что Гиппократ с Лисом ни за что с этим не согласились бы…
Хотя что мы знаем про Гиппократа? Когда столько веков прошло. И столько историков родилось за это время. И столько эти историки смогли переврать и насочинять за эти века. Хотя мой папа и Чехов тоже бы никогда не согласились с Лисом. А они верили в Гиппократа, словно знали его всю жизнь. А я верил им…
Возле двери палаты, где лежала моя пациентка… Вот я уже и констатирую – моя… Ведь все – мои пациенты. Так почему именно она?.. Наверное, правильнее будет сказать: «возле двери палаты, где лежала пациентка по имени…» Как же ее зовут? Имя какое-то дурацкое. Я вообще плохо запоминаю имена. Какое-то не очень русское. И не очень нерусское. С ягодой ассоциируется. Да, точно, точно… Ядвига. Польское имя. Хотя в Белоруссии и на Украине навалом девушек с таким именем. Думаю, и в Словакии, и в Словении, и в Германии их навалом… Зачем это я ударился в географию? Учитывая, что всегда неважно ее знал. Потому что плохо ориентируюсь в пространстве, а может быть, и в самом мире. Плохо запоминаю города и страны. И имена людей тоже. Может быть, потому, что среди людей тоже плохо ориентируюсь. Поэтому разве имеет значение, как зовут мою пациентку? Ну вот, я опять за свое. Еще не хватает, чтобы я назвал ее пациенточкой. Нет, нет, ни в коем случае. Ее зовут Ядвига, я вспомнил! Обычное нерусское имя.
Так вот, возле палаты Ядвиги я остановился. За стеной, на которой висели репродукции картин известных художников, лежала она. Нас разделяли художники. И я почему-то сделал вид, что внимательно рассматриваю одну из картин. Чтобы, не дай бог, Мила, ничего такого не заметила. А пронзительный взгляд Милы буквально впивался в мою спину, и я это чувствовал. Слава богу, она сидела в другом конце коридора, иначе от ее взгляда у меня наверняка бы остались синяки.
Мила впилась в меня. Я впился в картину… И вдруг до меня дошло, что на ней изображена ведьма. Я буквально похолодел. И напрасно. Потому что это была вовсе не ведьма, а обыкновенная Баба-яга работы сказочника Васнецова. Она так и называлась «Баба-яга». По-моему, еще в детстве я видел это полотно в доме-музее художника. И тогда она меня не испугала, а рассмешила. В детстве мы всегда смелее. А сейчас я, врач-практик, реалист и материалист, вдруг похолодел от этой картины.
Хотя при чем тут ведьма? Моя ведьма, как и положено, была в белом. С черными, как и положено, волосами. И пугающе красива, как и положено. Нет, про красоту я придумал. Потому что даже не разглядел ее лица в темноте…
А эта васнецовская Баба-яга была даже трогательной. Потому что очень хотела напугать всех своим классическим образом. И носом-крючком, и клыками, и растрепанными волосами, выбивающимися из-под косынки, и костяной ногой, и ухающим филином. Но разве может напугать классический образ? Классика заставляет думать. А пугает в основном масскульт. Вон Гоголь сколько пугал-пугал, но так и не напугал. До сих пор его читают – и вдумчиво, и недоуменно.
Впрочем, при чем тут Гоголь, классика и Баба-яга… Да и не читают уже ничего вовсе… Но почему, почему именно картина с этой ужасной до смеха бабкой висит на стене, за которой временно живет Ядвига?
Мне это не понравилось. Вдруг – плохая примета?.. А с каких пор я стал верить в приметы? И что эта примета может означать? Что в одно солнечное осеннее утро влетит на ступе Баба-яга и унесет через балкон мою пациентку? Вместе с солнцем. Последним солнцем для осени. Ну, хорошо, одну из моих пациенток. Но это невозможно. Хотя бы потому, что все балконные двери в палатах заколочены. Так распорядился главврач Лис. И солнце украсть невозможно. И девушку тоже… Хотя почему девушку невозможно украсть?
Я похолодел. А возможно, я и не о пациентке беспокоюсь. А о солнце, которое мне хочется удержать. И я так не хочу, чтобы его украли. А Баба-яга просто невозможна… Я похолодел еще больше. Но ведь кто-то был ночью в кабинете Вальки Лиса?
И внезапно мне захотелось убедиться, что с Ядвигой все в порядке. Что она спокойно спит в своей постели. Но могу ли я ночью разбудить пациентку? Просто из-за каких-то бредовых подозрений? Особенно, когда пронзительный взгляд медсестры вцепился в мою спину. До боли… Тут кто-то больно хлопнул меня по спине. Я резко обернулся. Это была сама Мила, а не ее взгляд.
– Бабкой-ёжкой любуетесь? Хороша! И кому только в голову взбрело вывесить в больнице этот комикс? Больных, что ли, пугать!
– Милая Мила, это не комикс, а шедевр. Да и больных уже не испугаешь Бабой-ягой. У них совсем другие страхи. И очень даже реальные. Обоснованные.
– Ну, Баба-яга – это тоже основание. Особенно когда идешь на операцию. А перед твоими глазами клыки и нос крючком. Всякие могут возникнуть ассоциации.
– Вряд ли те, кто идет на операцию, глазеют по стенам. В основном, Мила, их везут на каталке. И впереди они видят лишь белый халат. Халат медсестры. Такой, как у вас, Мила.
Мне захотелось добавить: хотя какая, к черту, ты медсестра? Но я промолчал. А она потянулась к дверной ручке палаты.
– Вы куда, Мила? – почему-то испуганно пробормотал я.
Мила удивленно посмотрела на меня.
– Как куда? Уже утро, Георгий Павлович. А вы и не заметили. А этой пациентке сегодня выписываться. Вот я ей первой градусник и несу.
Я, как фокусник, изящно выхватил градусник из рук Милы.
– Вы ответственный человек, Мила. Вы всегда следите за режимом пациентов, вы всегда охраняете их покой. Но позвольте, я занесу градусник.
Мила бросила на меня подозрительный взгляд и, по-моему, даже хмыкнула. А может, и нет. Может, я преувеличиваю.
– Вообще-то это входит в обязанность медсестры – разносить градусники и записывать температуру…
– А я как врач должен всего лишь подтвердить возможность выписки пациента именно сегодня.
– Пациентки, – навязчиво (или ненавязчиво) поправила меня Мила.
– Разве? А я почему-то подумал, что здесь лежит именно пациент. Впрочем, это не важно…
– Ну да, где уж запомнить, – поверила (или не поверила) мне Мила.
Я тихонько отворил дверь. Ее солнце еще не влетело в палату. Было слишком раннее осеннее утро. Солнце еще стояло за дверью балкона, ожидая, когда его пригласят. И мне казалось, что не время, не природа, не климат, а именно она должна его пригласить.
Она лежала на диване. Слава богу, ее не украла ни Баба-яга, ни кто-либо другой. Сегодня моя пациентка уйдет сама. И заберет с собой солнце. И я до весны его уже не увижу.
Она спала на диване. И ее веки подрагивали. Такое бывает, когда крепко спишь. Или когда притворяешься, что крепко спишь. Я не знал – она крепко спала или притворялась. Впрочем, это было не так уж важно. В любом случае вранье могло быть простительно и уместно. Неловко лежать с открытыми глазами, когда входит лечащий врач.
– Ядвига? – тихонечко позвал я ее.
Она тут же открыла глаза. И спросонья потянулась. Или сделала вид, что спросонья.
– Здравствуйте, доктор.
Она включила настольную лампу. Свет осветил ее круглое лицо и оттопыренные уши. И пышные светло-русые волосы, особенно ярко подчеркивающие ее черные глаза и черные брови.
– Вы должны измерить температуру. Вас сегодня выписывают.
– Правда? А если будет высокая температура?
– Ну… Значит, вы, возможно, простыли. Но это не означает, что вам нужна операция. Поймите, у нас хирургическое отделение.
– А если будет болеть живот?
– Вы не хотите идти домой? У вас неприятности? – откровенно спросил я.
Хотя Лис меня учил, что врачу нельзя прибегать к подобным приемам. И особенно откровенничать. Но почему я должен во всем верить Лису? Гиппократ так не думал. И мой папа тоже. И Чехов.
– Я живу одна. – Она вздохнула и приподнялась на подушке? – А какие у одинокого человека могут быть неприятности? Их нет. Вернее, только одна неприятность и есть – одиночество. Вы не согласны? Или вас это не касается?
Ну вот, теперь она и меня вызывала на откровенность. Лис бы этого не просто не одобрил. Он был бы возмущен. И моя карьера оказалась бы под большим вопросом.
– Меня многое в жизни коснулось, наверное, как и всех, – неопределенно ответил я.
Так, на всякий случай. Чтобы она не потеряла ко мне доверия. И чтобы на доверие тоже не рассчитывала.
Она приподняла подушку еще выше. Одеяло сползло до пояса, и я заметил, что у нее совершенно белая пижама. Не знаю почему, но этот факт меня насторожил. Хотя не думаю, что многие девушки носят белые пижамы. А, может, многие. Но это так непрактично и даже грустно. Если бы еще в цветочки какие-нибудь. Или мишки. Было бы гораздо веселее. Нет – чисто белый цвет.
Мне стало не по себе. Вот, я опять вру. Мне стало больно. Может, и потому, что она лежала в больничной палате, хотя не должна была там лежать. А белый цвет пижамы… Он всегда напоминал больницу. И я постарался ее утешить.
– Ядвига, – тихо позвал я ее.
Надеясь, вдруг не услышит? И совесть чиста, и ответа не нужно. Она, как назло, услышала. У нее был хороший слух. Наверное, потому что большие уши.
– Доктор, не люблю, когда меня так называют. Какое-то польское имя. Точнее, вообще немецкое. Вы разве не знали? Хотя я не против поляков. И немцев. Разве что старые счеты… Но меня все зовут Яга – сокращенно от «Ядвиги». Ведь имена всегда сокращают.
Я вздрогнул. Нахмурился. Захотел закурить, но не закурил, потому что в палате не положено.
– Яга, Яга… Яга?
Я не то чтобы удивился. Пожалуй, я был ошарашен. От этого и не удивился.
– Ага, Яга. А вам что – не нравится?
Мне не нравилось многое. Мне не нравилось, что в кабинете Лиса совсем недавно промышляла ведьма. Или Яга. Что на стене висела картина Васнецова «Баба-яга». И что ее пижама была белая… Ах да, еще хуже. Мою бывшую жену звали Ада! Какая связь? Я ее не видел, но чувствовал. Ада… Я ее ненавидел. Но Яга?.. Я просто не мог в нее влюбиться, потому что любил когда-то Аду. Как просто. Но всему этому доказательств не было, а я был плохим и адвокатом, и прокурором. Я выбрал третье. Риторический вопрос следователя.
– Яга… Ну да, это логичнее. Это проще. Но как-то некорректно, согласитесь. Во все времена, – неуклюже пробормотал я.
– Неуклюжая речь. – Она встряхнула пышными длинными волосами.
И только теперь я заметил, что они не просто светло-русые, а с золотистым отливом. Хотя раньше этого не замечал. И еще не взошло, нет, не верно – не вошло, вернее – не ворвалось в палату ее солнце.
– Неуклюжая речь дилетанта. Который ни черта не мыслит в бабках-ёжках, – повторила она.
– А должен? – Я пожал плечами. – Как-то никогда о них не задумывался.
– В таком случае попробую все объяснить. Мой папа был…
Она начала рассказ. Про папу. И не только…
Вот так, запросто, в мою жизнь вошел ее отец.
Да, он был… Он и впрямь уже был. В прошлом. Я еще не мог его отчетливо разглядеть. В своих фантазиях. Слышал только голос. Низкий, хрипловатый. Голос, который выглядел старше его лет.
– Своего ребенка я назову Яга!
– Ты с ума сошел? – А это ее мама.
У нее непременно должен быть мягкий, тоненький, почти писклявый голосок.
– Нет, просто я всю свою жизнь посвятил этому образу. Его правде. Но правда так и не всплыла. Почему я не могу посвятить своей дочери труд всей моей жизни?!
– Я ничего и не поняла… Но Яга – это уж слишком.
– Тогда… Ядвига! Хочешь – Ядвига? Это, правда, древнегерманское имя. Теперь – чаще польское. Поляки – славяне, как и мы. Во всяком случае, в миру это имя будет понятнее, чем Яга. Хоть и чужеродное… Ох, как же мы все склонны к предрассудкам.
– Не к предрассудкам, а к рассудку. Точнее, к разуму… Ядвига? Х-м. Оригинально, – немного успокоилась мама.
– Имя как имя – а папа разволновался. – Имя – как и Яга. Это почти одно и то же. Вернее, станет одним и тем же… Оно означает: «воительница»… Но при чем тут что чего означает? Мы – ученые. И это не имеет значения.
– Не имеет, но ученый лишь ты… Я не знаю… Я хотела… Но если ты так… Ведь я знаю… Но ты ученый…. Ядвига. Хорошо, приятно. Ядя, что ли… Почти ягода. А для того, кто ее полюбит – можно и «ягодка»…
Я вздрогнул. И очнулся…
– Доктор!
Яга опять слегка потянулась. Яга была в белом. Яга была рыжей. Но я не понимал, вернее, ничего не хотел понимать.
– Доктор, мой отец всю жизнь изучал образ Бабы-яги. И всю жизнь хотел оправдать этот персонаж. Он не был адвокатом, он был фольклористом. Но считал, что жизнь так несправедлива. Начиная с Бабы-яги…
– Странное начинание… Более чем! Но это странным покажется лишь человеку необразованному или не заинтересованному в образовании, поверьте!
– Я верю. Но слишком много слов. Я не верю в множество слов.
– А верите моему отцу? Ведь он был не я и не вы… И даже не из нашего времени.
– Не хочу, но, наверное, верю…
– Вы же знаете, что все можно оболгать?
– Да.
– Вы верите, что все можно опорочить?
– Наверное… Только непорочные люди не верят в это. Их, пожалуй, теперь уже нет…
– Что можно зло назвать добром? И наоборот?
– Я живу вместе с вами в одном времени. Поэтому верю. Но в добро в последнюю очередь…
– Все можно опошлить, принизить, утоптать?
– Еще бы! Мы и сами на это способны…
– Что все можно переиначить?
– До сегодняшнего времени, пожалуй, нет. Но учитывая Бабу-ягу…
– Вижу, вы во многое верите. Раз работаете здесь. Вам… Что подают, в то и верите? Как в ресторане. И не боитесь отравиться?
– Иногда побаиваюсь…
– Вы верите, что слишком много времени уходит на оправдание правды? Вы верите, что это время уже пошло?
Я посмотрел на часы. Время шло. Но время еще было. На наш разговор. И мне не хотелось его заканчивать. Потому что ко всему прочему существовала ослепительно-белая пижама. Хотя их столько на свете!
– Мой папа…
Яга запнулась.
– Разоблачать подлог он начал с нуля. Все нужно делать не с единицы, а именно с нуля. Ведь единица – это уже потом…
Я уже не просто мог представить голос ее отца. Я уже видел его. Так ярко, так отчетливо. Словно пять минут назад с ним расстался. Типичный профессор-фольклорист. Седой, бородатый. На носу немодные очки в роговой оправе. Но голос все равно был старше его лет.
– Я благодарен, что ты позволила… Позволила назвать мою девочку Яга. Это дело принципа.
– Я лишь позволила назвать ее Ядвига.
Маму я по-прежнему не видел. А возможно, мне было просто лень ее рисовать в своем воображении. Или моего воображения не хватало. Как в детстве не хватало цветных карандашей.
– Но ведь позволила… Ты же знаешь…
– Да, знаю. Я тысячу раз слышала эту историю. Тысячу раз слышала, что имя Яга – старославянское. И так называли многих девочек. Как теперь называют Катей, Галей, Верой. И что… Что она… Она первая организовала приют для бездомных детей…
– Первая, понимаешь, она первая это сделала! Яга! И дети ее очень любили! По сути, ее именем нужно было называть детдома! Во вселенском масштабе, историческом…
– Ну и что? В истории масштабы, особенно вселенские, легко изменяются и заменяются. А потом все века ее именем детей пугали! Не будешь слушаться – в приют! К Яге!
– И это справедливо?
– Не знаю… Нет, конечно… Но фразеологизмы… Устоявшиеся выражения. И их бесспорность… Разве что-то можно изменить?
– Если бы нет… Все так думают, что нет. У всех одна философия. Нет, скорее психология – раз так случилось, то альтернативы нет. И изменений тоже. Хотя… Всю жизнь и изменяют, и переворачивают. Можно, и я хоть раз что-то изменю и переверну?
– Только кто это поймет и услышит?
– Не знаю. Сегодня нет. Но если слово вброшено… Если мысль посеяна… Они же этим и руководствовались… Словом… Мыслью… Я буду действовать их же методами…
– Про Бабу-ягу?
– Она всего лишь начало. Начало тому, почему все перевернуто. И почему никто, никто в этой жизни не хочет перевернуть все назад? Вернее, поставить все на свои места…
Я встряхнул головой. И родители Яги мгновенно исчезли. А сама Яга сидела на кровати, поджав по-турецки ноги. Ее круглое лицо покрылось красными пятнышками. А волосы, казалось, порыжели еще больше. А возможно, просто наступал осенний рассвет. И Яга вот-вот должна была впустить к себе в палату солнце.
– Вот так, доктор. Папа даже написал докторскую, и даже защитился. Но многие, очень многие обвиняли его в ненаучном подходе к теме. Хотя уверена, он на все сто был прав!
Она на секунду замолчала. И продолжила:
– Когда-то давным-давно жила милая и обаятельная, умная и образованная женщина по имени Яга. Да, еще и очень одинокая. Она была богатой. Даже стильной, как сказали бы сегодня. Она носила красные сапожки с золотой вышивкой. Но у нее не было детей. И она решила организовать для всех обездоленных ребятишек детский приют. Так у нее появилась настоящая семья. Слава о ней пошла по всей округе. О ее щедрости и красоте. Щедрость сделала ее еще красивее. И вот злобные и завистливые мамаши, не раз ловившие любопытные взгляды своих мужей в сторону Яги, стали потихоньку ее травить… Так и пошло. Ягой пугали детей. В тридцать с лишним лет ее обозвали Бабой-ягой с костяной ногой. Придумали, что нога у нее не настоящая, деревянная, поэтому она всегда в сапогах. Это уже для своих мужей… И пошла гулять дурная слава. Приют закрыли. А Яга умерла в нищете. Есть даже версия, что ее убили… Вот так ее отблагодарили за сделанное всем добро… Это хорошая слава быстро забывается. А дурную славу не остановить. Причем со временем она обрастает еще более страшными подробностями. Так для Яги придумали избушку на курьих ножках. Возможно, прообразом послужил ее детский приют. И что она в этой избушке деток в печи запекает. И прочее, и прочее… И эти все выдуманные фольклорно-исторические гадости мой отец хотел разоблачить. Вывести завистников на чистую воду… Через столько-то веков!.. Ему это, конечно же, не удалось… Мой отец был романтик. Возможно, немножко донкихот. Но даже он не пошел до конца. В паспорте я всего лишь Ядвига. Немецко-польское имя – пожалуйста! А старославянское – увы…
– И слава богу, – вздохнул облегченно я. – Это хоть и красивая легенда, но все же легенда. А если даже и нет… Знаете, возможно, в любом случае Бабе-яге повезло. Мало того что ее имя на века вписано в историю. В истории обязательно найдется человек вроде вашего отца, который попытается восстановить историческую правду. И даже если эту правду узнают немногие, все равно она тоже останется на века. Вот – даже научные труды уже пишутся… Глядишь, и роман появится, и фильм, и картина. А если еще они будут созданы гениальными художниками?
– Вы считаете, что и Мюнхгаузену и Сальери тоже повезло? Из первого сделали посмешище, из второго – злодея. А если это не так?..
– А если так? Даже если и не так. Кто бы сегодня знал какого-то ничем не примечательного барона-выдумщика и средней руки композитора?
– Вы считаете, что дурная слава – тоже слава? Не важно какая, лишь бы была?
– Слава богу, я так не считаю. Просто спорные имена в истории всегда вызывают спор. А это уже немало. Впрочем, гораздо больше я верю в таланты. А ошибки в истории случаются крайне редко.
– Вы оптимист. А на мой взгляд, вся история состоит из ошибок. И мы на этих ошибках учимся. Это я в буквальном – плохом – смысле слова.
– Умные люди понимают и настоящую историю, и исторические ошибки. Но это уже отдельный разговор… А действительность такова, что вас сегодня выписывают.
Ядвига вздохнула. Мне так хотелось вздохнуть вслед за ней. Вздохи, как и зевота, заразны. Но я удержался. Мне не захотелось демонстрировать свое печальное настроение. Возможно, потому, что ее звали Яга. Она была рыжеволосой. И спала в белой пижаме.
– Вы собирайтесь, Ядвига. Ну, хорошо, хорошо, Яга, – тут же поправился я, уловив ее протестующий жест. – Я подготовлю документы к выписке, а вы после завтрака ко мне зайдите.
Ядвига вскочила с постели и подбежала вплотную ко мне. И сжала мой локоть. Словно прощалась со мной. Это уже никуда не годится! Не хватало, чтобы пациентка прощалась с врачом, умываясь слезами. И обнималась при расставании…
Я резко развернулся. И направился к двери.
Солнечный луч скользнул по моей руке. Словно хотел на прощание пожать мне руку. Я бы хотел ответить ему тем же. Но я не умел пожимать руку солнцу. Возможно, это умела Яга. Не зря у нее такое волшебное имя. Не зря она умеет подчинить себе даже солнце. Мне же оставалось только вздохнуть. Я не выдержал и сделал глубокий вздох…
В кабинете меня ждал Валька Лис. Он нервно шагал взад и вперед. И его очки тревожно сползли на кончик его толстого носа.
– Послушай, Гера, послушай меня. В общем, у меня неприятности. Куда-то задевался этот треклятый ключ от моего кабинета. Я, безусловно, никого не подозреваю. Не хочу, во всяком случае, подозревать. Да и красть там нечего. Нет там ни золота, ни бриллиантов. Но сам понимаешь – медицинские карты, документы и прочее… В общем, малоприятная штука случилась. Ты же ночью дежурил. Ничего такого…
– Ничего такого, – спешно ответил я.
И сам не понял этой спешки. Ведь видел собственными глазами, что в кабинете Вальки промышляла какая-то ведьма.
– Ничего такого… – машинально протянул Валька. – М-да, не хотелось мне разборок в собственном отделении. Но, видимо…
Валька повернулся, направившись к двери. Нужно было выкручиваться из неприятного положения. Нет, надо скорее, скорее все рассказать. Пока не поздно. Ну же, скорее!..
– Валька. – Я сделал шаг к Вальке.
И в моем кармане звякнули ключи. Я похолодел. И сунул руку в карман. Да, Валькины ключи. С его постоянным квадратным брелоком. Ведьма! Яга! Белая пижама, которую я принял за белые одежды. Рыжие волосы, которые в темноте казались черными. С синеватым оттенком от включенного компьютера. Черт! Да, здесь черт уместен. Он про ведьм и бабок-ёжек знает все. И я кое-что знал. Наверняка во время нашей беседы она подбросила ключики в мой карман…
– Валька? – позвал я.
Лис резко обернулся.
– Валька, глупости какие, – неожиданно для себя вдруг сказал я. – Безусловно, неприятно. Но стоит ли так категорично? В конце концов, возможно, все гораздо проще. Ты же мог просто где-то засеять ключи.
– Я ничего и никогда не засеиваю. – Валька нахмурился. – И это одно из моих главных достоинств. Ты, Гера, об этом прекрасно знаешь.
Я это прекрасно знал. Но совершенно не понимал, почему вдруг решил защищать Ягу. Которая украла Валькин ключ. И промышляла в его кабинете. А затем подбросила ключ мне…
– В таком случае просто вспомни. Вспомни, когда в последний раз ты видел свой ключ?
Валька еще больше нахмурился. Он действительно был еще тот аккуратист, но прекрасной памятью похвастаться не мог. И я это тоже прекрасно знал.
– Ну? – Валька снял очки и машинально стал протирать их носовым платком. – Ну… В общем, я закрыл дверь.
– Ты закрыл дверь, а потом? Ну же… Потом ты… Ты пошел…
Я подсказывал ему, как сердобольный учитель двоечнику.
– А потом ты направился прямо ко мне. В кабинет, – уверенно продолжил я.
И Валька на лету схватил эту подсказку.
– Правильно, Гера, в твой кабинет.
– Вот с него и начнем. – Я недоуменно развел руками. – Если здесь нет, то будем шаг за шагом вспоминать твои последующие шаги.
Но ничего вспоминать не пришлось. Я незаметно положил ключи на подоконник, на балконе. И ненавязчиво объяснил Вальке, что он забыл их именно здесь, когда мы курили. Курили мы или нет, это уже не имело значения. Поскольку мы с Валькой всегда курили вместе. И все наши многочисленные перекуры в его памяти сбились в одну кучу…
Так я легко убедил Вальку. Легко перетасовал факты в его памяти. Легко защитил Ядвигу, точнее и уместнее – Ягу. Что она – Яга, я уже не сомневался. Но очень сомневался, зачем мне нужен был весь этот обман.
Валька сидел на диванчике, стоявшем на балконе, и пускал кольца дыма в утреннее осеннее небо.
– Фу, – облегченно пыхтел он. – Знаешь, Гера, а у меня все внутри аж похолодело. Все равно неприятно. К тому же мне показалось… Знаешь, что и компьютер как-то не так выключен. Некорректно, как они говорят.
– Ладно тебе, Валька. Все у тебя корректно, будет тебе. Вся жизнь у тебя корректна. А в компьютерах мы с тобой так себе. К тому же паранойей никогда не страдали.
– Ага, не страдали, – усмехнулся Валька. – Этакие простые, незамысловатые парни.
Наши взгляды столкнулись. Валька незамысловато улыбался. Но мой взгляд не выдержал его улыбки и попытался увернуться.
Дежурство мое закончилось. Но я не торопился. Нужно было решить вопрос с одной проходимкой. Так что после утреннего обхода и завтрака в кабинете я ждал Ядвигу. Я был по-настоящему зол. Но при этом все же не забыл причесаться и побрызгаться туалетной водой. И даже посмотрел на себя в зеркало. И искренне удивился. На меня смотрело само обаяние и доброта. И даже какая-то глупость. Слава богу, что еще любовь не вылезла наружу. А вот злость осталась вне зеркала. И я уже сомневался: а была ли она вообще? Я сурово сдвинул брови. Получилось еще глупее. Так, так, так… Что со мной? Лучше на этот вопрос пока не отвечать. Ответ мне явно не понравится. Так, так, так… Так. Спасет сигарета. Она придаст облику усталость после ночного дежурства. А если часто стряхивать пепел, то, безусловно, еще и раздражения. Если повезет – даже злость может проявиться. Это если глубоко затягиваться. В злости я нуждался как никогда.
И я схватился за сигарету, как за соломинку, когда в дверь постучали.
– Войдите? – сурово ответил я, но на последнем слоге голос приторно дрогнул.
Она вошла. В больничных тапочках и спортивном костюме. И присела у моего стола на уголок стула.
Я уткнулся взглядом в бумаги. И ничего там не видел.
– Я за выпиской, доктор. Мне уже все? Пора?
– Пора. Но это не все.
Я наконец-то взял себя в руки и поднял на нее тяжелый взгляд. Он действительно был тяжелый. И она покачнулась на стуле.
– Ядвига! Вы ничего не хотите мне сказать!
Она мило потупила глазки. И даже покраснела.
– А что говорят в таких случаях? Спасибо. Нет – большое спасибо. За хороший уход. И внимание.
– И это все? – Я не отрывал от нее своих глаз. И мне это нравилось.
– Все? А что, еще что-то полагается? Ну, я не знаю… В общем, извините за напрасные хлопоты. Я ведь здорова. Как оказалось. Извините, что зря вас побеспокоила…
– Ну, ну, теплее…
– Теплее?
Она захлопала черными ресничками. Она ничего не понимала. Вернее, это она так думала, что я так подумаю, что она ничего не понимает. Невинный ангелочек с именем Яга.
– Теплее… Ну, я и не знаю, что даже сказать. Мне, право, неловко…
– Ну же, наберитесь мужества.
– Мужества. Да где его взять при такой ситуации? Хоть я знала, что полагается… Ну, отблагодарить, что ли? Да? Это теплее?
Я вскочил с места. Терпение мое лопнуло. Да как она смеет!
– Да как вы смеете!
– Просто вы так настойчиво добиваетесь благодарности. Нет, не подумайте. Я вовсе не то имела в виду. Я имела в виду хороший коньяк, к примеру. Или виски…
Я не заметил, как от злости со всей силы тряханул ее за плечи. Это было уже за рамками дозволенного. Врач избивает пациентку! Если учитель ученика – это еще как-то. До революции, конечно. Но чтобы врач поднял руку на больного! О господи! А вдруг это не она мне ключ подложила? О господи!..
– О господи? – Я вернулся за стол и обхватил голову руками. – Извините, ради бога! Извините.
– Ничего страшного. – Она демонстративно потирала больное плечо. – Я же понимаю. Я все понимаю. Сложное ночное дежурство и так далее. А синяк – такой пустяк. Я с детства вся в синяках…
Она неожиданно расхохоталась.
– Нет, меня не лупили. Я сама падала. То с дерева, то на ровном асфальте, то на катке. Все коленки были в синьке и зеленке.
Как все невинно! Слишком невинно! Если бы не вот это – каток, синяки, дерево, я бы и впрямь засомневался, что это она подложила ключ. Если бы праведный гнев! Или хотя бы обида! Ведь я ей причинил физическую боль… Нет! Лишь милые воспоминания детства. Всего лишь синька и зеленка. Это аномально в подобной ситуации. И эта аномалия неизбежно доказывает ее вину. Может, я и не психиатр. Но я врач. Любой хороший врач – психиатр неизбежно, ну в крайнем случае психолог. Я был неплохим врачом.
Я резко встал с места. Она испуганно вздрогнула и обхватила плечи руками. Вот! Еще одна ложь. Ни черта она не боялась! И тем более меня. И тем более того, что я причиню ей боль. Опять вранье! Она вся состоит из вранья!.. И ее мнимый аппендицит. И ее папа-фольклорист. И солнце, которое приходит по ее вызову. И даже фисташки… И ее имя! Разве бывает имя Яга? Это полная чушь. И как я на эту чушь купился?! Она просто обыкновенная аферистка…
Но что, что она искала в кабинете Лиса? И что там было такое необыкновенное, чтобы она так рисковала? Неужели все просто – происки наших конкурентов из соседней клиники, искавших компромат? Как до обидного просто. Я даже зевнул. Черт побери, так и не удалось выспаться… А чего я ожидал? Ну, хотя бы она была агентом иностранной разведки. И то солиднее. Или… Или просто воришкой. В этом было бы даже что-то трогательное. Трудное детство. Детдом. Не зря так много слов про приют добрейшей бабки Яги… Или… Черт с ним, с этим «или»! Я уже совсем спятил. Зачем мне шпионы и воры! У меня и своих проблем по горло. К тому же я не поставил дома кондиционеры. А что за жизнь без кондиционеров! Ад кромешный… А теперь еще придется распутывать эту до обидного простую и нечистоплотненькую историю. И, конечно, нужно предупредить Лиса… И я вновь зевнул.
– Так вы меня выписываете, доктор?
Ух, мерзкая шпионка! Наверняка хочет разорить нашу клинику! Или занять место Лиса. Нет, слишком мала, слаба и тупа в медицине. Скорее, за дружка старается. Или за бабки.
– Не волнуйтесь, милая, выпишу. Чуть погодя. Только решу один важный вопросик. С тобой и главным. А там – на все четыре стороны. Правда, смотря куда они тебя заведут.
Она вздрогнула. И на этот раз искренне. И в черных продажных глазенках промелькнул искренний испуг.
– Я вас не понимаю, доктор.
Меня вдруг понесло… Но она резко прервала мою хвалебную оду, посвященную Лису. Положа руку на сердце, не такому уж выдающемуся и уж тем паче – вполне заменимому.
– Можно я закурю? – просто и как-то по-бытовому спросила она.
И не дожидаясь моего ответа, вышла на балкон. И тут лицом к лицу я столкнулся с солнцем. Надо же! Это по-прежнему было ее солнце! Может, поэтому, испугавшись, что она захлопнет перед ним дверь балкона, вышел вслед за ней. И шире распахнул дверь балкона. Входи, входи солнце! Даже если ты – ее, а не мое.
Яга… Так и не могу привыкнуть к этому нелепому, почти комичному имени. Хотя что может быть комичным в Яге, которая бросала в печь детей? Меня передернуло. Пора привыкнуть, чтобы еще немного, еще чуть-чуть оттянуть осень. И еще на чуть-чуть сохранить солнце…
– Только скажи – ты украла ключ?
Я спросил грубо. Перейдя на «ты» только потому, что резкое «ты» – всегда грубо.
– Да.
Короткое и ясное «да». Такого я даже не ожидал. Человек знает, человек уверен, но когда говорят то, в чем он уверен и что знает, это всегда становится более шокирующим. Мы всегда готовы ко лжи. А не к правде.
– Да, – еще более уверенно повторила Яга.
– Зачем?
Я растерялся. И еще глубже затянулся сигаретой.
– Потому что убили моего отца. Здесь.
Я еще больше растерялся. Лис не говорил об убийстве. Оно бы все-таки подорвало престиж. И вообще…
– Погоди-погоди, что ты такое болтаешь? Какое убийство? Какого отца?
– Моего отца, – невозмутимо ответила Яга, не отрывая от меня своего темного взгляда.
В ее глазах стояла ночь. Но летняя теплая ночь. Летние, летние ночные глаза. «Некстати», – подумал я. И зябко повел плечами. Потому что уже была осень. И было прохладно. Как и полагается осенью. Несмотря на ее солнце.
– Отца… Фольклориста, что ли? Который защищал Бабу-ягу и с ее помощью защитил диссертацию?
– У человека бывает только один отец.
– Да, только один…
Я вдруг вспомнил своего отца. Его, слава богу, не убили. Но иногда мне кажется, он мог бы еще долго-долго жить…
– Ты погоди. Ты что-то перепутала. Я бы знал, ей-богу, знал. Такие скандальные вещи не скроешь. Да и как его могли убить? У нас круглосуточная охрана, да и вообще… Все это как-то… И при чем тут Лис… То есть кабинет нашего главного вообще?
– При чем тут охрана…
Яга затушила сигарету, и мы вернулись в кабинет. Было действительно холодно.
– Ему здесь делали операцию. А потом он взял и просто умер.
– Фу. – Я перевел дух. – Ерунда какая-то, девочка, получается. Я-то думал, ворвались в палату с ножом или пистолетом… А он умер после операции? И ты считаешь, что его как-то убили? Кто? Врачи? Медсестры?.. Чем? Цианидом? Мышьяком?.. Ты этого никому не говори, а то обсмеют! Убили! И если хочешь знать, просто так не умирают. Особенно после операции.
– Я никому говорить и не собираюсь. Главное, чтобы вы не сказали. И в больнице мышьяк необязателен. Есть и другие способы.
– Так, стоп! – Я вскочил с места и нервно прошелся по кабинету? – Стоп! Осторожненько! Думай, что говоришь! Здесь работают врачи, а не убийцы! А то, что родственники жалуются, если что-то не так… Впрочем, это понятно. Чуть что – во всем виноваты врачи. Врачи спасают жизни. Но, увы, они не всесильны. Есть еще сама жизнь. Точнее, смерть… И это сильнее врачей.
– Мой отец умирать не собирался. Во всяком случае – пока. Но он предчувствовал смерть. Хотя был далеко не мистик.
– Не мистик? – Я не выдержал и расхохотался. – Извини, конечно. Но защищать Бабу-ягу и не быть при этом мистиком… Это мистика!
– Он защищал правду, Георгий Павлович. Всегда. И думаю, в вашей больнице он тоже пытался ее защитить. Я тоже, кстати, далеко не мистик. И если я что-то говорю, то знаю, что говорю…
Яга запнулась и посмотрела за окно. Не скажу, чтобы в ее взгляде была тоска, боль, тоскливая боль, болезненная тоска… В ее взгляде было разочарование. То ли наступившей осенью. То ли мной.
– Ну, говори. Может, и операция ему была не нужна?
– Нет, нужна. Конечно, нужна. Он поступил с острым приступом аппендицита. Конечно, нужна. И операция прошла успешно. Хотя я переживала, ведь он был уже в возрасте. Но, действительно, все прошло успешно. Он даже быстро пошел на поправку. И, более того, уже даже назначили день его выписки! Я испекла его любимый яблочный пирог с корицей! Но накануне выписки ночью он умер. Взял вдруг и умер.
– Вдруг не умирают. Только погибают.
– Вот поэтому я и здесь.
Голос Ядвиги вздрогнул, и она перевела взгляд за окно. За окном солнечно улыбалась осень. Но в этой солнечной улыбке было что-то то ли печальное, то ли прощальное. Что-то болезненно-бледное.
– И какой был диагноз?
– Умер от острого астматического приступа.
И я вспомнил. Вернее, я и не забывал. Я ни одного умершего пациента не забываю. Кладбище умерших больных всегда перед моими глазами. И я время от времени мысленно его посещаю. Правда, теперь все реже и реже. Потому что все чаще и чаще думаю о живых… Да, я его не забывал. Только… Только…
– Вы его помните?
Ядвига посмотрела мне прямо в глаза. И этот взгляд мне не понравился. Это не была теплая летняя звездная ночь. Это была просто ночь.
– Только… Только… Если это несовпадение. У меня был похожий случай. Но фамилия «Пичугин» мне не знакома. Я бы запомнил эту фамилию.
– Пичугин – это фамилия моего мужа. Моя девичья фамилия…
– Ершова?! – зло выкрикнул я.
Мне так хотелось, чтобы это был не мой случай. Чтобы ее отец умер задолго до меня. Но мне не повезло.
– Вот видите, вы все помните.
Да, я все помнил. Даже то, хоть это было уже не к месту, что она совсем недавно жаловалась на одиночество. А оказывается, существует еще какой-то непонятный Пичугин, чью фамилию она с гордостью носит. И чем Пичугина лучше Ершовой? Это я не мог понять. Хоть это понимание опять же было не к месту. Но я разозлился.
– Да, помню, – с нескрываемым раздражением ответил я. – Конечно, редкий, но вполне объяснимый случай. Ваш отец страдал астмой. Если по-простому… То да. – Накопившаяся доза лекарств в один момент дала о себе знать. Предугадать такое было невозможно. Но и без этих лекарств нельзя было обойтись. Иначе бы он умер от аппендицита… Это в некотором роде замкнутый круг. Такое бывает в медицине… Замкнутый болезненный круг. Когда операция неизбежна при минимальном риске. Но процент эксцессов при подобном риске всегда остается. Знаете… Впрочем, вы девушка грамотная, так что знаете. Когда в инструкции любого, даже самого безобидного лекарства, продаваемого без рецепта, можно прочитать о возможных последствиях. Они крайне редки! Крайне! Но это не означает, что они не случаются. Если о них пишут, значит, проведены тщательнейшие исследования. И об этом откровенно предупреждают! А часто случаются и вовсе парадоксы! Когда при приеме препарата от аллергии предупреждают, что возможны аллергические реакции. Да! И такое бывает! Пусть ничтожные доли процента – но в практике бывает! Когда лечишься тем, что может вызвать то, от чего лечишься… Так что в случае с вашим отцом ничего, абсолютно ничего криминального нет! Да что там криминального! Здесь на сто процентов исключена даже врачебная оплошность! На все сто!
– Возможно, возможно, вы правы. Если бы… Если бы я не была у отца после операции! И если бы он не пытался меня предупредить! А я, как и вы, не поверила…
– Предупредить? Он что-то сказал? Ну же, что сказал?
Я придвинулся к Ядвиге и легонько сжал ее плечи. Я так надеялся, что она лжет. Вообще, она была похожа на человека, который обожает сочинять. Существует даже такая болезнь. Болезнь постоянной лжи. Кто-то называет это сочинительством. Ученые-психиатры – мифоманией или патологической ложью… Вот бы она была этим больна!
– Это все правда, Ядвига?
Она аккуратно освободилась из моих нецепких рук.
– Да, все, все правда… Кроме…
Яга опустила глаза.
Вот оно! Наконец-то! Сейчас я выведу ее на чистую воду. Впрочем, вода оказалась вовсе не мутной. К моему сожалению.
– Кроме пирога. Это не я испекла. Я вообще ленюсь готовить. И меня до сих пор мучает совесть. Папе я сказала, что испеку его любимый яблочный пирог, а сама купила в кулинарии. Я всегда так делала. А он с гордостью хвастался всем, какие замечательные пироги я выпекаю. А я… Даже перед его выпиской… Впрочем, я не умею готовить пироги…
Она на секунду замолчала.
– Странно, как-то все странно. Почему-то какая-то мелочь вопьется, как пиявка, в голову. И не дает жить. Мучит, мучит… А ведь наверняка есть гораздо более важные вещи, из-за которых меня должна мучить совесть перед папой. Он даже наверняка бы повеселился, узнав правду о пирогах. Он был с юмором… Но почему-то именно этот… Этот купленный пирог в кулинарии… Перед смертью… И эта маленькая ложь. Которой он так обрадовался…
Я приподнял ее подбородок. Ядвига плакала. И я понимал ее слезы. Я так понимал ее слезы. Потому что сам не раз мучился, когда попросил отца купить очки. И они оказались слишком дорогие. И его простеньким часам не обрадовался. Хотя… Хотя перед отцом был виноват в гораздо более серьезных вещах. А эта мелочь не давала жить… Ведь даже после смерти я так был виноват перед отцом. Когда безжалостно выбросил на помойку его мебель, его личные вещи. Вот на очереди книги… Книги… Их так много… Так много они занимают места… А сейчас так популярен стиль минимализма…
– У вас, наверное, много книг в доме, Ядвига? – вдруг некстати спросил я.
Почему-то этот вопрос мне показался очень важным. Словно от него зависела моя жизнь. Или, во всяком случае, какая-то важная ее часть.
– Книг?
Она удивленно захлопала ресницами и совсем по-детски кулачками вытерла слезы. Но, как ни странно, этот вопрос, такой простой и такой хороший, что ли, ее успокоил.
– Да, очень, очень много.
– А я думал, что человек с фамилией Пичугин не любит книги. Ведь они столько много места занимают.
– А он и не любил. Но я живу в доме отца. Дома Пичугина уже давно нет. Нет, он есть, конечно, но не для меня. Там слишком много места, слишком много пространства, чтобы я там жила. И еще там нет книг.
Я улыбнулся. И подмигнул бледному больничному солнцу.
– А вы помните моего папу? – вдруг спросила она.
* * *
Наверное, наши отцы были похожи. Я не говорю о внешности. Хотя… Я принципиально запоминал в лицо всех пациентов и этим гордился. Все-таки я чуткий врач! И я отлично помнил отца Яги. Он в точности совпадал с тем образом, который рисовался мне, когда она о нем рассказывала. Возможно, подсознательно я даже подозревал, о ком идет речь. Седой, бородатый, в немодных очках с роговой оправой. И голос, который гораздо старше его лет. Как и подобает настоящему профессору.
Он умер… Ну да, умер. И ничего удивительного в этой смерти не было. Во всяком случае – ничего, чтобы меня насторожило. Операцию он перенес хорошо. А потом взял и умер. Так часто бывает.
Вообще я заметил по своей врачебной практике, что нужно повнимательнее относиться к пациентам, кто слишком хорошо перенес операцию. У них больше шансов на то, что послеоперационный период будет для них опасен. Хотя бы потому, что они расслабляются. У тех же, кто перенес хуже, организм мобилизуется, и они быстрее идут на поправку.
Помню, к ее отцу я отнесся со всем вниманием. По десять раз на дню к нему заходил. К тому же он был в возрасте… Как я мог все это забыть? Конечно, не забыл… Да, он умер. Он хорошо перенес операцию и плохо выздоровление. Что в этом удивительного?..
Конечно, я помню! Я тогда получил неплохую премию. Да и всему нашему отделению выдали поощрительные премии. Тогда я и сделал евроремонт. Я так не хотел, чтобы дома были белые стены. Но так получилось. Белый цвет подходил к моей кремовой итальянской мебели. Другой цвет никак бы не гармонировал с ней. Конечно, это немного напоминает больницу. Вот прихожу домой с работы – и словно опять на работе.
А с другой стороны, может, это и неплохо. Совмещение труда и отдыха? Дом как бы продолжает работу. А работа продолжает дом. Дома я вспоминаю о работе, анализирую, прогнозирую, даже внезапно могу вспомнить, что что-то не досмотрел, не доделал. А на работе чувствую себя уютно, потому что я словно дома. Все в мягких белых тонах. И тоже многое вспоминаю, что не успел сделать. Выключить свет, например. Возможно, я даже бы всем порекомендовал совместить работу и дом. Чтобы они были похожи. И работа не будет в тягость. И домашний очаг. А сколько ошибок при этом можно избежать!
Да, зря дизайнеры не додумались до этого. Может, еще и додумаются. Тут для идей поле непаханное. А дизайнеры – люди очень умные и с большим креативным вкусом.
Да-да… Именно после смерти ее отца умер я и принялся за ремонт. И даже пригласил дизайнеров. Так все и было. Это жизнь, что поделаешь. Кто-то ее заканчивает, а кто-то начинает ее ремонтировать.
Правда, книжный шкаф я тогда все-таки не купил. Дизайнеры заявили, что для него нет места. И вообще что он не к месту. Я, помню, расстроился. Куда девать столько книг? Господи, сколько мои родители, а потом и я за жизнь их накупили! Теперь думаю, зачем? Если жизнь все равно когда-нибудь закончится. И кто-нибудь в это время начнет ремонтировать жизнь. Книги обязательно улетят на помойку. Так лучше это буду я. Не так обидно. Тем более для книжного шкафа нет места. И он не к месту. Так сказали дизайнеры. Им я научился доверять. Ведь у них вкуса побольше моего. Они лучше знают, как лучше жить. Это их профессия, в конце концов – учить людей жизни. И я на это не претендую. Как и они не претендуют на лечение больных. Как они бы мне целиком и полностью доверили свою жизнь в больнице. Так и я им смело могу доверить свою жизнь в быту. Они лучше знают, как для нас лучше.
Мой папа был не прав, когда морщился и плевался при виде какого-нибудь дизайнера по телевизору, с пеной у рта вдохновенно рассказывающего о красоте жизни и доказывающего, какие мы идиоты, понятия не имеющие, как нам жить лучше. Мои папа и мама не разбирались в красоте. И в уюте. Для них уют ограничивался письменным столом и книжным шкафом. Как и для Чехова. Что они могли понимать? Ладно, еще Чехов. Может, в его времена профессия дизайнера была не настолько востребована. Но для папы с мамой в нашем новом времени все возможности для красоты и уюта были открыты. Нет же, упрямцы, они отказались от красоты. И уюта. Письменный стол. И книжный шкаф. Что можно уместить в эту жизнь? Наверное, уместили смысл жизни. А возможно, и саму жизнь. И папа, и мама, и Чехов…
Воистину, люди, не умеющие жить! И не умеющие доверить жизнь другим. Например, дизайнерам. Слава этой нужной профессии! И как я раньше без них только жил? Жизнь, лишенная смысла…
– Помните? Помните моего папу?
Издалека прозвенел голос Яги. Словно из прошлого. Но только не моего.
– Или врачи сознательно не запоминают лиц пациентов? Чтобы они не стали чем-то большим, чем пациенты.
– Я сознательно запоминаю. Хотя тоже считаю, что пациенты должны быть лишь пациентами. Но все равно запоминаю. И хорошо помню вашего отца. Он был приятным, интеллигентным человеком. Но мне казалось, очень недоверчивым.
Я не лгал. Я помню даже тембр его голоса. Очень низкий голос. Хриплый голос. Старше его лет. Короткие фразы, хотя и по существу. И этот недоверчивый взгляд исподлобья. Не по существу. Почему мне нельзя было доверять? Впрочем, кому мог доверять человек, доверяющий лишь Бабе-яге?..
– Так что он вам сказал перед смертью?
Ядвига опустила глаза. И я знал почему. Есть вещи, о которых говорить трудно. Чтобы они не показались смешными или абсурдными. Чтобы не выглядеть дураком или чудиком. Или просто параноиком. Не знаю, отчего, но в этот миг, когда она опустила глаза… Если бы она начала с ходу, сгоряча, убежденно доказывая и размахивая руками… Но после этого смущенного взгляда… Почему-то в этот миг затянувшегося молчания я почти был готов ей поверить. Какую бы она ерунду ни сказала. Или какую бы ерунду ни сказал ее отец.
– Ну, хорошо. – Яга сцепила пальцы. И, не поднимая глаз, продолжила: – Он был уверен… В общем, у него была теория… Ну, в общем… Только не обижайтесь, пожалуйста. Ведь вы врач… Просто он считал, что самый легкий и безнаказанный способ убить – убить в больнице. Что некоторые сознательно становятся врачами, например, по идейным соображениям. Чтобы убивать неугодных. Ведь когда нет войны, это не значит, что ее нет… Это его слова. Война всегда продолжается, просто у нее нет названия. И пока есть добро и зло – война вряд ли закончится. Мирное сосуществование – не для этих понятий. В общем, добро и зло вряд ли примирятся. И поэтому…
Яга запнулась. И еще крепче сцепила пальцы. Они покраснели.
– И, ну же, продолжайте. Что поэтому?
– Опять же, я передаю слова своего отца, которому всегда, поймите, всегда верила… И поэтому, каким бы невероятным вам это ни показалось, каждый человек на учете. Каждый. Теперь с помощью компьютеров это вообще несложно… Учитывать человека. Его характер, привычки, его мысли, идеи, поступки. И… И, безусловно, его болезни. Ведь каждый, практически каждый человек не вполне здоров, не здоров или попросту болен…. Каждый хотя бы раз в жизни обращался к врачу. Вы понимаете?.. Вы мне не верите… Или я неправильно объясняю…
– Почему, я понимаю. И пытаюсь поверить. И даже частично верю. Разные есть люди, разные есть врачи. В жизни все возможно…Но…
– Вы меня не поняли. Я не о единичных случаях. Я о целой системе. Которая, возможно, была придумана очень, очень давно.
– Ну, хорошо. Возможно, подобным образом… Хотя мне, как врачу, сложно с этим согласиться. Но допустим. Подобным образом убивали правителей, политиков, ученых… Ученых, которые не оправдывали Бабу-ягу, а придумывали новейшее оружие или еще что-то такое. Но при чем тут ваш отец, например? Да и по сравнению с количеством людей на земном шаре количество значимых людей очень-очень мало. При чем тут система?
– В общем, я ничего не доказываю, а лишь рассказываю о папиной теории. Я и сама не хотела в это верить. Но, поверьте, мне нужно было в этом убедиться…
– Убедились?
– Не знаю…
Яга вздохнула. И стала рыться в сумочке. Наконец вытащила оттуда распечатанную на принтере страницу и протянула мне.
Я внимательно стал ее изучать.
– Ничего не понимаю… Фамилии на букву «А».
– Это только то, что мне вчера удалось извлечь из компьютера вашего главрача. Если бы вы не помешали, то, может, нашли и что-то большее…
– Если бы я не помешал, было бы гораздо хуже, поверьте. Все закончилось бы скандалом. И вряд ли бы мы с вами сейчас обсуждали эту… Этот… Даже и не знаю, как все назвать… Ну, хорошо, список фамилий на букву «А». Вполне возможно, данные о пациентах, которые лежали в этой клинике. И что с того? Это нормально. В любом случае картотека, больничные карты – это одно из основ функционирования лечебных учреждений.
– Может быть. А если это не пациенты? Если это люди, которые никогда и не обращались за помощью?
– Глупости! Но в любом случае это легко проверить.
– Спасибо!
Яга легонько прикоснулась к моей руке. Так легонько, словно я случайно задел рукой осеннюю листву. И все же это было сродни крепкому рукопожатию.
– И все же не хочу, Ядвига, тебя разочаровывать. Но думаю, это пустая трата времени. Поверь, это фамилии обычных пациентов. Не больше и не меньше.
– Думаю, все же больше. Здесь не только фамилии. Посмотрите внимательней. Напротив каждой какие-то маленькие значки.
– Ну да, что-то непонятное есть. Какая-то игра в крестики-нолики.
– И плюсы…
– И плюсы.
Да, в списке напротив каждой фамилии стоял то ли нолик, то ли крестик, то ли плюсик. Я ничего не понимал. И все же знал, что всему есть логичное объяснение. Может быть, Лис так характеризовал степень тяжести операции для каждого пациента?
– Может, сделать проще? Я просто спрошу у главного…
Яга опустилась на стул. Ее губы дрожали.
– Ну почему, почему вы так ничего и не поняли? Что вы спросите? И как? Скажете, что я залезла в его компьютер? Или вы сами там покопались? Даже если вы найдете логичное объяснение поиска в чужих файлах, все равно это лишь увеличит потенциальную опасность для жизни. И вашей, и моей… Вдруг и впрямь здесь все нечисто? К тому же логичного объяснения вы не найдете. Да и вряд ли вы настолько хорошо разбираетесь в компьютерах, как я. А я расшифровала сложнейший пароль! Потому что умею это делать. Возможно, кроме меня, этого никто бы не сумел.
– Вы хакер? Любопытно. Вот так сюрприз.
– Да нет. Никакой я не хакер. Я окончила физико-математический университет. Информатика и вычислительная техника. И окончила на «отлично». И компьютеры по сравнению со многим другим – для меня сущий пустяк.
– Хорошо, Ядвига. Хорошо. Я продлю на пару дней ваше пребывание в клинике. И за это время мы подумаем. А для начала я хотя бы узнаю, что за фамилии в этом списке…
С этого разговора с девушкой со странным именем Яга и начались мои кошмары. Да, по-моему, я так и написал. Началось начало моих кошмаров… Я встряхнул головой. И огляделся. Посетителей в кафе не прибавилось. И вино было выпито наполовину. Мне уже не хотелось пить. В принципе, можно было идти домой. Папка все равно пропала. Но я был словно прикован к месту.
Мне по-прежнему почему-то казалось, что именно здесь, в полутемном зальчике, на деревянном стульчике за деревянным столиком, где в центре – букетик ромашек, где можно вообразить музыку Моцарта, я в полной безопасности. Хотя это более чем странно. Быть в безопасности там, где тебя пытались отравить. Прямо как Моцарта. Этим, конечно, можно себя успокоить. Но я не был Моцартом. И отравление было преувеличением. Меня всего лишь хотели усыпить. Чтобы украсть папку.
– Долго же вы здесь сидите…
Передо мной как привидение вновь возник официант Дима. За время, в которое я его не видел или просто не замечал, он стал еще прямее. И, мне показалось, более уверенным, что ли. Впрочем, да. В его кармане шуршали бумажки. За которые он меня продал. Точнее, мою папку. Потому что я для него был никто, чтобы меня продавать.
– Вы должны быть довольны. Кроме меня, кажется, здесь никого.
Но Дима был недоволен. Муки совести по-прежнему маячили в его глазах. Вернее, одна мука. В моем лице. С бутылкой вина и букетиком ромашек на столе.
– Вам некуда идти?
Дима попытался изобразить на лице сочувствие. Кажется, он готов уступить мне даже свою квартирку, лишь бы я поскорее куда-нибудь убрался. Но я был неумолим. Чем больше этого хотел Дима, тем больше я сопротивлялся. Так, по меньшей мере, хотел хоть этим ему отомстить. Ведь он подставил меня по-крупному. Вернее, мою жизнь. Хотя я по-прежнему был для него никто.
– Вам некуда идти? – настойчивее повторил свой вопрос Дима.
– И да, и нет. Нам всем есть куда идти. И нам всем идти некуда. По большому счету.
Дима по профессиональной привычке взметнул брови вверх. И захлопал рыжими ресницами. Он не понял этого философского замечания. Из него получится плохой студент. Даже если он продаст еще тысячи душ. Или хотя бы одного человека. Такого, как я. Даже если я для него никто.
Так на чем я остановился? Ах да. Как я написал? Началось начало моих кошмаров… Плохо. Тавтология… С другой стороны, все-все всегда начинается. Даже начало…
Довольно просто я узнал фамилии всех пациентов, поступающих в нашу больницу за последние годы. И самое удивительное, что не удивился. (Ну, вот, опять повтор… Похоже я стал часто повторяться…) Да, самое удивительное, что не удивился, что из 25 всех фамилий на странице Яги только пять совпали. Остальные к больнице не имели отношения и ни разу сюда не обращались. Почему я не удивился? Неужели я изначально поверил Яге? Или она меня околдовала?
Вечером я сидел в палате Ядвиги. И готов был околдовываться все дальше и дальше. Потому что она мне нравилась все больше и больше. Хотя и дело меня занимало не меньше… Опять наворотил! Если после моей смерти будут читать мои опусы, наверное, без бутылки не обойдутся.
Яга ликовала.
– Я знала. Знала, знала, знала, что мой папа не мог соврать. И никогда не был параноиком. Поэтому и его теория о Яге наверняка верна!