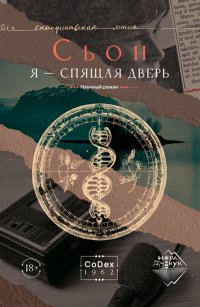Читать онлайн Зародыш мой видели очи Твои. История любви бесплатно
- Все книги автора: Сьон
Your Eyes Saw Me © Sjon, 1994
© Н. Демидова, перевод на русский язык, 2022
© ИД «Городец», издание на русском языке, оформление, 2022
I
1
«Когда на площадь городка (назовем его Кюкенштадт и будем считать – судя по архитектуре и вывескам магазинов, – ч то расположен он в Нижней Саксонии) опускается ночь, жизнь здесь начинает течь тем особым манером, который весьма характерен для подобных местечек после полуночи. Все в городишке становится так удивительно тихо, что он смахивает на спальный корпус в летнем лагере для послушных детей: дома, укутанные по самую крышу темнотой, покоятся каждый на своем месте, шепотки о дневных заботах и приключениях смолкли – мальчуган с зонтом заключил городок в свое царство.
И хотя он уже продолжил свой захватнический набег далее на запад, крошка Кюкенштадт не брошен в хаосе сновидений: в центре площади, оберегая покой горожан, возвышается статуя. Она изображает цыпленка на бегу: шея вытянута вперед, голова задрана к небу, клюв распахнут, куцые крылышки растопырены в стороны.
В черном мраморе отражается голубой месяц – словно свет ночника, оставленный для боящихся темноты детей.
Городок как раз и назван в честь этого цыпленка. И несмотря на скромные размеры (он едва ли раз в семь превосходит своего живого собрата, а это, согласитесь, не ахти какая величина), ему удается обеспечить жителям Кюкенштадта сон куда поспокойней того, что большинство святых хранителей крупных городов в состоянии предложить своим клиентам. В сердцах спящих кюкенштадтцев еще жива память о том, как этот малыш спас их предков от страшной участи быть растерзанными свирепым великаном-берсерком, который в былые времена бродил по континенту, уничтожая все живое на своем пути.
И если бы история моей жизни не начиналась в городке, что обязан своим существованием маленькому любознательному цыпленку… да, если бы она не начиналась именно здесь, в этом выходящем на площадь трехэтажном здании, мы бы просто бесшумно выскользнули из спального корпуса под названием Кюкенштадт и тихонько затворили бы за собой дверь.
* * *
Из глубин здания доносятся стоны – их способно различить чуткое к домам ухо. Однако это не стенания больных и страждущих, о нет! Это протяжные вскрики высшего блаженства, крещендо сексуальной кульминации, звучные придыхания, сопровождающие пылкие покусывания шеи и страстные потискивания ягодиц».
«Так это что, бордель какой-то?»
«Фасад здания густо увит плющом, который расступается под окнами и висящей над входом вывеской: GASTHOF VRIESLANDER, а под самым кровельным свесом заплетается в такой плотный клубок, что, кажется, вот-вот поднимет в воздух крышу».
«Подними ее! Мне хочется заглянуть внутрь, посмотреть, кто там стонет!»
«Сейчас здесь уже не бордель, а обыкновенная гостиница, и управляет ею одна добропорядочная супружеская пара, бросившая хозяйство в деревне и уступившая свои земли под строительство автотрассы.
Денег за это они выручили всего ничего, но с Божьей помощью и удачей – когда Партия всерьез взялась за улучшение нравов населения – им посчастливилось по дешевке приобрести сие прибежище греха».
«Ну, поднимай же крышу!»
«Тогда закрой глаза. Представь себе площадь, цыпленка и здания вокруг, в том числе – Gasthof Vrieslander с плющом и крышей. Представила?
Хорошо! Нет-нет, не открывай пока глаза! Теперь я просуну руку сквозь твой лоб – да, можешь наморщить его, если хочешь… Видишь, как моя кисть зависла над площадью, словно лапа чудовища – бледно-серая в призрачном свете уличных фонарей и луны, застывшей над церковью?»
«О, Боже, как странно выглядит твоя ручища – такая огромная! У тебя длинные ногти, я раньше этого не замечала…»
«Тсс, сосредоточься! Смотри: я нажимаю большим пальцем под карниз, обхватываю крышу сверху и приподнимаю ее – очень аккуратно, чтобы не отломать дымоход…»
«Да-да, конечно! Мы же не хотим никого разбудить!»
«Затем, плавным движением руки в запястье, я заношу ее над площадью и осторожно там опускаю.
Теперь у цыпленка над головой появилась крыша, но главное: он не видит, чем мы тут с тобой занимаемся. Слышишь, как он там, под крышей, заходится от любопытства: “Можно мне посмотреть?
Можно мне посмотреть?”»
«О, он такой славный!»
«Ты не переживай за него, он скоро устанет возмущаться и уснет, засунув клюв под крылышко».
«Спокойной ночи, малыш!»
«Ну вот, цыпленок засыпает, а мы продолжаем осматривать дом. Видишь, как я засовываю свои длинные ногти в шов между фронтоном и фасадной стеной?
«Да, вижу…»
«И тяну стену к себе?»
«Да! Там еще что-то похрустывает в швах – точно сахарный клей!»
«А сейчас я отделяю стену от дома и тоже укладываю ее на площади…»
«Теперь гостиница – словно кукольный домик!»
«И правда похоже… Вот здесь, на первом этаже, расположен вестибюль для приема гостей и вход в контору; та дверь, что напротив стойки, ведет в столовый зал, а эта, с овальным окошком, – на кухню. Как видишь, ничего неприличного здесь не происходит, гости благопристойно почивают в своих кроватях на всех трех этажах, а уставший за день персонал гостиницы мирно посапывает наверху, под мансардными стропилами».
«А что за звуки доносятся из конторы? Мне кажется, там кто-то тяжело дышит, вздыхает и охает».
«Да, действительно, что-то такое оттуда слышится. Ну-ка, заглянем к этому вздыхателю…
У письменного стола в глубоком кожаном кресле сидит рыжеволосый подросток и, согнувшись над пожелтелыми фотографиями пышнотелых девиц, наяривает рукой у себя в паху…»
«И кто же сей бесстыдник?»
«Это гостиничный посыльный, мальчишка на побегушках, сирота, супруги привезли его с собой из деревни и приспособили к работам, которые никому другому делать не хочется».
«А как он связан с твоей историей?»
«Да он, бедняга, всего лишь второстепенный персонаж, но это прояснится позже. Я пока еще не саму историю рассказываю, а описываю место ее действия. Итак, когда ты смотришь на открытый вот так дом, не бросается тебе в глаза что-нибудь необычное?»
«А что должно бросаться?»
«Ну, посмотри получше! Сколько, например, комнат на каждом из этажей? Давай, сама смотри, больше ничего подсказывать не буду!»
«Подожди-ка…»
«Вот если я подниму верхнюю часть дома, чтобы можно было рассмотреть весь второй этаж сверху, как лабиринт, – что ты видишь?»
«Ах вот ты о чем! Теперь понимаю!»
«В номерах на втором этаже Gasthof Vrieslander есть замаскированные обоями потайные двери. Они открываются в петляющий узенький проход, ведущий к пасторскому тайнику[1] – небольшой каморке, спрятанной за внутренней стеной комнаты номер двадцать три.
Когда-то эта каморка служила укрытием для духовных и светских властителей городка, а также и для многих других, кому не пристало показываться прилюдно в компании дам легкого поведения. Во владениях Маман было множество разных помещений для удовлетворения желаний ее чад, однако ни мэру, ни священнику не было известно, что другие гости борделя за хорошенькую сумму могли подглядывать за столпами общества через глазок в стене комнаты номер двадцать три, и поэтому размеры жезлов их правления были в Кюкенштадте у всех на устах».
«Ой, а это кто? Смотри, она скрылась там за углом!
Или это был мужчина?»
«А ты, оказывается, внимательный слушатель! Это как раз один престарелый постоялец гостиницы.
В историях, где главную роль играют дома, часто фигурируют старики».
«Уж больно он какой-то женоподобный в этой ночной сорочке, да еще и выставленные вперед руки к груди поджал – словно заяц…»
«Вот тут ты в самую точку попала! Старика зовут Томас, а фамилия у него – Хазеарш, что в переводе означает «заячья задница», и живет он в этом доме с мальчишеских лет».
«Тогда ему наверняка есть что рассказать о временах, когда гостей в номерах ожидала не только грелка в постели!»
«Подожди, я поймаю его… А ну, дедуля, иди-ка сюда, постой здесь, у края, чтоб нам тебя было видно…»
«Да он спит!»
«Да, он – лунатик и бродит во сне по потайным ходам, словно призрак из английского бульварного романа, а иногда еще и бормочет себе под нос, и тогда, скажу я тебе, в выражениях не стесняется».
«О, Господи, представляю, как жутко постояльцам гостиницы просыпаться от доносящегося сквозь стены непристойного шепота!»
«Тсс, смотри: он простирает вперед старческую синюшную руку и шевелит губами, обращаясь к спящему городку…»
«Можно мне посмотреть? Можно мне посмотреть?»
«Тихо ты, цыпленок! Это зрелище не для желторотых птенцов!»
«Да, цыпленок, как не стыдно слушать такую пошлятину!»
«Дед: Ах вот ты где, мой кукленочек! О-о-о! Ну-ка, где у нас полотенце? Подай-ка его Белле-лолле-лулу-лилли, чтобы она могла вытереться… Маленький шалунишка немножко подглядывал за Лулу-лили-беллой-лолой, да? И увидел что-то очень приятное? Нет-нет, Бог с тобой, это ничто по сравнению с его мортирой! А как его зовут, я никому не скажу! Да, мой ангелочек, он приходит сюда под утро, когда здесь уже почти никого нет, в черной маске, и только я одна знаю, кто он такой. Ну, может, еще одна здесь знает. Уфф, а теперь Лола-белла-лили-лулу устала… Будь хорошим мальчиком, натри ее синячки мазью и расскажи ей пару городских сплетен. Ну-ка, что там слышно о почтмейстере?»
«Ой, смотри, старикан хватается за то, что у него между ног!»
«Дед: Если мальчишечка будет послушным с Лили-лолой-лулу-беллой, она поиграет с ним и даст ему примерить что-нибудь красивенькое на его стоячок, а потом она…»
«Эй, а не слишком ли ты увлекся этой своей порнухой?»
«Ну ладно-ладно, старикашка заткнулся, довольна? Я возвращаю его обратно в проход, и теперь, как видишь, моя рука уже по самый локоть в той картинке Кюкенштадтской площади, которую тебе нарисовало воображение».
«Я там еще что-то должна увидеть? А то у меня уже голова начинает кружиться…»
«Подожди: вот я укладываю назад этажи гостиницы, один на другой, возвращаю на место переднюю стену дома, крышу, и теперь выдергиваю руку из твоей головы…»
«Я ничего не вижу, кроме желтых точек, они носятся у меня перед глазами, как кометы… Зато, когда я закрываю глаза, в уме сразу возникает площадь – такая, как ты описал в самом начале, только теперь я также вижу, что происходит внутри дома, и знаю там каждый уголок».
«А ты не замечаешь каких-нибудь отличий от первоначальной картины? Мы уже вплотную подошли к моей истории, и теперь должны быть видны ее первые проявления».
«Ой, точно! Странно, но теперь я вижу слабый огонек в одном из мансардных окошек».
* * *
«Мари-Софи N. спит…»
«А кто это?»
«Это женщина, которую я почти что могу назвать своей матерью…
* * *
Девушка, сидя в постели, читает книгу: одеяло скомкано у нее в ногах, подошвы касаются монограммы, вышитой крестиком на пододеяльнике. Под спину девушки подоткнуто несколько подушек, одна лежит у нее на коленях, на подушке – раскрытая книга. На комоде, окрашивая комнату в цвет желтоватого сиропа, мерцает оплывшая свечка. Обстановки немного: стул, платяной шкаф, ночной горшок, овальное зеркало; на стене – глянцевая картинка с изображением святого, он парит над лесной поляной, в его сложенных вместе ладонях – крошечная хижина. На дверце шкафа, на вешалке, висит черная форма горничной, на стуле – стопка книг. В комнате две двери: одна ведет к уборной персонала, другая – в коридор.
Обкусанным ногтем девушка тянет от слова к слову невидимую нить, а то, что написано между строк, считывает подушечкой пальца. Время от времени она останавливается и, закрыв небесно-голубые глаза, раздумывает над только что прочитанным. В такие моменты ее левая рука, бессознательно оторвавшись от страницы, легонько теребит темную косу, что спускается на ажурный лиф ночной сорочки. И каждый раз, переворачивая страницу, девушка хмурит брови, а когда повествование становится слишком интенсивным, потирает друг о дружку большие пальцы ног и подтягивает стопы поближе к себе.
Она все чаще прерывает чтение, размышляя над книгой. Часы этажом ниже пробили три, а уже через мгновение четыре раза отзвонил серебряный колокол на городской ратуше:
– Ох и затягивает же эта книга! Я совсем забыла о времени! Ну ладно, еще одну страницу и – спать…
* * *
– А кометы?
– Кометы – это ангельская перхоть, она воспламеняется в верхних слоях атмосферы, и тогда пепел от нее падает на землю и превращается в крошечных духов – хранителей мелких животных, растений и минералов. Так же образуется и пепел вулкана Гекла – из тлеющих волосков бороды дьявола, когда тот бывает неосторожен вблизи своих адских кострищ в преисподней [2], только этот пепел превращается в демонов, которые соперничают с добрыми духами за власть над всем живым. Поэтому можно сказать, что борьба между добром и злом кипит даже в твоих носках. По-моему, они у тебя из хлопка?
– Эй, малыш Зигфрид, что за ерунду несет этот тип?
– Он рассказывает мне о звездах.
– Ну, хватит об этом, теперь нам пора домой.
– А в слонах? В слонах тоже есть демоны?
– Идем, тебе сказано!
– В слонах, наверное, не борьба, а целая война идет!
– И в моем ремне тоже?
– Ой, точно!
– ИДЕМ!
Раб остался у хижины, а мужчина, взяв мальчика за руку, повел его к воротам. Постовые, отдав честь, выпустили их наружу, а раб так и стоял, наблюдая, как отец и сын уселись в отполированный до блеска «Мерседес-Бенц» и скрылись из вида.
* * *
– Мари-Софи?
– Что?
– Можно мне с тобой поговорить?
– Можно.
– Ты здесь одна.
– Да, совсем одна.
– Все укрыто тьмой.
– Да, мне видно это из моего мансардного окошка: нигде ни звездочки.
– Я осмотрел всю землю: все спят.
– Все, кроме меня.
– Ты тоже спишь.
– Но я же читаю книгу!
– Нет, ты спишь.
– Я сплю? О, Боже! И свечка горит?
– Да, горит. Так же, как и ты будешь гореть…
– Ну и влетит же мне! Дом-то старый, заполыхает – ахнуть не успеешь!
– Я присмотрю за свечкой.
– Спасибо!
– В наши дни трудно найти, с кем поговорить, никто больше не видит снов, города погружены во мрак, единственный признак жизни – человеческое дыхание, что исходит от домов холодными зимними ночами. Но потом я заметил тебя, тебе снился сон – так я тебя и нашел.
– Мне снился сон? Мне ничего не снилось! Тебя просто привлек свет в моем окне! Боже мой, я же забыла закрыть ставни! Мне нужно проснуться! Скорей разбуди меня, кто бы ты ни был!
– Можешь называть меня Фройде.
– Это не ответ! Разбуди меня!
– Я ангел западного окна – твоего окошка, что выходит на крышу. Я уже затемнил его, тебе не нужно ни о чем беспокоиться!
– Так ты у меня в комнате?
– Да, я всегда в твоем окошке… На твоем окошке…
– Хорошенькое дело! Мне вообще нельзя впускать к себе по ночам гостей мужского пола! А ну убирайся поскорее, иначе нам обоим крышка. Инхаберина [3], жена хозяина, уж очень строга по части нравственности.
– Ну я не совсем мужского пола…
– Да какая разница, достаточно того, что голос у тебя низкий! Давай проваливай!
* * *
Раб вернулся в хижину к товарищам-рабам, надсмотрщикам и расставленным на полках глиняным соколам. Те пристально взирали на своих создателей – бритоголовых мужчин, лепивших их из черной глины. Внутри хижины было жарко, ведь таких свирепых птиц нужно закалять в гигантских печах, где белое пламя могло свободно облизывать их расправленные крылья и растопыренные когти.
Раб молча принялся за свою работу: он наносил на соколиные глаза крошечный мазок желтой краски, перед тем как птицы отправлялись обратно в огонь.
* * *
– Нет, я не уйду, я не могу уйти!
– Тогда заткнись и дай уставшей трудяжке поспать.
– Но мне скучно!
– Я же не аттракцион для скучающих ангелов!
– А что тебе снилось?
– Вот так вопрос! Ты же только что сказал, что тебя привлек сюда мой сон!
– Да, но ты должна мне его рассказать.
– Я не привыкла делиться с посторонними всякой ерундой, которую вижу во сне.
– Но я не посторонний, я всегда с тобой!
– Назваться можно кем угодно! Хоть ты и торчишь здесь, на моем окне, и считаешь, что мы с тобой знакомы, я-то тебя знать не знаю. Может, ты какой развратник и ошиваешься тут, чтобы меня обрюхатить?
– Ну, ты это… спокойно…
– Нечего тут «спокойно», тоже мне святоша нашелся, будто никто из ваших никогда на женщину не зарился!
– Хммм…
Девушка ворочается во сне, книга выскальзывает у нее из рук, но ангел успевает подхватить ее над самым полом и, открыв наобум, пробегает глазами по тексту.
– Мари-Софи!
– Что?
– Я вижу здесь, на левой странице, что раб уже сделал подкоп под стеной вокруг лагеря. Давай я прочту тебе это место, может, тогда ты вспомнишь, что тебе снилось?
– О, Боже, читай уж! Хоть чушь нести перестанешь!
* * *
Когда его голова высунулась из подкопной ямы, над белесым полем пролетела ворона, прокаркав:
«Krieg! Krieg!» Он нырнул обратно в яму, а еще через мгновение на ее краю появилась небольшая дорожная сумка и розовая шляпная коробка с черной крышкой.
* * *
– Это не похоже на то, что я читала!
* * *
Выбравшись на поверхность, он вдохнул полной грудью. Ночь над полем была бодряще свежа, и даже не верилось, что это тот же воздух, что зловонным маревом висел над оставшимся за его спиной селищем смерти.
* * *
– Нет, это совсем не похоже на мою книгу!
– Но ведь это тебе снилось!
– А вот и нет – я читала любовный роман!
– Когда ты заснула, история продолжилась в твоем сне и стала развиваться в новом направлении. Я прочитал всю книжку от корки до корки, и это ее новая версия, слушай:
* * *
Но ему нельзя забываться в своих размышлениях о небе, ведь он в бегах… Осторожно подняв с земли шляпную коробку, он пристроил ее слева под мышкой, взялся за ручку сумки и направился в сторону леса. Он уходил…
* * *
– Вот-вот! И тебе следует сделать то же самое!
– Но он направляется сюда!
– И что с того? Тем, кого я вижу во сне, не возбраняется приходить ко мне в гости. А ты иди и найди себе другую книжку, чтобы заснуть над ней!
– Спокойной ночи, Мари-Софи!
– Спокойной ночи!»
II
2
«Гавриил гордо возвышался над континентами, его божественные стопы попирали Гренландский ледник на севере и Иранское нагорье на юге. Льнувшие к лодыжкам облака покачивали длинный подол хитона, скрывавшего под собой светлейшие ноги и всю благословенную ангельскую плоть. Его грудь перетягивала благородного серебра перевязь, на плечах красовались огненно-синие эполеты, а чýдную голову окутывал полумрак – чтобы россыпь лучезарных локонов не превращала ночь в день. Лик ангела был чист, как свежевыпавший снег, в глазах горели полумесяцы, вспыхивавшие истребляющим огнем при малейшем диссонансе ангельского сердца, на губах играла леденящая улыбка».
«Вот это верный портрет ангела!»
«Нежнейшие, как пух, пальцы Гавриила мягко тронули музыкальный инструмент – усыпанную драгоценными опалами трубу, что висела на его шее на розовом ремешке, сплетенном из собранных на Елисейских Полях горных маков. Ангел расправил свои небесные крылья, они были так необъятны, что их кончики дотянулись до границ мироздания на западе и востоке, а перья, опадая, закружились над материками, засыпая города и села крупными, мягкими снежными хлопьями.
Откинув просторные рукава, он взялся за трубу, приподнял плечи так, что бахрома эполет коснулась ушей, присогнул колени и подался вперед священными бедрами. Осанна! Он вознес свой инструмент».
«Осанна!»
«Да помолчи ты!»
«Ну уж нет!»
«Гавриил поднес мундштук к губам, раздул щеки, очистил разум и приготовился трубить. Сосредоточенно прислушиваясь к дремлющей в нем мелодии, – осанна! – он дожидался подходящего момента, чтобы дать ей прогреметь над лежащим у его ног миром».
«И?»
«Гавриил давно ждал этого часа, но теперь, когда тот настал, ему было трудно разобраться в своих переживаниях, он метался между предвкушением и тревогой, восторгом и отчаянием. С одной стороны, он чувствовал себя как великолепно натренированный игрок, которого матч за матчем держат на скамье запасных, хотя всем известно, что он самый способный. Наконец его выпускают на поле, но лишь для того, чтобы спасти команду в совершенно безвыходной ситуации.
И – ОСАННА! – конечно же, он сделает все, что в его силах! С другой стороны, ангела пугала та пустота, что должна последовать за его призывом.
Нет, конечно, сначала произойдет великое смятение и суматоха, и сам он тоже примет участие во всех страшных бедствиях, возглавив в битве с силами тьмы прекрасную армию воинственных ангелов. Но, когда все закончится, ему уже нечего будет ни ждать, ни страшиться. Господь дал, Господь и взял! И Гавриил не мог понять, что было в его сердце: радость или печаль.
Он сам был этим удивлен. Ему всегда казалось, что, когда придет время, он схватит свой инструмент обеими руками и без колебаний протрубит нужную мелодию, что она рокочет в его сознании как глас самого Создателя и найдет путь к ангельским устам сама по себе. Единственное, что ему нужно было сделать, это принять правильную позу и – аминь: Судный день на земле и на небе!
Гавриил нахмурил светлые брови и попытался отогнать от себя эти мысли. На мгновение отняв мундштук от своих губ, ангел провел по ним прелестным кончиком языка, призакрыл лучистые глаза и подвигал чреслами. Он представил себе, что мелодия застряла где-то в его нижних отделах, в ангельской прямой кишке, и что ее можно высвободить ритмичным покачиванием бедер – тогда она всплывет наверх, подобно спасательному кругу с затонувшего корабля, поднимется вдоль позвоночника в его восхитительный мозг и там уже вынырнет на поверхность сознания.
Голова ангела подергивалась от напряжения, вены на шее вздулись, пальцы с силой сомкнулись вокруг инструмента, мышцы живота напряглись, колени подрагивали, стопы вдавились в песок и снег. Мелодия кудрявилась в его мозговой субстанции, как кровь в воде: лилуяла, яллулаи, айяллуле, уллалайи, элуяйялл, ллилуая, ауалилл…
Гавриил чувствовал, что уже вот-вот, что все уже – слава Всевышнему! – на подходе, и его дивные ангельские ноздри с силой втянули воздух. Широко распахнув глаза, из которых в бездну метнулись искры, образовавшие семь новых солнечных систем, он воззрился на распростертую под ним обреченную Землю – ауаллилуй!
Грешный род людской развалился в кроватях, храпел, пердел и бормотал во сне, поперхиваясь слюной – фу! Или катался по постелям, пьяный от похоти, вцепившись друг в дружку крепкой хваткой, обмениваясь телесными соками…»
«Ой, какая мерзость!»
«Ненамного привлекательней были и занятия бодрствующих».
«Расскажи!»
«Гавриил содрогнулся: явно пришло время учинить суд над этим сбродом! Ангел видел, как из страны в страну маршировали полчища, сжигая на своем пути города и села. Закованные в сталь, они исполняли приказы своих знатных предводителей, что с перекошенными от жажды крови лицами сидели в подземных бункерах парламентских дворцов, малюя на свой лад карту Европы. В панцирях, шлемах, с щитами и оружием, неистовые скопища вытаптывали засеянные поля, вырывали с корнем лесá, мочились в водопады и реки, убивали матерей и детей, истребляли, карали и калечили. Бить и колоть было их честью и славой, они не думали о последнем суде.
Ангел затрепетал от праведного гнева: Осанна! Слава в вышних Богу, горе тем и горе тем, скоро испустят они дух, и их холодные трупы растеряют торжественные одежды. Власти лишенные, станут они кормом для червей.
Гавриил слышал, как выли в городах сирены воздушной тревоги. У этих человеческих мерзавцев слуха было не больше, чем у самого дьявола. Сейчас они узнают, как звучит настоящая музыка судного дня!
АЛЛИЛУЙЯ! АЛЛИЛУЙЯ! АЛЛИЛУЙЯ! Мелодия звенела в его голове, до абсурда похожая на вопли умирающих, что доносились снизу, – мощная, полная обещания грандиознейшей, невиданной ранее баталии, когда небожители и демоны ада сойдутся в великой битве за души людей. Этой грязной, воинственной возне человечества придет конец, как только из бесценной ангеловой трубы вырвется первая нота: мироздание опрокинется, расколется небесный свод, станет дыбом морская пучина, рухнут скалы, грешники низвергнутся в бездну, праведники вознесутся в высоты превышних высей.
Да, такова песнь конца дней!»
«Вот это да!»
«Гавриил попытался обуздать свой гнев, ему нельзя терять контроль над собой, его труба – чрезвычайно чуткий иструмент, нота выйдет неверной, если он подует слишком сильно.
Расслабив плечи, он медленно выдохнул, отсчитывая в уме ритм: раз-два-три-и, раз-два-три-и, раз-два-три-и, раз-два-три-и, раз-два-три-и, раз-два-три-и, раз-два-три-и… а когда уже было собрался по-новой наполнить воздухом свои несравненные легкие, его взгляд упал на лучи прожекторов, кромсавшие темноту над столицей англов (вот уж кощунственное название!), и – Боже праведный! – о ни, словно похотливые пальцы, шарили под длинным подолом его чудесного хитона!
Ангел был целомудрен – о, да! Никто не должен узреть его иерусалим! Он поспешно крутанул своим бесподобным торсом, и неземные материи деликатно прильнули к сиятельным ногам, укрыв таящееся между ними сладчайшее сокровище – невыразимо прекрасную работу рук Господних, Kyrie eleison!
Однако Гавриил не рассчитал вращательного момента, волной пробежавшего вдоль его тела: славная голова откинулась назад, один из горящих золотом локонов выбился из-под сумеречного тюрбана и заслонил ангелу обзор Земли, а мелодия, исказившись и выскользнув из сознания, юркнула в амигдалу ангельского мозга, как змея в норку».
«О нет!»
«О да! И подстроено все это было Люцифером-Сатаной – тем, кто ходит по миру и обманом и уловками сеет в сердцах людей семена ереси».
«Чтоб ему пусто было!»
«Уловив аромат манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris), Гавриил откинул с лица локон. Ангел стоял на великолепной зеленой равнине, под хрустальным небосводом; десятки тысяч солнц тянулись лучами к бескрайним полям и лугам, голуби (по всей видимости, Gallicolumba luzonica – т е, что специально для Спасителя помечены кроваво-красными перышками) ворковали в оливковых (Olea europaea) рощах, а тигрицы (Panthera tigris), лежа на берегах журчащих речек, кормили своим молоком козлят (Capra hircus). Вдали на горизонте, над мраморными утесами, порхали херувимы.
Ангел был на седьмом небе, в родных краях, так далеко от земной юдоли плача, как только можно себе представить. Он вздохнул с облегчением: Судный день, похоже, окончен, все успокоилось, Всевышний победил – на веки вечные, АМИНЬ!»
«Аминь!»
«По теням от оливковых деревьев Гавриил определил, что на небесах приближалось время ужина. (Здесь все отбрасывало тени, хотя бесчисленные сóлнца всегда стояли строго в зените. Данное замечание сделано просто для справки.) Внезапно ангел ощутил, как по его гигантскому туловищу растеклась безумная усталость. Вояж на Землю поистине вымотал его, ох-ох, и ничего он так не желал, как вернуться в свои благословенные покои в доме Отца, на главной площади Райского Града. Гавриилу не терпелось поскорее улечься в сдобренную парфюмом ванну – в играющую пузырьками святую воду серебряной купели – и смыть с себя накопленное за день напряжение.
А вечером он собирался повеселиться на площади:
потанцевать вместе с ангелами-хранителями на булавочной головке.
Расправив утомленные крылья, Гавриил поправил на груди трубу, взлетел и направился домой».
«Слава Богу!»
«Да, восхвалим преславное имя Его! Только не забывай, что теперь на божественной сцене заправляет Сатана».
«Ой, точно!»
«И, хотя мое повествование на время обратится к другому, своего последнего слова он еще не сказал».
«А Гавриил?»
«Мы к нему еще вернемся, только позже».
«Поцелуй меня!»
«И сколько мне это будет стоить?»
«Ты получишь один поцелуй бесплатно – за тигриц, я в них узнала себя, они такие очаровашки».
«Спасибо».
«На здоровье».
III
3
«Когда Мари-Софи спустилась утром на кухню, повариха деловито мутузила на столе здоровенный кусок теста. Посыльный мальчишка, примостившись на другом конце стола, из отпущенного ему шматка лепил пряничных человечков: ваял существ по человечьему образу и подобию – утапливая ноготь в податливую массу, он отделял от тела руки и ноги, а глаза и рот оттискивал шпажкой для жаркó́го.
– Слава Богу, ты здесь! – ни на секунду не сбившись с месильного ритма, повариха повернула к девушке пухлощекое лицо.
Тесто плясало на столе, подлетало в воздух и шлепалось обратно, тянулось, сжималось и вертелось, как егозливый бутуз, не желающий менять подгузник. Повариха была вся в его власти, ее пышное тело тряслось и колыхалось – от маленьких ступней, мелко приплясывавших под столом, до второго подбородка, который то выпячивался, то втягивался в такт с источником этих колебаний – тестом.
– Ну, не знаю, какая Ему слава, ведь я сегодня не работаю, – ответила девушка, сделав вид, что не заметила посыльного мальчишку, с хищной ухмылкой склонившегося над своими творениями. – У меня уже сто лет не было выходного в воскресенье!
– Да Боже мой, дитя, я и не собиралась просить твоей помощи, окстись! Нет-нет-нет!
Понизив голос, повариха задергала головой, подзывая к себе Мари-Софи. Когда стряпня занимала обе ее руки, она таким образом управляла всем на кухне: быстрыми движениями головы рисовала в воздухе невидимые линии, соединяющие то руку – с перечницей, то ладонь – с поварешкой, то пальцы – с ручкой кастрюльной крышки.
– Вот за что мне такое наказание? – подозрительно покосившись на мальчишку, повариха не прекратила дергать головой до тех пор, пока Мари-Софи вплотную не приблизилась к ее ходившему ходуном телу.
– Что же такое с этими толстяками? – подумала девушка, невольно присоединяясь к танцу поварихи. – Кажется, будто я всегда стою к ним ближе, чем мне бы хотелось. Может, это оттого, что расстояние между сердцами людей должно быть всегда одинаковым, независимо от их объемов?
– Ну что я им такого сделала? – п овариха вознесла тесто в воздух и теперь месила его на уровне собственной головы, будто собиралась защититься им от страшной вести, о которой лишь она одна знала и теперь хотела поделиться с девушкой. – Ну почему они мне все время его подсовывают, когда у других выходной?
Мари-Софи бросила взгляд на рыжеволосого прыщавого юнца – персонажа главной новости дня, едва начинавшегося в Gasthof Vrieslander; пряничные фигурки в его руках становились все меньше и меньше, а лицо мальчишки пылало так, будто он вместе со всем своим потомством сидел сейчас в горячей духовке.
– Я уже прямо боюсь его!
Девушке слабо верилось, что повариха, которая все еще охаживала в воздухе подвижное, будто живое, тесто, не справилась бы с этим сопляком, – к усище явно тянул килограммов на двенадцать.
– Ну что вы себе выдумываете?
Многозначительно прищурившись, повариха зашептала:
– Мы же, дорогуша, не о физическом насилии говорим, о, нет, для этого он не мужик, но ты же не знаешь, что он тут вытворяет!
Мари-Софи не представляла, что такого мог натворить мальчишка, чтобы так ошеломить эту бывалую стряпуху – уж кое-что в жизни ей довелось испытать, как-никак крутилась на работе и передом, и задом перед самым носом у мужеского пола с тех пор как себя помнила. Сколько историй выслушала девушка после вечерних ромовых дистилляций: «И вот поэтому, дитя мое, ромовый пудинг готовится с вечера – он должен простоять всю ночь!..»
Однако сегодня поварихе было не по себе:
– Он давит на меня психически, паразит эдакий!
И она треснула тестом о столешницу с такой силой, что сотряслась вся кухня. Мальчишка испуганно вздрогнул, ухмылка на мгновение слетела с его лица, но как только в шкафах затих посудный перезвон, она снова повисла меж его оттопыренных ушей, словно открытая ширинка. Это было его проклятием, он был из тех, кто непременно расплывается в улыбочке, попав в неудобное положение, а это часто понимают неправильно. На этот раз был поварихин черед неправильно его понять:
– О, смотри! И он еще сидит и насмехается надо мной!
Мальчишка еще ниже склонился над своими человечками в надежде спрятать лицо – будто это могло что-то изменить! Повариха уже вмешала его позор в имбирное тесто, постояльцы гостиницы будут похрустывать им, запивая утренним кофе, а позже мальчишкин срам вывалится из них с другого конца, и таким образом эта злополучная проделка и стыд за то, что его, как похотливого кобелька, отчитали на глазах у Мари-Софи, станет частью мировой экосистемы».
«Интересно, и что же он такого натворил?»
«Повариха принялась по новой оживлять свое тесто, мертво лежавшее меж ее ладоней после жесткого приземления на стол:
– Боже мой, да я даже говорить об этом не могу!
– Конечно, можете! А я уж позабочусь, чтобы ему влетело как следует!
Мари-Софи послала мальчишке притворно-сердитый взгляд. У того явно отлегло от сердца, хотя он и старался этого не показывать. Бедняга проторчал всю ночь за стойкой регистрации, и было, прямо скажем, некрасиво посылать его, не выспавшегося после ночного дежурства, помогать похмельной поварихе. Конечно же, его потянуло на озорство, а то бы он точно заснул над этими несчастными пряниками.
– Вон, посмотри!
Повариха качнула плечом в сторону противня, стоявшего на стуле у выхода на задний двор. Противень был сдвинут на самый краешек сиденья и только чудом не опрокидывался на пол. Под наброшенной сверху страницей местной газеты «Kükenstadt-Anzeiger» угадывалось нечто вроде выпечки. Эта порция явно была забракована.
– Как ты думаешь, что там такое?
Но прежде чем Мари-Софи успела ей ответить, повариха принялась мало-помалу оттеснять ее в сторону отвергнутого противня, устремившись в погоню за поползшим по столу тестом.
– Да Боже мой! Ты же никогда в жизни не догадаешься! – повариха кончиком носа перекрестила воздух и, шлепнув тесто со стола на стену у черного входа, продолжала месить его там.
Мари-Софи больше не могла равнодушно воспринимать эту кухонную драму, невольной участницей которой ей пришлось стать. Ее уже подташнивало от колыхавшейся перед глазами бесформенной телесной массы, от духовки несло удушающим жаром, и девушку охватил страх, что ей, возможно, никогда не удастся вырваться из этого затейливого танца с поварихой. А ведь сегодня был ее выходной! Воскресенье! Она просто спустилась сюда по-быстренькому перекусить! Пятнадцатиминутное свидание с незамысловатым завтраком превращалось в нескончаемую трагедию, действующие лица которой искали ответы на извечные вопросы о чести, совести и темной стороне человеческой души.
А повариха тем временем, как и подобает хорошей актрисе, подвела сцену к драматической кульминации:
– Вот оно!
Мальчишка дернулся, когда повариха буквально выпалила эту реплику. Близость к виновнику и запретному печеву довела ее до точки кипения, когда она, казалось, была готова ринуться прямо сквозь стену, во двор и еще бог знает куда – с тестом над головой как знаменем строгости и усердия.
Казалось, у Мари-Софи нет ни единого шанса выбраться из этой кухни абсурда в здравом рассудке: повариха, по всей видимости, так и не раскроет улики в судебном разбирательстве «Благопристойность против неуклюжего Ханса», вылепленные мальчишкой человечки в конце концов станут такими крохотными, что, чтобы отделить от пряничного тела руки и ноги, ему придется расщеплять атомы, а сама Мари-Софи так и не попадет на встречу со стаканом молока, ломтиком хлеба и грушей – своей главной целью в это воскресное утро – и умрет здесь от голода.
Девушка решила форсировать события: оторвавшись от поварихи, она уже прицелилась сорвать с противня газету, когда мальчишка вдруг вскочил на ноги:
– Я не хотел, это нечаянно получилось!
Мари-Софи пригвоздила его взглядом:
– Стыдись! Проси прощения и убирайся спать!
Почесав в копне огненно-рыжих волос, мальчишка распутал завязки фартука и нерешительно попятился к выходу:
– Извините, фройляйн… фрау…
Он делано зевнул, передернул плечами, внимательно изучил свои ботинки, поморщил нос и, стараясь выглядеть виноватым, обращался попеременно то к девушке, то к поварихе:
– Сам не знаю, что со мной… не спал… да… и вот…
Мари-Софи подала ему знак поскорее проваливать, но мальчишка будто прирос к месту – видимо, ждал, когда она снимет газету с его творения, но девушка не собиралась доставлять ему такого удовольствия. Она повернулась к поварихе: та, перестав месить, снова стала самой собой – грузной дамой с головной болью. Их глаза встретились, и у Мари-Софи вырвалось то, чего она совсем не собиралась произносить, переступая сегодня порог этой кухни:
– Я, пожалуй, помогу вам закончить с печеньем…
Повариха затрясла головой:
– Нет-нет-нет, дорогая, я ни в коем случае не могу на это согласиться! Боже мой, у тебя так давно не было выходного в воскресенье!
С этими словами она сунула тесто девушке в руки, а сама, просеменив к кухонному шкафу, выудила оттуда бутылку с ромовым экстрактом и чашку с отбитой ручкой. Посыльный как приклеенный все еще стоял у выхода, тупо уставившись на повариху. Когда та плеснула себе в чашку, его рот снова расплылся в дурацкой улыбке.
Мари-Софи положила тесто на стол: что за идиот этот мальчишка, почему он не убирается отсюда? Она послала ему вопросительный взгляд, но в ответ получила все ту же улыбочку, только теперь уже растянувшуюся на полголовы. Он дергал плечом, указывая на дверь в кладовку.
Повариха, подняв чашку и приложившись к кулинарному продукту, зашипела на посыльного:
– Вишь, до чего меня довел!
А Мари-Софи вдруг поняла, что удерживало мальчишку, она услышала то, что слышал он: из кладовой доносилось едва различимое бормотание. Она шикнула на повариху, и бедная женщина испуганно перекрестилась.
Подкравшись на цыпочках к двери в кладовку, Мари-Софи навострила уши. Так и было: внутри, посреди колбас, винных бутылок и банок с маринадами, кто-то шебуршился. Вор? Будущая мамаша c ненасытной охотой до соленых огурцов? Колбасный налетчик? Или пьянчуга, что подзадержался в раю и не успел улизнуть до прихода поварихи на работу?
Бесшумно метнувшись назад к столу, девушка вооружилась скалкой.
– О, Боже, спаси и помилуй! – повариха была готова разрыдаться от всего того, что Господь наслал на нее в это утро.
Приложив палец к губам, Мари-Софи протянула мальчишке отбивной молоток и жестом указала ему на вход в кухню, чтобы он встал там на страже: она откроет дверь в кладовку и шарахнет ворюгу скалкой, а если тот попытается прорваться к черному ходу, то там на его пути будет повариха, а мимо такой матроны просто так не проскочишь.
Беззвучно досчитав до трех и покрепче сжав в руке скалку, Мари-Софи рывком распахнула дверь кладовки и… прыснула: в узком проходе между полок, растянувшись во весь рост, лежало жалкое, тощее существо в лохмотьях, на его ногах едва держалось некое подобие башмаков.
Но не бродяжнический вид стал причиной невольного веселья девушки, а то, что при падении кладовочный гость увлек за собой кольцо колбасы, которое теперь сидело на его голове подобно короне, а на левой стороне груди, словно медаль, поблескивал кружок огурца.
В руках незнакомец держал шляпную коробку. Это был мой отец».
4
«Мари-Софи, потупив взгляд, переминалась с ноги на ногу на пухлом ангелочке, вытканном на ковре гостиничной конторы.
– Когда такое случается, ни у кого не может быть выходного: ни у тебя, ни у меня, ни у кого! Ты должна это понимать! – хозяин восседал в обитом красной кожей кресле за спиной у Мари-Софи, он промокнул потное лицо белым носовым платком и продолжил: – Мне от этого тоже счастья мало, но мы задолжали людям, которые привели его ночью, и нам ничего не оставалось, как только принять его.
Мари-Софи терпеливо выслушивала проповедь: хозяин и инхаберина, его супруга, влетели в кухню в тот момент, когда девушка уже думала, что описается от смеха над оборвышем, а теперь у нее было такое чувство, будто это и правда произошло.
– Мне о нем известно не больше, чем тебе, но мы и не хотим ничего о нем знать, заруби это себе на носу!
Разумеется, они буквально с катушек слетели, увидев разгром в кладовке – во всяком случае, так показалось Мари-Софи. Хозяин из своих обильных запасов с ходу отвалил мальчишке целых три затрещины и тут же выпинал его на улицу, в мусорную подворотню, в то время как инхаберина вывела рыдающую повариху из кухни и успокаивала ее остатком ромового экстракта. Девушке же было приказано прибрать на кухне и затем явиться в контору «для беседы».
После этого супруги сняли с воришки регалии – колбасную корону и огуречную медаль – и, подхватив с двух сторон под руки, потащили куда-то наверх. Мари-Софи сделала, что ей было сказано, и теперь хозяин «проводил с ней беседу»:
– Если вдруг что случится, что бы то ни было, то мы тут абсолютно ни при чем! Особенно ты. Я об этом позабочусь.
Девушка слушала, не перебивая.
– Ты же знаешь, мы всегда заботимся о своих… И поэтому мы хотим, чтобы ты за ним ухаживала!
Посмотрев по сторонам, хозяин неуверенно прибавил:
– Хочешь леденец?
Мари-Софи вздохнула: что она вообще здесь делает и о чем таком просит ее хозяин? Ухаживать за колбасным кайзером, этим огуречным генералом, которого они нашли в кладовке? Но она не умеет ухаживать за больными! Вряд ли он был кем-то важным, если они собираются сделать ее его сиделкой. И что это за разговоры о том, что «если вдруг что случится»?
– Или, может, ты не любишь сладкого? Это хорошо, это ты молодец!
Поднявшись с кресла, хозяин принялся вышагивать взад и вперед по комнате, замирая на месте каждый раз, когда кто-нибудь проходил по вестибюлю гостиницы, и все говорил, говорил – о сладкоежках, о здоровье зубов, без конца расхваливая девушку за воздержание от сладкого. А Мари-Софи не понимала, что ей делать. Как только она собиралась решительно топнуть ногой и заявить, что, к сожалению, не может взять это на себя, что у нее сегодня выходной, да к тому же она скорее уморит его, чем выходит, ее внимание неизменно отвлекалось на какую-нибудь деталь комнатного интерьера: бордовые вельветовые портьеры, позолоту письменного стола или пикантный сюжет картины над книжным шкафом. Эти свидетельства прежнего назначения дома отчего-то мешали ей выразить свои мысли в словах. И теперь она уже не знала, как сказать это жизненно важное «нет».
Неясное движение в вестибюле отбросило хозяина обратно в кресло, он проворно провел платком по вспотевшей лысине и почти закричал:
– Так что, думаю, мы… думаю, я… уже прошелся по всем главным пунктам этого дела!
Когда в контору стремительно влетела инхаберина и захлопнула за собой дверь:
– Ну это ни в какие ворота! Вот уж не знала, что мы собираемся разнести по всему городу, что скрываем у себя беглеца!
Хозяин замахал на супругу белым платком перемирия:
– Долго же тебя не было, милочка…
Инхаберина презрительно наморщила нос:
– Ха! Будто тебе известно, сколько времени нужно, чтобы полностью раздеть взрослого мужчину!
Супруг решил сменить оборону на наступление:
– На Восточном фронте мы, бывало…
Инхаберина повернулась к девушке:
– Идем, дорогуша, его нужно помыть…
* * *
Воришка, или, как теперь догадывалась Мари-Софи, заморенный до полусмерти беглец, дожидался своей сиделки на втором этаже гостиницы в комнате номер двадцать три. Совершенно голый, он сидел в пустой лохани под окном. Занавески на окнах были задернуты, и в сумеречном свете девушка разглядела самого жалкого бедолагу, какого ей когда-либо приходилось видеть: голова склонилась на грудь, руки безжизненно свисали по бокам до самого пола, торчащие из лохани колени домиком опирались одно на другое и были опухшие – словно два подгнивших граната.
– И как тебе подарочек? – подтолкнув Мари-Софи в комнату, инхаберина закрыла за ними дверь. – Н е так-то просто было снять с него одежду, нижнее белье и носки совсем с ним срослись.
Мари-Софи было трудно смотреть на горемыку: спина и руки его были сплошь усыпаны красными пятнышками, живот одутловато выпячивался, как у маленького ребенка. Он дрожал.
Девушка невольно прикрыла рот ладонью: о чем думала инхаберина, оставив его сидеть вот так, раздетым, в пустой лохани? Мари-Софи сдернула с кровати покрывало и укутала им голыша, заодно уменьшив обзор этого несчастья.
– Он весь в твоем распоряжении! Мальчишка принесет воду, поставит ее в коридоре у двери и постучит. А здесь, в комнате, ему делать нечего!
Бодро хлопнув в ладоши, инхаберина крутанулась на месте, а Мари-Софи, кивнув в знак согласия, поплотнее обмотала вокруг бедняги покрывало. Боже, как он был тощ! Лопатки и позвонки выпирали из его спины, точно крылья, точно зубья пилы. Взглянув на инхаберину, Мари-Софи укоризненно покачала головой: как им пришло в голову доверить ей заботу об этом ходячем трупе?
Инхаберина сделала вид, что не поняла ее молчаливого вопроса:
– Когда закончишь с мытьем, устроишь его там… – она указала на светлую, не больше зрачка, точку на обоях.
– В пасторском тайнике?
– Да, я постелила чистое на кровать, там должно быть все, что нужно. А если что-то еще потребуется, позвонишь в звонок.
Инхаберина приоткрыла дверь, но, выглянув в коридор, тут же снова ее закрыла: на лестнице слышались чьи-то шаги. Из коридора донеслось монотонное стариковское бурчание: герр Томас Хазеарш призывал Всемогущего Господа забрать его из этой убогой дыры, где богопослушных постояльцев в их законный день отдыха дурят на имбирных пряниках. Девушка и хозяйка прислушивались, пока старикан воевал с дверным замком: прошла целая вечность, когда наконец послышалось, как дверь в его комнату открылась и закрылась.
Инхаберина, однако, уходить не спешила:
– Чертов паразит! Наверняка сидит там в засаде и поджидает меня. Нутром чует, что что-то происходит, вырос в этом доме. Как думаешь, он плотно закрыл свою дверь?
Несчастный в пустой лохани чихнул, и Мари-Софи, покрепче прижав его к себе, послала инхаберине убийственный взгляд: если та своим безразличием пыталась показать, что ничего не понимает в уходе за больными бедолагами, то ее сообщение принято к сведению!
Прищурившись и поизучав некоторое время парочку под окном, инхаберина недовольно буркнула:
– Ты еще молодая, думаешь, что все знаешь, но я бы на твоем месте вела себя с ним осторожней. Он не такой слабенький, каким хочет казаться. Я думала, в жизни не выдеру у него из рук эту дурацкую коробку! – носком левой туфли инхаберина ткнула в сторону шляпной коробки, стоявшей на полу вместе с остальным его имуществом: лохмотьями и сумкой, где явно умещалось совсем немного.
На этом хозяйка гостиницы удалилась, решительно хлопнув дверью, а девушка Мари-Софи осталась здесь – в комнате номер двадцать три, на втором этаже гостиного дома Vrieslander, в небольшом городке Кюкенштадт в устье реки Эльбы, что в Нижней Саксонии, наедине с раздетым мужчиной. Час назад она собиралась огреть его скалкой, сейчас она должна была его выхаживать.
Мир был охвачен войной…
* * *
Закатав рукава блузки, Мари-Софи потрогала локтем воду и вылила ее в лохань.
– Ну, дружочек, приступим к мытью!
Бедолага вздрогнул. Мальчишка принес ведра с водой и пытался во что бы то ни стало прорваться в комнату. Когда мыло начало растворять грязь, покрывающую его кожу, как паразитирующий грибок, из лохани поднялась ужасная вонь. Она сказала мальчишке, что инхаберина запретила ему входить, что это не развлекательный спектакль. Красные пятнышки казались болезненными, она осторожно проводила по ним подушечками пальцев. Тогда глупый мальчишка заявил, что хочет их увидеть. Она осторожно намылила его воспаленные подмышки: Кого «их»?
– Ну-ка, посмотрим, сможешь ты сам стоять на ногах?
Подхватив бедолагу под руки, Мари-Софи помогла ему подняться – так было удобней помыть ему грудь и живот. Котят!
– Вот видишь, у тебя получилось!
Бедолага стоял в лохани, бессильно уронив руки. Она не знала, смеяться ей или плакать. Его грудь была вся покрыта небольшими шрамами – будто кто-то прикасался там горящим пальцем. Он действительно думал, что она топила котят в лучшей комнате гостиницы?
– И здесь тебя тоже надо помыть…
Девушка намылила интимное место мужчины. Да, конечно, уж если отправлять их на небо, то, само собой, делать это в подобающей обстановке. Она отвела глаза и покраснела. В мыльной воде?
– Боже! Где же ты такой скитался?
Она отдернула руку. Да, он полагал, что так будет быстрее. Зад бедолаги был обожжен фекалиями и мочой и превратился в сплошную зияющую рану. Так ему сказала инхаберина, и теперь он хотел своими глазами увидеть, как это выглядит. Собравшись с духом, девушка продолжила намыливать его бедра. Засовывает она котят в мешок или держит их под водой голыми руками?
– Ну вот, почти закончили…
Бедолага жалобно укнул, когда девушка коснулась плохо затянувшейся раны на его голени. Она сказала ему, что он дуралей. Его стопы были в синяках, с полопавшимися от холода сосудами. Он, похоже, здорово обиделся. Привстав на цыпочки, она подняла над головой бедолаги ведро с водой и смыла с него мыльную пену. Она добавила, что он симпатичный дуралей. Пока теплая вода струилась по его телу, он хватал ртом воздух. Это его смягчило. Она помогла ему вылезти из лохани и вытерла его полотенцем. И он с загадочным видом поведал ей, что сегодня, чуть позже, он кое-что ей принесет. У бедолаги подкашивались ноги, и Мари-Софи, снова накинув на него покрывало, повела его в пасторский тайник. Она поблагодарила его и, взяв ведра, вернулась в комнату – ей надо было мыть бедолагу.
* * *
Несмотря на крохотные размеры, пасторская каморка была самой роскошной комнатой гостиницы. На стене напротив кровати висело хитроумно выполненное фальшивое окно в шикарной раме и с портьерами из плотного дорогого бархата. Армянский напольный ковер, индонезийская курильница для благовоний, китайская резная спальная мебель, фарфор, вручную расписанный японскими гейшами, танцующий Шива из Индии и смеющийся латунный Будда из Таиланда создавали атмосферу начала века – настолько чудесную, что Мари-Софи показалось, будто у нее развилось туннельное зрение, когда она завела бедолагу в такое великолепие. В этом сияющем изобилии ему предстояло провести следующие несколько дней.
Устроив своего подопечного на трехспальной кровати, Мари-Софи надела на него подгузник, укрыла нежно-розовым, цвета дессу, покрывалом и подоткнула ему под голову расшитые шелком подушки. Лежа на этой кроватище, бедолага, который и без того имел вид страдальца, сейчас напомнил ей малюсенький обломок в растерзанном штормом море.
Зрелище было комичное. Она заплакала».
5
«Мари-Софи сидела на стуле у постели пришельца. Она уже бесчисленное количество раз переставила его багаж: ничего нельзя было открывать и трогать, пока он не придет в себя и сам не распорядится, что нужно развесить в шкафу, что расставить на комоде или письменном столе и где бы он хотел держать свои бритвенные принадлежности – в сумке или рядом с умывальным тазиком.
Люди любят раскладывать свои вещи по-разному. Повариха как-то рассказала ей об одном исландце, что останавливался в гостинице вскоре после ее открытия, так вот он вообще не распаковывал свой дорожный сундук.
Однажды повариха принесла ему завтрак и, поправляя постель, исподволь увидела, как этот исландец рылся в своем сундуке, словно поросенок в куче мусора, бормоча себе под нос что-то похожее на «Фанден! Фанден!». Ну и чудик, подумалось тогда Мари-Софи, он что, всегда напоминает себе, что делает? [4] И она представила, как он, прогуливаясь по лесу, размахивает при каждом шаге руками – вроде мельницы – и лопочет: «Гулять, гулять!»
Эта мысленная картинка рассмешила ее, она прыснула, коматозник на кровати шевельнулся, Мари-Софи прикрыла рот ладонью, кровь прилила к ее щекам:
– Ой! Вот сижу я тут, гогочу, как дура, а что может подумать этот бедолага, если проснется от непонятных хиханек и увидит меня, краснющую, как помидор, трясущуюся от смеха?
Подавив распиравший ее смешок, она постаралась принять серьезный вид, но вдруг вспомнила другой рассказ поварихи – все о том же «гулять-гулять» исландце, и тут уж не могла сдержаться.
Повариха решила подслушать под дверью, станет ли тот повторять за завтраком «Кушать! Кушать!», так нет, вместо этого он зарядил какуюто бесконечную застольную молитву, взывая к Всевышнему после каждого почавкивания сарделькой и причмокивания пивом: «Гот! Гот!» [5] И повариха, давясь и фыркая, побежала вниз, к остальным, чтобы рассказать им об этом фрукте из комнаты номер двадцать три.
На следующий день весь персонал гостиницы, вместе со стариканом Томасом, подслушивал у исландца под дверью, покатываясь со смеху над его набожностью.
– Ах, они бывают такими забавными, эти иностранцы! Могу представить его мину, когда он открывал дверь и видел, что коридор забит народом, стонущим или рыдающим от хохота. «Гутен Так!» – говорил он после долгого созерцания этой школы дураков – «Гутен Так!». И тогда уже сама инхаберина не могла удержаться от улыбки. Хи-хи-хи, фанден-фанден, гот-гот, вот если бы все гости были такими, как этот исландец!»
«Ха-ха-ха!»
«А позже этот исландец стал знаменитым писателем!»
«Ой, не могу, ой, прекрати, а то я лопну от смеха!»
«Кушать! Кушать!»
«Ха-ха-ха!»
«Мари-Софи сотрясалась от беззвучного хохота, у нее уже ломило во всем теле и звенело в ушах, но мало-помалу приступы становились все реже, и она почувствовала, что воспоминание выветривается из нее, подобно лихорадке. Мари-Софи вытерла выступившие на глазах слезы: она стояла у ложного окна.
– Ой, что-то я совсем чокнулась! Даже не заметила, как подошла сюда и стою, согнувшись в три погибели, и заливаюсь, вытаращившись в собственное отражение. Что это вообще со мной такое? Вот дурносмешка-то! И такому человеку доверили этого бедолагу? А?!
Строго акнув своему отражению в оконном стекле, девушка шмыгнула носом и повернулась:
бедолага смотрел на нее, приподняв над подушкой бритую голову. У Мари-Софи от неожиданности перехватило дыхание – он не сводил с нее горевших лихорадочным блеском черных глаз, они казались огромными на его истощенном лице и спрашивали: почему ты смеялась?
Она съежилась под его взглядом и затеребила воротник платья, ища себе оправдания: «Однажды здесь, в Gasthof Vrieslander, где ты как раз и находишься… ну, короче, был здесь один гость – я знаю, мне нельзя смеяться над постояльцами, инхаберина это настрого запрещает – да… короче, из Исландии, и вышло там одно недоразумение, и они, видишь ли, смеялись, смеялись… Боже мой, ну как тебе это понять, когда я сама не понимаю, что говорю… только они тут в коридоре чуть не померли со смеху, потому что, видишь ли… потому что он сказал: «кушать, кушать»… Поэтому я и смеялась!»
Но на самом деле Мари-Софи ничего не сказала, не нашлась, что сказать. Она просто закрыла глаза в надежде, что бедолага сделает то же самое – как случалось давным-давно, когда она по вечерам укладывала спать своего младшего братишку. Однако, снова открыв глаза, она увидела, что бедолага прищурил свои, и застывший в них вопрос был уже куда масштабнее: Я что, в аду?
Вжавшись спиной в «окно» так, что затрещала рама, девушка уставилась на гостя с таким же безмолвным ответом: Да, ты в аду, а я – та дурочка, что должна о тебе заботиться. Не желаешь ли чего-нибудь? Может, попить? Например, уксуса? Или, может, ты голодный? Как насчет моченых булыжников, пюре из черного перца и салата из свежей крапивы? Может, тебе слишком жарко? Тогда я приложу к твоим ступням раскаленных углей. Или холодно? Тоже без проблем: на кухне достаточно льда!
– О, Боже, во что меня угораздило впутаться? Зачем они вообще притащили его сюда? Это не работа для такой дурынды с куриными мозгами!
Девушка с беспокойством наблюдала, как бедолага блуждал взглядом по ее телу: она была марионеткой, а он – кукольным мастером, который разбирал ее тело часть за частью в поисках дефекта или трещинки в лаке. Достаточно ли хорошо отполированы ее голени? Может, стоило чуть больше обточить ее талию? Чуть получше отшлифовать локти? А румянец на щеках? Не перебор ли с красной краской?
Она чувствовала себя совершенно разбитой. Что творится там, в его голове? Он ведет себя так, будто что-то во мне – его собственность! Было лучше, когда он лежал без сознания!
Части ее тела парили в воздухе над изголовьем кровати, медленно вращаясь перед глазами бедолаги, в то время как ее голова все еще торчала у фальшивого окна – в одиночестве и смятении. Ей показалось, что он с особым вниманием присматривался к ее рукам – с чего бы это?
И тут она заметила, что ее правая ладонь была сжата в кулак, а левая как раз пролетала у самого кончика его носа, и Мари-Софи поспешно сжала и ее в кулак, чтобы он не заметил обглоданных до мяса ногтей.
Он чуть слышно вскрикнул, гримаса боли глубже залегла вокруг его рта, а глаза стали еще больше. Она остолбенела: он испугался!
Мгновенно разжав кулаки, она ухватилась за край одеяла, поправила его и попыталась ободрить бедолагу улыбкой: все в порядке, это всего лишь я, Мари-Софи, дуреха Мари-Софи, все в порядке!
Но прежде чем она успела что-либо произнести, он опустил голову на подушку, закрыл глаза, отвернул лицо к стене и вздохнул:
– Уродливый… я знаю…
– Нет, это совсем не так!
Мари-Софи пришла в себя: она стояла у кровати, беспомощно сцепив руки. Ну вот, она обидела его! И что теперь ей делать? Что сказать?
– Ты не уродливый! – з акричала она бедолаге.
Тот вздрогнул, сжался в комок, крепче зажмурился и ничего не ответил: бритая макушка задергалась на подушке, одеяло мелко затряслось, он несколько раз хватанул ртом воздух и провалился в безмолвное забытье.
* * *
РЕБЕНОК И КАРЛИК
Однажды в трамвае ехал ребенок со своей матерью. В вагон вошел карлик и сел неподалеку от них. Это вызвало живой интерес у ребенка, который указал на карлика и достаточно громко, так, что и сам карлик, и другие пассажиры могли услышать, затараторил: «Мама, смотри, какой маленький дядя! Почему он такой маленький? Мама, он меньше меня! Мама, это дядя? Это дядя? Мама, он такой маленький!» И так без конца.
Но карлик понимающе посмотрел на окружающих – потому что ведь дети есть дети, и пассажиры тоже посмотрели в ответ с пониманием – по той же самой причине. А так как матери и есть матери, то мать, наклонившись к ребенку, прошептала ему на ухо: «Тсс! Так говорить нельзя, мы не говорим такие вещи. Может, ему не нравится быть таким маленьким. Как тебе, например, не понравилось бы ходить с большим прыщом на носу. Поэтому ему наверняка не хочется, чтобы об этом говорили. Давай отнесемся к нему с пониманием и перестанем говорить о том, какой он маленький».
После этих слов ребенок притих, карлик выпрямился на своем сиденье, пальто на его плечах расправилось, а пассажиры закивали матери в знак одобрения за такое своевременное и эффективное вмешательство.
Когда же ребенок и мать доехали до своей остановки и ребенок подергал шнурок колокольчика, а вагоновожатый открыл громко зашипевшие двери – тогда, при выходе из вагона, ребенок остановился возле карлика и громко сказал: «А мне кажется, что ты большой!»
* * *
«Хи-хи-хи…»
«Тишина звенела в ушах девушки: вот уж дела так дела! Она расхаживала взад-вперед по каморке, без конца останавливаясь возле кровати и сокрушенно хлопая себя ладонями по бедрам:
– Ну вот, пожалуйста! Взяла и оскорбила совершенно беспомощного человека! А что дальше будет?
Мари-Софи была даже рада, что бедолага спал или дремал – лежал с закрытыми глазами. Ей казалось, что после такой грубой выходки она не имела права смотреть в эти огромные черные глаза – единственное, что у него осталось, единственное, в чем еще теплилась жизнь. Даже у такой глупой девчонки, как она, хватило ума на то, чтобы оставить эти глаза в покое.
Она попыталась занять себя какой-нибудь работой: раздвинула на фальшивом окне шторы, стряхнула с них пыль, снова задернула, еще раз стряхнула. Переставила по-новой его вещи: сумку – на попа, коробку – рядом с сумкой, сумку – набок, коробку – на сумку. По его вещам было трудно предположить в нем что-то выдающееся. Что это за важная птица такая, чей единственный багаж – замызганная сумка и шляпная картонка?
Было немного смешно, что мужчина таскался повсюду с коробкой явно из-под женской шляпы, но разве сама Мари-Софи не приехала в Кюкенштадт с отцовской мужской рыбацкой сумкой, уместившей весь ее скарб? И странным ей это тогда не казалось. Да и с чего ей вдруг взбрело, что бедолага был какой-то особенный? Наверное, из-за того, что он так на нее смотрел! А также из-за того, что взглядом разбирал ее на части.
От одной лишь мысли об этом она до корней волос залилась краской смущения. И еще эти слова инхаберины… Нет, она не сказала, что он выдающийся, она сказала «важный» и что они скоро придут, чтобы поговорить с ней. Они – это те, кто привел его сюда?
Но инхаберина ничего уточнять не стала: чем меньше знала Мари-Софи, тем для нее же лучше, она должна была лишь поддерживать в нем жизнь в те дни, что он проведет здесь.
Дни? Значит, все уже было решено?
Мари-Софи поправила висящее на крючке полотенце, посмотрелась в зеркало, улыбнулась, склонила голову набок и подперла щеку ладошкой:
– Вот так-то, дорогой мой Карл! Сегодня эту барышню тебе увидеть не придется, она заботится об одном важном бедолаге!»
«Что это за сказки, будто твой отец – какая-то важная персона? Он что, был чем-то особеннее других отцов?»
«Подожди, все прояснится позже».
«Очень надеюсь, а то у меня появились подозрения, что ты приукрашиваешь!»
«Всему свое время, мне нельзя терять нить повествования, не перебивай!»
«Я перебиваю лишь тогда, когда мне нужно пояснение или когда у меня есть замечания! Я же твой лучший критик, ты сам это прекрасно знаешь!»
«Только Мари-Софи собралась присесть на краешек кровати бедолаги, как услышала, что в комнату номер двадцать три кто-то вошел. Подкравшись к двери каморки, она замерла, пытаясь понять, кто бы это мог быть. Услышав голос хозяина и чей-то еще, девушка приоткрыла дверь и выглянула.
– Ах вот ты где! – хозяин виновато посмотрел на двух мужчин, стоявших по бокам от него и вопрошающе взиравших на Мари-Софи. – Н и-когда не помню, где находится вход в это греховное логово!
Мари-Софи и раньше видела этих двоих. Обычно они являлись вечером и распивали кофе в столовом зале. Потом к ним подсаживался хозяин и они разговаривали вполголоса, иногда до поздней ночи или пока он не напивался в стельку и инхаберина не уводила его спать.
– Майя, милочка, не могла бы ты поговорить с этими господами?
У Мари-Софи от удивления поползли вверх брови. Ну и ну! Майя? Милочка? Хозяин никогда не называл ее Майей, никто не называл ее Майей, она сама не хотела, чтобы ее так называли. Он явно был весь на нервах, так что лучше сделать, как он просит.
Представив ее этим двоим, хозяин добавил, что они хотели бы спросить кое-что о госте и что ей нечего бояться – пришелец был здесь по их инициативе. Затем один из мужчин спросил, не говорил ли гость и не совершал ли чего-нибудь такого, о чем, как ей кажется, им нужно было знать.
Мари-Софи добросовестно задумалась, но совершенно ничего не вспомнила! Ничего, как ей казалось, стоящего внимания он во сне не бормотал, а то, что он разбирал ее на части, было не их ума дело.
Нет, ничего такого, о чем стоило бы рассказать.
Тогда они заметили, что, когда вошли в комнату номер двадцать три, то услышали в каморке голоса – как она это объяснит?
Девушка покраснела до самых пят: ну неужели им нужно об этом расспрашивать? Неужели ей придется объяснять, что она говорила сама с собой? Вот стыдоба-то! Но двое напирали, требуя ответа, и она призналась, что болтала сама с собой. А чем ей еще было заняться одной, наедине с этим молчуном? Можно ей сходить к себе наверх за книжкой, чтобы от одиночества совсем умом не тронуться?
Нет, сказали двое, об этом не может быть и речи, и во время сна, и бодрствуя – она должна следить за гостем, а чтение книги может отвлечь ее внимание от важных мелочей в его поведении.
Во время сна? Господа, однако, в требованиях не мелочились! Мари-Софи вдруг подумалось, что они, наверное, и сами не знали, о чем ее просить и чего можно было ожидать от бедолаги, то есть понятия не имели, способно ли это ходячее страдание на какие-нибудь фортели. И она спросила, имеют ли они в виду что-то конкретное, на что ей нужно обратить особое внимание? Что, если он, например, изъясняется языком жестов? Может, ей стоит время от времени заглядывать к нему под одеяло, чтобы разгадать движения его пальцев? И что делать, если ей нужно будет отлучиться в уборную? Как ни крути, она всего лишь живой человек. Что, если в это время произойдет что-то значимое? Мари-Софи представила, как бедолага, подняв кверху указательный палец, носится кругами по каморке – вдоль плинтусов, по стенам, по потолку – и бормочет себе под нос какую-нибудь галиматью.
Двое терпеливо выслушали ее измышления, а когда она упомянула уборную, поручили хозяину обеспечить девушку необходимой ночной посудой для пользования на месте.
На этом они распрощались, а хозяин, воздев к небу руки, послушным псом поплелся вслед за ними.
Захлопнув дверь каморки, Мари-Софи уселась у туалетного столика: дела становились все веселее! Мало того что ей нужно менять подгузник этому распластанному на кровати чужаку – бодрому, как выброшенная на берег медуза, – так она еще должна справлять свою нужду у него на глазах!
Девушка огляделась, высматривая какое-нибудь место, где можно было бы спрятаться с горшком: у стены лежала резная деревянная ширма. Мари-Софи подняла ее, раздвинула и пристроила в ногах кровати, развернув к стене расписную сторону. Там в пруду купались японские женщины, а за ними подглядывали седобородые старики.
– Лучше не давать ему лишних поводов, раз они считают, что он способен на всякое!
Привстав на цыпочки, она могла наблюдать за бедолагой поверх ширмы, а на корточках он был виден ей в щель между створками. Ну вот, теперь можно не бояться, что она проворонит, если он вдруг выскочит из постели, бормоча какую-нибудь абракадабру, или выкинет что-нибудь эпохальное».
6
«Когда героинь – литературных персонажей женского пола – охватывает смятение, они, как правило, подходят к ближайшему окну и смотрят на улицу. Обычно это окно кухни, что является символом угнетенной домохозяйки, или окно гостиной, а это опять же указывает на то, что данная женщина – узница в своем шикарном особняке в лучшей части города.
Пока женщина разглядывает знакомый вид: уныло-серые многоэтажки в первом случае или яркие огни города – во втором, ей в голову приходят мысли, которые поначалу бывают сумбурны и бесцельны и связаны в первую очередь с тем, что удерживает их, женщин, связанных по рукам и ногам, в четырех стенах. Но по мере развития внутреннего монолога ее мысли проясняются. Ей удается установить причинно-следственные связи и поставить, к примеру, знак равенства между богатством своего гардероба и пенисом мужа, который ей по ночам приходится восхвалять прилагательными из мужниного же словарного запаса».
«Ой, ну это бред какой-то!»
«В конце концов понимание своей жалкой участи сгущается в ее сознании, как сгущается менструальная кровь в промежности, пока не прорывается наружу первобытным криком: Я желаю быть свободной! Я желаю знать собственное тело и владеть им сама! Я желаю жить для самой себя и ни для кого другого! Я желаю свободы, чтобы…
Да… и за ее декларацией о свободе следует серия видений, основанных на существительном «желание» и глаголе «желать». Женщина видит себя в ситуациях, которые символизируют стремление к свободе, и эти ситуации столь же разнообразны, как и сами женщины. Уровень образования и зрелости также влияет на эту мечту, на этот Грааль, поиском которого с данного момента женщина и займется.
СВОБОДА!
Разве не любопытно, что угнетенные меньшинства непременно завершают интеллектуальный анализ собственного положения одним и тем же криком: Свобода!»
«Нет, не любопытно! Давай уже рассказывай, что было дальше в гостинице!»
«Мне бы хотелось подчеркнуть, что ты не так хорошо разбираешься в истории сочинительства, чтобы лезть тут со своими возражениями. Я не просто так знакомлю тебя с основами «феминистской» мысли в искусстве рассказа, я делаю это для того, чтобы ты поняла особенность положения Мари-Софи – моей матери – в литературе. Она жила до эпохи «феминизма», и этот факт определяет ее поведение в дальнейшем повествовании!»
«Если ты вообще когда-нибудь доберешься до этого повествования!»
«Я иногда задумываюсь, а не является ли детская наивность тех, кто отправляется в свой поход с целью вернуть себе свободу (заметь, я говорю: вернуть, тем самым полагая, что человек рождается свободным), следствием как раз этого первобытного крика, который, проходя сквозь разум, сердце и далее вниз, вплоть до прямой кишки, очищает их от всех нечистот, от всякой порочности.
И заключается ли сила этих вооруженных мечами недоумков прежде всего в том, что им удается зарубить своего угнетателя прежде, чем он зайдется в последнем припадке хохота – ведь что может быть смешнее идиота, сражающегося за свою жизнь?»
«Умный человек, который позволяет идиоту уморить себя такой вот смертной скукой?»
«Короче, после того как мне указали на эту деталь с женщинами и окнами, я однажды поймал себя на том, что, почувствовав внутреннее беспокойство, тоже направился к ближайшему окну, однако единственное, что пришло мне в голову, это аналогии из «феминистских» книг – да оно и понятно, ведь я не являюсь ни вымышленным персонажем, ни женщиной…»
«А ты в этом уверен?»
* * *
«Мари-Софи, стоя у ложного окна в пасторском тайнике, разговаривала с бедолагой; тот спал, но она решила вести себя так, будто он бодрствует. Она не знала, ощущал ли он сквозь забытье ее присутствие. Если ощущал, то ему наверняка было бы интересней почувствовать, что она подает признаки жизни и ведет себя не как скорбящая у смертного одра женщина, а как веселая, дурашливая девчонка, умеющая подметить в человеческом бытии забавные факты. Может, так ему захочется жить?
Она притворилась, будто смотрит в окно: за стеклом, на натянутом холсте, была изображена поблекшая сценка из жизни Парижа. Художнику удалось впихнуть в нее все, что стесненному обстоятельствами божьему человеку в маленьком городке на севере Германии представлялось «la vie Parisienne». Там была Сена, кокетливые модницы, фонарики на деревьях, либертины с небритыми подбородками, франтоватые денди с тросточками и усами, там под столиками уличных кафе ласкались голуби, а светящиеся вывески приглашали зайти и заглянуть под юбки соседской дочки. На заднем плане твердо вырастал силуэт Эйфелевой башни. Однако Мари-Софи эта убогая мечта не увлекала, нет, девушка смотрела сквозь картину, сквозь стену каморки, сквозь все пространство комнаты, находившейся за стеной каморки, – в щелку меж задернутых гардин…
– И что там видно?
Мари-Софи быстро оглянулась: нет-нет, бедолага ничего не сказал, это она просто подумала вслух.
Итак, что же она там увидела? Она вполне могла рассказать ему об этом, хотя он и спал. Она могла говорить за них обоих. А чем ей еще было заняться? И Мари-Софи приникла к «окну», делая вид, что выглядывает на улицу:
– Ты находишься в Кюкенштадте – небольшом городке на берегу могучей реки. Здесь есть причал для барж, которые переправляют товары в крупный город. Останавливаются у нас немногие, большинство спешит проехать мимо, прямиком к портовому городу, но, тем не менее, и на нашей площади можно частенько наткнуться на каких-нибудь заезжих. Как правило, это путешествующие, та порода людей, что болтается по миру с единственной целью – сравнить то, что попадается на пути, с жизнью на их родине.
Сюда они обычно заворачивают, чтобы поглазеть на алтарный образ в нашей низенькой церкви. Образок этот, размером не больше человеческой ладони, представляет распятие Христа. Помимо того, что образ является самым маленьким в мире (как говорится в туристических библиях – в тех трех строчках, что посвящены городку), ракурс изображения также считается необычным. Крест показан сзади, и единственное, что едва виднеется от Иисуса Христа – это его локти и колени. Тот факт, что художник, о личности которого вряд ли найдутся два одинаковых мнения, не сделал крест малость пошире, чтобы скрыть Спасителя полностью и тем самым избавить себя от бесконечных обвинений в неумении рисовать человека в несокращенном виде, делает нашу икону идеальным объектом для дискуссий.
Постояв перед алтарем и поспорив о достоинствах этой маленькой иконки (разумеется, вполголоса), путники выходят наконец на свежий воздух. Стряхнув с себя благочестие, которое царит даже в маленькой церкви здесь в Кюкенштадте, они подшучивают над встречающим их на площади беспрецедентным произведением искусства – Цыпленком. Разумеется, в местах, откуда они родом, не принято изводить столь дорогой камень на скульптуры столь непримечательных существ. Чаще всего приезжие находят цыпленка настолько комичным, что у них от веселья пересыхает в горле, и они, взмокшие от смеха, появляются здесь у нас, в столовом зале. Потягивая пиво, они подмигивают друг другу и покачивают головами в радостном изумлении оттого, что наконец-то нашли людей с еще более странными обычаями, чем у себя дома.