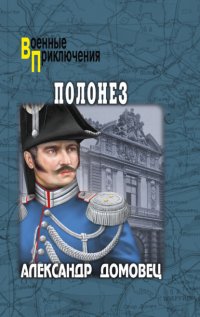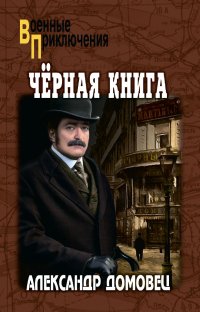Читать онлайн Орлы Наполеона бесплатно
- Все книги автора: Александр Григорьевич Домовец
© Домовец А. Г., 2022
© ООО «Издательство «Вече», 2022
* * *
Пролог (5 мая 1821 года)
После вскрытия тело императора зашили и перенесли в спальню, стараниями слуг превращённую в подобие часовни. Зеркало закрыли чёрным сукном, зажгли свечи и начали читать молитвы.
– In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen[1], – шелестело в могильной тишине комнаты.
Наполеон покоился на постели, облачённый в зеленый егерский мундир, знаменитую треуголку и сапоги для конной прогулки. Грудь наискосок пересекала алая шёлковая лента. У сердца камердинер Маршан, давясь от слёз, прикрепил пятиконечный знак ордена Почётного легиона. Исхудавшее, мучнисто-белое лицо императора было непривычно спокойным. Неукротимый дух, четверть века наводивший ужас на Европу, покинул маленькое коротконогое тело, – навсегда.
У смертного одра столпились вельможи и слуги, составлявшие крохотный двор изгнанника. Шесть лет назад они последовали за павшим императором в ссылку, на остров Святой Елены, – ничтожный, открытый всем ветрам клочок суши, затерявшийся в безбрежии Атлантического океана. Сколь невыносимой оказалась жизнь Наполеона с его свитой в чудовищном климате и жалких условиях! Великодушие к побеждённому врагу джентльменам было неведомо. Животная ненависть английской администрации к императору проявлялась во всём. Изо дня в день его изощрённо мучили демонстративным презрением, унизительными придирками, издевательской строгостью режима. И вот…
В комнате было трудно дышать из-за резкого запаха бальзамической смеси, коей врач Антоммарки промыл тело Наполеона.
– Открой окно, – вполголоса сказал первый камергер Бертран Маршану. – Не видишь разве, графиня де Монтолон задыхается.
И действительно, красавица Альбина де Монтолон дышала с трудом, то и дело вытирая бледное лицо маленьким розовым платком. Маршан покосился в сторону окна.
– Не сто́ит, – сказал он также вполголоса. – Видите, что на дворе творится…
За окном бушевала буря. Ослепительные зигзаги молний кромсали чёрное небо, ветер бешено гнул деревья, и ливень безжалостно избивал крышу виллы крупными каплями. «Как в дурном романе: природа оплакивает павшего героя», – отстранённо подумал граф де Лас-Каз, не отрывая взгляда от застывшего лица Наполеона.
На острове граф был для Бонапарта собеседником, биографом и в каком-то смысле наперсником. Часы напролёт Лас-Каз выслушивал его тезисы о сражениях и войнах, о победах и неудачах, о внутренних делах Франции и мировой политике. Сравнивая себя с Цезарем и Ганнибалом (в свою пользу, разумеется), император при этом не стеснялся говорить о собственных ошибках, ставших причиной головокружительного падения. Он диктовал графу мемуары, в которых рассказывал о себе, оценивал важнейшие события бурной жизни, характеризовал монархов, министров и маршалов, – словом, подводил итоги. И теперь Лас-Каз остался один на один с кипой густо исписанных листов, хранивших дух и мысли ушедшего гения.
Не менее близким к императору человеком был стоявший справа от изголовья граф де Монтолон. Точнее, и сам граф, и его прелестная жена. Злые языки (а какой двор свободен от них, пусть и самый маленький?) утверждали, что Наполеон спит с графиней Альбиной, и это походило на правду, – другой интересной женщины в окружении императора не наблюдалось. Однако Монтолон хранил спокойствие, непристойные намёки игнорировал и сцен жене (а уж тем более императору) не устраивал. Что он при этом думал и чувствовал, оставалось тайной.
Чаще и злее других Монтолона задевал адъютант Наполеона, бравый генерал Гурго. Он вообще над всеми издевался, – уж такой человек. Едким насмешкам подвергались ранняя лысина Бертрана, манерное изящество Монтолона, тщедушие вечно сгорбленного Лас-Каза. А вот императора генерал боготворил. Его собачья преданность и жгучая ревность к другим придворным не знали границ. От прозябания на острове Гурго страдал вдвойне, – за себя и за Наполеона. И теперь, оплакивая повелителя, генерал чувствовал, что сходит с ума от разрывающего грудь чувства утраты. Казалось, вместе с императором он хоронит собственную жизнь. Если бы не документ, который ему передали час назад и чьи строчки плясали перед глазами, впору было бы застрелиться…
Но теперь всё изменилось.
Бертран, погружённый в тяжкие раздумья, с некоторым удивлением увидел, что лицо Гурго неожиданно исказило некое подобие улыбки. Вытянувшись в струну и отдав честь безмолвному императору, затянутый в синий мундир широкоплечий генерал безукоризненно, как на параде, развернулся на каблуках. Расталкивая слуг и придворных, вышел из спальни с высоко поднятой головой.
Бертран обменялся с Монтолоном тревожными взглядами. Кажется, им одновременно пришла одна и та же мысль: как бы этот маниакально влюблённый в Наполеона человек не совершил какую-нибудь глупость. Порывистый, неуравновешенный, раздираемый отчаянием, сейчас он был способен на всё. Мог обагрить гроб императора собственной кровью, пустив пулю в лоб. Мог ринуться сквозь бурю в дом губернатора Святой Елены Хадсона Лоу, чтобы свести счёты с главным ненавистником Наполеона. Да мало ли на что способен страдающий безумец…
Не сговариваясь, Бертран с Монтолоном тихонько покинули спальню.
Они нашли Гурго в пустой, слабо освещённой гостиной. Генерал стоял у окна, прижавшись лбом к стеклу. Казалось, он любуется бушующей на дворе стихией. Подойдя к нему, Бертран положил руку на плечо и спросил участливо:
– Что с тобой, Гурго? Ты плачешь?
– Чёрта с два! – рявкнул тот, не оборачиваясь. – С чего ты взял?
– Мы все оплакиваем императора, – проникновенно пояснил Монтолон, поправляя кружевные манжеты.
– И всё-таки надо держаться, – подхватил Бертран. – Его уже не вернуть, увы…
Гурго резко повернулся к собеседникам.
– Не вернуть, – это правда, – сказал отрывисто. – Но можно…
Он замолчал.
– Что можно? – настороженно спросил Монтолон.
– А ты не догадываешься? – откликнулся генерал.
– Пока нет… Так что же?
– Отомстить! – отрезал Гурго.
Лицо его, освещённое неярким пламенем свечей, излучало силу и непреклонную решимость. Таким его ещё не видели. Монтолон с мимолётным изумлением подумал, что горе в одночасье изменило тщеславного и вздорного Гурго. Сейчас перед ним стоял человек, готовый не только говорить, но и действовать, – жёстко. А если понадобится, то и жестоко. И если это враг, то это очень опасный враг.
– Я не понял тебя, Гурго, – осторожно сказал Бертран. – Что значит – отомстить? Кому и как? Ты вызовешь на дуэль Хадсона Лоу? Или хочешь объявить войну Англии?
В последнем вопросе прозвучала скрытая насмешка. Но Гурго лишь пренебрежительно дёрнул щекой.
– При чём тут Англия? Хотя для тебя, может быть, страшнее зверя нет… Но я, генерал Гурго, – он ткнул себя пальцем в грудь, – проделал вместе с императором весь русский поход. Я взял Смоленск и первым вошёл в Московский Кремль. Я отступал через пол-России и чудом выжил в ту проклятую зиму. Наконец, я спас императора во время переправы через Березину…
– Мы знаем это, – нетерпеливо сказал Бертран. – Но какой следует вывод?
– Вывод простой; мстить надо не Англии. Не Пруссии. Не Австрии. Во всяком случае, не в первую очередь. Не они сломали императора, а Россия. Это она перемолола Великую армию. Она похоронила всё, что было сильного и боеспособного во Франции. Эти чудовищные просторы, варварское население, дикий мороз…
Гурго даже побелел от ненависти. Чувствовалось, что его слова не просто сказаны, – выстраданы. Бертран поморщился.
– Ты преувеличиваешь, – произнёс он. – Россия Россией, но было и Ватерлоо. Главное поражение императора там.
– Гурго прав, – неожиданно сказал Монтолон. – Сохранись Великая армия, не было бы никакого поражения. С кем вышел император? По чести сказать, не войско, а сборище новобранцев. Старой гвардии там и половины не было. Англичане с пруссаками просто завалили её своими тушами, будь они прокляты!..
Гурго кивком поблагодарил графа за поддержку и продолжал, – негромко, с силой:
– Императора уже нет, и дело его погибло. Наше общее дело! Мы все дрались за величие и процветание Франции, чёрт возьми… Но мы можем всё начать сначала, слышите?
– «Мы» – это кто? – хмуро переспросил Бертран после паузы.
– Все, кто воевал под знамёнами императора! – горячо воскликнул Гурго. – Кто в его время разбогател, купил дворянскую или церковную землю, открыл своё дело. Кто получил из его рук награды, чины и звания. Кто протестует против реставрации Бурбонов, которые всё это отнимут. Таких во Франции миллионы. Понимаешь ли ты, Бертран, какая это сила? Она может отомстить за императора и продолжить его дело.
На дворе пронзительно взвизгнул ветер. Его мощный порыв проник в комнату сквозь плотно закрытые окна, и пламя свечей затрепетало. Бертран вздрогнул, – то ли от невольного страха перед разгулом стихии, то ли от страстных слов генерала.
– Сила… – повторил он задумчиво. – Нет, Гурго. Сила не в миллионах – в их сплочённости и единстве. А эти люди разобщены. Пока Францией правил император, нация жила в его кулаке. И нам всё было по плечу. Но Бонапарт умер.
– Зато жива Франция и бонапартисты, – возразил Гурго. – Что касается сплочённости и единства… да, ты прав, Бертран, тут есть над чем подумать. – Помолчал. Прислонившись спиной к стене, добавил спокойно: – Хотя, собственно, всё уже продумано.
Бертран с Монтолоном переглянулись. Положительно, Гурго сегодня их удивлял.
– Мы не понимаем тебя, Гурго, – мягко сказал Монтолон. – Ты говоришь загадками. Отомстить за императора, продолжить его дело… Такими словами не бросаются. Объяснись.
Вместо ответа генерал подошёл к столу и положил на бордовую скатерть сложенные листы бумаги, извлечённые из внутреннего кармана мундира. Раскрыл и тщательно разгладил сгибы.
– Этот документ мне передал час назад Лас-Каз, – произнёс он.
– Что это? – быстро спросил Бертран.
– Это секретное дополнение к завещанию императора. Он продиктовал его за несколько часов до смерти.
– А кому адресовано?
– Трём генералам, последовавшим за ним в ссылку: Бертрану, Монтолону и Гурго. Нам. Там написано. Читайте.
Не присаживаясь, плечом к плечу, затаив дыхание, Бертран и Монтолон принялись читать листы, исписанные ровным красивым почерком Лас-Каза. Гурго терпеливо ждал, зорко наблюдая за реакцией. Она не заставила себя ждать.
– Невероятно! – в смятении сказал Бертран, поднимая голову и растерянно глядя на Гурго. – Как будто услышал его голос…
– В сущности, целый план, – пробормотал Монтолон. Проведя рукой по лицу, добавил с тоской: – Господи, какой великий человек ушёл… Чтобы вот так, умирая в муках, думать о Франции, прозревать сквозь десятилетия…
– Это не просто план, – возразил Гурго, вытирая набежавшие слёзы. – Это военная и политическая стратегия на целые поколения вперёд. Это воля императора.
В комнате повисло молчание. На столе покоился документ, продиктованный и подписанный умирающим Наполеоном. Первым заговорил Бертран – спустя несколько минут. Но бывают минуты, равные годам и меняющие всё.
– Адресовав секретную часть завещания нам троим, император фактически назначил нас его исполнителями и душеприказчиками. Так?
– Разумеется, – подтвердил Монтолон.
– Никто из нас, я полагаю, от этой миссии не откажется?
– И от связанной с ней опасности тоже, – твёрдо сказал Гурго.
– Понимаем ли мы, что отныне вся наша жизнь изменится бесповоротно и будет подчинена великой цели?
– Да!
– Да!
– Хорошо, – тихо сказал Бертран. – Дух императора ещё где-то рядом. Он свидетель, что мы готовы исполнить его волю.
Генералы молча наклонили головы.
– Гурго, – продолжал Бертран, – ты прочитал документ раньше нас и наверняка успел его обдумать. Что скажешь?
К этому вопросу Гурго был готов.
– После смерти императора нас всех в ближайшие дни депортируют во Францию, – медленно заговорил он. – Вернувшись домой, мы через короткое время сможем приступить к реальным действиям. Они будут таковы…
В течение десяти минут Гурго пункт за пунктом уверенно излагал свои предложения, которые успел подспудно обдумать у изголовья Наполеона. Конечно, это было только начало, – однако начало энергичное, сулившее дальнейший успех всему грандиозному начинанию.
– Разумеется, потребуется величайшая осторожность, – закончил Гурго. – К счастью, мерзавца Фуше[2] уже нет. Но и без него полиция Бурбонов чего-нибудь да сто́ит…
– А ведь ты прирождённый штабист, Гурго, – задумчиво сказал Монтолон, когда генерал закончил. – Продумано хорошо и, на мой взгляд, всё выполнимо. Лично я поддерживаю полностью и готов приступить к делу, как только вернёмся во Францию.
– Согласен, – решительно произнёс Бертран. – И для начала давайте решим, что делать с Лас-Казом.
– А что с ним делать? – удивлённо спросил Гурго, переглянувшись с Монтолоном.
– Он записал последнюю волю Наполеона, – пояснил Бертран. – Нужно ли, чтобы о ней знал кто-нибудь, кроме нас троих? Я не кровожаден, однако…
Гурго махнул рукой.
– Он стар, болен и не болтлив, – проворчал, морщась. – А главное, ему ещё предстоит издать мемуары императора. Никто, кроме него, это не сделает… Пусть живёт. На всякий случай я с ним поговорю, чтобы держал язык за зубами.
Монтолон молча кивнул.
– Решили, – резюмировал Бертран. – А теперь давайте вернёмся… к императору. Полагаю, наше отсутствие уже и так заметили.
Гурго поднял руку.
– Да здравствует Наполеон! – негромко и торжественно сказал он, отдавая честь незримому вождю. И Бертран с Монтолоном молча последовали его примеру.
Глядя друг другу в глаза, обменялись рукопожатиями, а потом, повинуясь внезапному порыву, крепко обнялись. Было в этом что-то от безмолвной клятвы.
Сильно щурясь, полуслепой Лас-Каз разглядел входящих в спальню Бертрана, Монтолона и Гурго. Всего за полчаса в этих людях что-то изменилось. Переполнявшая их энергия среди общего уныния и скорби была сейчас особенно заметна. Источник этой энергии граф собственными руками недавно передал Гурго… Выходили каждый по отдельности, а вернулся – триумвират.
Лас-Каз внутренне усмехнулся. В каком-то смысле так оно и есть. Наполеон доверил им исполнение последней воли… увидим, что из этого выйдет. Жаль только, что увидят не все. Император мыслил категориями десятилетий, а он, Лас-Каз, столько не проживёт. Ему бы протянуть ещё года три-четыре, чтобы успеть издать мемуары великого человека…
Граф перевёл взгляд на чеканный профиль императора. Вот и всё. Усталость и разочарование. Вместе с маленьким корсиканцем уходила целая эпоха, вместившая революцию, войны, республику, консулат, империю, – а теперь вот и реставрацию Бурбонов… Значит, всё вернулось на круги своя. И зачем тогда гибли армии, лилась кровь, содрогалась Европа?..
- Прошёл полмира человек
- Сквозь гром побед и боль измены
- И всё-таки закончил век
- В объятиях Святой Елены…
Но если этот триумвират чего-то сто́ит, если сумеет воплотить последнюю волю императора, – что ж, тогда игра ещё не окончена…
Глава первая
Жалел ли Сергей Васильевич Белозёров о том, что полугодом раньше император Александр Третий своим указом назначил его руководить Российской академией художеств?
Странный вопрос, скажете вы. Возглавить в неполные тридцать пять лет академию – это же невероятный успех. Неслыханная удача. Редчайшее везение. Сколь талантлив ни был художник Белозёров, среди его товарищей по искусству хватало мастеров не менее талантливых и более заслуженных. И уж если судьба приберегла козырный туз именно для тебя, живи и радуйся. Ну, и, конечно, наслаждайся положением, с которым связано много хорошего и приятного: огромный присутственный кабинет в здании на Дворцовой набережной, большое жалованье, казённый выезд, распоряжение людьми и деньгами, наконец, почёт и уважение…
В общем, всё прекрасно. Десять лет назад Белозёров – в ту пору поручик Киевского гусарского полка – и после трёх бутылок вина представить не мог, что талант живописца вознесёт его столь высоко.
И всё-таки баловнем судьбы Сергей себя не считал. Были на то веские причины.
И вот первая из них. Заняв должность и разобравшись с делами академии, Сергей с холодком в груди обнаружил, что они порядком запущены. Его предшественник, великий князь Владимир Александрович, отставленный от руководства при самых драматических обстоятельствах, занимался чем угодно, только не вверенным ему заведением. Откровенно говоря, академия в значительной мере работала вхолостую, а немалый бюджет тратился беспорядочно. Первые месяцы работы ушли на то, чтобы разобраться с положением дел, уволить бездельников (штат раздут был безбожно) и упорядочить бюджетные траты.
Несколько собратьев по кисти, образовавшие нечто вроде общественного совета при академии, помогли разработать задуманный Сергеем проект. Речь шла о формировании системы народного художественного образования в России на основе приходских школ и гимназий. Проект был подан в Кабинет министров и ждал своего часа. Следом ушёл ещё один проект – о создании общероссийского союза художников под государственным патронажем. Были и другие планы, обдумывая которые, Сергей надеялся на поддержку назначившего его императора.
Увы, служба в академии занимала время и силы, ранее предназначенные для собственного творчества. За полгода Сергей почти ничего не написал. На этой почве случилась даже финансовая коллизия. Верный агент-импресарио Фалалеев, сколотивший на продаже полотен Сергея состояньице, по сути, оказался не у дел и затосковал. Страшно подумать, насколько тосковал при этом его карман… Чтобы успокоить Фалалеева, Белозёров поклялся, что, как только поставит академию на крыло, так сразу вернётся к творчеству. А пока, суд да дело, назначил энергичного помощника своим секретарём и посадил в приёмную, чтобы всегда был под рукой.
Откровенно говоря, Сергей и сам, оставшись без привычных гонораров, нёс денежные потери. Ну, тут уж одно из двух: или служить, или зарабатывать. Положение смягчалось хорошим жалованьем, солидными сбережениями и пониманием любимой жены Настеньки, – очень ей нравилось быть президентшей.
Третья причина, по которой Сергей в новом качестве чувствовал себя неуютно, была самой мерзкой.
Не успел Белозёров занять важное кресло, как к нему потянулись просители. Принимал всех, да и как не принять своего брата-художника! Просили братья-художники… да много чего просили. Персональные выставки в стенах академии, зарубежные стажировки на год-два за казённый счёт, денежные вспомоществования, протекции для исполнения государственных заказов… Кому-то Сергей помогал, кому-то отказывал, кому-то и рад помочь, да не в его силах.
Надо ли говорить, что вскоре стараниями «отказников» родился и зашелестел в салонах слух о бездушном, зазнавшемся Белозёрове – выскочке и бездарности. Мол, по безоглядной доброте государя занял важную должность и образцово ей не соответствует… И хотя светская репутация Сергея была безупречной, заспинные сплетни его ранили. Порой больно.
Кое-кого из клеветников, как в старые добрые времена, хотелось проучить на дуэли, но положение президента академии такую резкость исключало. Ну, что ж… Дуэльная молодость осталась позади, наступила разумная сильная зрелость. А значит, надо вести себя сдержанно и делать, что до́лжно, стараясь игнорировать нападки и сплетни.
В целом же, если разобраться, жизнь складывалась не просто, но интересно. При всех проблемах большое дело само по себе есть вознаграждение за все труды и переживания. Главное, чтобы получалось. А Сергей чувствовал, что первые шаги сделаны правильно. И если в конечном счёте его стараниями полку́ талантливых российских художников прибудет, – значит, император доверил не зря.
Начало апреля радовало ясной тёплой погодой. Отпустив экипаж, Сергей у входа в академию задержался. При виде искрящейся под солнцем Невы до того вдруг сделалось хорошо, что подниматься на второй этаж в начальственный кабинет расхотелось. Лёгкий ветер баловал запахом речной свежести, на деревьях несмело пробивались первые ярко-зелёные листья, мягко пригревало солнце… благодать.
Как всегда, в минуты душевного подъёма остро захотелось взяться за кисть. Однако вспомнив, сколько сегодня предстоит сделать (приём посетителей, подготовка документов и писем, визит к министру народного просвещения графу Ивану Давыдовичу Делянову), Сергей только вздохнул. Решительно толкнул массивную входную дверь. Ответив на поклон швейцара, поднялся по мраморной лестнице.
В просторной приёмной уже томился Роман Прокофьевич Звездилов – приятный мужчина лет сорока. В руках портфель, бородатый лик благообразен. Живописец. То есть живописцем себя считал он. Сергей думал иначе. За столом сидел Фалалеев. Его круглая физиономия с упитанными, чуть обвисшими щёчками лучилась виною: мол, и рад бы не пустить, да ведь сам велел никому не отказывать в приёме. Сдержанно поздоровавшись, Сергей пригласил Звездилова в кабинет и мимолётно пожалел, что нет возможности поставить у входа в приёмную пару солдат с ружьями… и чтобы штыки были примкнуты… и чтобы фильтровали посетителей, отделяя чистых от нечистых…
В кабинете Звездилов нервно сел на предложенный стул и сразу достал из портфеля сложенную бумагу.
– Вот, Сергей Васильевич, извольте ознакомиться.
– Что это? – спросил Сергей.
– Отзыв околоточного надзирателя из города Выборга.
– Что за отзыв?
– На выставку мою. У меня там выставка прошла, с большим успехом. Сорок пять работ, отборные, одна к одной… Да там всё написано.
Сергей машинально просмотрел бумагу. Околоточный надзиратель Вилюйский благодарил художника Звездилова за доставленное зрительское удовольствие, хвалил за патриотическое содержание картин и выражал надежду, что талант мастера кисти найдёт признание не только в Выборге, но и в столице.
– Ну, допустим, – сказал Сергей, возвращая отзыв. – И что же?
– Ну, как что? – вскинулся Звездилов. – Пора бы мне уж и в академии выставиться. Право слово, пора. А то что ж, – всё по разным околоткам со своими картинами скитаюсь, как Вечный Жид, прости господи. Нехорошо. У меня и пейзажики на загляденье, и родные просторы отражены, и бурёнки крестьянские на картинах доятся. И библейские сюжетцы есть…
– Да что вы? – сказал Сергей, не знавший, что сказать.
– Вот ей-богу! А второго дня натюрмортец сообразил. Глухарь подстреленный, подлец, вышел, как живой! Того и гляди, – крыльями захлопает и с полотна улетит!
– М-да…
– И отзывы хорошие с выставок есть. А вы всё отказываете да отказываете.
Исподлобья посмотрел на Сергея – с обидой и с надеждой.
Ну, что тут поделаешь? Есть люди, которых проще убить, чем втолковать, что они бездарны.
– Ничем не могу помочь, Роман Прокофьевич, – произнёс Сергей со вздохом. – Отзывы, конечно, дело хорошее, и бурёнки тоже. Но в академии выставляются исключительно художники высокопрофессиональные и талантливые. Мастера, понимаете?
Звездилов раздул ноздри и встопорщил бороду. Осведомился вкрадчиво:
– А мне, стало быть, в мастерстве и даровании вы отказываете?
«Да не я! Природа отказала!» – внутренне заорал Белозёров.
– Увы, – решительно произнёс он вслух. – В прошлом году я по вашему настоянию собрал целый консилиум, припоминаете? Все художники-консультанты единодушно постановили, что полотна ваши слабы, и уровень их сугубо любительский. Топорный мазок, искажённые пропорции, неестественный колорит. Со своей стороны, я с такой оценкой согласен. И давайте на этом закончим, Роман Прокофьевич. Не мучьте ни себя, ни меня.
Но оказалось, что Звездилов помучиться ещё готов. А заодно не пощадить и Белозёрова.
Не успел Сергей глазом моргнуть, как бледный живописец соскользнул со стула прямо на колени и проворно пополз вокруг стола, держа курс на хозяина кабинета.
– Да вы рехнулись! Встаньте немедленно! – крикнул Сергей, вскакивая на ноги.
– Отец родной! Не погуби дарование! Не дай таланту увянуть бесплодно! – вещал Звездилов, норовя обнять колени Белозёрова.
Ах, как славно было бы дать в ухо! От души, по-гусарски… Сергей схватил Звездилова за шиворот и одним рывком поднял с пола. Оказались они лицом к лицу.
– Ноги буду мыть и воду пить!.. – пообещал Звездилов, заглядывая в глаза Белозёрову.
– Прекратите балаган! – потребовал Сергей, встряхивая визави. Шрам, пересекавший правую щёку (память о гатчинском деле – на всю жизнь), гневно побелел.
– Дозвольте выставиться!
– В академии не дозволю. У вас, говорят, имение под Санкт-Петербургом, – у себя в усадьбе и выставляйтесь.
– Да там и зрителей почти нет…
– Чем меньше, тем лучше!..
Сказано было грубо, наотмашь. Однако на политес уж никаких сил не осталось.
Кажется, последняя реплика Звездилова несколько отрезвила. Отступив на шаг, он перевёл дух и вытер лицо.
– Вот, значит, как, – произнёс угрожающе, задрав бороду. – Говорили мне, что в академии шагу не ступишь, – об завистника споткнёшься. А я, простодушный, и не верил… Ночей не досыпаю, рисую, как проклятый, а тут… а вы… – Оскалился. Почистил колени. – Ну, ничего. Не я первый, не я последний. Рафаэля тоже враги хулили, но всё же пробился, да-с. А вам, господин Белозёров, за удушение русского таланта божьего суда не избежать, так и знайте!
Видимо, под русским талантом Звездилов подразумевал себя.
– Ступайте, господин Звездилов, ступайте, – еле сдерживаясь, попросил Сергей.
Всякое в жизни случалось, но душителем русских талантов ещё не величали и божью кару не сулили.
Шипя в бороду что-то невнятное, Звездилов дрожащими руками засунул в портфель отзыв околоточного надзирателя. Не прощаясь, пошёл к выходу. На пороге вдруг обернулся и негромко произнёс:
– Чтоб тебе в Париже с твоей выставкой в калошу сесть! – (Другое выражение употребил – хуже и крепче.) И уж совсем тихо и яростно добавил: – Ненавижу…
Ахнул дверью.
Сергей мрачно смотрел вслед. Было противно и… жалко. Но больше противно. Очень ему не понравился прощальный взгляд Звездилова. Горело в глазах живописца безумное желание мести. Проклял взглядом-то. И Париж не постеснялся приплести, мерзавец…
В просторном кабинете с задёрнутыми шторами, под уютный треск поленьев в большом камине, неторопливо беседовали двое хорошо одетых мужчин, один из которых, постарше, вопросы задавал, а второй на них отвечал. Оба сидели в глубоких креслах. Рядом расположился столик с коньяком и фруктами. Безобидный диалог собеседников на самом деле имел скрытый смысл, понятный лишь им двоим.
– Так что же, вы полагаете, что господин Белозёров именно тот человек, который нам нужен?
– Уверен, что да.
– Обоснуйте.
– Это очень интересная личность. Я бы сказал, незаурядная. Безусловно, известная, и, что важнее всего, пользуется расположением императора.
– Из чего это следует?
– Два года назад Александр доверил Белозёрову написать собственный портрет и остался работой весьма доволен. Вероятно, именно поэтому минувшей осенью Белозёров был назначен президентом Российской академии художеств.
– Сколько же ему лет?
– Тридцать четыре.
– И в эти годы он уже президент академии?
– Точно так. Я же говорю, что без благоволения императора это было бы невозможно. Разумеется, Белозёров талантливый художник, известный портретист и так далее. Но главное, – протекция Александра.
– Что ещё о нём известно?
– Честен, храбр, прямодушен. В обществе уважаем. Любящий муж и отец трёх сыновей. В молодости окончил военное училище, после чего некоторое время служил в гусарском полку в чине поручика. В отставку вышел рано и всецело занялся живописью. Прошёл двухлетнюю стажировку в Италии от академии художеств. По возвращении домой быстро выдвинулся в число ведущих российских мастеров.
– Постойте… Учёба в Италии, говорите?
– Именно так.
– Но ведь, насколько известно, от академии там стажируются считаные люди. Это серьёзная привилегия, кстати, довольно обременительная для казны.
– Думаю, что да.
– Каким же образом отставной поручик, ничем себя ещё не проявивший, удостоился такой чести?
– Вероятно, своим несомненным талантом.
– Талантливых людей немало, а казённых денег на всех не хватает. Опять-таки, назначение президентом… Действительно, можно с уверенностью предположить личную протекцию императора. А значит, некие особые отношения между Белозёровым и Александром. Чертовски интересно. Знать бы, на чём они основаны, кроме таланта художника.
– Я тоже об этом думал. В смысле, об особых отношениях. И мне кажется, что это обстоятельство делает кандидатуру Белозёрова для нас ещё интереснее.
Младший из собеседников поднялся, разлил коньяк и протянул рюмку старшему.
– Благодарю.
Старший задумчиво поднёс рюмку к выцветшим, морщинистым губам, вдохнул благородный аромат. Сказал мечтательно:
– Божественный напиток! Нырнуть бы в глубь веков, найти того винодела, кто его придумал, и обнять…
– Так что с Белозёровым? – напомнил младший.
Старший выдержал паузу.
– Убедили, – твёрдо сказал наконец. – Его кандидатуру я поддержу. И за это можно выпить.
Отхлебнув, поставил рюмку на столик и наклонился к молодому собеседнику. Обронил:
– Действуйте.
Глава вторая
Пожелав Сергею провала его парижской выставки, Звездилов ткнул в больное место. Не будем скрывать: Белозёров (признанный мастер!) сейчас волновался, словно новобранец перед первым сражением. Его полотна, созданные в традициях классической живописи, – как примет их Париж, переживающий страстное увлечение новыми веяниями?
Импрессионисты смело экспериментировали и с формой, и с цветом. Размытые очертания фигур и предметов, грубый мазок, эксцентричный колорит… нет, до таких высот Сергею было далеко. Да он к ним и не стремился. Ренуару и Моне он предпочитал Тициана и Боттичелли. Для себя он раз и навсегда выбрал традиционную манеру. Хотя и признавал безусловное право художника на собственный стиль.
Самое интересное, что ещё месяц назад о выставке своих работ в Париже он и не думал. Всё изменило неожиданное приглашение к Победоносцеву.
Их связывало многое…
Обер-прокурор Святейшего синода и член Кабинета министров Российской империи Константин Петрович Победоносцев справедливо считался ближайшим сподвижником императора. Именно он много лет назад привлёк отставного гусарского поручика Белозёрова к расследованию страшных событий в Гатчине, которые завершились попыткой цареубийства. Предотвратив его, Сергей был тяжело ранен и выжил чудом.
Потом Победоносцев вновь попросил Сергея о помощи. Возникло подозрение, что катастрофа царского поезда возле станции Борки, вопреки официальной версии о технических неполадках, была вызвано взрывом английской бомбы, которую заложил русский народоволец-террорист. Сергей включился в расследование и сумел сорвать второе покушение на Александра. Британская разведка планировала взорвать царскую яхту в Балтийском море, – и ведь почти удалось…
Бог, как известно, троицу любит. Спустя год после «английского дела» волей судьбы Сергею довелось выручить императора вновь. Рискуя головой, он раскрыл подготовку государственного переворота, в результате которого Александр должен был лишиться трона и, возможно, жизни. После этого трижды спасённый император назвал Белозёрова своим талисманом[3].
Невероятные события, героем которых с подачи Константина Петровича стал Сергей, связали его с обер-прокурором дружбой, – насколько вообще можно говорить о дружбе между первым сановником империи и художником. Именно Победоносцеву Сергей был обязан своей карьерой. Заметив талант отставного гусара, Константин Петрович настоял, чтобы его отправили учиться живописи в Италию. Одновременно благодарный Александр щедро вознаградил Белозёрова за своё спасение. Сергей смог жениться на любимой девушке, стал популярным художником… а теперь вот и президентом академии… – словом, жизнь складывалась на зависть многим, и, если разобраться, сегодняшний успех уходил корнями в первую, уже давнюю встречу с Победоносцевым перед гатчинским расследованием. Правда, успех этот был сполна оплачен смертельным риском и собственной кровью…
Но не суть.
С Победоносцевым встретились в необъятном обер-прокурорском кабинете синодального дворца на Сенатской площади. Потчуя чаем и благожелательно поглядывая из-под очков в тонкой железной оправе, Константин Петрович расспрашивал Белозёрова о семье, о делах в академии, о творческих планах. И чем дольше расспрашивал, тем больше Сергей недоумевал. Победоносцев – человек сверхзанятой и просто так, на чаёк, в гости звать не будет. Стало быть, в этот мартовский день речь пойдёт о каком-то деле. Чем же он, Белозёров, может быть полезен на сей раз? Цареубийц вроде бы уже всех истребили…
– А что, Сергей Васильевич, как вы относитесь к Франции? – неожиданно спросил Победоносцев, остро взглянув на гостя.
Вот те на! А какая, собственно, разница, как он относится к Франции? Ещё спросил бы, нравится ли ему Эфиопия.
– Нормально отношусь, – коротко ответил Сергей, пожимая плечами.
Можно было бы, конечно, рассказать, как в молодости зачитывался книгой про трёх мушкетёров сочинителя Дюма и с тех пор заочно влюбился в Париж. Но можно было бы рассказать и другое: отец Сергея, майор артиллерии, был тяжело ранен, обороняя в Крымскую войну Севастополь, осаждённый французскими батальонами… Так что насчёт отношения в двух словах и не скажешь.
– А за международной политикой следите? – продолжал расспрашивать Победоносцев.
– Ну, так, в общих чертах…
– Ясно. Тогда слушайте.
Международную ситуацию Победоносцев изложил сжато и просто.
В Европе запахло порохом. Германия вновь готовится напасть на Францию, не добитую во Франко-прусской войне двадцатилетней давности. Крупнейшие европейские державы, Италия и Австро-Венгрия, образовали вместе с Германией тройственный союз, Великобритания держит нейтралитет, фактически выгодный тевтонам. Франция же, развиваясь экономически, в военном отношении сегодня слаба. В поисках союзника и гаранта своей безопасности она обращает взгляд на Россию.
– Нам, в свою очередь, союз с Францией нужен, – неторопливо говорил Победоносцев, протирая очки бархатной тряпочкой. – Не буду говорить о политических выгодах, это тема долгая. Скажу об экономике. Французские банки трещат от денег, а нам их остро не хватает. Например, для строительства Транссибирской магистрали требуются многомиллионные вложения, но внутри страны свободных денег в таком объёме нет. Та же самая причина сдерживает развитие военно-морского флота и других отраслей.
– А Франция, значит…
– Совершенно верно. В обмен на заключение союзнического договора она готова предоставить нам крупные займы. Собственно, первые кредиты мы получили ещё четыре года назад, но это лишь начало. Сегодня обе державы готовы идти дальше и скрепить отношения документально.
– Сложно будет, Константин Петрович, – заметил Сергей, с интересом слушавший Победоносцева.
– Почему вы так решили?
– Да ведь Франция республика, а Россия монархия. Поддержит ли народ и общество такой союз, – это вопрос. Поди объясни каждому про выгоды и кредиты. Я уж молчу, что у нас Крымскую войну ещё не забыли. (Победоносцев медленно, словно нехотя кивнул.) А французы? Думаете, не помнят, как мы Наполеона расчихвостили и Париж взяли? Сомневаюсь я… Ну, как такое друг другу простить? На это века нужны.
Узкие губы Победоносцева тронула улыбка, хотя глаза оставались вполне серьёзными.
– Всё верно, Сергей Васильевич. И всё непросто. И если при всех обстоятельствах государь готов заключить с Францией договор, то лишь в силу крайней необходимости. Случись война, мы будем не одиноки, как в Крымскую кампанию. Я уже не говорю про экономическую пользу от будущего союза… Но!
Обер-прокурор подался вперёд, сухие тонкие пальцы сильно сжали ручку кресла.
– Именно для того, чтобы не дразнить общественное мнение обеих стран, договор готовится в полной тайне. И в дальнейшем афишированию не подлежит. На этом настаивает государь, с этим согласен и французский президент Карно. А уж военная конвенция, прилагаемая к договору… Уровень её секретности беспрецедентен. Император предупредил правительство Франции, что в случае разглашения тайны союз будет расторгнут.
– Даже так?
– Именно так, – отрезал Победоносцев.
Сергей ощутил неловкость. С государственной тайной он соприкасался не раз. (Собственно, все покушения на Александра, предотвращённые им, и были государственной тайной высшего уровня.) И всякий раз Белозёров вспоминал народную мудрость: меньше знаешь – крепче спишь… Зачем сейчас Победоносцев рассказывает ему о будущем франко-русском договоре с военной конвенцией в придачу?
Наверно, этот вопрос был написан на лице, потому что обер-прокурор, усмехнувшись, произнёс:
– Бьюсь об какой угодно заклад, Сергей Васильевич, что привёл вас в недоумение. Зачем вам международная политика? К чему я вообще затеял этот разговор?
– Теряюсь в догадках, – сдержанно сказал Сергей.
– Это было необходимое предисловие. Для понимания общей ситуации… А теперь о деле. – Выдержал паузу. – Сближению экономическому и военному должно сопутствовать сближение культурное, духовное. Вот вы нам его и обеспечите.
– Кто, я?!
– Вы, вы.
Белозёров внимательно посмотрел на обер-прокурора. Вроде не шутит. Лицо спокойное, взгляд невозмутимый… Впрочем, шутником Победоносцев никогда не был, – не тот человек, не то положение.
– Каким же образом я могу сблизить Россию и Францию? – спросил Сергей осторожно.
– Своим искусством, конечно, – ответил Победоносцев не раздумывая. – Кстати, имейте в виду, инициатива нашего разговора принадлежит государю. (Перевёл взгляд на большой портрет императора, висевший на стене.) Он считает, что эта миссия вам по плечу. Со своей стороны, я считаю точно так же.
Собственно, идея Александра была проста.
Он полагал необходимым наладить культурный обмен между Россией и Францией – как необходимый элемент нарождающихся союзнических отношений. Первым шагом должен был стать визит президента Российской академии художеств во Французскую академию изящных искусств с выставкой своих работ. Представить парижской публике русскую живопись, мало известную в Европе, на примере своего личного творчества – такова была задача Сергея. Так решил император.
– С французской стороной вопрос в принципе согласован, – подытожил обер-прокурор. – Вас ждут в середине апреля. На сборы и подготовку выставки есть пять недель. Управитесь?
– Да я-то управлюсь, но…
– Говорите, говорите.
– Неожиданно как-то всё. И потом, не лучше ли организовать общую выставку? Чтобы не только мои работы, но и Саврасова, Коровина, Поленова, Шишкина? Врубель, опять же, чертовски интересно пишет… И вообще, мало ли талантливых мастеров!
Победоносцев отрицательно качнул головой.
– Предложение насчёт общей выставки хорошее, – даст бог, доживём и до неё. Но государь хочет, чтобы первой ласточкой стала именно ваша экспозиция. И не надо думать, что причиной тому лишь его симпатия к вам. Эмоции здесь вообще ни при чём. А вот вкус у него отменный, и в живописи разбирается. При этом ваш талант ценит высоко. Так что собирайтесь, Сергей Васильевич, собирайтесь. – Словно подводя черту разговору, обер-прокурор поднялся и посмотрел на Белозёрова сверху вниз. – Считайте, что поручение государственное и чрезвычайно ответственное.
Такие дела…
Прямо от Победоносцева Белозёров поехал в Министерство иностранных дел. Именно оно занималось организацией поездки и выставки. Сергея принял начальник европейского департамента Неделин, с которым они и оговорили все детали, – что и как. В качестве переводчика и помощника Белозёрова должен был сопровождать молодой сотрудник министерства Долгов. Сергей тут же решил, что с ним поедет его личный секретарь Фалалеев. Неделин не возражал. Он вообще со всем соглашался, зная, чей волей художник Белозёров направлен в Париж. И лишь когда Сергей высказал своё главное пожелание, чиновник замялся. В первоначальную диспозицию, согласованную с французами, пожелание никак не вписывалось.
После разговора с обер-прокурором, немного придя в себя от предложенной чести (правда, сопряжённой с немалой ответственностью), Сергей решил, что сам бог велел совместить приятное с полезным. Когда он ещё попадёт во Францию? А с юности, после «Трёх мушкетёров», мечталось побывать в средневековом французском замке, побродить по его залам и коридорам, запечатлеть мрачное величие феодальной цитадели, хранящей память о кровопролитных сражениях, храбрых воинах и прекрасных дамах…
Разумеется, всю эту лирику он оставил при себе. А Неделину сказал, что после открытия выставки хотел бы задержаться во Франции на две-три недели – съездить в какую-нибудь из провинций на этюды.
– Придётся сроки согласовывать заново, – сказал чиновник, озабоченно поглаживая холёную бородку. – Французы-то вряд ли откажут, но для дипломатического запроса время потребуется, потребуется… А какая провинция? Что вы хотите рисовать?
– Провинция любая, на их выбор. Важно, чтобы на местности был феодальный замок, деревушка живописная, ну, и природа красивая. Всё это напишу, а потом добавлю виды Парижа, и сложится французский цикл, – внушительно объяснил Сергей.
С уважением посмотрев на художника, Неделин обещал провинцию устроить.
А назавтра Сергею протелефонировал генерал Ефимов и позвал встретиться в ресторане Серебрякова на Адмиралтейской улице. Встречались они там не раз, – ресторан был малоприметный и тихий, а кормили хорошо. В отдельном кабинете ничто не мешало приватному разговору.
Товарищ начальника отдельного корпуса жандармов Виктор Михайлович Ефимов вместе с Белозёровым расследовал «английское дело», а затем и попытку государственного переворота. Серьёзный был человек (что, впрочем, вытекало из его звания и должности), но главное, – с умом и душой. Сергей Ефимову симпатизировал, встречался охотно, даром что был тот на добрый десяток лет старше. В свою очередь, Виктор Михайлович высоко ценил дедуктивные способности Белозёрова и не раз приглашал на службу, обещая хорошую должность и достойное жалованье. Шутил, конечно. А может, и не шутил. Человек, сорвавший три покушения на императора, дорогого сто́ит. Его бы к себе поближе…
В кабинете официант проворно украсил белую скатерть закусками и графинчиком.
– Во Францию собрались, Сергей Васильевич? Да ещё с выставкой? – как бы между прочим осведомился Ефимов, разливая коньяк. Однако, судя по жёсткому прищуру маленьких глаз под редкими светлыми бровями, вопрос был не случайный.
Сергей хмыкнул.
– Скорее уж меня собрали…
Озадачил Виктор Михайлович. Каким боком выставка заинтересовала российскую разведку, коей ведал Ефимов?
– Знаю, знаю, так решил император. Константин Петрович всё пояснил. – Генерал поднял рюмку с янтарным напитком. – Ну, за ваш успех!
Выпив, закусили: Сергей белорыбицей, Ефимов бужениной. Говорят, правда, что коньяк надо закусывать лимоном или фруктами, – ну, да это гурманские предрассудки. Чем организм подсказал, тем и закусывай.
– Насчёт поездки я, собственно, и хотел с вами поговорить, – сообщил Ефимов, вытирая салфеткой рот.
– А что с ней не так?
– С ней всё так. Дело государственное. А вот во Франции прошу постоянно быть настороже. – Пристально посмотрел на Сергея. – Отнеситесь к этому серьёзно. Надо быть готовым к любой неожиданности.
– Загадками говорите, Виктор Михайлович.
– Да уж какие тут загадки…
Внимательно слушая генерала, Сергей с каждой минутой мрачнел – его представления о французах и Франции оказались не слишком достоверны. Чтобы не сказать, далеки от реальности.
В ту пору наш соотечественник ехал в Париж с душой нараспашку. Уверен был, что если русские любят Францию, то и французы любят Россию. Теперь же, во время сближения стран, профранцузские симпатии в обществе усилились многократно. Увлечение галльской культурой и языком стало повсеместным.
А вот французы открывать нам свои объятья отнюдь не спешили. Россия интересовала их лишь как защитник от возможного нападения Германии и плательщик процентов по русским государственным займам, сделанным во Франции. Российские газеты взахлёб писали о сердечном союзе двух наций – и напрасно. Обычный средний француз (а такие, понятно, составляли в народе большинство) считал русских мужичьём, варварами, дикарями. О России говорили так: «Дрянь страна»…
Тут Сергей не выдержал – перебил.
– Прямо так и говорят? Что-то уж очень мрачная картина у вас получается, Виктор Михайлович. Не обижайтесь, но сдаётся мне, – с перебором.
– Никакого перебора, – твёрдо сказал Ефимов и даже пристукнул кулаком по столу. – Сведения достоверные – из посольских сообщений, из донесений наших… гм… служб. Из года в год получаем. И путешественники после возвращения много чего рассказывают. – Положил в рот кусок расстегая, прожевал. Потянулся к графинчику. – Но это ещё так, присказка.
– Интересно… А что же тогда сказка?
Генерал выдержал паузу.
– Бонапартисты, – сказал, как гвоздь вколотил.
По сведениям разведки, во Франции существовала обширная прослойка людей, которые ненавидели Россию и русских по идейным, так сказать, соображениям. Бонапартистов по головам никто не считал, но очевидно, что было их немало. Культ Наполеона, возникший шестьдесят лет назад, никуда не делся и с годами не ослаб. Его приверженцы крепко помнили, что солнце императора закатилось именно в далёкой России, перемоловшей великую армию. Всё русское бонапартисты встречали в штыки, а сближение со страной-обидчицей считали оскорблением и предательством национальной памяти.
– Теперь представьте, что в Париже открылась ваша выставка, – неторопливо продолжал Ефимов, закуривая длинную папиросу «Дукат». – С учётом ситуации – это событие не только художественно-культурное, но и политическое. Как отреагируют бонапартисты? Вполне можно предположить, что попытаются её сорвать, причём каким-нибудь подлым образом.
– Это каким же, к примеру?
– Варианты разные. Например, на открытие придёт десяток-другой молодчиков. С виду приличные люди, в сюртуках, а под сюртуками ножи. И по сигналу вожака кинутся резать полотна. Или начнут обливать картины чёрной краской. Ну, место проведения, сиречь Академию изящных искусств, жечь или взрывать, скорее всего, не станут, – всё же национальное достояние…
– И на том спасибо, – буркнул Сергей, которому расклады Ефимова очень не понравились. – Ну, и чего они этим добьются?
– Как это, – «чего»? Во-первых, плюнут в Россию. Для них сейчас это особенно важно. Будущий договор держится в строгом секрете, но общее сближение стран ведь не скроешь. Для бонапартистов оно, как серпом по причинному месту. Гадить будут, где смогут. – Ефимов отодвинул пустую тарелку и откинулся на спинку стула. – А во-вторых, им важно себя показать. В нашем посольстве полагают, что в ближайшее время бонапартисты наконец сорганизуются в некую партию, которая пойдёт на следующие выборы с оч-чень хорошими шансами победить. Не дай бог, конечно… Тогда Францию потеряем. Этим господам проще с немцами и австрийцами договориться, чем с нами дело иметь… Так-то, Сергей Васильевич.
Сергей мрачно крутил в пальцах спичечный коробок. С почётной и престижной культурной миссией оказалось всё не так просто. Ну, ещё одна выставка (пусть даже зарубежная), – сколько их уже было и сколько ещё будет! Но вот эти политические осложнения, чреватые угрозой его полотнам… И как себя вести в случае инцидента? Начистить рыло бонапартистской шпане – дело нехитрое, но не аукнется ли это дипломатическим скандалом? И к лицу ли такие резкие действия президенту академии? Чёрт знает, что такое…
– Не обрадовали, Виктор Михайлович, – откровенно сказал Сергей, наполняя рюмки. – Я себе поездку представлял как-то по-другому. Не привык я за собственные картины дрожать. Не за себя, заметьте, – за картины… Константин Петрович ни о чём подобном не говорил.
Ефимов слегка улыбнулся и тут же посерьёзнел.
– Ну, Константину Петровичу вдаваться в оперативные детали не по рангу, – веско заметил он. – Обер-прокурор мыслит государственными категориями. А моё дело сугубо практическое – предвидеть нежелательные последствия событий и, по мере возможности, предотвращать…
– Ну, и как думаете предотвращать в нашем случае?
Поднявшись, Ефимов сильно потянулся, однако, засиделись. Тёмно-серый пиджак, ладно облегавший коренастое, крепкое тело, угрожающе затрещал. Сергей вдруг подумал, что за годы общения с генералом ни разу не видел его в мундире. Штатские костюмы-тройки, и всё. Служба такая…
– Ну, подробности я раскрывать не буду, они вам ни к чему, – обронил Ефимов. – Скажу только, что мы сейчас довольно тесно сотрудничаем с их спецслужбой Сюрте. По поводу вашей выставки был у нас обмен мнениями. Французы тоже понимают возможный риск и обещают предпринять все необходимые меры безопасности. Посмотрим…
В голосе генерала прозвучал некоторый скепсис, Сергеем замеченный.
– Думаете, не справятся?
– Да не то чтобы не справятся… Организация вполне серьёзная, – задумчиво произнёс Ефимов. – В другом дело. – Снова сел и наклонился к Сергею. – О мере влияния бонапартистов мы можем только гадать. По некоторым сведениям, они есть во многих министерствах и ведомствах. И сами, и симпатизанты их… Чиста ли от них Сюрте женераль? И как себя поведёт в критической ситуации, буде таковая случится?
В кабинет с деликатным стуком заглянул официант.
– Угодно ли что-нибудь ещё, господа? – спросил, глянув на оскудевший стол.
– Спасибо, любезный, уже ничего, – сказал Сергей, доставая бумажник и жестом останавливая генерала, потянувшегося в карман с той же целью. – Ты нам счёт принеси.
Дождавшись, пока за официантом закроется дверь, Ефимов повернулся к Сергею. Произнёс тяжело, отрывисто:
– Вы же понимаете, Сергей Васильевич, – я вас не пугаю. Да вы и не из пугливых. Просто хочу, чтобы у вас никаких иллюзий насчёт la belle France[4] не было. – Сжал увесистый кулак. – Ну, не любят нас там. И уважения к русским варварам нет. Если бы не крайний страх перед Германией, ни о каком сближении, тем более, союзе и речи не было бы. А значит, готовым надо быть ко всему. По-хорошему, к вам бы роту приставить, да ведь нереально…
Невесёлый тон Ефимова производил впечатление. Сергей попытался разрядить разговор.
– Ну, полно, полно, Виктор Михайлович. Со стороны послушать, так вы меня в Новую Гвинею провожаете, к папуасам. При всех нюансах, Франция – страна цивилизованная, высококультурная. Возьмите Лувр, Триумфальную арку, Эйфелеву башню…
– Ой ли? – саркастически откликнулся Ефимов. – Гильотина и зверство санкюлотов[5], по-вашему, верх цивилизации? А Москву в восемьсот двенадцатом разграбили и сожгли по сугубо культурным соображениям? Нет, Сергей Васильевич! Лувр и Эйфелева башня ещё не весь свет в окошке. Культура нации определяется много чем, а не только уровнем живописи, театра или техники… – Помолчав, добавил невесело: – В каком-то смысле уж лучше к папуасам. Они люди незамысловатые. Если и съедят, то попросту, без всякой политики, из гастрономических побуждений…
Время до отъезда пролетело стрелой.
Формирование выставки – дело хлопотливое. Для показа Сергей отобрал тридцать своих работ. Часть из них были в его собственности, другие на время позаимствовал – где под честное слово, где под расписку, – из частных коллекций или музеев. Основу экспозиции составляли портреты, были также итальянские и русские пейзажи, виды Санкт-Петербурга и Гатчины.
Уже в который раз Белозёров убеждался в энергии и предприимчивости Фалалеева, взявшего на себя все организационные хлопоты. Вот уж воистину: не было бы счастья, да несчастье помогло… В своё время Фалалеев работал импресарио у знаменитого французского ясновидца мсье Дюваля, страшно погибшего в ходе расследования «гатчинского дела». Оставшись без хозяина и благодетеля, малый вусмерть затосковал, да чуть и не спился. Белозёров буквально за волосы вытащил его из пьяного болота и сделал своим помощником. Человек честный и опытный, Фалалеев успешно продавал полотна Сергея, безукоризненно организовывал выставки, вёл финансовые дела художника. В общем, правая рука и половинка левой впридачу…
Настенька, узнав о поездке мужа во Францию, возликовала и запросилась вместе с ним. Очень ей хотелось в Париж – великий город, чьи модные и парфюмерные магазины знамениты на весь мир. Сергей и рад бы, тем более что участие супруги в официальном визите протоколу вполне соответствует. Но тут, как на грех, разболелась Авдотья Семёновна, двоюродная Настина бабушка, жившая вместе с Белозёровыми. И получилось, что не на кого оставить детей – Сашеньку, Костика и, главное, двухлетнего Петрушу.
– Езжай один, – со вздохом сказала Настенька. – Не до Парижа мне теперь. И дети, и бабушка…
– А давай осенью просто так съездим, без всякой выставки, – предложил Сергей, сам огорчённый.
– Хорошо бы… И смотри мне, гусар, веди себя там прилично.
С этими словами Настенька строго посмотрела на мужа снизу вверх и погрозила кулачком. Кулачок сей был мигом перехвачен и расцелован.
– Вы, собственно, о чём, госпожа президентша?
– Да уж известно о чём, яхонтовый мой. Парижские кокотки, кафешантаны и прочие соблазны нехорошие. Наслышана, а как же…
– Да ни в жизнь, – страшным голосом заверил Сергей. – Где уж мне, подкаблучнику? Я существо кроткое, безответное.
Статный, широкоплечий, с лихим пшеничным чубом и пышными усами вразлёт, Белозёров подкаблучника вовсе не напоминал – и всё-таки чуточку был им. В том смысле, что влюбился в будущую жену с её чистой хрупкой красотой и родниковой душою однажды и навсегда. Соблазнов у бывшего гусара хватало, таково уж мужское бытие, однако Сергей ни разу не позволил себе разменять чувство к Настеньке на интрижки.
А Настенька, в свою очередь, безоговорочно верила Сергею во всём. Хотя… ну, как не ревновать сильного, талантливого и восхитительно синеглазого мужа? Она и ревновала – про себя. Ревновала и верила. Верила и ревновала.
Обсуждать поездку они продолжили в спальне. Разговаривали до тех пор, пока стало не до разговоров…
А может, и к лучшему, что Настенька не поедет с ним во Францию? Уж очень тяжёлое впечатление оставил разговор с Ефимовым.
Сергей вспомнил рассказ камергера Лаврентьева, чей портрет написал год назад. Незадолго до этого Лаврентьев побывал в Париже, проехал в Бордо и Марсель, дегустировал коньяк в Коньяке и пил шампанское в Шампани, – словом, совершил обстоятельный вояж. Увы, говорил он, в сущности, о том же, что и Ефимов. Франция прекрасна, кто спорит? Но чувствовалось, что французы относятся к русским свысока, даром что в магазинах и гостиницах с удовольствием берут их деньги. Несколько раз, по словам Лаврентьева, довелось столкнуться и с откровенной враждебностью…
Впрочем, по мере приближения поездки настроение повышалось. За день до отъезда Сергей подумал, что Ефимов всё-таки краски сгущает. А уже на вокзале, садясь в спальное купе, решил, что не так страшен чёрт, как его малюют.
Прямой поезд до Парижа, хотя и анонсированный властями, пока не существовал. Ехать предстояло экспрессом «Санкт-Петербург – Варшава», а уже оттуда, другим экспрессом, в столицу Франции. Путешествие обещало быть комфортным. С учётом особой миссии Белозёрова Министерство путей сообщения выделило отдельный прицепной вагон. Три купе занимали Сергей, Фалалеев и сопровождающий чиновник Долгов, а в остальных со всеми необходимыми предосторожностями поместили картины в ящиках.
Поезд тронулся. Высунувшись из окна, Сергей помахал оставшимся на перроне Настеньке с детьми, и, как всегда при расставании, сердце прихватила лёгкая грусть. Тут очень вовремя в купе заглянул бодрый Фалалеев.
– А что, Сергей Васильевич, не махнуть ли нам по маленькой? За благополучную поездку, а? – деловито осведомился он, потирая пухлые ладони.
Ну, что ж, помалу – оно в радость… «Вещи разложу потом», – решил Сергей, поднимаясь.
– Сотоварищ наш, Долгов Борис Афанасьевич, приглашает к себе, – продолжал соблазнять Фалалеев. – Он уж и стол накрыл.
Немного выпить в хорошей компании, под мерный перестук колёс, в уютном купе… А впереди интереснейшая поездка… И яркое весеннее солнце предвещает удачу…
Первую выпили за знакомство. Вторую посвятили успеху предстоящей выставки. После третьей решили говорить между собой исключительно по-французски – для практики.
Ну, Долгов-то – долговязый крепкий человек с лицом открытым и румяным, ровесник Сергея, – как дипломат владел языком профессионально. Фалалеев в бытность помощником ясновидца, незабвенного мсье Дюваля, говорить по-французски от него наумелся. А Сергей получил когда-то уроки от матушки Павлины Александровны. Воспитанная гувернанткой-француженкой, та на языке Бальзака и Дюма изъяснялась в совершенстве и совершенство это пыталась передать детям. Теперь материнские уроки предстояло вспомнить и освежить.
Договорились, что на официальных мероприятиях переводить будет Долгов – для точности. Ну, а простое общение на бытовом уровне Сергей осилит и сам.
Теперь сам бог велел по четвёртой – за взаимопонимание…
Возможно, что настроение Сергея не было бы столь благодушным, заметь он на вокзале, в толпе провожающих, живописца Звездилова. Прячась за чью-то обширную спину, он сверлил Белозёрова лютым взглядом.
И уж точно Сергей озадачился бы, узнав, что в кармане у Звездилова лежит билет на послезавтрашний экспресс «Санкт-Петербург – Варшава». И на экспресс «Варшава – Париж» тоже лежит…
Глава третья
С высоты третьего яруса Эйфелевой башни Париж был невероятно красив и напоминал пирог, разрезанный на аккуратные ломти.
Одни ломоть, ближайший, – это Марсово поле. Другой – Триумфальная арка, от которой лучами разбегались прямые широкие улицы. Третий – дворец Трокадеро в окружении великолепных садов и фонтанов. Четвёртый, самый длинный, – Сена, пересечённая мостами, чью серо-зелёную гладь неторопливо бороздили речные пароходики и катера.
И мансарды, мансарды, мансарды жилых кварталов. Целое море мансард…
Голова у Сергея малость кружилась, и вовсе не из-за того, что между ним и землёй было триста метров. Ему говорили, что Париж великолепен, однако он и не представлял, – насколько. Спасибо столичному префекту Наполеона Третьего барону Осману, перестроившему средневековый Париж с его грязью и вонью в красивый чистый город с тщательно продуманной планировкой улиц и бульваров!
В новый облик удивительно хорошо вписались здания-памятники и прочие достопримечательности, чей возраст исчислялся столетиями. При виде огромного и вместе с тем ажурно-лёгкого собора Парижской Богоматери, грандиозного Лувра, величественно-сакрального Пантеона душа художника замирала от неизъяснимого восторга. И так уже третий день подряд, – как в сказке…
Марешаль легко тронул за локоть.
– Обратите внимание, мсье Белозёров… Видите вон тот холм? Это самая высокая точка Парижа. Там находится район Монмартр. Это у нас центр столичной богемы.
– В каком смысле?
– Там во множестве живут нищие живописцы, бедные литераторы и бродячие артисты. На холме лет пятнадцать назад затеяли строительство храма, но пока дело застряло. Холм весь изрыт каменоломнями, его надо хорошо укрепить…
По-русски мсье Марешаль говорил вполне сносно, как и полагается референту российского Департамента министерства иностранных дел. (Кстати, французскому языку Сергея он сделал комплимент, из чего следует, что покойная матушка была хорошей учительницей.) Невысокий, деликатного сложения, тщательно одетый молодой француз встретил Белозёрова со товарищи на вокзале в Париже и сопроводил в роскошную гостиницу «Лувр», расположенную рядом с музеем.
Назавтра все вместе поехали в Академию изящных искусств – старинный трёхэтажный дворец на рю Бонапарт, 14, куда уже доставили картины Белозёрова. Директор академии мсье Боннар церемонно приветствовал российского коллегу и повёл на второй этаж, в зал, предназначенный для выставки. Помещение было обширное, украшенное мраморными статуями античных богов. (Фалалеев, потирая руки, заметил, что соседство очень даже почтенное.) Открыть выставку намечали через три дня. Импресарио взял на себя присмотр за размещением полотен, в помощь ему остался немногословный Долгов, а Марешаль, пока суд да дело, повёз Сергея в упоительное путешествие по столице.
За эти три дня Сергей понял, что в Париже можно провести весь отпущенный богом срок – и не соскучиться. На улицах и бульварах, в бесчисленных кафе, магазинах и театрах кипела пёстрая, энергичная, шумная жизнь. Чувствовалось, что французы, независимо от сословия, умеют и любят развлекаться. Смех во весь голос и громкий разговор прохожих были делом обычным. (Какой контраст со степенным Санкт-Петербургом!) Марешаль, сидевший рядом в открытой коляске, живо комментировал уличные сценки, театральные афиши и дамские моды.
– Приезжать к нам лучше летом или ранней осенью, – авторитетно заявил он.
– Это почему же?
– Из-за жары дамы надевают лёгкие открытые туалеты. С декольте! – И добавил, игриво понизив голос: – Я вас уверяю, есть на что посмотреть!
Белозёров искренне согласился, что дамское декольте – дело хорошее. Как бывший гусар он был в этом просто уверен.
О серьёзном, впрочем, тоже говорили. За обедом в кафе на Елисейских Полях Марешаль подтвердил, что завтрашнее открытие выставки почтит присутствием министр культуры Франсуа Легат, – как и обещал. Приглашены репортёры из крупнейших парижских газет, придут коллеги-художники и зрители. В общем, всё будет на высшем уровне.
Что касается путешествия в провинцию на этюды, о котором просил мсье Белозёров, то никаких проблем. После открытия выставки можно ехать в долину реки Луары, где расположены десятки средневековых замков. Он, Марешаль, специально осмотрел часть из них и со всей ответственностью рекомендует замок Ла-Рош неподалёку от Орлеана.
– А чем интересен?
– Вот представьте: водохранилище Вильре на Луаре. Посреди чистой воды – маленький скалистый остров, а на нём стоит феодальный замок. Очень старый, его построили почти семь веков назад, и полуразрушенный. Камни от времени потемнели. Там, говорят, и привидения водятся. Рядом симпатичная деревушка Сен-При-Ла-Рош, всего-то сотня дворов. А вокруг лес, луга… В общем, прелестная, живописная глушь, – только рисуй. Уверен, что вам понравится.
– Судя по вашим словам, это то, что надо, – согласился Белозёров, представивший очаровательную картину. – Привидения, говорите?
Марешаль поставил бокал с вином на стол и развёл руками.
– Так утверждают местные жители… Можно было бы, конечно, рисовать знаменитые замки, – ну, там Шамбор, Шенонсо, Амбуаз. Но они все какие-то… – он замялся в поисках нужного слова, – официозные, заезженные. Да и перестраивали их не раз. От старины мало что осталось, и, конечно, много туристов, отвлекать будут.
– Это точно…
– А в Ла-Роше ощущаешь некую первозданность, аромат времени. Его знают мало, и приезжих почти нет. Работать можно без помех, уж за это ручаюсь!
Сергей благодарно отсалютовал бокалом.
– Спасибо, мсье Марешаль! Задал я вам хлопот со своими просьбами. И замок обеспечь, и местность красивую, и чтобы деревушка непременно маленькая да живописная… Привередливый нынче художник пошёл!
– Пустое, – возразил Марешаль, качая черноволосой головой с безукоризненным пробором. – Не забудьте, что все эти недели я буду вас сопровождать. Так что, считайте, красивую местность я выбирал и для себя тоже. Я, кстати, на всякий случай предварительно заказал комнаты для всех нас в местной гостинице. Называется «Галльский петух». – Чокнулся с Белозёровым. – За вашу успешную работу и наше общее приятное времяпровождение!
В другом конце небольшого зала сидели трое мужчин средних лет. Были они похожи однотонными тёмными костюмами, аккуратно подстриженными бородками, непроницаемым выражением лиц. Мужчины сосредоточенно кромсали поданные на больших тарелках бифштексы, что, впрочем, не мешало им искоса поглядывать в сторону Сергея с Марешалем.
– Вон тот, светловолосый, – наконец сказал один.
– Ну, вот и познакомились, – негромко откликнулся второй. – Типичная славянская рожа. Не ошибёшься.
В разговор вступил третий.
– А может, не будем ждать? – предложил он. – Давайте прямо здесь… Чего тянуть?
– Нет, – отрезал первый. – Не будем спешить. Решили завтра – значит, завтра.
Многочисленные анонсы в парижских газетах, расклеенные по всей столице афиши и свободный вход сделали своё дело – толпа на открытие выставки собралась изрядная. В первых рядах устроились репортёры с блокнотами, фотокамерами на треногах и вспышками. Сергей со вздохом подумал, что придётся нынче давать интервью, чего он делать решительно не любил. И скорее всего, не одно. Однако noblesse oblige[6]…
– Вы, главное, не волнуйтесь, Сергей Васильевич, – заботливо приговаривал Фалалеев. – Первая выставка, что ли?
Сергей усмехнулся. Поправил белый галстук-бабочку, одёрнул рукава новой визитки, специально сшитой к поездке.
– Да я вроде и не волнуюсь, не барышня.
– И правильно. Всё, как обычно. Только люди вокруг говорят по-французски и до дома три тысячи вёрст киселя хлебать…
В зале стоял сдержанный гул. Ожидая открытия, люди переговаривались и с нетерпением разглядывали работы издалека (одна дама предусмотрительно захватила даже театральный бинокль). Между картинами на стенах и публикой поместили барьер – стойки с натянутой между ними ленточкой, торжественно разрезать которую предстояло министру и Белозёрову. Мраморных богов из помещения на время убрали.
Намётанным взглядом художника Сергей выхватывал из толпы отдельные лица. Вот солидный человек об руку с дамой, – хорошо одетые буржуа. Вряд ли ценители искусства, скорее, пришли поглазеть на русского живописца. Вот из-за спины репортёра с фотокамерой выглядывает молодой человек в потрёпанном костюме, но с цветком в петлице; лицом бледен, глаза горят интересом. (Возможно, и сам художник, – из тех, кто обитают на Монмартре.) Вот целая группа, трое крепких мужчин в невыразительных тёмно-серых пиджаках. Стоят плечом к плечу, терпеливо ожидая открытия выставки…
Распахнулась боковая дверь, и в зал вальяжной походкой вошёл осанистый человек с внушительным животом, упакованным в просторный чёрный фрак. Судя по тому, что следом почтительно семенил директор академии мсье Боннар, это и был долгожданный министр Легат. Сергей решительно пошёл навстречу. За ним следовали переводчики – Долгов и Марешаль.
Министр протянул Белозёрову руку и с чувством произнёс несколько фраз.
– Господин министр рад познакомиться с выдающимся русским художником господином Белозёровым и надеется, что его выставка в стенах прославленной академии пройдёт с успехом, – перевёл Марешаль.
– Я благодарю господина министра за добрые слова и в свою очередь надеюсь, что выставка моих работ послужит сближению наших народов, – отчеканил Сергей.
На этот раз перевёл Долгов – быстро и чётко.
Кивнув, министр подошёл к загодя установленному пюпитру (по бокам стали Боннар и Белозёров), положил на него небольшой лист бумаги и заговорил. Стоявший позади Сергея Марешаль тихо пояснял:
– Приветствует собравшихся любителей живописи… говорит о вас, дескать, крупный русский мастер, президент академии художеств… выставка символизирует стремление наших народов к дружбе и сближению… время диктует необходимость забыть о трудных страницах в истории взаимоотношений России и Франции… В общем, протокольная речь.
Закончив под шелест аплодисментов, министр отошёл к Боннару и жестом пригласил Белозёрова занять место за пюпитром. Сбоку стал Долгов.
– Я от души приветствую всех, кто сегодня участвует в открытии выставки современной русской живописи, – начал он переводить речь Сергея. – Отрадно, что она пройдёт именно здесь, в сердце Парижа, на улице Бонапарта, в знаменитой Академии изящных искусств…
И тут произошло неожиданное.
Из толпы раздался громкий возглас, перебивший Белозёрова. Резкий голос выкрикнул какие-то фразы, прозвучавшие зло и нетерпеливо. В зале ахнули, зашептались. Сергей в недоумении оглянулся на Долгова. Некоторые слова он разобрал, но в целом…
– Что случилось? – спросил негромко. – О чём крик?
Долгов помедлил.
– Говорит, что русскому нечего делать в сердце Парижа. Тем более на улице Бонапарта, – ответил сквозь зубы, чуть побледнев.
Кричавший выскочил из толпы и взмахом руки оборвал торжественную ленту. Это был один из серопиджачной троицы, замеченной Сергеем перед началом церемонии. Теперь он стоял лицом к лицу с художником. С ненавистью глядя на Белозёрова, процедил какие-то слова и замахнулся с явным желанием влепить пощёчину.
Но Долгов успел раньше.
С неожиданной быстротой он перехватил занесённую руку, рывком развернул обидчика к себе и сильным ударом в челюсть отправил на пол. Тот рухнул с болезненным воплем, однако, мигом вскочив на ноги, вновь замахнулся. И опять полетел на драгоценный паркет академического зала, получив на сей раз крепкий тычок основанием ладони в нос. Остался лежать со стоном.
«Ох, и больно же ему сейчас», – отстранённо подумал Сергей. Внутри всё клокотало. Сам он, внешне невозмутимый (только гатчинский шрам побелел), стоял со сложенными на груди руками, разрываясь между желанием пнуть нападавшего (за что, собственно, тот хотел дать оплеуху?) и пониманием, что делать этого не надо. Статус и миссия… Ну, невместно президенту русской академии бить француза у него в гостях, – не четырнадцатый же год. А так хочется…
– Не вмешивайтесь, Сергей Васильевич, – умоляюще произнёс ставший рядом Фалалеев, зорко поглядывая по сторонам. – Нельзя вам драться, уже не гусар, чай…
Краем глаза Сергей вдруг уловил некое движение. Сбоку набегали двое других мужчин из той же троицы. Судя по разгорячённым, свирепым лицам, – с тем же намерением, что и пострадавший товарищ. И Сергей понял, что драться всё же придётся.
Однако совершенно неожиданно в бой вступил Марешаль.
Быстрым движением он сильно ударил первого из нападавших носком ботинка в голень. И тут же, без передышки, точно пнул второго пяткой в пах. Всего несколько секунд – и оба, уже обезвреженные, валяются на полу, с воем держась за пострадавшие места… Сергей остолбенел. А Марешаль изящным движением поправил растрепавшиеся волосы и как ни в чём не бывало повернулся к нему.
– Боюсь, мсье Белозёров, открытие выставки получилось чересчур воинственным…
– Это точно, – процедил Сергей, переводя дух. (Словно сам дрался.) Бросил взгляд на пол, где мешками с мукой валялись молодчики, трудно приходившие в себя после сокрушительных побоев.
Невесть откуда вынырнувшие неприметные люди быстро подняли незадачливых драчунов, с профессиональной сноровкой завернули руки за спины и буквально выволокли из зала.
– Vive l'Empereur! – отчаянно выкрикнул один из молодчиков уже на пороге, и двое других нестройно повторили за ним эту короткую фразу.
Тут переводчик не требовался. И так ясно, что «Да здравствует император!» Толпа загудела – то ли осуждающе, то ли одобрительно. Не разобрать.
– Сюрте проснулась, – прокомментировал Марешаль, глядя вслед неприметным людям и кривя губы в недоброй улыбке. – Как это говорят в России… на готовенькое прибежали, вот. Пару минут назад они что-то не торопились…
Сергей с холодком в груди вспомнил Ефимова, сомневающегося, можно ли в полной мере доверять Сюрте, будет ли она лояльно сотрудничать с русскими или пойдёт на поводу у проникших в службу бонапартистов… Так ли, сяк ли, – эти мо́лодцы пресечь провокацию не спешили. И если бы не доблесть Долгова с Марешалем, всё могло бы закончиться намного хуже с его, Сергея, участием, – недопустимым.
Во время потасовки директор Боннар на всякий случай мужественно прикрывал своим тщедушным телом отскочившего подальше министра. Теперь Легат, отстранив директора, шагнул к Сергею и величественным жестом протянул ладонь.
– Браво, мсье Белозёров! Вы были неподражаемы, – быстро перевёл Марешаль.
– Я? Но я же ничего не сделал, – несколько растерянно откликнулся Сергей, простоявший всю драку со скрещёнными на груди руками.
– Вы сделали главное: сохранили мужество, спокойствие и выдержку, – решительно сказал министр. – Не дали себя втянуть в гнусную провокацию, остались невозмутимы и непоколебимы, как скала. Ещё раз браво! Эти бонапартисты вконец обнаглели… Мы все чтим императора, чёрт возьми, но это не повод для омерзительного политического хулиганства!
К ним подошёл немолодой худощавый человек, на высоколобом лице которого бросались в глаза длинные пушистые бакенбарды – по моде прошлого царствования. То был российский посол во Франции Артур Павлович Моренгейм, приехавший на открытие экспозиции и ставший свидетелем драки. (Сергей побывал у него в первый же день в Париже.)
– Совершенно согласен с вами, господин министр, – твёрдо произнёс посол с церемонным поклоном. – Иначе как политическое хулиганство трактовать сей инцидент не могу. Боюсь, я буду вынужден сделать соответствующее представление в Министерство иностранных дел.
Легат развёл руками.
– Понимаю вас, господин Моренгейм… От лица правительства приношу все возможные извинения. А с молодчиками, смею уверить, Сюрте разберётся. – Неожиданно глаза его весело прищурились. – Однако заметьте, что сорвать открытие выставки этим негодяям не удалось.
– Да уж какая теперь выставка-то после такого скандала, – обречённо сказал Сергей.
– То есть как это какая? Ваша! Картины целы, – и слава богу. Вы же видите, – люди не расходятся, ждут.
С этими словами Легат повернулся к публике. По знаку Боннара подошла миловидная девушка-брюнетка с бархатной подушечкой в руках. На подушечке уютно лежали две пары позолоченных церемониальных ножниц.
– Дамы и господа, прошу извинить за мерзкий инцидент, свидетелями которого мы все только что стали! – энергично заговорил министр. – Но теперь, когда он исчерпан, ничто не мешает нам открыть долгожданную выставку и насладиться искусством мсье Белозёрова, не так ли?
Публика нетерпеливо зааплодировала.
После того как ленточка была вновь натянута и торжественно разрезана, и зрители устремились к полотнам, Сергей отвёл в сторону Долгова.
– Борис Афанасьевич, а что сказал тот тип, прежде чем вы его приголубили? Он что-то говорил, а я не разобрал…
Долгов замялся.
– Да я, знаете, во французских ругательствах не силён. У меня язык больше классический.
– Ну, хотя бы приблизительно?
– Приблизительно он послал вас по матери, – нехотя пояснил Долгов, скривившись. – Мол, засунь выставку себе в задницу и проваливай в свою дикую Россию, к царю-медведю…
На следующий день после завтрака собрались в номере у Сергея: он сам, Фалалеев, Долгов и Марешаль. Француз явился с пачкой свежих газет.
– Поздравляю, господа! – провозгласил он с порога, энергично бросая их на стол. – Все без исключения газеты поместили отличные рецензии. «Матен» и «Нувель де Пари» опубликовали интервью с мсье Белозёровым. Интерес к нему и картинам огромный.
– Ещё бы! После мордобоя-то, – проворчал Фалалеев.
– Почему бы и нет? Скандал тоже реклама. Кстати, газеты отмечают хладнокровие и достоинство, которые мсье Белозёров проявил, не поддавшись на провокацию бонапартистов.
– Старею, – сокрушённо сказал Сергей. – Лет пять назад непременно поддался бы. Хотя, зачем самому лезть с такими-то телохранителями?
Поочерёдно окинул взглядом Долгова и Марешаля.
Вчера, припоминая скандальную сцену, он вдруг запоздало поразился ловкости и быстроте, с которыми чиновники – француз и русский – одолели бонапартистов. И если от крепкого, длиннорукого Долгова подобной прыти ещё худо-бедно можно было ожидать, то субтильный Марешаль приятно удивил. Наверно, о том же подумал и Фалалеев.
– Где ж вы, батенька, выучились этак вот ногами махать? – спросил с интересом.
– О, это целая история, – ответил француз, принимая таинственный вид.
– Ну, не томите, поведайте…
Марешаль белозубо улыбнулся.
– Это был сават, – пояснил он. – Есть во Франции такое искусство… кто говорит – борьбы, кто – драки… неважно. Его лет двести назад придумали. Главное оружие – ноги и, конечно, знание болевых точек туловища. Попади в такую, и противник гарантированно побеждён. Вчера вы это могли видеть собственными глазами.
– Видели, видели…
– Вообще сават – это борьба нищих, – с увлечением продолжал Марешаль. – Он и родился-то в парижских трущобах. Оружия у простолюдинов не было, а защищаться от врагов как-то надо. Вот кто-то и додумался драться ногами. Они сильнее и длиннее рук, тем и хороши. Конечно, требуются навыки и ловкость. Но если вы овладели саватом, то помилуй бог ваших недругов…
– Интересно, – задумчиво сказал Сергей. – А вы-то где овладели? Не в министерстве же? Если не секрет, конечно…
Опустив глаза, Марешаль выдержал паузу.
– Да, в общем, не секрет, – произнёс наконец. – Я ведь и сам родом из рабочего квартала. Отец плотник, мать прачка. В трущобах без савата выжить трудно, особенно такому хилому мальчишке, как я. Так что драться я научился раньше, чем читать и писать. Себя защищал, сестёр. – Помолчал. С лёгкой усмешкой потёр кривоватый нос. – А потом… потом отцу с неба упало небольшое наследство, и я смог получить образование. Школу закончил, университет с отличием. В итоге меня рекомендовали в министерство. И с тех пор всё складывается неплохо.
Последнюю фразу он произнёс с оттенком горечи. Понятно… Сергей знал подобных людей. Такие пробиваются в жизни исключительно собственным горбом и подчас достигают многого. Марешалю едва ли больше тридцати, – даст бог, всё у него сложится. Но уйдёт ли память о нищем детстве и трудной юности?
Голос подал Долгов.
– Ноги ногами, а по мне, так лучше английского бокса не придумано, – заявил он не без вызова. (Марешаль слегка улыбнулся.) – Я в спортивном кружке пять лет занимаюсь, вчера вот и пригодилось. Плохо ли?
– Воистину пригодилось, – подтвердил Фалалеев, уважительно глядя на чиновника.
Сергей неожиданно развеселился. В каких только передрягах не довелось побывать… и жизнь порой висела на волоске… и всегда надеяться приходилось только на себя. А теперь вдруг рядом оказались боевые искусники, способные защитить от недругов, – один руками, другой ногами. Жить да радоваться…
Ладно.
Завтра предстоял выезд в провинцию. Марешаль изложил план путешествия. Поездом доберутся до города Орлеана – это примерно семьдесят вёрст от Парижа. Оттуда экипажем поедут в коммуну Сен-При-Ла-Рош. Это ещё сорок вёрст. К вечеру приедут, а там и за работу. Как и просил мсье Белозёров, пребывание разрешено в пределах трёх недель. «Понадобится больше, – продлим…» В Париже, суд да дело, всё это время будет работать выставка.
– Не увязались бы за нами вчерашние молодчики, – с усмешкой обронил Долгов. Вроде в шутку, но, если разобраться, вполне серьёзно.
Марешаль покачал головой.
– Молодчики сидят в кутузке и сегодня-завтра поедут в суд. А там получат месяца два-три за нарушение общественного порядка. Забудьте.
– Что, и сотоварищей нет? Я слышал, бонапартистов во Франции воз и маленькая тележка. И все к России неровно дышат…
– Это правда, – задумчиво подтвердил Марешаль. – Однако мало кто из них способен на решительные действия. Поговорить, покричать – это да… Главное же, выставку как публичное межгосударственное мероприятие им сорвать не удалось. А поездка мсье Белозёрова en plein air[7] является делом приватным, никому не интересным. В провинциальной глуши бонапартистам делать просто нечего.
– Ну, дай бог…
На том пока и расстались. Фалалеев с Долговым отправились в банк менять рубли на франки, а Белозёров с Марешалем поехали на выставку.
Была у Сергея привычка приходить инкогнито на собственные экспозиции и неузнанным бродить по залу, наблюдая, как откликаются люди на его работы. Несолидно, забавно даже, но вот поди ж ты… Так хочется увидеть вдруг застывшего у картины зрителя, взгляд которого прикован к твоему полотну. Ощутить его интерес, его сопереживание… Есть ли большее счастье и награда для художника?
В этом смысле Сергей вернулся с выставки вполне вознаграждённым. И зрителей было много, и картины разглядывали увлечённо, и книга отзывов полнилась добрыми записями.
В просторном кабинете с задёрнутыми шторами, под уютный треск поленьев в большом камине, как и две недели назад, беседовали двое хорошо одетых мужчин.
– Что за инцидент произошёл на открытии выставки русской живописи? – сухо осведомился тот, кто постарше.
– Кучка оголтелых бонапартистов попыталась сорвать церемонию, – невозмутимо ответил тот, кто помладше, сидевший в почтительной позе на краешке кресла. – Выкрикивали оскорбления в адрес России, славили императора… К счастью, их вовремя скрутили, и открытие состоялась.
– Боже, какие идиоты…
– Совершенно с вами согласен.
Старший раздражённо пожевал сухими узкими губами.
– Надеюсь, наш друг господин Белозёров не пострадал?
– Никоим образом.
– Ну, слава богу… Необходимо обеспечить его безопасность. Полнейшую. Чтобы ни один волос не упал с головы, слышите?
Младший уверенно кивнул.
– Не беспокойтесь. Завтра Белозёров уезжает в глухую провинцию на этюды. Там он будет в полной безопасности. Мы позаботимся.
– Полагаюсь на вас. – Старший откинулся в кресле и задумчиво посмотрел на пламя камина, жарко освещавшее комнату. – Он нам нужен, очень нужен…
Интерлюдия (27 июля 1830 года)
Древний дворец французских королей Сен-Клу знаменитому Версалю сильно уступал. Не тот масштаб, не та пышность, не то величие. И всё же Карл Десятый своей резиденцией сделал именно его. Выстроенный в итальянском стиле, небольшой дворец был уютен и красив. К тому же его окружали восхитительные сады и парки, созданные гением Ленотра[8]. Одного взгляда на прелесть цветов и деревьев, на сочную зелень газонов, на ажурные струи фонтанов было довольно, чтобы понять и оценить выбор монарха.
Именно здесь, в Сен-Клу, Карл Десятый второго дня подписал четыре ордонанса[9]. Введение цензуры, роспуск недавно избранной палаты депутатов, ограничение избирательного права – таково было содержание документов, призванных укрепить королевскую власть, чья сила была изрядно подорвана дерзостью парламента и свободолюбием народа. Вчера указы появились в газетах. И сегодня Карл, скрывая волнение, принимал у себя в кабинете доклад о реакции общества на ордонансы. Докладывал министр внутренних дел граф Лабурдоннэ.
– Увы, ваше величество, события развиваются так, как и следовало ожидать, то есть наихудшим образом, – бесстрастно говорил граф, застывший в почтительной позе.
Одному богу известно, чего стоило это внешнее спокойствие. Больше всего министру сейчас хотелось ударить кулаком по столу и заорать, что он предупреждал, что он был против этих ордонансов, что закручивание политических гаек – прямой путь к новой революции, когда и старая-то с её ужасами не забыта.
– Я жду подробностей, – решительно сказал Карл.
– Слушаюсь, ваше величество… С утра, после выхода газет с документами, в центре Парижа начал толпиться народ. Студенты Сорбонны в количестве нескольких сотен человек устроили демонстрацию протеста против ордонансов. Сейчас город фактически во власти возмущённых парижан. Лувр и Тюильри блокированы. Приехать к вам я смог лишь с трудом. Да и, откровенно говоря, разъезжать сейчас по Парижу небезопасно. Люди вооружаются. Появились первые баррикады.
Карл стиснул зубы – до желваков, до скрежета.
– О, французы! Когда же вы набунтуетесь? – пробормотал еле слышно. И уже громко спросил: – Что Полиньяк[10]? Каковы его действия?
Лабурдоннэ помедлил. Предстояло сообщить самое неприятное… нет, не так: самое плохое. Опасное.
– Герцог действовал решительно, – сказал нехотя. – По его приказу на улицы вывели войска с приказом рассеять бунтовщиков. Однако народ сопротивляется, и сопротивляется яростно. Фактически в городе начались бои. С обеих сторон есть убитые и раненые. И что хуже всего…
– Ну, говорите же!
– Мои агенты докладывают, что в некоторых районах Парижа солдаты братаются с бунтовщиками и переходят на их сторону. Таких случаев уже много.
Не веря собственными ушам, король приподнялся.
– Что? – придушенно вскрикнул он. – Мои войска мне изменяют? После всего, что я сделал для армии? Этого не может быть!
– Но это так, ваше величество. Боюсь, вы переоценили верность армии.
Карл упал в кресло и закрыл лицо руками.
Министр, не спавший всю ночь, чувствовал себя разбитым. Каково же сейчас королю?.. Каково ощущать, что под тобой зашатался трон, доставшийся на излёте лет ценой тяжких испытаний?
Свою бурную юность, отмеченную попойками, многочисленными интрижками и карточными долгами, Карл (в ту пору граф д’Артуа) провёл в Версале, под нестрогой рукой старшего брата – Людовика Шестнадцатого. С первыми раскатами революционного грома аристократы начали покидать Францию, и граф был одним из них. Впереди его ожидали долгие годы эмиграции.
Зрелость будущего Карла Десятого прошла в скитаниях по европейским дворам, в усилиях по сколачиванию внешних антиреволюционных коалиций, в организации внутренних мятежей и восстаний против Робеспьера[11] и его якобинской[12] шайки. И лишь спустя четверть века, уже после падения Наполеона, Бурбоны[13] смогли вернуться во Францию. Престол под именем Людовика Восемнадцатого занял старший из них, граф Прованский. После его смерти, уже на пороге старости, Карл наконец-то был коронован. Случилось это шесть лет назад. И вот теперь… А, собственно, что теперь?
Со смятением Карл справился быстро. Его часто упрекали в ограниченности, в слепом желании вернуть Францию к старым порядкам, но никто не мог отказать королю в энергии и решительности – слишком хорошую школу прошёл бывший граф д’Артуа за десятилетия борьбы.
– Непостижимо, – негромко сказал он, хмурясь. – Как получилось, что мятеж разгорелся с такой быстротой? Кто зачинщики?
– Их надо искать в рядах либеральной оппозиции, ваше величество. Это если говорить формально.
– А если по существу?
– Есть на этот счёт кое-какие соображения, сир[14]. Готов поделиться, хотя за верность догадок не ручаюсь. Слишком мало сведений.
– Вы меня заинтриговали, – мрачно произнёс Карл. – Говорите же.
Лабурдоннэ выдержал паузу, собираясь с мыслями.
– Как вы знаете, два месяца назад начала выходить оппозиционная газета «Националь», – заговорил он, тщательно подбирая слова. – Яростные нападки на правительство и двор, разнузданная критика внутренней и внешней политики вашего величества… ну, и всё в этом духе. Заметьте, начало выпуска совпало с роспуском парламента. Словно чей-то ответ на ваше решение разогнать этих крикунов.
– Помню, помню. Совершенно гнусный листок. Дальше!
– Месяц я присматривался, а потом приказал арестовать издателя, некого Эжена Доре. Меня интересовало, кто стои́т за этой газетой, на чьи деньги она издаётся. Как я и ожидал, Доре здесь фигура чисто техническая. Ему платят, он печатает, и только. Деньги на выпуск и готовые материалы привозит некто Арман Дюбуа. Взяли и его. Не хотел ничего говорить, но мы припугнули… словом, признался. И знаете, от кого этот каналья получал деньги и статьи для газеты?
– От кого же?
– От генерала Гурго, сир, – значительно произнёс министр.
Карл с недоумением посмотрел на графа.
– Постойте… Это ведь, кажется, бывший адъютант Бонапарта?
– Точно так. У вашего величества прекрасная память.
– Какого же чёрта он на старости лет полез в политику?
– К вопросу о политике мы ещё вернёмся. А пока я задам другой вопрос: откуда у Гурго деньги на издание массовой газеты? По всем наведённым справкам, он не настолько богат. И тем не менее… Опять-таки не ясно, почему он действует через посредника, а не напрямую. Впечатление, что конспирируется.
– Издание антиправительственной газеты – это уже не политика. Это прямой подрыв устоев. Почему вы его не арестовали?
– Увы, сир, для этого не было никаких оснований. Хочу напомнить, что до принятия вами позавчерашних ордонансов издание оппозиционной газеты преступлением не являлось. Издателя я велел арестовать на свой страх и риск. Но то мелкий, никому не известный человечек. Заслуженный генерал – дело другое. Тут скандала не оберёшься.
– Ну, предположим, – прорычал Карл, нетерпеливо барабаня пальцами по столу. – Что вы предприняли дальше?
– Я сразу установил за Гурго негласное плотное наблюдение. Выяснилось, что генерал поддерживает тесные отношения с двумя другими наполеоновскими генералами – Бертраном и Монтолоном. Они переписываются, иногда встречаются.
– Очень интересно! Если не ошибаюсь, все трое были адъютантами узурпатора и приняли его последний вздох на острове Святой Елены?
– Совершенно верно, сир. За ними также установили наблюдение. Выяснилось, что все трое ведут частную жизнь и вроде бы ни во что не вмешиваются. Но, с другой стороны, все они активно, из года в год, разъезжают по стране, много встречаются с людьми…
– Что за люди?
– Главным образом бывшие офицеры и чиновники Наполеона, пострадавшие от его падения. Есть также коммерсанты и финансисты, сделавшие состояние на поставках для армии узурпатора. Такой, знаете, избранный круг отъявленных бонапартистов, сир. Но не только. Мои агенты установили, что два месяца назад гостями Монтолона стали несколько оппозиционеров – либеральных депутатов распущенного парламента. А Гурго и Бертран не раз общались с действующими офицерами вашей армии.
– Вот как? О чём же генералы беседуют на этих встречах?
– Таких сведений получить пока не удалось. А сейчас, в связи с наступившими событиями, уже и не до этого. Но меня, сир, не оставляет одна мысль… Вернее, предположение…
Министр замолчал, словно не решаясь высказать анонсированную идею.
– Смелее, граф, – подбодрил король. – Я весь внимание.
– Вы совершенно правы, сир, восстание развернулось чрезвычайно быстро, – негромко произнёс Лабурдоннэ. – Больше того: ощущение, что оно хорошо спланировано и кем-то управляется. Словно за спиной простолюдинов на баррикадах стоя́т стратеги, знающие толк в военных операциях. И кто-то ведь надоумил наших солдат переходить на сторону народа…
– Делайте же ваш вывод!
– Определённого вывода нет, сир. Но разве нельзя предположить, – с долей фантазии, конечно, – что трое ближайших сподвижников Наполеона, фанатично преданных и бывших с ним до конца, увезли со Святой Елены ненависть и неистребимую жажду мести? И теперь они приняли живейшее участие в мятеже, цель которого очевидна, – свержение династии Бурбонов? (Лицо Карла болезненно скривилось.) Более того, сами его и готовили, опираясь на многочисленных бонапартистов? Но если так, то им оставалось лишь дождаться, пока власть даст повод для народного возмущения. И власть его дала…
– Вы имеете в виду…
– Да, ваше величество. Злосчастные ордонансы. – Неожиданно Лабурдоннэ упал на колени. Вскрикнул: – Заклинаю всем святым, сир, отзовите их! Может быть, ещё не поздно! Может быть, нам удастся успокоить народ! Неужели ужас восемьдесят девятого года изгладился из вашей памяти?
От усталости и отчаяния бледного министра била нервная дрожь. Карл силой заставил его подняться и усадил на стул. Налил фужер вина.
– Выпейте залпом. Вот так! И посидите спокойно.
Сев за стол, король принялся что-то быстро писать на собственном именном бланке. Лабурдоннэ отрешённо смотрел на Карла. В эту минуту красивое удлинённое лицо монарха с упрямым подбородком было исполнено решительности, большие глаза прищурены, густая прядь поседевших волос энергично пересекла высокий лоб… Таким и запомнил министр своего короля, которого, – о том знать он не мог, – видел в последний раз.
Закончив писать, Карл тщательно сложил и запечатал бланк.
– Отвезите это Полиньяку, – сказал отрывисто, протягивая графу письмо. – Пусть он стягивает верные части к Сен-Клу.
– Но как же, сир…
– А ваш совет насчёт ордонансов я обдумаю.
«Господи, когда он собирается думать? Времени уже ни на что нет…»
– И ещё…
Карл подошёл вплотную и, понизив голос, произнёс:
– Всё, что вы сказали насчёт бывших адъютантов Наполеона, звучит убедительно. Так это или не так, сейчас разбираться некогда. Но вы мне их головы доставьте. И чтобы не позднее завтрашнего дня. Вам ясно, граф?
– В каком смысле, головы? – глупо переспросил Лабурдоннэ.
– Можно в прямом.
И, словно смягчая жестокую шутку, Карл широко улыбнулся.
«Ещё шутит! Тут бы свои уберечь… Или не шутит?»
Лабурдоннэ склонился в почтительном поклоне и, с трудом передвигая ноги, направился к выходу. Выполнять приказ монарха он вовсе не собирался.
Через пять дней Карл Десятый под давлением оппозиции и народа отрёкся от престола. На этом правление династии французских Бурбонов завершилось. Навсегда.
Лабурдоннэ вместе с другими членами правительства Полиньяка арестовали. Он так никогда и не узнал, что природу восстания, в общем-то, угадал верно. Однако даже проницательный министр не мог представить всей правды…
Глава четвёртая
Непризнанный художник – человек озлобленный…
Мечта заявить о себе на творческой ниве не сбылась. Общество равнодушно к его искусству. Миру не нужны выстраданные им картины, книги, симфонии. Взлёты ума, порывы вдохновения, душевные муки, бессонные ночи – всё, всё брошено на алтарь Минервы[15]. И всё втуне.
Неутолённая жажда признания выжигает душу дотла. А где-то рядом аплодируют чьей-то музыке, зачитываются не твоими книгами, восхищаются чужими полотнами… Сознавать это невыносимо.
Кого винить? Кому мстить?
Роман Прокофьевич Звездилов принялся рисовать лет в пятнадцать. А уже в шестнадцать – погиб. В роли губителей выступили родные мать с отцом, сестра, дворня и ближние соседи, наезжавшие в хлебосольное имение Звездиловых. Все в один голос (кто искренне, кто снисходительно) хвалили работы отрока, рисовавшего взахлёб. Наслушавшись комплиментов, юный Роман твёрдо решил, что он – талант и что искусство – его призвание, о чём и сообщил родителям в самых восторженных выражениях.
Те, впрочем, смотрели на жизнь более трезво. Сына определили на правовой факультет университета, а после учёбы пристроили в крупную нотариальную контору. Годы юридической службы Звездилов потом вспоминал как затянувшийся дурной сон – тоскливый и бессмысленный.
Рисовать приходилось исключительно вечерне-ночной порою. Тем не менее страсть к искусству никуда не делась, напротив, с годами она становилась только сильнее. Горько думалось, что присутствие, посетители и документы крадут время, которое можно было бы посвятить живописи. И так сладко мечталось, что придёт день, когда с утра, напившись кофе, он вместо опостылевшей конторы твёрдым шагом устремится в собственную мастерскую – творить…
Между делом Роман Прокофьевич женился. Избранницей стала девушка, которая на званом вечере, заикаясь от волнения, похвалила вдохновенный рисунок, оставленный молодым человеком в её альбоме. Звездилов решил, что нашёл родственную душу, и без колебаний сделал предложение. Правда, следом выяснилось, что девушка вообще заикается. Но слово уже было дано…
Родители ушли в один год – друг за другом. Роман Прокофьевич унаследовал недурное имение, приличный счёт в банке и наконец-то расстался со службой. Теперь ничто не мешало отдаться живописи. И он ей отдался со всем нерастраченным творческим пылом. В уездной лавке, торгующей предметами искусства, до сих пор бережно хранят легенду о покупателе, который однажды возник на пороге и, пылко сверкая очами, смёл весь наличный запас кистей и красок, не забыв при этом про карандаши, альбомы и мольберт. Погрузил покупки в экипаж и с криком: «Трогай!» унёсся в цветущую весеннюю даль. (По другой версии, в заснеженную зимнюю.)
Теперь дело было за вдохновением, и оно не подвело. Избавленный от забот о хлебе насущном (к слову, приданое за женой-заикой взял изрядное), Звездилов без устали рисовал всё, что попадётся под руку. Героями его полотен становились люди и предметы, природа и животные. Сначала картины развешивали на первом этаже дома, потом дело дошло до второго, а затем наступила очередь хозяйственных пристроек. Роман Прокофьевич щедро дарил свои работы знакомым, дальним родственникам, даже бывшим сослуживцам, но полотен вроде как и не убывало.
Шли годы. Со временем Звездилов начал смутно ощущать что-то неладное. Счёт написанных работ уже шёл на пуды. Жена с тёщей от его картин по-прежнему были без ума, хватало комплиментов и от соседей, но… где же общее признание? Где газетные заметки и восхищённое обсуждение в обществе? Где, наконец, покупатели и заказчики?
Роман Прокофьевич занялся организацией собственных выставок. Его передвижной вернисаж кочевал по уезду, останавливаясь на постой во всех заведениях, где только соглашались принять. Общество друзей пожарных, церковно-приходская школа, дом призрения, самодеятельный театр… Со временем Звездилов географию расширил и начал гастролировать со своими картинами в окрестных городах. И рисовал, рисовал…
Однако ничего не менялось. Творчество Звездилова оставалось вещью в себе. Профессиональные художники, которым он показывал свои картины, пожимали плечами и уклончиво хвалили за трудолюбие. В салонах, где он увлечённо говорил о своих полотнах, вежливо переводили беседу на другие темы. Число посетителей выставок уверенно стремилось к нулю.
Многолетняя бесплодная борьба за признание не прошла даром. Мало-помалу Звездилов озлобился. Он и мысли не допускал, что его картины просто-напросто бесталанны и поэтому никому не интересны. Чёрта с два! Воспалённый ум подсказывал иную причину: интриги. Интриги собратьев по кисти! Это они, давясь от зависти, хулят искусство талантливого художника, высмеивают его работы, распускают слухи о творческой несостоятельности…
Но было и другое объяснение. Он, Звездилов, силой и масштабом дарования опередил своё время. Его просто-напросто не понимают… Думая об этом, Роман Прокофьевич проклинал недалёких современников и горько жалел себя. Слава будет, непременно будет, но – посмертная. А хотелось прижизненной!
Хоть так, хоть этак, – дело швах. Но упорный Звездилов не сдавался. За признание своего творчества он был готов биться энергично и беспощадно. Состоялся решительный штурм академии художеств. Президент академии Белозёров принял его, против ожидания, быстро и выслушал сочувственно. Однако, ознакомившись с привезёнными (отборными!) полотнами Романа Прокофьевича, поскучнел. Осторожно высказал несколько профессиональных замечаний и согласился провести за счёт академии художественную экспертизу работ.
Консилиум мастеров единодушно решил, что в картинах Звездилова искусство и не ночевало (хотя сформулировали в более мягких выражениях). Роман Прокофьевич был потрясён. Неужели хула недоброжелателей успела достичь столицы и повлияла на выводы экспертов? Оставалось одно: провести выставку работ в академии (а такие вернисажи традиционно собирали большую аудиторию), и пусть своё слово скажет публика – народ, далёкий от профессиональной кухни с её интригами и дрязгами. Вот это будет объективно!
О, как Звездилов возжелал этой выставки… Но Белозёров идею встретил холодно. Напрасно преисполненный жёлчи Роман Прокофьевич обивал порог президентского кабинета. Кончилось тем, что Белозёров наотрез отказал в проведении вернисажа и фактически назвал бездарностью. И это стало последней каплей. Уходя, Звездилов с мутной от гнева головой матерно пожелал Белозёрову провала его парижской экспозиции, о которой сообщали столичные газеты. Яростно хлопнул дверью. Мосты к признанию по линии академии были сожжены.
Отныне всю ненависть, на которую только способен непризнанный и поруганный демиург[16], Роман Прокофьевич сосредоточил на Белозёрове. Убить бы его на дуэли… но, по наведённым справкам, тот как бывший гусарский офицер, в отличие от Звездилова, был дуэлянт искушённый и опытный. Сам убьёт. А ненависть, между тем, жгла душу и требовала выхода. Звездилов вставал и ложился с мыслями о мести – жестокой и беспощадной. Но какой?
Постепенно в голове созрел некий план. Для начала Роман Прокофьевич вслед за Белозёровым устремился в Париж, где уже не бывал давненько. Он был уверен, что выставка непременно провалится. Уж кто-кто, а французская публика с её тонким вкусом и стремлением к новизне не примет картины, созданные в классической манере. Убого! Скучно! Это вам не импрессионизм… Звездилов мечтал увидеть позор Белозёрова и великодушно, свысока, посочувствовать обескураженному обидчику. Тогда можно было бы считать, что месть состоялась.
Но вышло иначе. Выставка произвела фурор. Конечно, этому в известной мере способствовал скандал, устроенный бонапартистами на открытии, но всё же, всё же… Представляя торжество Белозёрова, Звездилов пил коньяк, не пьянея, и сходил с ума от ярости. Внутри всё клокотало – до головокружения, до потери чувств. Очередной успех, международное признание, восторг прессы… И кипельно-белый конь, на котором восседает Белозёров, будь он трижды проклят!
Гостиничный номер Звездилова был завален парижскими газетами, которым, кажется, нечего было публиковать, кроме заметок о выставке русской живописи. Некоторые из них поместили интервью с Белозёровым. Художник говорил о желании создать несколько полотен на французские темы. С этой целью он в ближайшие дни выезжает в провинцию, где будет писать средневековый замок и живописные виды близ коммуны Сен-При-Ла-Рош. Там и поживёт недели три…
– Стоп! – выкрикнул вдруг Звездилов.
Отбросив «Нувель де Пари», он залпом допил стакан. Рухнул в кресло. Рассудок, затуманенный ненавистью и спиртным, заработал – хаотично, лихорадочно. Белозёров хочет писать средневековый замок? Природные виды? Будет ему и замок, и природа…
Вызвав звонком портье, Звездилов попросил найти ему географический справочник Франции и расписание поездов. А ещё поручил отнести на почту телеграмму в Россию. В ней Роман Прокофьевич сообщал жене, что задержится в Париже ещё недели на две-три.
Выпроводив портье, Звездилов принялся укладывать вещи. Он был, как в тумане, и свои дальнейшие шаги пока представлял смутно. Однако с каждой минутой план действий складывался в голове всё четче…
А тем временем Белозёров со своей небольшой свитой, состоявшей из Фалалеева, Долгова и Марешаля, ехал в Ла-Рош.
Недолгое путешествие из Парижа прошло приятно. До Орлеана доехали первым классом, в удобном вагоне с мягкими креслами. На небольшой привокзальной площади, зажатой между плотно стоящими трёх-четырёхэтажными домами, заботой Марешаля их ожидал просторный экипаж, запряжённый парой гнедых лошадок. По старой гусарской привычке Сергей машинально оглядел их и остался доволен: коренастые, крепкие. В атаку на таких, вестимо, не поскачешь, но куда надо, довезут исправно. Тем более, по французским-то шоссе.
Наполеон в начале века накрыл империю превосходной дорожной сетью, что, впрочем, потом против него же и обернулось. В тысяча восемьсот четырнадцатом году по этим трактам русские, австрийские и прусские корпуса наступали на Париж форсированным маршем, и все отчаянные усилия императора остановить их оказались тщетными. Какие сражения кипели здесь несколько десятилетий назад…
– О чём задумались, Сергей Васильевич? – поинтересовался Фалалеев, выглядывая из окна экипажа.
Энергичный Семён Давыдович уже проследил, чтобы кучер уложил багаж путешественников, и теперь, томясь нетерпением, торопил спутников.
– Да так, ничего особенного, – рассеянно откликнулся Сергей.
Не объяснять же Фалалееву, что вдруг представил он поле битвы, на котором русские кавалеристы столкнулись в безжалостной сече с наполеоновскими полками. И он, Белозёров, на вороном коне, с саблей наголо, сшибается с французским драгуном в ярко-красном доломане и яростно рубит его в капусту! А потом мчится дальше, в самую гущу сражения, увлекая за собой отважных товарищей-гусар…
Почему-то в последнее время всё чаще вспоминалась военная юность. Вспоминалось Николаевское училище, родной Киевский гусарский полк вспоминался. О несбывшейся офицерской карьере Сергей не жалел, но мысли о давней службе приходили светлые, и были они подёрнуты печалью. Жизнь в разгаре, главное (хочется верить!) впереди, но многое уже и не повторится. Раньше он об этом как-то не задумывался, безоглядно шёл вперёд, а теперь душа нет-нет да и загрустит по ушедшему безвозвратно. Стареет, что ли?..
Но, впрочем, невесёлые размышления вскоре сменились более приятными. За окном экипажа проплывали аккуратные пшеничные поля, в конце апреля уже тронутые озимой зеленью. Кучер посвистывал и время от времени щёлкал кнутом, но больше для порядка – гнедые и так шли уверенной ровной рысью. Покачиваясь на мягких каретных подушках, Сергей с удовольствием предвкушал будущую работу. Напишет древний полуразрушенный замок на воде и деревушку напишет – уютную, с мощёными улочками, с красивыми домами, не соломой крытыми. Рассказывали ему, что французские сёла на русские совсем не похожи. Живут здесь богаче и чище. Европа…
Ехали с остановками часов пять, и наконец вечером вдалеке завиднелась огни коммуны Сен-При-Ла-Рош. Последняя верста пролетела быстро. Придерживая лошадей, кучер аккуратно въехал в деревню. Уже стемнело, и путь в гостиницу пролегал по узкой улочке, между светляками домашних окон. Насколько Сергей рассмотрел в прохладных сумерках, дома здесь были серокаменные, под шапками из буро-коричневой черепицы.
На пороге гостиницы «Галльский петух» их встретили немолодые мужчина с женщиной, – надо полагать, хозяин с хозяйкой. Марешаль, первым выскочивший из экипажа, обменялся с ними несколькими фразами.