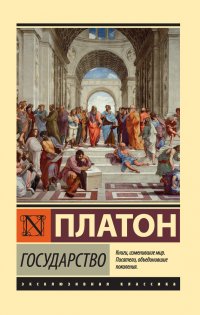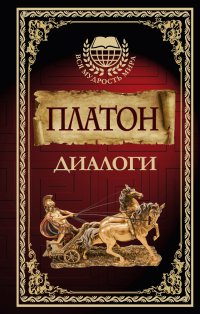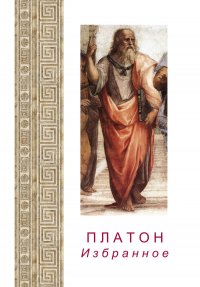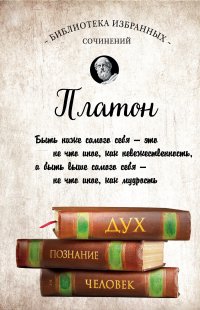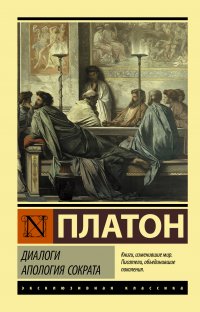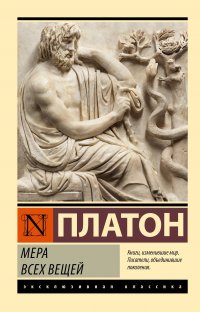
Читать онлайн Мера всех вещей бесплатно
- Все книги автора: Платон
© ООО "Издательство АСТ", 2023
Феаг
Лица разговаривающие:
Димодок, Сократ, Феаг
Дим. Мне нужно бы, Сократ, о чем-то с тобой поговорить1, если тебе досужно. Да хотя бы ты был и занят, только не очень важным делом, – для меня постарайся удосужиться.
Сокр. Я и так-таки свободен, а для тебя-то – и очень; поэтому, если хочешь о чем-нибудь говорить, – можешь.
Дим. Так не угодно ли, сойдем с дороги, – туда, в портик Зевса Элевферия2?
Сокр. Пожалуй, если тебе кажется.
Дим. Пойдем же, Сократ3. Как все растения4, все произведения земли, животные и прочее, так, должно быть, живет и человек, ибо что касается растений, то мы, занимающиеся обрабатыванием земли, легко можем приготовить все, предшествующее садке их, и самую садку; но после того, как посаженное стало жить, уход за ним бывает и многосложен, и тяжел, и соединен с препятствиями. То же представляется и в отношении к людям. По моим делам гадаю и о делах чужих5. Насаждение ли, рождение ли надобно применить к этому моему сыну – для меня это было легче всего; но воспитание его соединено с затруднениями и всегда держит меня в страхе, всегда боюсь я за него. Так вот можно бы говорить и о многом другом, но меня особенно пугает теперешнее его желание. Оно, конечно, не неблагородно, однако ж опасно. Видишь, он у нас, Сократ, говоря его словами, желает сделаться мудрецом. Мне кажется, некоторые из его сверстников и земляков, хаживавшие в Афины6, припоминают какие-нибудь речи и ерошат его. Соревнуя этим своим товарищам, он давно уже озабочивает меня и просит, чтобы я постарался о нем и платил деньги кому-нибудь из софистов, который бы сделал его мудрецом. О деньгах-то я мало забочусь, а думаю, не спешит ли он идти на немаловажную опасность. Доныне я удерживал его моими увещаниями, но так как далее удерживать уже не могу, то признаю за лучшее уступить ему, чтобы, и помимо меня часто обращаясь с кем-нибудь, он не испортился. Для того-то именно я теперь и приехал, чтобы представить его которому-нибудь из этих кажущихся софистов. И ты кстати встретился с нами, потому что, приступая к такому делу, я хотел бы посоветоваться особенно с тобой. Так если имеешь дать какой-нибудь совет в том, о чем от меня слышал, то можешь и должен.
Сокр. Ведь говорят же, Димодок, что совет есть дело священное7. Но если он дело священное во всяком другом случае, то и в этом, в котором ты советуешься, ибо для человека советующегося нет предмета столь божественного, как воспитание себя и своих родных. Сначала, однако, я и ты должны согласиться между собой, что такое то, касательно чего думаем мы советоваться. Как бы не пришлось иногда разуметь под этим мне одно, а тебе – другое; тогда ведь, вошедши уже далеко в свою беседу, мы сознали бы себя смешными, если бы я, советующий, и ты, советующийся, понимали дело неодинаковым образом.
Дим. Ты, мне кажется, правильно говоришь, Сократ. Так и надобно сделать.
Сокр. Говорю-то я и правильно, да не совсем, однако, потому что немного изменяю мое слово. Мне думается, что и ребенок этот желает не того, чего, по нашему мнению, желает он, а другого; да и мы опять, может быть, еще безрассуднее его, что собираемся советоваться об ином. Поэтому, мне кажется, будет правильнее начать с него самого – расспросить, что такое то, чего он желает.
Дим. Должно быть, в самом деле лучше так, как ты говоришь.
Сокр. Скажи же мне, какое прекрасное имя8 молодому человеку? как мы будем называть9 его?
Дим. Имя ему Феаг, Сократ.
Сокр. В самом деле прекрасное и священное имя10 дал ты своему сыну, Димодок. Скажи же нам, Феаг: заявляешь ли ты свое желание сделаться мудрецом и просишь ли своего отца, чтобы он отыскал такого человека, беседа с которым сообщила бы тебе мудрость?
Феаг. Да.
Сокр. А мудрецами знатоков ли называешь ты, в отношении к чему были бы они знатоками, или незнатоков?
Феаг. Я – знатоков.
Сокр. Что же? Разве не воспитывал тебя отец и не учил тому, чему учатся здесь другие сыновья почтенных отцов, например: грамоте, играть на цитре, бороться и иным упражнениям11?
Феаг. Конечно учил.
Сокр. Так думаешь, недостает еще какого-нибудь знания, о доставлении тебе которого отец должен позаботиться?
Феаг. Думаю.
Сокр. Какое же это знание? Скажи и нам, чтобы мы угодили тебе.
Феаг. Знает и он, Сократ, потому что я многократно говорил ему, и это нарочно12 толкует тебе, как будто бы не знает, чего я желаю. Такими ведь и другими еще словами препирается он и со мной и никому не хочет представить меня.
Сокр. Но то, что говорил ты ему прежде, говорено было без свидетелей; а теперь возьми меня в свидетели и объяви предо мной, что это за мудрость, которой ты желаешь. Положим, тебе желалось бы того знания, с помощью которого люди правят кораблями, и мне случилось бы спросить тебя: «Феаг! В какой мудрости нуждаясь, порицаешь ты отца, что он не хочет представить тебя тому, кто сделал бы тебя мудрым?» Что отвечал бы ты мне? Какая это мудрость? Не кораблевождение ли?
Феаг. Да.
Сокр. А если бы ты пожелал быть мудрым в такой мудрости, с помощью которой правят колесницами13, и тоже порицал бы отца, то на мой вопрос: «Что это за мудрость?» – чем назвал бы ты ее? Не возничеством ли?
Феаг. Да.
Сокр. Но та, которой ты теперь желаешь, безымянная ли какая или имеет имя?
Феаг. Я думаю, имеет.
Сокр. Так знаешь ли ты ее – по крайней мере без имени, или и имя?
Феаг. Да, и имя.
Сокр. Скажи же, какое оно.
Феаг. Какое другое можно дать ей имя, Сократ, как не мудрость?
Сокр. Но не мудрость ли и возничество? Или оно кажется тебе невежеством?
Феаг. Нет.
Сокр. А мудростью?
Феаг. Да.
Сокр. Для чего мы пользуемся им? Не для того ли, чтобы уметь править парой коней?
Феаг. Да.
Сокр. Не мудрость ли также и кораблевождение?
Феаг. Мне кажется.
Сокр. Не для того ли и оно, чтобы уметь править кораблями?
Феаг. Конечно для того.
Сокр. А мудрость, которой ты желаешь, – что такое она? Чем умеем мы править при ее помощи?
Феаг. Мне кажется, людьми.
Сокр. Не недужными ли?
Феаг. Совсем нет.
Сокр. Потому что для этого есть искусство врачебное. Не так ли?
Феаг. Да.
Сокр. Но не умеем ли мы при ее помощи управлять поющими в хорах?
Феаг. Нет.
Сокр. Потому что для этого-то есть музыка.
Феаг. Конечно.
Сокр. Или через нее умеем мы управлять теми, которые занимаются телесными упражнениями?
Феаг. Нет.
Сокр. Потому что для этого-то есть гимнастика.
Феаг. Да.
Сокр. В каком же деле пользуемся мы ей? Постарайся сказать мне, как я наперед сказал тебе.
Феаг. Ей пользуемся мы, мне кажется, в городе.
Сокр. Но не в городе ли и недужные?
Феаг. Да, однако ж не этих только я разумею – говорю и о других, живущих в городе.
Сокр. Так ужели я понимаю, на какое искусство указываешь ты? Ведь мне кажется, ты говоришь не о том, посредством которого мы умеем управлять жнецами, виноградарями, садовниками, сеятелями, молотильщиками, потому что этим управляем мы при помощи науки земледелия. Не так ли?
Феаг. Да.
Сокр. И не о том говоришь ты, посредством которого мы умеем управлять пильщиками, сверлильщиками, токарями и всеми вообще вертельщиками, потому что такое искусство не есть ли строительное?
Феаг. Да.
Сокр. Впрочем, может быть, о том, посредством которого умеем мы управлять всеми этими: и самыми земледельцами и плотниками, и всеми мастерами и не-мастеровыми14, и мужчинами и женщинами – может быть, такое-то искусство называешь ты мудростью.
Феаг. Именно такое, Сократ; давно уже хочу я назвать его.
Сокр. А можешь ли сказать, что Эгисф15, умертвивший в Аргосе Агамемнона, управлял теми, о которых ты говоришь: мастерами и не-мастеровыми, всеми мужчинами и женщинами, или некоторыми иными?
Феаг. Нет, не теми, а этими.
Сокр. Что еще? Пелей16, сын Эака, во Фтии – не теми ли самыми управлял он?
Феаг. Да.
Сокр. А слыхал ли ты о Периандре17, сыне Кипсела, правившем в Коринфе?
Феаг. Слыхал.
Сокр. Не теми ли же самыми управлял он в своем городе?
Феаг. Да.
Сокр. Что скажешь притом об Архелае, сыне Пердикки, который в последнее время18 стал править Македонией? Не теми ли самыми, думаешь, управляет он?
Феаг. Думаю, теми.
Сокр. А Иппиас, сын Пизистрата, правивший в этом городе, кем, думаешь, управлял он? Не этими ли?
Феаг. Как не этими.
Сокр. Можешь ли ты сказать мне, какое имя дают Вакису, Сивилле и нашему соотечественнику Амфилиту19?
Феаг. Какое больше, Сократ, как не имя прорицателей?
Сокр. Правильно говоришь. Постарайся же ответить мне и относительно этих: какое имя прилично Иппиасу и Периандру по их управлению?
Феаг. Думаю, имя тиранов; какое же больше?
Сокр. Стало быть, кто желает управлять всеми людьми в городе, тот желает одинаковой с ними власти – тиранической, тот хочет быть тираном.
Феаг. Оказывается так.
Сокр. И ты сказал, что желаешь ее.
Феаг. Из моих слов, конечно, выходит.
Сокр. Злодей20! Так ты, из-за желания тиранствовать над нами, давно уже порицаешь отца, что он не посылает тебя в школу какого-нибудь учителя тирании? А тебе, Димодок, не стыдно? Давно уже зная, чего желает он, и будучи уверен, что если будешь посылать его туда, то сделаешь мастером в желаемой им мудрости, ты теперь завидуешь ему и посылать не хочешь? Но видишь: в эту минуту он оговорил тебя в моем присутствии; так посоветуемся сообща – я и ты – к кому бы нам посылать его и в чьем бы сообществе мог он сделаться мудрым тираном.
Дим. Да, ради Зевса, Сократ, посоветуемся-таки, так как, по моему-то мнению, это требует совета немаловажного.
Сокр. Постой, добряк, сперва расспросим получше его самого.
Дим. Так спрашивай.
Сокр. Что, Феаг, если бы мы несколько воспользовались Эврипидом? Ведь Эврипид21 где-то сказал: «Мудры тираны беседой мудрых».
Но пусть бы кто спросил его: «Эврипид! О чем беседа мудрых делает, говоришь, мудрыми тиранов?»
Или пусть бы, например, сказал он: «Мудры земледельцы беседой мудрых».
А мы спросили бы: «В чем мудрых?» – что отвечал бы он? Иное ли нечто, или то, что мудрых в земледелии?
Феаг. Нет, именно это.
Сокр. Что же? Если бы сказал он: «Мудры повара беседой мудрых».
А мы спросили бы: «В чем мудрых?» – что отвечал бы он? Не то ли, что в поварском искусстве?
Феаг. Да.
Сокр. Что еще? Если бы сказал он: «Мудры бойцы беседой мудрых».
А мы спросили бы его: «В чем мудрых?» – не отвечал ли бы он, что в искусстве бороться?
Феаг. Да.
Сокр. Но когда он сказал: «Мудры тираны беседой мудрых».
А мы хотим спросить его: «В чем мудрых, говоришь ты, Эврипид?» – что ответит он? В чем состоит эта мудрость?
Феаг. Не знаю, клянусь Зевсом.
Сокр. А хочешь ли, а скажу тебе?
Феаг. Если угодно…
Сокр. В том, что, по словам Анакреона, знала Калликрита. Или неизвестна тебе эта песня?
Феаг. Известна.
Сокр. Так что же? Не желаешь ли и ты обращаться с таким каким-нибудь человеком, который обладает одним и тем же искусством с Калликритой22, дочерью Кианы, и знает тиранию, как говорит о ней поэт, чтобы и тебе тиранствовать над нами и над городом?
Феаг. Давно уже, Сократ, смеешься ты и шутишь надо мной.
Сокр. Как! Разве, по твоим словам, не той мудрости желаешь ты, посредством которой мог бы управлять всеми гражданами? А делая это, чем же иным был бы ты, как не тираном?
Феаг. Конечно, согласился бы я, думаю, сделаться тираном – особенно над всеми людьми, а если нет, то по крайней мере над весьма многими; желал бы даже, может быть, сделаться богом, хотя я и не говорил, что этого желаю.
Сокр. Так что же еще есть, чего тебе хочется? Не сказал ли ты, что желаешь управлять гражданами?
Феаг. Только не насильственно, не как тираны, а по их воле, как управляют в городе и другие знатные мужи.
Сокр. Так ли, говоришь, как Фемистокл, Перикл, Кимон и все, бывшие сильными в политике?
Феаг. Да, клянусь Зевсом, этих я разумею.
Сокр. Так что же? Если бы случилось тебе пожелать сделаться мудрецом в верховой езде, к кому естественно отправился бы ты23, чтобы выйти отличным всадником? К иному ли кому кроме берейтора?
Феаг. Нет, клянусь Зевсом, не к иному.
Сокр. А к тем самым искусникам в этом отношении, у которых есть лошади и которые всегда обращаются как со своими, так и со многими чужими?
Феаг. Явно, что к ним.
Сокр. Что же? Если бы тебе захотелось сделаться мудрецом в стрельбе, не к стрельцам ли бы задумал ты идти, чтобы быть мудрым, – к тем то есть, у которых есть стрелы и которые всегда употребляют их много – как чужих, так и собственных?
Феаг. Мне кажется.
Сокр. Скажи же теперь: так как ты хочешь быть мудрецом в политике, то с целью сделаться мудрым к иному ли кому думаешь отправиться, а не к тем политикам, которые и сами сильны в политике, и всегда обращаются как со своим городом, так и со многими другими, и входят в сношение не только с греческими, но и с варварскими городами? Или тебе кажется, что, обращаясь с кем-нибудь иным, сделаешься ты мудрецом в том же отношении, в каком эти, а не с нами самими?
Феаг. Слыхал я, Сократ, как пересказывали твои речи об этих людях. Сыновья подобных политиков, говорили, нисколько не лучше, чем сыновья кожевников. И ты, мне кажется, сколько я могу судить, говоришь весьма справедливо. Поэтому я был бы безумен, если бы подумал, что кто-нибудь из них мне может передать свою мудрость, а собственному своему сыну, при всей способности быть полезным для кого бы то ни было из людей, никакой пользы принести не может.
Сокр. Но чем бы ты, лучший из мужей, помог себе, если бы родился у тебя сын и стал вводить тебя в такие хлопоты, говоря, что он желает сделаться хорошим живописцем, и порицая тебя, отца, что ты не хочешь на этот предмет тратить для него денег, а между тем мастеров сего самого искусства – живописцев – бесчестил бы и не хотел у них учиться? То же и флейтистов, желая сделаться флейтистом, то же и цитристов. Что мог бы ты с ним сделать и куда в другое место послал бы его, если бы он не захотел учиться у этих?
Феаг. Клянусь Зевсом, не знаю.
Сокр. Но теперь то же самое делаешь ты со своим отцом, а между тем удивляешься и порицаешь его, когда он недоумевает, как повестись с тобой и куда послать тебя. Пожалуй, мы представим тебя кому-нибудь из отличнейших в политике афинян, кто наставит тебя даром; и ты, с одной стороны, сбережешь деньги, с другой – приобретешь гораздо больше расположения от народа, чем учась у кого другого.
Феаг. Так что же, Сократ? Разве ты не из отличнейших мужей? Согласись только меня допустить к своей беседе – и для меня довольно, я не буду искать никакого более.
Сокр. Что это говоришь ты, Феаг?
Дим. А ведь он говорит нехудо, Сократ; ты вместе сделаешь удовольствие и мне. Думаю, для меня не было бы находки больше той, как если бы он понравился тебе и ты согласился бы беседовать с ним. Я даже стыжусь сказать, как сильно хочу этого; посему прошу обоих вас: тебя – чтобы ты согласился беседовать с ним, а тебя – чтобы ты не искал обращения ни с кем, кроме Сократа. Через это вы избавите меня от многих и страшных беспокойств. Теперь ведь я очень боюсь за него, как бы не столкнуться ему с кем другим, который может развратить его.
Феаг. С этого времени за меня-то уже не бойся, батюшка, если ты в состоянии убедить его, чтобы он принимал меня в свою беседу.
Дим. Очень хорошо говоришь. После этого, Сократ, к тебе уже обращаю мое слово. Я готов, говоря коротко, предложить тебе и меня и мое, что имею, самое драгоценное – одним словом, все, чего ни потребуешь, лишь бы только ты полюбил этого Феага и благодетельствовал ему, сколько можешь.
Сокр. Димодок! Я не удивляюсь твоей заботливости, если ты думаешь, что сын твой особенно от меня получит пользу, ибо не знаю, о чем бы больше всего заботился всякий умный человек, как не о своем сыне, чтобы он был самым лучшим. Но почему тебе показалось, будто я в состоянии принести твоему сыну больше пользы, чтобы он вышел хорошим гражданином, чем ты сам, и с чего взял сын твой, будто я буду для него полезнее тебя, – это для меня очень удивительно. Во-первых, ты старше, чем я; потом, ты в управлении афинянами занимал много правительственных должностей, да еще и важнейших; кроме того, ты пользуешься особенным почетом как со стороны анагирасийских граждан24, так не меньше и со стороны всех жителей республики25. Во мне же никоторый из вас не найдет ничего подобного. Да и то еще: если этот Феаг, презирая беседу политиков, ищет каких-то других, которые объявляют, что могут учить молодых людей, то есть здесь и Продик хиосский, и Горгиас леонтинский, и Полос акрагантинский, и другие многие, которые так мудры, что, приходя в города, убеждают благороднейших и богатейших между юношами, чтобы они, имея возможность даром беседовать с какими угодно гражданами, оставили их беседы и обращались с этими, а для вознаграждения платили им очень большие деньги с придачей еще благодарности. Так из них которого-нибудь следовало предызбрать и сыну твоему и самому тебе, а меня – не следовало, потому что я не знаю ни одной из этих блаженных и прекрасных наук, хотя бы и желал, да и всегда-таки говорю, что мне приходится просто не иметь никакого знания, кроме неважного, относящегося к делам любовным26: в этом именно знании я почитаюсь сильнее кого бы то ни было и из прежних людей, и из нынешних.
Феаг. Видишь ли, батюшка, что Сократ, как мне кажется, не очень согласен обращаться со мной? С моей-то стороны и есть готовность, если бы ему угодно было, да он только шутит над нами. Я знаю некоторых моих сверстников и юношей немногим постарше меня, которые до обращения с ним ничего не стоили, а вошедши в его общество, в весьма короткое время оказываются лучше всех тех, сравнительно с кем сперва были хуже.
Сокр. Знаешь ли ты, сын Димодока, как это бывает?
Феаг. Да, ради Зевса, знаю, что, если бы ты захотел, и я был бы в состоянии сделаться таким, каковы те.
Сокр. Нет, добряк, тебе неизвестно, как это бывает, а я тебе скажу. По божественному жребию за мной с детства следует гений27– это голос, который, когда проявляется, всегда дает мне заметить, что я должен уклониться от того, что намерен делать, но никогда не наклоняет к чему бы то ни было. Поэтому, кто из моих друзей сносится со мной и в то же время проявляется голос, это самое отклоняет меня и не позволяет мне делать. В этом я представлю вам свидетелей. Ведь вы знаете того бывшего красавца Хармида28, сына Главконова. Некогда он объявил мне о своем намерении пробежать в Немеях стадию. Едва начал он говорить, что решается на этот подвиг, – вдруг проявляется голос. Тогда я стал отсоветовать ему это и сказал: «Между тем, как ты говорил, проявился во мне голос гения; так не подвизайся». «Может быть, он дает знать, – отвечал Хармид, – что я не одержу победы? Что же? Пусть не одержу, по крайней мере в это время доставлю себе пользу телесным упражнением». Сказав так, пустился он в подвиг. Стоит спросить его самого, что случилось с ним во время этого подвига. Если хотите, спросите и брата Тимархова, Клитомаха, что говорил ему Тимарх, когда умирал именно оттого, что не послушался гения, – спросите, что говорил и он, и стадийный скороход Эватл, принявший к себе бежавшего Тимарха. Он скажет вам, что Тимарх говорил ему следующее.
Феаг. Что такое?
Сокр. «Клитомах! – говорил он. – Я умираю теперь оттого, что не хотел послушаться Сократа». А что именно разумел под этим Тимарх, я расскажу. Когда Тимарх и Филимон, сын Филимонида, встали с пира, чтобы убить Никиаса29, сына Ироскамандрова – а они только двое и питали этот умысел, – тогда первый из них, вставши, сказал мне: «Что ты толкуешь, Сократ? Вы пейте, а я должен встать и куда-то идти; немного спустя возвращусь, если удастся». А у меня на ту пору – голос, и я тотчас сказал: «Никак не вставай; ведь вот во мне проявилось обычное знамение – гений». Он удержался, но спустя несколько времени снова порывался идти и сказал: «Иду, Сократ». А во мне опять голос – и я опять заставил его удержаться. В третий раз, чтоб утаиться от меня, он встал, не сказав мне ни слова, и, улучив минуту, когда мое внимание занято было чем-то другим, ушел потихоньку. Отправившись таким образом, он совершил то, от чего потом умер. Потому-то сказал он брату, как теперь сказал я вам, что причиной его смерти было неверие мне. Конечно, от многих слыхали вы и о том, что произошло в Сицилии30, как я говорил о погибели войска. О совершившемся вы можете слышать от тех, которые знают дело; но этот случай может служить пробой знамения, правду ли оно говорит. Когда Саннион красивый отправлялся на войну, мне было знамение – и между тем как теперь, чтобы сражаться с Тразиллом, идет он прямо к Ефесу и Ионии, мне думается, что или его ожидает смерть, или ему наскочить на что-нибудь подобное; вообще, я очень боюсь за нынешнее предприятие31. Все это я говорил тебе с намерением показать, что сила моего гения имеет важное влияние на собеседование обращающихся со мной лиц, потому что многим она противится, внушая, что от обращения со мной не получить им пользы, так что и обращаться с ними не позволяет. А многим быть моими собеседниками она и не препятствует, но беседование это нисколько им не полезно. Напротив, кому сила гения в собеседовании помогла бы, те выходят такими, какими и ты знаешь их – необыкновенно скоро делают успехи. Впрочем, из этих опять успевающих одни получают пользу прочную и постоянную; многие же во все время, пока обращаются со мной, удивительно успевают, а как скоро удаляются от меня, ничем не отличаются от всякого. Таким некогда оказался Аристид, сын Лизимаха, сына Аристидова. Обращаясь со мной, он в короткое время успел очень много; потом выпала ему какая-то война – и он поплыл; пришедши же назад, нашел в обращении со мной Фукидида32, сына Мелисиева, внука Фукидидова. Фукидид на первых порах несколькими словами выразил мне свое нерасположение. Поэтому, увидевшись со мной и поздоровавшись, Аристид стал разговаривать и между прочим сказал: «Я слышу, Сократ, что Фукидид несколько величается пред тобой и надмевается, будто что значит». «Так и есть», – отвечал я. «Что же? Разве не знает он, – продолжал Аристид, – что прежде, чем вступил в собеседование с тобой, был чуть не рабом?» – «Теперь-то не кажется таким, клянусь богами», – отвечал я. «Впрочем, и сам-то я, Сократ, кажусь для себя смешным», – сказал он. «Почему особенно?» – спросил я. «Потому, – отвечал он, – что до отплытия мог разговаривать со всяким человеком и никого не хуже являлся со своим словом, так что искал случаев беседовать с людьми самыми приятными; напротив, теперь, только что почую какого-нибудь ученого, тотчас бегу – так стыжусь я своего простоумия». – «Но вдруг ли оставила тебя эта сила или оставляла понемногу?» – спросил я. «Понемногу», отвечал он. «Отчего же это приключилось тебе? – спросил я. – Оттого ли, что, учась у меня, получил ты такое расположение, или каким иным образом?» – «Я скажу тебе, Сократ, – отвечал он. – Невероятно, клянусь богами, однако ж истинно. У тебя, как сам ты знаешь, я ничему не научился, однако ж беседуя с тобой, успевал, даже когда жил только в одном с тобой доме, а не в одной комнате; живя же в одной с тобой комнате, успевал еще более. И мне казалось, что успехи мои шли гораздо быстрее, когда, находясь в одной с тобой комнате, во время твоей беседы я смотрел больше на тебя, чем куда-нибудь в другую сторону; а еще заметнее и значительнее успевал, когда сидел возле тебя и прикасался к тебе. Теперь же, – сказал он, – тогдашнее состояние мое совершенно исчезло». Так вот каково наше собеседование, Феаг! Если угодно будет Богу, то ты очень много и скоро успеешь; а когда нет – не успеешь. Поэтому смотри, не безопаснее ли для тебя учиться у кого-нибудь из тех, которые сами ручаются за пользу, доставляемую ими людям, чем у меня, который предоставляет пользоваться тем, что случится.
Феаг. Мне кажется, Сократ, что мы должны поступить так: беседуя друг с другом, испытать этого гения. Если он позволит нам, будет очень хорошо; а когда нет – останется еще время посоветоваться, что делать: искать ли другого руководителя или попытаться живущее в тебе божество умилостивить молитвами, жертвами и всем, чего требуют прорицатели.
Дим. Не противоречь больше юноше, Сократ, ведь Феаг говорит хорошо.
Сокр. Если кажется, что так надобно сделать, – сделаем.
Менексен
Лица разговаривающие:
Сократ и Менексен
Сокр. С площади или откуда Менексен33?
Мен. С площади, Сократ, и из совета.
Сокр. Зачем же ты в совет? Впрочем, не явно ли, что почитаешь себя достигшим совершенства в образовании и философии34 и, сознавая в себе уже довольно сил, думаешь обратиться к большему; находясь еще в таком возрасте35, намереваешься, почтеннейший, начальствовать над нами, стариками, чтобы ваш дом36 никогда не переставал давать нам какого-нибудь попечителя.
Мен. Постараюсь, если только ты позволишь, Сократ, и посоветуешь начальствовать; а когда нет – не будет этого. Теперь же я ходил в совет, получив известие, что там намерены были избрать человека, имеющего говорить на случай37 убитых в сражении воинов. Ведь ты знаешь, что готовится им торжественное погребение38.
Сокр. Конечно; кого же избрали39?
Мен. Никого; отложили на завтра. Впрочем, будет избран, думаю, Архин либо Дион40.
Сокр. Так-то вот, Менексен, должно быть, по многим причинам хорошо умереть на войне: и погребение сделают прекрасное и пышное, хотя бы кто умер бедняком, и почтут похвалами, хотя бы был человеком пустым. А будут хвалить мужи мудрые и хвалящие не наобум, но приготовляющие речи задолго41; и хвалят они так хорошо, что говорят все, что к кому идет и не идет, и, как-то изящно расцвечивая речь словами, обвораживают наши души. Они всячески превозносят и город, и умерших на войне, и всех прежних наших предков, и нас самих, еще продолжающих жить; так что, хвалимый ими, я, Менексен, сильно возношусь духом и каждый раз, слушая их, стою как очарованный: мне представляется, что в ту минуту я сделался и больше, и благороднее, и прекраснее. Притом за мной почти всегда следует и вместе со мной слушает толпа иностранцев, и я тогда бываю для них почтеннее; ибо, убеждаемые говорящим, и они, мне кажется, таким же образом смотрят как на меня, так и на весь город, то есть почитают его более удивительным, чем прежде. И эта почетность остается при мне более трех дней: речь и голос говорящего такой флейтой звучат в ушах, что едва на четвертый или на пятый день я бываю в состоянии опомниться и почувствовать, где я на земле, а до того времени думаю только, не на островах ли я блаженных душ. Так ловки у нас риторы!
Мен. Ты, Сократ, всегда шутишь над риторами. Впрочем, тот, кого изберут теперь, будет говорить, думаю, не слишком свободно, потому что избрание совершится вовсе неожиданно42, так что говорящему, может быть, необходимо будет говорить прямо, без приготовления.
Сокр. С чего ты43 взял, добряк? У каждого из них речи заранее готовы; да об этом-то и без приготовления говорить нетрудно. Вот если бы надлежало хвалить афинян в Лакедемоне или лакедемонян в Афинах, то, конечно, нужен был бы ритор добрый, умеющий убедить и представить предмет в хорошем виде; а кто подвизается среди тех, кого хвалит, – тому хорошо говорить, кажется, дело невеликое44.
Мен. Думаешь, нет, Сократ?
Сокр. Конечно нет, клянусь Зевсом.
Мен. А думаешь ли, что ты был бы в состоянии сам сказать, если бы надлежало и совет избрал тебя?
Сокр. Да мне-то, Менексен, нисколько не удивительно быть в состоянии сказать, потому что у меня была не слишком плохая учительница риторики, а такая, которая сделала добрыми риторами и многих других, и одного отличнейшего из Эллинов – Перикла, сына Ксантиппова45.
Мен. Кто же она? Впрочем, явно, что ты говоришь об Аспазии.
Сокр. Говорю также и о Конне46, сыне Митровиевом. Они оба были моими учителями. Последний учил меня музыке, а первая риторике. Так человеку, таким образом воспитанному, нисколько не удивительно быть сильным в слове. Нет, и тот, кто воспитан хуже меня, кто музыке учился у Лампра, а риторике – у Антифона рамнусийского, – и тот, однако ж, был бы в состоянии прославить афинян-то, хваля их среди афинян.
Мен. Что же имел бы ты сказать, если бы надлежало тебе говорить?
Сокр. Сам по себе, может быть, ничего. Но я только вчера слышал, как Аспазия произнесла надгробную речь на этот самый случай. Ведь и она слышала о том, что ты говоришь, то есть что афиняне намерены избрать человека для произнесения речи, и частью мне тогда же объяснила, что надобно говорить, частью указала на прежний опыт исследования, когда слагала ту надгробную речь, которую произнес Перикл, склеив некоторые из ней отрывки.
Мен. А помнишь ли ты, что говорила Аспазия?
Сокр. Чтобы мне не помнить47? Ведь когда я учился у нее, тогда за свою забывчивость едва ли не получал ударов.
Мен. Почему же бы тебе не пересказать?
Сокр. Да как бы не рассердилась на меня учительница, если перескажу ее речь.
Мен. Нисколько48, Сократ; скажи, и ты доставишь мне большое удовольствие – Аспазииной ли угодно тебе почитать эту речь, или чьей бы то ни было – только скажи.
Сокр. Но, может быть, ты будешь смеяться надо мной, если тебе покажется, что я, старик, еще ребячусь49.
Мен. Нисколько, Сократ; непременно скажи.
Сокр. Да уж надобно доставить тебе это удовольствие – почти так же, как я доставил бы тебе его, если бы ты приказал мне раздеться и плясать50, потому что мы наедине. Слушай же. Она, если не ошибаюсь, начала свою речь от самих умерших и говорила так: «Они на деле51 у нас имеют то, что им прилично, что получивши, идут роковым путем, сопровождаемые городом вообще и домашними в частности. Теперь и закон велит, да и должно этим мужам воздать уже последнюю честь речью, ибо память и честь хорошо совершенных дел воздается подвизавшимся посредством прекрасной речи, произносимой слушателям. Но тут требуется какая-нибудь такая речь, которая и достаточно хвалила бы умерших, и благоприятно уговаривала живущих, повелевая детям и братьям подражать их добродетелям, а отцов и матерей и других еще дальнейших предков, если они остаются, услаждая утешениями. Какая же речь показалась бы нам такой? Или с чего правильно было бы начать хвалить доблестных мужей, которые и в жизни радовали своих добродетелью, и смерть выменяли на спасение живущих? Мне кажется, и хвалить их надобно, так как они родились добрыми, т. е. по природе52; а добрыми они родились потому, что родились от добрых. Итак, сперва будем величать их благородство, потом питание и образование53, а затем укажем на совершенные ими дела, сколь прекрасными и достойными своих совершителей оказались они.
Первым основанием их благородства служит род их предков; не пришлый54 какой, а потому потомки их оказываются не переселенцами в этой стране, пришедшими откуда-нибудь, а туземцами, которые обитают и живут действительно в отечестве, вскормлены не мачехой, как другие, а матерью55 страны, где жили, и теперь, по смерти, лежат56 в домашних приютах матери, их родившей, вскормившей и воспринявшей. Итак, весьма справедливо наперед почтить эту мать, ибо таким образом будет почтено вместе и благородство ее сынов. Эта страна достойна того, чтоб ее хвалили все люди, а не мы одни, – достойна и по другим многим причинам, но по первой и величайшей причине той, что она любима богами. А что слово наше верно, свидетельствуют распря и суд состязавшихся за нее богов57. Если же и боги хвалили ее, то не будет ли справедливо хвалить ее всем людям? Вторая похвала ей по праву та, что в те времена, когда вся земля производила и рождала различных животных, зверей и быков, наша страна не выводила на свет диких зверей и являлась чистой; из животных выбрала и родила она человека – животное, превышающее всех прочих разумением и одно признающее правду и богов. Великая сила этого слова состоит в том, что та же земля произвела их и наших предков, ибо все рождающее имеет пищу, годную для того, что от него рождается58. По тому узнается и женщина, действительно ли родила она или не родила, а только подложена, что для рожденного она не имеет источника пищи. Так это-то удовлетворительное доказательство представляет и наша земля – наша мать, что ей рождены люди; так как она одна и первая в то время произвела человеческую пищу – пшеницу и ячмень, чем прекрасно и в совершенстве питается человеческий род, доказывая, что родила это животное действительно она. Такие доказательства еще более надобно прилагать к земле, чем к женщине, потому что в беременности и рождении не земля подражает женщине, а женщина – земле. И на этот плод земля наша не скупилась, но уделяла его и другим; а потом своему порождению даровала новое порождение, масло – помощь в трудах. Вскормивши же и вырастивши его до совершеннолетия, она привела к нему правителей и учителей – богов, которых имена здесь можно пропустить, ибо мы знаем, что они устроили нашу жизнь, преподав нам первым для ежедневных нужд искусства и научив нас для охранения страны приобретать и употреблять оружие.
Быв рождены и таким образом воспитаны, предки этих умерших жили в устроенной форме правления, о которой следует кратко упомянуть, потому что форма правления есть пища людей – хорошая добрым, а противная злым. Итак, необходимо показать, что жившие прежде нас вскормлены в форме правления хорошей, что через нее и те были добры, и нынешние, к числу которых относятся также умершие. Ведь форма правления и тогда, и теперь – та же самая, аристократическая59, которой мы и ныне управляемся, и по большей части60 управлялись во все время. А называет ее тот – демократией, другой – как ему угодно; поистине же, это – аристократия, соединенная с одобрением народа. Ведь у нас хотя всегда есть цари61, однако ж они бывают то природные, то избранные. Предержащая сила города есть народная сходка; а начальствование и власть она всегда вверяет тем, которые кажутся наилучшими, и никто не отвергается ни по слабости, ни по бедности, ни по незнатности отцов, равно и человек с противными качествами не удостаивается чести, как это бывает в других городах. Здесь одно определение – получать власть и начальство прослывшему мудрым и добрым. Причина же такой формы правления у нас есть равенство рода, ибо прочие города составились из различных и несходных между собой людей, посему и формы правления у них несходны одна с другой: там бывают они тиранские, олигархические – и люди в тех городах живут, почитая себя иные – рабами, иные – господами друг друга. Напротив, мы и наши, родившись все, как братья, от одной матери, не хотим быть ни рабами, ни господами одни других; но равнородство по природе заставляет нас искать равнозаконности по закону, и никому иному не уступать, разве увлекаясь молвой об уме и доблести.
Таким-то образом отцы их и наши и сами эти, благорожденные и воспитанные во всякой свободе, проявили много дел прекрасных для всех людей – проявили частно и обществом – в той мысли, что для сохранения свободы должно сражаться с греками за греков, а с варварами – за целую Грецию. Теперь мало времени, чтобы достойно рассказать о войне их против Евмолпа62, амазонок63 и других, еще прежде угрожавших нашей стране, и о том, как они помогали аргивянам против кадмеян64 и ираклидянам против аргивян65. О доблести их довольно уже вспоминали и музыкально всем передали поэты. Если же и мы решились бы прозаическим словом66 украшать те же подвиги, то, может быть, явились бы на втором плане. Итак, об этом, по означенной причине, мне кажется, можно умолчать, хотя и это имеет свое достоинство. Но о том, чего не брал за предмет ни один поэт и за что, хваля достойных, не увенчал их достойной славой, что остается в забвении, – о том, мне кажется, надобно вспомнить в похвальной речи и вызвать других, которые бы, соответственно делам, изложили это в одах и в иных стихотворениях. Из дел, о которых я говорю, первое место занимают следующие: когда персы, владычествуя над Азией, порабощали и Европу, тогда удержали их выходцы из здешней страны – предки наши, поэтому справедливость требует вспомнить о них первых и восхвалить их добродетель. Но кто намерен хвалить хорошо, тому надобно говорить, вращаясь своим словом в том времени, в которое вся Азия раболепствовала уже третьему царю. Первый из них, Кир, освободив своим умом сограждан своих, персов, вместе поработил и господ их мидян и овладел прочей Азией до Египта; потом сын его завоевал Египет и Ливию, сколько она была доступна; третий же, Дарий, сухопутно распространил свое царство до пределов скифских, а на кораблях овладел морем и островами, так что никто не смел противиться ему – порабощены были умы всех людей. Столько-то великих и воинственных народов покорено было персидской монархией! Выдумав предлог, будто мы имели замыслы в отношении к сардам, Дарий обвинял вас и эретрийцев, и, на судах и кораблях, которых было триста, послал пятьсот тысяч войска67 под предводительством Датиса, сказав ему, чтобы он, если хочет иметь голову на плечах, на возвратном пути привел пленных эретрийцев и афинян. Приплыв в Эретрию, где из тогдашних эллинов были люди, в военном деле знаменитейшие и немалочисленные, Датис в течение трех68 дней овладел ими и проследил всю их страну так, чтобы никто не ушел. Пришедши к пределам Эретрии, воины его протянулись от моря до моря и, схватившись за руки, прошли через всю эту область, чтобы могли сказать царю, что никто из нее не ушел. С таким же намерением из Эретрии прибыли они в Марафон, думая, что им легко будет забрать и афинян, застигнутых той же самой необходимостью, какой и эретрийцы. Между тем как то совершалось, а это предпринималось, никто из эллинов не подавал помощи ни эретрийцам, ни афинянам, кроме лакедемонян. Да и эти пришли в последний день сражения; все же прочие, пораженные страхом, помышляя в настоящее время о собственном спасении, молчали. Вот тогда-то69 кто жил бы, так узнал бы, каковы по доблести были марафоняне70, встретившие силу варваров, наказавшие71 за высокомерие всю Азию и поставившие прежде всех варварские трофеи, став вождями и учителями других, что персидская армия была не непобедима и что всякая многочисленность и всякое богатство уступают добродетели72. Поэтому тех мужей я называю отцами не только наших тел, но и свободы – как нашей, так и всех, живущих на этом материке, ибо, взирая на сие дело, эллины отваживались на опасность и в последующих сражениях за свое спасение и были учениками марафонян. Итак, лучшую дань речи надобно посвятить выдержавшим морское сражение и победившим при Саламине и Артемизии. Ведь о тех мужах иной мог бы рассказать многое: какие выдержали они нападения на суше и на море и как эти нападения были грозны; но я упомяну о том, что кажется мне и того превосходнее и что совершили они вслед за подвижниками в деле марафонском. Марафоняне настолько лишь показали себя эллинам, насколько можно было немногим отразить многих варваров на суше, но на кораблях это было еще неизвестно; шла молва, что персы и по многочисленности, и по богатству, и по искусству, и по силе на море непобедимы. Так то-то именно в сражавшихся тогда на море мужах достойно похвалы, что они рассеяли страх, обуявший эллинов, и заставили их не бояться множества кораблей и людей. Таким-то образом прочим эллинам пришлось принять урок от тех и других – и от пехотинцев марафонских, и от моряков саламинских, – и от тех на суше, а от этих на море научиться и привыкнуть не бояться варваров. Третьим же я называю дело при Платее – третьим и по порядку, и по доблести из дел, совершенных для спасения греков, но оно было уже общее лакедемонянам и афинянам. Все эти воины отразили великое и страшное бедствие, и за такую свою доблесть теперь нами восхваляются и будут восхваляемы в последующие времена потомками. Впрочем, и после того многие эллинские города были еще на стороне варваров и говорили, что сам царь думает опять приняться за эллинов. Так справедливо будет вспомнить нам и о тех, которые делам первых положили спасительный конец, изгнав все варварское племя и очистив море73. Это были те, которые сражались на море при Евримедоне74, вели войну против Кипра75, плавали в Египет и во многие другие места. Вспоминая о них, мы должны воздать им благодарность, что они заставили царя опасаться за собственное свое спасение, а не замышлять истребление эллинов.
Но тяжесть этой-то войны против варваров истощила весь город76, хотя ведена была им как за себя, так и за прочие одноязычные города. Когда же наступил мир и наш город был почтен, восстала против него (что в отношении к благополучнейшим из людей обыкновенно случается) сперва зависть, а за завистью – ненависть. И это против воли поставило его в войну с эллинами. После сего, по случаю воспламенившейся войны77, афиняне вступили в сражение с лакедемонянами при Танагре за свободу Беотии. Сражение колебалось, но последняя битва решила дело: одни отступили и удалились, оставив беотийцев, которым помогали; а наши, на третий день одержав победу при Инофитах, справедливо возвратили несправедливо изгнанных78. Они первые после персидской войны, помогая воюющим за свою свободу эллинам против эллинов, явились мужами доблестными, освободителями тех, кому помогали, и за то легли первые в этом памятнике, которым почтил их город. После того, когда возгорелась война великая79 и все эллины, вооружившись против афинян, разоряли их страну и воздавали им недостойную благодарность, наши, победив их в морском сражении и взяв у них в Сфагии лакедемонских военачальников, которых могли бы умертвить, пощадили их, отдали и заключили мир – в той мысли, что с единоплеменниками надобно воевать до победы и не губить общего блага эллинов, потворствуя гордости своего города, а с варварами – до истребления их. Так достойны похвалы мужи, участвовавшие в этой войне и положенные здесь80, ибо они показали, что тот несправедливо сомневается, кто думает, будто в прежней войне против варваров были не те афиняне – лучше нынешних. Да, ими здесь показано, что, когда Эллада волновалась, они, управляя войной, одерживали верх над вождями прочих эллинов и, побеждая их, каждого отдельно, вместе с ними побеждали варваров. Третья война после этого мира была неимоверная и ужасная, в которую умерли и легли здесь многие и доблестные мужи. Многие из них поставили множество трофеев в Сицилии, сражаясь за свободу леонтинян, которым помогали, когда, для соблюдения клятвы81, приплыли в те места, и когда, по далекости плавания, город наш, поставленный в затруднение, не мог поддержать их, и плававшие, от этого пришедши в отчаяние, испытали бедствие. Впрочем, враги82 их на войне за свою умеренность и добродетель заслуживают гораздо больше похвалы, чем у иных друзья. Многие также из афинян, в морских сражениях на Геллеспонте, в один день забрали все неприятельские корабли и одержали много других побед83. А что эту войну я назвал страшной и неимоверной, – то назвал потому, что прочие эллины, вступив в состязание с нашим городом, дерзнули отправить послов к враждебнейшему царю, и этого варвара, которого вместе с нами некогда изгнали из Греции, теперь сами по себе опять призывали на эллинов84, чтобы против нашего города собрать всех греков и варваров. За то тут-то и открылась его сила и доблесть. Когда полагали, что он сделался жертвой войны и что при Митилене заперт его флот, вдруг – помощь из шестидесяти кораблей; на них восходят эти самые, и – как мужи, по сознанию всех, отличнейшие – побеждают врагов и освобождают85 друзей; но, получив жребий недостойный, они не были вытащены из моря, и лежат здесь86. О них помнить и их хвалить должно всегда, ибо их доблестью мы выиграли не только тогдашнее морское сражение, но и успех дальнейшей войны: через них о нашем городе составилось мнение, что он не может быть побежден и всеми людьми – и это мнение справедливо. Если же наши и были побеждены87, то побеждены внутренним несогласием, а не другими. От других-то мы и теперь еще непобедимы, а побеждаем самих себя и побеждены сами от себя. После сего, когда настала тишина и мир88 с другими, у нас возгорелась такая война домашняя89, что если бы людям суждено было возмущаться, то всякий желал бы, чтобы его город страдал не иначе, как этой болезнью, ибо с каким удовольствием и дружеским расположением соединились между собой граждане и из Пирея, и из частей городских и, сверх чаяния прочих эллинов, прекратили войну против возмутителей элевзинских90! И причина всего этого не иная, как сродность, не словом, а делом доставляющая твердое и, по единоплеменности, братское дружество. Итак, надобно иметь память и об умерших друг от друга во время сей войны и просить их, как можем, молитвами и жертвами, чтобы лежащие здесь побежденные примирились с победившими, если только мы сами восстановили мир между собой, ибо не злобой взаимной и не враждой были они затронуты, а несчастьем. Мы, живущие, – сами свидетели этих бедствий. Принадлежа к тому же роду, к которому и они, мы прощаем один другому, что сделали и что потерпели. После сего наступил у нас совершенный мир, и город наслаждался тишиной. Он простил варварам, которые, довольно пострадав от него, недостаточно отмстили за себя; но на эллинов досадовал, помня, как, быв им облагодетельствованы, они отблагодарили его, когда, соединившись с варварами, истребили его флот91, который спас их, и разрушили стены – за то, что мы отклонили разрушение их стен. Поэтому наш город положил в мысли не защищать эллинов – эллины ли будут порабощать их или варвары – и так жил. Между тем как мы держались такой мысли, лакедемоняне подумали, что мы, покровители свободы, пали, а потому теперь их дело – поработить других, и начали это. Но для чего долго рассказывать? Ведь не древние и не за много лет случившиеся события стали бы мы припоминать после этого. Сами знаем, как первые из эллинов – аргивяне, беотийцы, коринфяне – пораженные страхом, приходили просить защиты у города; и что всего удивительнее, даже сам царь находился в таком затруднении, что не оставалось ему ниоткуда более ожидать спасения, как от того города, который прежде старался он погубить92. И вот, если бы кто захотел справедливо осуждать наш город, то в осуждение его мог бы справедливо сказать только то, что он всегда слишком сострадателен и попечителен о слабом. Так-то и в тогдашнее время не в состоянии был он утерпеть и устоять в своем слове – не помогать никому порабощаемому, кто обижал его, но склонялся и помогал и, подав помощь эллинам, избавил их от рабства, так что они были свободными до тех пор, пока не поработили сами себя; помочь же царю он не отважился, стыдясь трофеев Марафона, Саламина и Платеи, а позволил только ссылочным93 и наемникам идти к нему на помощь и, бесспорно, спас его. Потом, восстановив стены и построив флот, он ожидал войны и, когда принужден был воевать, вступил в войну с лакедемонянами за парийцев94.
Видя, что лакедемоняне избегают морского сражения с нашим городом, царь стал бояться его и старался отторгнуть от союза с ним живущих на материке эллинов, которых прежде предали ему лакедемоняне95, и за это обещался помогать своим оружием как нам, так и всем нашим союзникам; а так как на это они не согласятся, то и думал в этом найти предлог к восстанию. Но прочие союзники обманули его ожидания: они соглашались предать ему живущих на материке эллинов; коринфяне, аригивяне, беоттийцы и другие условились и поклялись в этом, если он даст им денег – одни только мы не дерзнули96 ни продать своих единоплеменников, ни поклясться. Так-то вот благороден, свободен, тверд, неиспорчен и по природе враждебен варварам наш город! Это – эллины чистые, без примеси стихии варварской. Не пелопсяне, не кадмейцы, не египтяне, не данайцы и не другие, по природе варварские, а по закону эллинские племена живут с нами – но самые эллины, не смешавшиеся с варварами. Отсюда нашему городу врождена чистая ненависть к природе чуждой. Однако ж, не согласившись совершить постыдное и нечестивое дело – предать эллинов варварам, – мы опять остались одни: только теперь, пришедши в такие обстоятельства, в которых прежде были побеждены, при помощи божией лучше повели войну, чем тогда; ибо, имея корабли и стены97, сохранили от войны и наши колонии. С какой охотой старались отделаться от нее и наши неприятели! Впрочем, она тоже лишила нас мужей доблестных, из которых одни погибли в Коринфе от местных неудобств, другие – в Лехее – от предательства98. Доблестны были и освободившие царя, и прогнавшие с моря99 лакедемонян. Я напоминаю вам об этих мужах, а вы должны восхвалить и украсить их память.
О делах таких мужей, каковы здесь лежащие, равно как и о других, сколько ни умерло их за отечество, говорено уже было много прекрасных речей, но остается еще более – прекраснейших, ибо не достало бы многих дней и ночей тому, кто захотел бы проследить все это. Итак, всякий человек100, помня о них, должен передавать их потомкам, чтобы они на войне не оставляли места своих предков и не отступали назад, побеждаемые злом. Да я и сам, о дети мужей доблестных, как теперь прошу, так и в другое время, когда бы ни случилось встретиться с вами, буду просить вас, буду напоминать и приказывать вам, чтобы вы были людьми самыми отличными. Теперь же считаю долгом сказать то, что внушали нам отцы передавать остающимся, когда последние будут в опасности подвергнуться какому-нибудь бедствию. Я выскажу вам, что слышал от них самих и что сами они, если бы могли, судя по тогдашним их словам, сказали бы вам. Представляйте же, что они слышат мои завещания. Вот слова их.
Дети, что у вас были родители добрые, о том свидетельствует настоящее торжество. Могли мы худо жить, но предпочли лучше хорошо умереть, прежде чем покрыли бы бесславием вас и позднейших потомков, прежде чем посрамили бы наших отцов и весь прежний род, – предпочли в той мысли, что кто срамит своих, тому жизнь не в жизнь, и что никто ни из людей, ни из богов не будет ему другом – на земле ли он умер или под землей. Итак, помня наши слова, вы, если подвизаетесь и в чем другом, должны подвизаться доблестно, зная, что все стяжания и занятия без этого постыдны и худы. Ведь ни богатство не доставляет блага тому, кто приобрел его малодушно – ибо такой богатеет другим, а не себе101, – ни красота телесная и сила не к благообразию служат тому, кто труслив и зол, а к безобразию – ибо кто имеет эти свойства, тот становится еще более заметным, когда обнаруживает трусость. Всякое же знание, отдельно от справедливости и другой добродетели, представляется плутовством, а не мудростью102. Посему и прежде, и после, и во всякое время должны вы усердно стараться, как бы знаменитостью превзойти и нас, и предков. А когда нет – знайте, что если доблестью мы победим вас, эта победа покроет нас стыдом; если же, напротив, будем побеждены вами – это поражение доставит нам счастье. А особенно были бы мы побеждены и вы победили бы нас тогда, когда бы оказались готовыми не злоупотреблять славой предков и не помрачать ее, зная, что для человека, имеющего о себе некоторое понятие, нет ничего постыднее, как выдавать себя почтенным не за себя, а за славу предков. Честь предков103 для потомков есть, конечно, прекрасное и великолепное сокровище, но пользоваться этим сокровищем их богатства и чести и, по недостатку собственных своих стяжаний и славных дел, не передавать их потомкам – постыдно и малодушно. Если вы будете стараться об этом, то, как друзья наши, когда потребует того неизбежная судьба, перейдете к нам, друзьям; напротив, кто пренебрежет нас и обесчестит, того никто благосклонно не примет. Да будет сказано это нашим детям.
А отцов наших, у кого они есть, и матерей всегда должно увещевать, чтобы они как можно легче переносили случившееся несчастье и не присоединяли своего сетования, ибо умершие не имеют нужды в прибавке плачущих: случившееся бедствие и само будет достаточно для возбуждения слез, – но были здравомысленнее и спокойнее, помня, что чего они просили себе, как величайшего блага, тому самому боги и вняли. Ведь не бессмертия просили они своим детям, а доблести и знаменитости – и дети получили эти величайшие блага. Но, чтобы все в жизни смертного человека выходило по его мыслям, это нелегко. Мужественно перенося несчастья, они, как отцы действительно мужественных детей, и сами покажутся такими же; а поддавшись скорби, возбудят подозрение, что либо мы дети не этих отцов, либо хвалящие нас ошибаются. Между тем не должно быть ни того ни другого; но те, первые, пусть особенно хвалят нас самым делом, показывая в себе поистине таких отцов, которые являются мужами мужей. Ведь старинная пословица – ничего слишком104– кажется, заключает в себе прекрасную мысль, ибо это в самом деле хорошо сказано. У кого все, относящееся к счастью или почти к счастью, зависит от него самого, а не от других людей, которых счастье или несчастье по необходимости увлекает за собой и его судьбу, – того жизнь устроилась превосходно, тот рассудителен, тот мужествен и благоразумен, тот – прибывают ли деньги или дети или убывают – остается верен этой пословице и, веря ей, не будет слишком ни радоваться, ни печалиться. Этого-то требуем мы от своих, этого хотим и это говорим. Такими выставляем мы теперь и самих себя: не будем слишком ни тревожиться, ни бояться, если бы даже надлежало умереть в эту минуту. Итак, просим и отцов наших, и матерей проводить остальную жизнь с этой самой мыслью и знать, что не слезами и стонами особенно доставят они нам удовольствие – напротив, если умершие сохраняют какое-нибудь чувство в отношении к живущим, этим возбудилось бы в нас скорее неудовольствие, что, тяжело перенося несчастья, они бесчестят себя; тогда как перенося их легко и умеренно, доставили бы нам приятное. Ведь наша жизнь тогда получит уже такую кончину, какая у людей почитается самой лучшей, так что ее приличнее украшать похвалами, чем оплакивать. Пусть они лучше примут на себя попечение о наших женах и детях, кормят их и на это обратят внимание; а о несчастье пусть забудут и живут как можно лучше, правее и для нас благоприятнее. Для наших от нас довольно этого завещания; городу же приказали бы мы заботиться о наших отцах и детях, последним давая благонравное воспитание, а первым – достойную старцев пищу. Впрочем, знаем, что хотя бы мы и не приказывали, город будет иметь о них достаточную заботливость.
Это-то, дети и родители умерших, поручили нам они возвестить, – и я с наивозможным усердием возвещаю, да и сам прошу за них – прошу одних подражать своим, других – не беспокоиться касательно себя, потому что мы и частно, и обществом будем снабжать вашу старость пищей и иметь о вас попечение, где бы кому ни случилось встретиться с кем-нибудь из таких людей. А что касается до заботливости города о вас, то вы и сами знаете, что законом положено пещись о детях и родителях граждан, умерших на войне, и что предписано высшему правительству105 отцов их и матерей, преимущественно пред прочими гражданами, охранять от обид. Детям же город дает совместное воспитание, всемерно стараясь, чтобы они не замечали своего сиротства. Для этого он во время их отрочества становится им сам вместо отца, а когда наконец они достигают мужеского возраста106, посылает их на родину, украшенных полным вооружением107, и, передавая их памяти знания отца, дает им орудия отцовской добродетели, вроде предзнаменования, что каждый из них начнет управлять ходом дел у отеческого очага, облеченный оружием силы. А чтить самих умерших город никогда не перестает, но ежегодно108 совершает установленный законом праздник и делает для всех вообще то самое, что частно делается для каждого отдельно. Сверх того, он установил в память их гимнастические, конские и всякие музыкальные109 игры. Просто сказать: в отношении к умершим отцам он принимает жребий наследника и сына, в отношении к детям – жребий отца, а в отношении к родителям и родственникам – жребий попечителя, и имеет попечение все, обо всех и всегда. Размышляя об этом, надобно спокойнее переносить несчастье, ибо таким образом вы сделаетесь любезнее и умершим, и живущим, и вам будет легко как услуживать, так и принимать услуги. Теперь же и вы, и все прочие, по закону сообща оплакавши умерших, удалитесь. Вот тебе речь Аспазии мелисийской, Менексен!
Мен. Клянусь Зевсом, Сократ, ты можешь назвать Аспазию очень блаженной, если, будучи женщиной, она в состоянии сочинять такие речи.
Сокр. А если не веришь, следуй мне, и услышишь, как она говорит.
Мен. Часто встречался я с Аспазией, Сократ, и знаю, какова она.
Сокр. Что же? Не удивляешься ей, однако благодаришь ее за эту речь?
Мен. Да и великую за эту речь, Сократ, приношу я благодарность – ей или ему, кто бы ни сказал ее; прежде же многих других, благодарю произнесшего.
Сокр. Хорошо; но не выдай меня, чтобы я и еще произнес тебе много прекрасных ее речей политического содержания.
Мен. Не бойся, не выдам; только произноси.
Сокр. Так и будет.
Эвтидем
Лица разговаривающие:
Критон, Сократ, Эвтидем, Дионисиодор, Клиниас и Ктизипп
Крит. С кем это, Сократ, разговаривал ты вчера в Ликее? Вы окружены были такой толпой народа, что, подошедши послушать вас, я никак не мог вслушаться в предмет вашего рассуждения; а когда приподнялся на пальцы, мне показалось, что с тобой беседовал какой-то иностранец. Кто он такой?
Сокр. О котором иностранце спрашиваешь ты, Критон? Там был не один, а два.
Крит. Тот, которого я разумею, сидел третий по правую твою руку, а между вами – маленький сын Аксиоха110, который, на мой взгляд, очень подрос, так что по возрасту как будто немногим отстает от нашего Критовула, только тот сухощав, а этот полон, красив и хорош лицом.
Сокр. Иностранец, о котором ты спрашиваешь, Критон, был Эвтидем, а по левую руку возле меня сидел брат его, Дионисиодор, и также участвовал в разговоре.
Крит. Я не знаю ни того ни другого, Сократ.
Сокр. Видно, какие-то новые софисты111.
Крит. Откуда они? И в чем состоит их мудрость?
Сокр. Родом они, думаю, оттуда же, где и были, то есть из Хиоса112 потом переселились в Туриос, а из Туриоса ушли в нашу сторону и проживают здесь уже много лет. Что же касается до мудрости, о которой ты спрашиваешь, то чудеса, Критон: они все знают! До сих пор я не понимал, что такое всезнайка, а теперь – вот дивные атлеты! Это уже не акарнанские братья113: те были могучи только телесными силами, а эти, во‐первых, люди сильные и по телу в таком роде боя, в котором можно побеждать всех114, потому что мастера не только сами владеть оружием, но за известную плату научить и других тому же; люди сильные ходить и по судам, где лично подвизаются и наставляют охотников говорить и писать судебные речи. Доныне они были искусны только в этом, а теперь уже вполне увенчали свое всепобедительное искусство; доныне по крайней мере один род борьбы оставался у них неиспробованным, а теперь и это так совершено ими, что никто не в состоянии против них и заикнуться. Вот как сильными сделались они в устных состязаниях и в опровержении всякой мысли, ложная ли она или истинная! Итак, я думаю, Критон, вверить себя этим мужам, потому что они обещаются в короткое время сделать и всякого столь же сильным.
Крит. Как, Сократ, разве не пугают тебя лета? Ведь ты уже стар.
Сокр. Нисколько не пугают, Критон. Я имею достаточную и утешительную причину не бояться их. Сами Эвтидем и Дионисиодор, можно сказать, уже в старости начали учиться этой мудрости, этому вожделенному для меня искусству состязаться. За год или за два они не были мудрецами. Одного только боюсь: не подать бы повода издеваться над этими иностранцами, как над Конном Митровийским, цитристом, который доныне продолжает учить меня на цитре. Дети, сотоварищи мои в его школе, смотря на нас, и меня осмеивают, и Конна называют учителем стариков – как бы не подвергнуть и их такому же поношению. Да может быть, они и сами того же боятся и не вдруг соглашаются принять меня. Я уже подговорил, Критон, некоторых стариков ходить вместе со мной на уроки Конна, других подговорю посещать уроки Эвтидема и Дионисиодора. Да почему бы и тебе, Критон, не быть моим товарищем?115 А для приманки поведем детей твоих: принимая их, они, знаю, будут учить и нас.
Крит. Не мешает, если тебе угодно, Сократ. Но прежде скажи о мудрости этих людей, чтобы знать, чему мы будем учиться у них.
Сокр. Подожди, услышишь. Будто я и не могу сказать, как бы не понял их? Нет, я очень понял, помню и постараюсь пересказать тебе все сначала. По внушению какого-то бога, там, где ты видел меня, то есть в раздевальнице116, сидел я один и уже хотел встать; но вот вдруг – обычное мне знамение, гений117, и я опять сел. Вскоре после того вошли Эвтидем и Дионисиодор с множеством, как мне показалось, учеников своих. Вошедши, они начали прохаживаться в крытой галерее и еще не сделали двух-трех поворотов, как вошел Клиниас, который действительно очень подрос, твое замечание справедливо, а за ним толпа приятелей его и, между прочими, некто Ктизипп Пеанийский, прекрасный и добрый юноша по природе, но задорный по молодости. Клиниас, заметив при самом входе, что я сижу один, подошел прямо ко мне и сел по правую мою руку, как сам ты сказал. Дионисиодор и Эвтидем, увидев его, сперва остановились и разговаривали друг с другом, время от времени поглядывая на нас, а я внимательно наблюдал за ними; потом подошли к нам, и один из них, Эвтидем, сел подле мальчика, а другой подле меня с левой руки, прочие же – кому где случилось. Я поклонился им, так как и прежде по временам видался с ними; потом, обратившись к Клиниасу, сказал:
– Клиниас! Представляю тебе Эвтидема и Дионисиодора, мудрецов в вещах не маловажных, а великих. Они знают все, относящееся к войне, – все, что нужно знать человеку, желающему сделаться искусным полководцем, то есть как располагать и весть войско, как сражаться оружием; они могут также научить, как помогать самому себе в судах в случае какой-нибудь обиды.
Когда я сказал это, Эвтидем и Дионисиодор обнаружили свое неудовольствие, потому что, посмотрев друг на друга, улыбнулись. Потом первый из них примолвил:
– Не этим уже мы серьезно занимаемся, Сократ; такое занятие у нас только между делом.
Тут я изумился и сказал:
– Значит, ваше дело, должно быть, прекрасно, если подобное занятие для вас только безделка. Скажите же, ради богов, в чем состоит это прекрасное упражнение?
– Мы признаем себя способными, Сократ, – отвечал он, – превосходнее и скорее всех преподать добродетель.
– О, Зевс! – вскричал я. – Какое великое дело! Да где нашли вы это сокровище?118 А я думал о вас так, как сей час же говорил, то есть что вы с особенным искусством действуете оружием, да так и рассказывал о вас. Помнится даже, что и сами вы, в первое время прибытия к нам, объявляли о себе то же. Но если теперь поистине обладаете и этой наукой, то умилосердитесь119; от души приветствую вас, как богов, и прошу у вас прощения в прежних словах своих. Впрочем, смотрите, Эвтидем и Дионисиодор, правду ли вы сказали? Ведь не удивительно не верить, когда обещаете так много.
– Будь уверен, Сократ, что правду, – отвечали они.
– Поздравляю же вас с таким приобретением гораздо более, чем великого царя с владычеством. Однако ж скажите мне: намерены ли вы объявить всем об этой мудрости или думаете как иначе?
– Для того-то мы и приехали сюда, Сократ, чтобы объявить о себе и учить, кто пожелает учиться.
– О, ручаюсь, что все пожелают, кто не знает вашего искусства! Вот я первый, потом Клиниас, а там Ктизипп и все эти, – сказал я, указывая на друзей Клиниаса.
А они уже очутились вокруг нас: Ктизипп сперва сидел, кажется, далеко от Клиниаса; но, когда Эвтидем, разговаривая со мной, наклонялся вперед, потому что между нами был Клиниас, и заслонял его от Ктизиппа, он, желая смотреть на своего друга и вместе слушать разговор, первый вскочил со своего места и стал против нас. Потом его примеру последовали и другие, обычные приятели Клиниаса и друзья Эвтидема и Дионисиодора. На них-то указал я Эвтидему и примолвил, что все они готовы учиться. В самом деле, как Ктизипп, так и прочие изъявили сильное желание и в один голос просили его показать опыт своей мудрости.
Тогда я сказал:
– Эвтидем и Дионисиодор, как хотите, а надобно и их удовлетворить, и для меня сделать это. Показать себя во многом – дело, конечно, не малое; но скажите мне по крайней мере: того ли только, кто убежден, что должно у вас учиться, можете вы сделать добрым человеком, или и того, кто еще не убежден, потому что вовсе не почитает добродетели предметом науки, а вас – ее учителями? То есть к вашему ли искусству или к иному какому-нибудь относится также знание убедить человека, что добродетель изучима и что вы именно те люди, у которых можно научиться ей самым лучшим образом?
– Точно к нашему, Сократ, – отвечал Дионисиодор.
– Поэтому вы лучше, нежели кто-либо из современников, можете расположить к философии и добродетели?120
– Думаем-таки, Сократ.
– Отложите же все прочие рассуждения до другого времени, – сказал я, – а теперь покажите себя только в следующем: доставьте мне и всем присутствующим удовольствие, убедите этого мальчика, что должно философствовать и любить добродетель; это к нему, по его возрасту, идет. Я и прочие, здесь находящиеся, сильно желаем, чтобы он был самым лучшим человеком. Перед вами сын Аксиоха, следовательно, внук Алкивиада Старшего и племянник того, который ныне здравствует – имя его Клиниас121. Так как он молод, то мы опасаемся, чтобы кто-нибудь, предупредив нас, не развратил его и, пользуясь его молодостью, не наклонил мыслей его к каким-нибудь другим предметам. Поэтому вы пришли весьма кстати. Если для вас не составит это труда, испытайте нашего мальчика, побеседуйте с ним в нашем присутствии, – почти так говорил я.
На это Эвтидем решительно и смело сказал:
– Какой труд, Сократ; лишь бы юноша согласился отвечать.
– О, к этому-то именно он и привык, – заметил я, – друзья то и дело обращаются с ним, часто спрашивают его и заставляют разговаривать; следовательно, в ответах он будет, вероятно, смел.
Но как бы лучше рассказать тебе, Критон, что за этим последовало? Дело не маловажное – уметь, при повторении, удержать такую необыкновенную мудрость. Приступая к рассказу, не призвать ли и мне на помощь Муз и Мнимосину, как призывают их поэты?
Начал Эвтидем и, помнится, следующим вопросом:
– Клиниас! Какие люди обыкновенно учатся: умные или невежды?
Ребенок, так как вопрос был труден122, покраснел и в недоумении посмотрел на меня; а я, видя, что он смешался, сказал:
– Не робей, Клиниас, отвечай смело: то или другое тебе кажется? Может быть, через это получишь великую пользу.
В ту же минуту Дионисиодор наклонился ко мне почти на ухо с комической улыбкой и молвил:
– Предсказываю тебе, Сократ, что как ни ответит дитя, во всяком случае будет обличено в ошибке123.
Между тем Клиниас уже отвечал, так что мне более не нужно было возбуждать его к смелости; он отвечал, что учатся умные.
– А называешь ли ты кого-нибудь учителями, – спросил Эвтидем, – или не называешь?
– Называю.
– Но учители не суть ли учители тех, которые учатся, как, например, цитрист и грамматист были твоими и других детей учителями, а вы – их учениками?
Согласился.
– А учась чему-нибудь, вы, конечно, прежде не знали того, чему учились?
– Не знали, – сказал он.
– И, однако ж, не зная того, были умны?
– Не так-то, – отвечал он.
– А если не умны, то невежды?
– Правда.
– Итак, учась тому, чего не знали, вы учились невеждами?
Мальчик согласился.
– Значит, умные учатся невеждами, а не умными, как ты думал, Клиниас.
Лишь только он сказал это, как все последователи Дионисиодора и Эвтидема дружно, будто хор по знаку капельмейстера124, зарукоплескали и подняли смех. Потом, прежде чем ребенок успел порядочно вздохнуть, Дионисиодор обратился к нему и сказал:
– А что, Клиниас? Как скоро грамматист говорит что-нибудь, которые дети разумеют слова его: умные или невежды?
– Умные, – отвечал Клиниас.
– Следовательно, учатся умные, а не невежды, и ты неправильно сейчас отвечал Эвтидему.
После этого-то почитатели софистов, сорадуясь их мудрости, уже слишком много смеялись и шумели, а мы, как оглушенные, молчали. Заметив наше смущение, Эвтидем, чтобы еще более удивить нас, не давал ребенку отдыха, продолжал спрашивать и, как хороший орхист, предлагал ему об одном и том же предмете125 сугубые вопросы.
– А что, Клиниас, – сказал он, – учащиеся тому ли учатся, что знают, или тому, чего не знают?
В ту же минуту Дионисиодор опять прошептал мне:
– Сократ! Ведь и это такая же штука, как прежняя.
– О Зевс! – отвечал я. – Да и первый-то вопрос делает вам много чести.
– У нас все равно неизбежны, – сказал он.