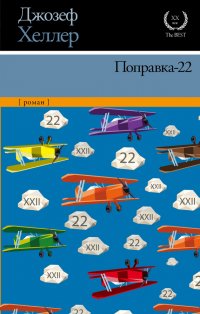Читать онлайн Видит Бог бесплатно
- Все книги автора: Джозеф Хеллер
Joseph Heller
GOD KNOWS
© Joseph Heller, 1984
© Перевод. С. Ильин, наследники, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
1. Ависага Сунамитянка
Ависага Сунамитянка моет руки, пудрит их до самых плеч, снимает одежды и приближается к моему ложу, чтобы возлечь поверх меня. Я понимаю, еще до того как она нежно облекает меня маленькими руками и ногами, крохотным пухлым животиком и благовонным ртом, что проку все едино не будет. Меня по-прежнему колотит дрожь, да и Ависага боится, что опять меня подведет. Холод, который снедает меня, идет изнутри. Ависага прекрасна. Говорят, она девственница. Ну и что? Прекрасных девиц я познавал и прежде и только зря время потратил. Обе женщины, которых я любил пуще всего в жизни, были замужем, когда я встретился с ними, обе научились тому, как меня ублажать, у своих первых мужей. И оба раза мне повезло, потому что мужья их померли в самое для меня подходящее время. Ависага Сунамитянка – милая, опрятная девушка, уступчивая и услужливая по натуре, со спокойными, грациозными движениями. Она моется каждое утро, каждый полдень и каждый вечер. Ступни и ладони она ополаскивает даже чаще, она скрупулезно чистоплотна и душится под мышками всякий раз, как приближается ко мне, чтобы покормить меня, или укрыть, или возлечь со мной. У нее хрупкое, нежное тело, гладкая, смуглая кожа, лоснистые прямые черные волосы, зачесанные назад и вниз и спадающие ей на плечи ровными прядями; большие, кроткие, призывные глаза с огромными белками и темными райками почти такого оттенка, как черное дерево.
И все же я предпочел бы мою собственную жену, которая теперь просит о встрече со мной чуть ли не по два раза на дню. Однако она приходит сюда лишь в суетной надежде заручиться, после того как я, что называется, отойду из собрания живых, для себя – безопасностью, а для сына своего – высоким положением. До меня ей дела нет, да, верно, и не было никогда. Ей хочется, чтобы сын ее стал царем. Шиш ей. Он, разумеется, и мой сын тоже, однако у меня есть и другие – больше, наверное, чем отыщется имен в моей памяти, если я когда-нибудь попытаюсь их перечислить. Чем старше я становлюсь, тем меньше интересуюсь моими детьми, да если на то пошло, и прочими людьми – вообще всем остальным. Черта ли мне в моей стране? Жена моя, крупная, с широкими бедрами, являет собою живой контраст Ависаге почти во всяком идущем в счет отношении. В отличие от Ависаги, она глядит на людей с привычной враждебностью, а глаза у нее синие, маленькие и пронзительные. Кожа ее бела, волосы она по-прежнему красит в желтый цвет – той самой смесью шафрана с вербейником, которую она довела-таки до совершенства лет сто назад, после десятилетних экспериментов. Высокая, наглая, себялюбивая и устрашающая, она составляет превосходную пару тихой служаночке и часто разглядывает ее самым беззастенчивым образом. Присущий Вирсавии инстинкт прирожденного знатока сообщает глазам ее выражение презрительной уверенности, что во всем, касающемся мужиков, она разбирается много лучше Ависаги. Вероятно, так оно до сих пор и есть. И вероятно, всегда так будет. Однако сама она давным-давно с мужиками покончила.
Как обычно, жена моя знает, чего хочет, и не стесняется этого попросить. Как обычно, хочет она всего и сразу. С виноватым выражением глаз, нервно скошенных в сторону от меня, она изображает отсутствие каких-либо скрытых помыслов и, напуская на себя простодушную рассеянность, как бы между делом напоминает мне об обещаниях, которых, как оба мы знаем, я ей никогда не давал. И как обычно, желание добиться своего поглощает Вирсавию настолько, что ей и в голову не приходит прибегнуть к каким-то уловкам потоньше, которые, быть может, и помогли бы ей получить желаемое. Она, к примеру, не способна поверить, что я, возможно, и вправду все еще люблю и желаю ее. Я раз за разом прошу ее возлечь со мной. Но она говорит, что мы уже слишком старые. Я-то так не считаю. И в итоге согревать меня и ходить за мной некому, кроме Ависаги Сунамитянки, которая умащивает свои руки и прелестные смуглые груди сладко пахнущими притираниями и душит благовониями волосы, уши и шею. Ависага старается изо всех сил, да только ничего у нее не выходит, и, когда она встает с моего ложа, я остаюсь таким же холодным, каким был, и таким же одиноким.
Весь день свет в моем покое еле теплится, как будто плотное облако невидимой пыли затмевает его. Тускло мерцает пламя в масляных лампадах. Часто глаза мои закрываются, и я, не замечая того, вплываю в очередной краткий сон. И все-то мне кажется, что их запорошило песком, что они воспалились.
– Красные у меня глаза? – спрашиваю я Ависагу.
Она говорит «красные» и успокаивает их струйками холодной воды и каплями глицерина, которые выдавливает из жгутиков белой шерсти. Страннейшее из безмолвий воцарилось под моей кровлей и на улицах за моими окнами, удерживая и потопляя в своих убийственных объятиях все нестройные звуки города. В залах моих стражи и слуги ходят на цыпочках и разговаривают шепотком. Небось пари заключают. Иерусалим процветает, как никогда прежде, но население его взбудоражено слухами и тревожными ожиданиями. Воздух города пропитан подозрениями, нарастающим страхом, и все чаще прорываются наружу честолюбивые стремления, обман и нетерпеливое пройдошество. Ничто из этого меня больше не удручает. Народ разделился на враждующие лагеря. И пусть его. Угроза кровавой резни уже пронизывает электрической дрожью дующий с моря ночной ветерок. Ну и что с того? Дети мои ждут не дождутся, когда я помру. Кто вправе винить их в этом? Я прожил полную, долгую жизнь, так? Можете убедиться в этом сами. Книги Царств, с первой по четвертую. Тоже и книги Паралипоменон, правда, там одно украшательство, самая смачная часть моей жизни выброшена из них как несущественная и недостойная. Я эти Паралипоменоны терпеть не могу. В них я выгляжу благочестивым занудой, тоскливым, как помои, нравоучительным и пресным, будто помешанная на своей правоте Жанна д’Арк, а я, видит Бог, никогда таким не был. Бог видит, я совокуплялся и сражался сколько хватало мочи и отлично проводил время, занимаясь и тем, и другим, пока не влюбился и пока не погиб мой ребенок. После этого все пошло наперекосяк.
И кроме того, Бог наверняка видит, что я был человеком решительным, отважным и предприимчивым, что сильные чувства и могучие порывы наполняли меня до краев, пока в один прекрасный день на поле битвы в Гобе я не упал в обморок и мой племянник Авесса не спас меня, а после никаким самообманом я уже не смог бы скрыть от себя, что расцвет моих сил миновал и мне уже нечего надеяться защитить себя в бою. Между рассветом и закатом того дня я постарел на сорок лет. Утром я ощущал себя несокрушимым юношей, а к вечеру понял, что уже стар.
Не хочу бахвалиться (хоть и понимаю, что отчасти бахвалюсь, уверяя, будто бахвалиться не хочу), и все же, говоря по чести, я считаю, что моя история – самая лучшая в Библии. Что может поспорить с ней? Иов? Забудьте о нем. Бытие? Сплошная космология – забава для детишек, бабушкины байки, нелепая выдумка клюющей носом старухи, почти уже задремавшей в удовлетворенной скуке. Забавы старушки Сарры – она смеялась и лгала Богу, я и поныне читаю о ней с удовольствием. Сарра с ее щедрым, веселым добродушием и завистливой женской ревностью почти реальна, ну и Авраам, разумеется, всегда на высоте – исполнительный, честный, рассудительный и храбрый, истинный джентльмен и интеллигентный патриарх. Но после рассказа об Исааке с Агарью – что остается от сюжета? Иаков как действующее лицо способен лишь разочаровать. Иосиф – забалованный, поздний ребенок, любимый отпрыск впадающего в слабоумие отца, пожалуй, и ярок, однако стоит ему подрасти, как начинаются сплошные пропуски, разве не так? Вот только что он раздавал хлеб и землю в качестве вездесущего фараонова порученца, а через пару абзацев, глядь, уже лежит на смертном одре, излагая свою последнюю волю – чтобы кости его когда-нибудь перенесли из Египта в землю Ханаанскую. Лишняя морока для Моисея, четыреста лет спустя.
Моисей, тот, готов признать, и вправду неплох, но рассказ о нем уж больно затянут, уж больно затянут, и после исхода из Египта рассказ этот просто вопиет, взывая хоть к какому разнообразию. История тянется, тянется, и все законы, законы. Кто смог бы выслушать столько законов, даже за сорок лет? Не говорю уж – запомнить. Кто смог бы их записать? На другое на что-нибудь у него оставалось время? А ему еще нужно было внушить их народу. Не забудьте и о том, что он был косноязычен. Удивительно ли, что вся эта эпопея отняла у него столько времени? Нас обоих изваял Микеланджело. Моисей у него получился лучше. Моя-то статуя и вовсе на меня не похожа. Конечно, у Моисея были его Десять заповедей. Зато строки, посвященные мне, гораздо красивей. В них есть поэзия и страсть, яростное насилие и простое, обнаженное, облагораживающее горе страдающего человека. «Краса твоя, о Израиль, поражена на высотах твоих!» Это сказано мною, как и «Быстрее орлов, сильнее львов они были». И наконец, возьмите мои псалмы. Да благодаря одной лишь моей знаменитой элегии я мог бы жить вечно, если б уже не умирал от старости. В моей истории есть и войны, и экстатические религиозные переживания, и непристойные танцы, и призраки, и убийства, и головокружительные побеги, от которых волосы встают дыбом, и волнующие погони. Есть дети, умершие слишком рано. «Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне». Это о дитяти, скончавшемся во младенчестве: из-за меня, или Бога, или из-за нас обоих – выбирайте сами. Я-то знаю, кого винить. Его. «Сын мой, сын мой» – это о другом, сраженном во цвете юного мужества. Подите сыщите у Моисея такую штуку. Ну и, конечно, мое любимое, драгоценность короны, триумфальный пеан, от которого я разулыбался до ушей, когда впервые услышал, как он возносится, приветствуя меня, гордо выступающего во всем моем молодом изобилии и наивности. Но удовольствие скисло быстро. Скоро я уже ежился от страха, едва заслышав эти восхитительные строки, и в ужасе озирался, как бы норовя увернуться от удара, наносимого мне в спину неким смертоносным оружием. Как же я боялся этих почестей! И однако ж, стоило пасть первому из моих смертельных врагов, как я снова бесстыдно купался все в тех же неслыханных восхвалениях. Даже теперь, обратясь в трясучую развалину, я раздуваюсь от гордости и восторга, рисуя себе возбуждающие картины: босоногие девушки во взметающихся, сверкающих одеждах, алых, синих, лиловых, вздымают в марше загорелые коленки, празднично изливаясь из деревушки на холме и города за нею, чтобы встретить нас с тимпанами и прочей музыкой, когда мы в очередной раз возвращаемся с победой, а они прославляют нас, снова и снова повторяя ликующий, обольстительный припев:
- Саул победил тысячи,
- а Давид – десятки тысяч!
В оригинале оно даже лучше:
Сами вообразите, как это понравилось Саулу. Я-то вовремя не вообразил, а в итоге и ахнуть не успел, как мне пришлось вилять, точно зайцу, уворачиваясь, чтобы уберечь задницу от копий, – бежать, спасая свою жизнь. Думаете, это у вас большие сложности с родственниками жены? У меня вот был тесть, который спал и видел, как бы меня угробить. И почему? Да потому, что я был слишком хорош, вот почему. В те дни я был таким агнцем, что любо-дорого посмотреть. Даже очень постаравшись, я не мог сотворить ничего дурного, не мог ни на кого произвести нехорошего впечатления, даже если бы очень захотел, – ни на кого, кроме Саула. Дочь его и та на меня налюбоваться не могла, даром что оказалась потом самой сварливой – благо самой первой – из моих тринадцати, четырнадцати, не то пятнадцати жен. Было, конечно, дело – однажды Мелхола спасла мне жизнь, но это навряд ли искупает все то, чего я впоследствии от нее натерпелся.
Каждый раз как Саул посылал меня сражаться, я шел и сражался. И чем лучше служил я ему в войне с филистимлянами, тем пущими он проникался завистью и подозрениями насчет того, что мое-де предназначение – свергнуть его и что я уже строю соответствующие козни. По-вашему, это честно? Разве я виноват, что народ мой любил меня?
Конечно, к тому времени Самуил уже отринул Саула, да и Бог подверг его одному из тех колоссальных, жутких испытаний метафизическим безмолвием, какие имеет власть насылать лишь такое воистину всемогущее и незаменимое существо, как Господь. Я могу говорить об этом исходя из личного опыта: я с Ним больше не разговариваю, и Он со мной тоже.
Даже мое сердце растаяло от сострадания при вести, что Саул стенает в Аэндоре на краю погибели, а Бог больше не отвечает ему. А это случилось уже долгое время спустя после того, как Самуил тайком помазал меня в доме отца моего в Вифлееме и сказал – ибо у него имелись заслуживающие доверия сведения, – что Господь избрал меня, дабы я стал когда-нибудь царем Его над Израилем. Так что смерть Саула была мне определенно на руку, однако, клянусь, временами я его жалел, а уж руки-то мои всегда оставались чисты. Ничего более грешного, чем попытки раздуть его приязнь и любовь ко мне, с какими он впервые принял меня в свои объятия в день, когда я убил Голиафа, я не совершил. Однако его непредсказуемым образом кидало из крайности в крайность, а заранее понять, когда наш благородный, исстрадавшийся главнокомандующий и первый царь опять обратится в буйнопомешанного и попытается лишить меня жизни, удавалось крайне редко. Сдается мне, временами ему хотелось поубивать всех подряд – всех и каждого, включая и собственного родного сына Ионафана.
Ничего себе проблема, не правда ли? Ваш собственный тесть тратит большую часть времени и сил на то, чтобы вас прикончить, ночами подсылает в ваш дом убийц, чтобы поутру они разделались с вами, и, пытаясь вас затравить, заводит в пустыню целые армии из тысяч отборных солдат – вместо того чтобы с помощью этих самых солдат отогнать филистимлян на береговые равнины, где им было самое и место. Он предложил мне свою дочь лишь из тщетной надежды, что меня пришибут, пока я собираю смехотворно низкое вено, которое он за нее назначил. Сто краеобрезаний филистимских! Саул зациклился на параноидальной иллюзии, что будто бы даже дочь и сын его прониклись ко мне симпатией, и это, между прочим, было чистой правдой. Я научился от него истине, верной в отношении всякого и, скорее всего, никому не способной принести практической пользы: в безумии есть своя мудрость, а любое обвинение, весьма вероятно, является правдивым, ибо в человеке все свойства представлены поровну и всякий способен на всякое. У этого бедного, замудоханного придурка случались жуткие приступы буйства, во время которых только одной бешеной, свихнувшейся мысли и удавалось кое-как удержаться в его голове – мысли о том, что меня совершенно необходимо убить. Вообразите себе, каково ему было.
Я долго мог бы рассказывать обо всех этих войнах, завоеваниях, мятежах и погонях. Я построил империю размером со штат Мэн, я вывел народ Израилев из бронзового века и привел в железный.
У меня есть своя история любви и своя история сексуальной жизни, причем в обеих главную роль играет одна и та же женщина, – представляете? – у меня есть в запасе эта моя нескончаемая, застрявшая на вечном пате распря с Богом, распря с открытым финалом, несмотря даже на то, что Бог, может быть, уже умер. Умер Он там или не умер, разницы никакой не составляет, поскольку пользоваться Им мы и в том, и в другом случае все равно будем одинаково. Он обязан мне извинением, но Его ведь с места не сдвинешь – ну и меня тоже. Видит Бог, у меня есть свои недостатки, и я, может быть, даже первый, кто готов их признать, однако я и по нынешний день нутром чую, что как человек я лучше Его.
Хотя я никогда по-настоящему не ходил пред Богом, мы много с Ним разговаривали и пребывали в совершенном согласии, пока я не обидел Его в первый раз; потом Он обидел меня, а потом мы взаимно друг друга обидели. И даже тогда Он обещал меня защитить. И защитил. Вот только от чего? От старости? От смерти моих детей и насилия, совершенного над дочерью? Бог даровал мне долгую жизнь и множество сыновей, чтобы не уничтожилось имя мое на земле – хотя имена-то у них у всех свои собственные, – но вот сегодня жара стоит, как в аду, и духота примерно такая же, а я не могу согреться, мне неоткуда взять тепла – даже от Ависаги Сунамитянки, которая и ласкает меня, и лобзает, и накрывает своим извилистым, гибким тельцем. Для женщины столь маленькой и хрупкой, у моей Сунамитянки Ависаги на редкость объемистая, симпатичная задница.
Вы вот над чем поразмыслите – я был одно время загнанным преступником, чьи портреты с надписью «Разыскивается» висели по всей Иудее, причем у меня имелось не так уж и много людей, с которыми я мог об этом поговорить. Я был беглецом, объявленным вне закона и имевшим под своим началом пеструю шайку из шестисот повидавших виды бандитов и рядового хулиганья. А известно ли вам, что представляет собой хорошо организованная шайка из шестисот закаленных в боях людей? Грозный, дисциплинированный штурмовой отряд, который с охотой примет в свои ряды любая армия, включая и армию Анхуса с его филистимлянами из Гефа, мобилизованными для войны с Израилем и пригласившими нас биться на их стороне. Вините Саула за то, что мы их приглашение приняли и пошли воевать с Израилем. Об этом мало кто знает, но, когда филистимляне собрались для битвы на Гелвуе, в которой пал Саул, мы были средь них. Мне еще повезло, что филистимляне отослали нас прочь до начала сражения.
Если я когда-либо крал, грабил и вымогательствовал, причем жертвами моими становились иудеи и израильтяне – а признаваться в этом я вовсе не собираюсь, – то лишь потому, что Саул не оставил мне иного выбора. Чем еще было мне жить, когда он изгнал меня и натравил на меня чуть ли не всю страну? Люди из Зифа доносили ему на меня, люди Маона сообщали, где я остановился передохнуть. А я между тем всей душой жаждал любить его как прежде. Я Саула вообще за отца считал.
– Отец мой, – окликнул я Саула из зарослей на скалистом холме после того, как обнаружил его спящим на полу пещеры в Ен-Гадди и отрезал край от его верхней одежды в доказательство того, что был там. – Видишь, я тебя не убил.
– Твой ли это голос, сын мой Давид? – ответил он мне и заплакал. – Я не буду больше делать тебе зла.
На обещания маньяков, как и на обещания женщин, полагаться особенно не приходится.
В конце концов филистимляне, найдя Саула мертвым, отсекли ему голову, а то, что от него осталось, прибили к стене Беф-Сана.
Кровопролития? Да у меня их более чем достаточно – и на любой вкус. Чего у меня только нет – самоубийство, цареубийство, отцеубийство, просто убийство, братоубийство, детоубийство, адюльтер, инцест, казнь через повешенье, а уж отрубленных голов – далеко не одна Саулова. Вот послушайте.
Я имел сыновей.
Я имел наложниц.
Я имел сына, который средь бела дня имел моих наложниц прямо на крыше моего дворца.
Моим именем назвали звезду, да еще и в Лондоне – это в Англии, – в 1898 году. Кто-нибудь что-нибудь слышал о звезде Самуила?
Один мой сын убил другого моего сына – и что, по-вашему, я мог предпринять? Каин и Авель? Так то эвон когда было, а это – теперь. С Каином Бог управился сам, вот так прямо ему и сказал: «Мотай отсюда».
В итоге Каин подался в бродяги, и Адаму не пришлось с ним возиться. А у меня на руках был битком набитый город Иерусалим, который очень интересовался, что я предприму после того, как Авессалом убил Амнона.
Вот и теперь то же самое – мне приходится выбирать, кто станет царствовать, а кто умрет. Адония или Соломон? Мучительный выбор? Был бы мучительным, если бы меня заботили мои дети или будущее моей страны. Но, по правде сказать, они меня не заботят. Я ненавижу Бога и ненавижу жизнь. И чем ближе подходит смерть, тем пуще я ненавижу жизнь.
По ощущению моему, я слишком стар, чтобы и дальше оставаться отцом, хотя, впрочем, стар не настолько, чтобы не быть мужем, отчего и хочу, чтобы жена моя Вирсавия вернулась в мою постель. Думаю, я был первым на свете взрослым мужчиной, который влюбился искренне, страстно, сексуально, романтично и сентиментально. Можно считать, что я-то любовь и выдумал. Иаков полюбил Рахиль, едва увидев ее у колодезя в Харране, но Иаков был юнцом, и любовь его в сравнении с моей – просто щенячья привязанность. Он проработал семь лет, чтобы получить Рахиль, а затем еще семь, когда ему после брачного пира всучили взамен Рахили ее слабую глазами сестру. Я же взял Вирсавию в тот самый день, как увидел ее. И уж так она меня ублажила, что голова у меня шла кругом все те чудесные годы, когда я услаждался ею и день за днем только одного и желал – утром, в полдень, вечером, ночью: побыстрее добраться до нее и еще раз приникнуть к ее телу руками и ртом, душою и чреслами, а лучше я ничего и представить себе не мог. Господи, как же я к ней прилепился! Как мы любили целоваться и разговаривать! Мы встречались с ней тайно, обнимались на пути к кровати, и дурачились, и хохотали, и чего только не вытворяли в нашем уютном, уединенном веселье, пока в один прекрасный день на голову мне не обрушилась, будто крыша, новость, что она беременна.
– Дерьмо Господне! – вот слова, первыми подвернувшиеся мне на язык.
Не помню, чья это была идея отозвать ее мужа, Урию Хеттеянина, из осаждавшего Равву Аммонитскую войска, дабы он узаконил плод моего прелюбодейного сожительства с его женой в качестве своего собственного, весьма своевременного отпрыска. Однако я знал, что идея эта не сработает.
– Урия, иди домой, – по-доброму уговаривал я его и посылал к нему в дом царское кушанье и прочий провиант, дабы он мог подзаправиться перед постельным марафоном, который мы с Вирсавией спланировали для него. – Иди повеселись. Ты принес мне добрые вести о ходе нашей кампании.
Он же предпочел спать со слугами на полу моего дворца – из донкихотской и телепатической солидарности с товарищами по оружию, которые стояли лагерем в полях Аммона, и из огорчительного послушания нашим Моисеевым законам насчет целомудрия и боеспособности. Ибо тому, кто возлег с женщиной, целых три дня потом нельзя выходить на священный бой. Собственно, и с мужчиной тоже, и даже с овцой, козой или индейкой. Те, кто хотел уклониться от военной службы, как правило, перед самым призывом возлегали с женами, наложницами или индейками. У нас это называется отказом от военной службы по религиозным соображениям. Но Урия-то даже евреем не был. А хеттеянина поди вразуми.
– Урия, иди домой, – отчаянно увещевал, настаивал, приказывал и умолял я весь следующий день. – Иди домой, Урия, очень тебя прошу. Тебя, наверное, жена дожидается. Мне говорили, жена у тебя – пальчики оближешь. Так иди вставь ей. Отваляй ее пару раз. Сделай ей штуп. Ты свое удовольствие заслужил.
А он вместо этого снова улегся в моем дворце на пол. Может, ублюдок пронюхал что-нибудь? Я чувствовал, что схожу с ума. Не помню, чья это была идея отправить его назад, в гущу битвы, чтобы его там укокошили. Будем считать, что ее.
Овдовевшая Вирсавия, едва относив траур по покойному мужу, перебралась ко мне во дворец в качестве моей восьмой жены.
И тут же пожелала стать царицей. Но у нас же цариц не бывает. Думаете, это удержало мою душечку от новых притязаний? Прибыв во дворец, она потратила час на осмотр апартаментов, одежды и горшочков с косметикой, принадлежавших другим моим женам, и потребовала, чтобы ее были лучше и чтобы их было больше. Эта пробивная бабенка с самого начала стала моей любимицей. Любовь к Вирсавии доставляла мне наслаждения даже большие, чем любовь к Авигее, женщине элегантной, благородной и изысканной, кормившей меня чечевичной похлебкой, ячменным хлебом и репчатым луком, лучше которых я в жизни не едал, – она и сейчас с удовольствием стряпала бы для меня, если б еще оставалась среди живых. Вирсавия же, когда я с ней познакомился, норовила под любым предлогом увернуться даже от мытья посуды, а уж став моей женой, никогда больше к ней не притрагивалась.
Теперь она ежедневно приходит ко мне только ради того, чтобы, наплевав на государственные интересы, обеспечить собственную безопасность. Ее наивный эгоизм остается, как прежде, чарующим – душа радуется, когда убеждаешься, глядя на нее, что есть же на свете хоть что-то навек неизменное. Кажется, именно я отметил где-то, что нет ничего нового под солнцем? Она хорошо разбирается в тонкостях любовной игры, но плохо – в мужчинах и в том, что кроется в наших сердцах. То, что сокрыто в моем, ее, почитай, не интересует. Зато она изводит меня просьбами, чтобы я сделал Соломона царем.
– Безнадежно, – смеясь, уверял я ее с того самого дня, как он появился на свет. – Перед ним целая дюжина желающих.
Теперь остался один Адония.
– Я же не о себе думаю, – говорит она, – а о будущем страны и народа.
Думает она только о себе. До будущего ей дела не больше, чем мне. И неизменно настаивает на том, что я будто бы дал ей слово.
– Я уверена, когда-то давно ты мне обещал, – говорит она. – Не могла же я этого выдумать.
Вирсавия вечно выдумывает какую-нибудь удобную для нее несуразицу и тут же проникается искренней верой в нее. Двуличность ее видна насквозь. Однако не стоит недооценивать силу женщины. Загляните в Третью книгу Царств, и вы увидите, чем оная сила чревата. И в этой книге мне тоже нет равных. Соломону, быть может, и уделено в ней больше места, но что во всей его жизни способно сравниться с какой угодно частью моей? Единственную умную фразу, которую он там произносит – посылая Ванею убить Иоава в скинии, – он позаимствовал у меня. Все приличные строки, какие есть в Притчах, мои, и все лучшие в Песни песней – тоже мои. Изучите мои последние послания. Они великолепны, остроумны, драматичны и исполнены напряжения. Как искусно я обошелся с Семеем! Бесконечно более решительно обошелся я с моим родичем Иоавом, верным спутником всей моей жизни, отважным начальником над моими войсками в течение почти всей моей карьеры. Ни разу не поколебался он в своей верности мне и даже сейчас, в преклонном возрасте, твердой рукой и сильной властью оберегает конец моего правления, обеспечивая должный переход царского престола к единственному наследнику, имеющему на него законное право.
Вот насчет этого сильного, верного, доблестного Иоава я и распорядился:
– Убей его! Уничтожь! Чтобы и духу этого ублюдка больше не было!
От меня всегда можно дождаться сюрприза, верно? А понять, что Соломону все необходимо растолковывать по складам, на это мне тоже ума хватало. Я вам открою один секрет насчет моего сына Соломона: этот поц совершенно серьезно предлагал разрубить младенца пополам. Богом клянусь. Тупой сукин сын норовил проявить справедливость, а не хитроумие.
– Ты понял, что я сказал тебе насчет Иоава? – спросил я у Соломона, внимательно вглядываясь в него, и, когда дождался наконец каменного кивка, добавил для ясности: – Не отпускай седины его мирно в преисподнюю.
Соломон отлепил взгляд от глиняной таблички, на которой делал для памяти заметки, и спросил:
– Чьи седины?
– Ависага!
Ависага указала ему на дверь и принялась похлопывать меня по вздымавшейся груди и похлопывала, пока не поняла, что отчаянье мое стихло. Затем она вымылась и отерлась, надушила запястья и подмышки и сбросила одежды, чтобы мгновение простоять предо мной в прелестной девственной наготе, прежде чем грациозно поднять ногу, утвердить на моем ложе миндально-смуглое колено и снова возлечь со мной. Разумеется, безрезультатно. Во мне и пыла-то никакого в ту минуту не было. Я желал мою жену. Вирсавия в это не верит, а если б и верила, ей все одно наплевать.
– Я этим больше не занимаюсь, – твердо отвечает Вирсавия всякий раз, что я обращаюсь к ней с просьбой ее, а если пребывает не в духе, то еще добавляет: – Меня тошнит от любви.
Она забыла о похоти, как только обрела истинное свое призвание, вернее, несколько призваний сразу. Изначальное состояло в том, чтобы стать царицей. К сожалению, цариц нам не полагалось. Тогда она надумала стать царицей-матерью, первой в нашей истории вдовствующей царицей-матерью при правящем государе. Торговаться с нею я не желал и лебезить перед ней тоже. Конечно, я мог бы отдать одну-единственную отрывистую команду, и ее приволокли бы мне прямо в постель. Но это означало бы, что я унизился до попрошайничества, не так ли? А я как-никак царь Давид, и попрошайничать мне не к лицу. Однако, видит Бог, прежде чем я испущу дух, прежде чем подойдет к концу моя фантастическая история, я так или иначе, а возлягу с нею по крайности еще один раз.
2. О составлении книг
Конца составлению книг не предвидится, а я чем дольше размышляю над моей историей, тем больше убеждаюсь, что убийство Голиафа было едва ли не самой идиотской из ошибок, когда-либо мной совершенных. В тот же день Саул призвал меня в армию, и я с тех пор так почти всю жизнь и проходил под мечом. То, что я валял Вирсавию, а потом снова валял, а потом снова, и снова, и снова, обнимая ее до тех пор, пока у меня и на объятия-то сил почти не оставалось, – это, наверное, было второй самой крупной моей ошибкой. Нафан впился в меня за эту ошибку как клещ, я и ахнуть не успел, как у меня уже умер ребенок. Мощная штука любовь, разве нет? Тогдашняя моя любовь к Вирсавии была грозна, как полки со знаменами, бледна, как Луна в сокрушении, ясна, точно Солнце в радости. Мы с Богом пребывали в отличнейших отношениях, пока Он не убил моего ребенка, после чего я решил держаться от Него подальше. Уверен, что теперь Он это уже заметил, как-никак почти тридцать лет прошло.
Еще до того я в припадке гордыни, посетившей меня в перерыве между завоеваниями, надумал выстроить здание пофасонистей и назвать его храмом Господним; но Бог сказал – нет. Бог видел, в чем состоит внутреннее мое побуждение. Суета сует, сказал Екклесиаст, – все суета. Бог не нуждается в Екклесиастах, чтобы узнать, что это за зверь такой – суета.
Как и я не нуждался в них с самых дней моей юности, ибо знал даже лучше, чем три моих раздражительных братца в боевом стане, что, когда я ухватился за возможность сразиться с Голиафом один на один, мною руководило тщеславие и стремление покрасоваться. Не могло быть и речи о том, что я позволю себе упустить такой шанс.
Я не послушался братьев, велевших мне вернуться в Вифлеем после того, как я доставил им припасы, посланные нашим отцом для поддержания тел их в битве. Вместо того я с неукротимым нахальством, за которое меня и тогда уже недолюбливали в семье, начал проворно перебегать от одного охранного отряда к другому, хитроумно разжигая своей беззаботной дерзостью и отважным простодушием любопытство стоявших в первых порядках бойцов. Кому же из воинов не захотелось бы побольше узнать о рьяном, свежем на вид пареньке-горце из иудейской глуши, которого Провидение послало в гущу их войска и который сам лезет в драку?
Кому угодно, только не Саулу. Определенно не Саулу, пытавшемуся с решимостью и редким для него здравомыслием создать регулярную профессиональную армию, заменив ею тяжелых на подъем добровольцев, носителей традиции, согласно которой отдельные семьи вроде моей или отдельные кланы и племена сами решали, станут они или не станут участвовать в очередном военном кризисе. Саул создавал центральное правительство. Он одолел аммонитян под Иависом Галаадским, надрал, с неоценимой помощью своего сына Ионафана, задницы филистимлянам в Михмасе и расколотил амаликитян в пустынях юга. Как раз когда он побивал амаликитян, между ним и Самуилом и произошел окончательный разрыв, поскольку Саул взял царя амаликитян в надежде на выкуп, а лучший их скот – в качестве военной добычи, между тем как Самуил, говоря от имени Бога, дал ему точные указания: уничтожить всех, перерезав от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы, от верблюда до осла. Саул слишком туго соображал, чтобы сочинить единственную ложь, которая могла бы утихомирить расходившегося святого человека: «Я забыл». Вместо нее Саул выдвинул неуклюжее оправдание – он-де отобрал лучший скот для жертвоприношения.
– Послушание лучше жертвы, – резко оборвал его хмурый святой, ставший поочередно и Сауловым, и моим благодетелем. – За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем.
Будь я там, я бы сразу сказал Саулу, что этот номер у него не пройдет. Самуил разрубил на куски Агага, царя Амаликитского, и, обиженный, пошел в дом свой, в Раму, и больше к Саулу до самой смерти его не приходил. На Саула этот разрыв с Самуилом лег таким бременем, обернулся для него такой душевной мукой, какую ему не всегда удавалось снести, да и клубок затруднительных положений, из коих он так и не смог полностью выпутаться, участи его не облегчал. Мне же их разрыв предоставил счастливый шанс.
С методами, посредством которых Саул проводил рекрутский набор, я уже был знаком. Стоило ему повстречать мужа сильного и доблестного, как Саул забирал его в свою регулярную армию в качестве наемника, чья отвага и энтузиазм достойно вознаграждались порядочной долей военной добычи. Когда я после поединка вернулся с головой, мечом и доспехами Голиафа – усилий для того, чтобы затащить весь этот хлам на вершину холма, потребовалось гораздо больше, чем вы полагаете, – Саул взял меня в тот же день, не дав возвратиться в дом отца моего.
Должен признаться, армейская служба имела свои приятные стороны, тем более что мы в ту пору крепко разили филистимлян, аммонитов, моавитов, сирийцев и проделывали это с таким предсказуемым постоянством, что победа казалась нам делом простым, а доблесть – нормальным. Вот войны с Авениром, Савеем, Амессаем, Авессаломом и даже Саулом представляли собой конфликты совершенно иного рода. Это все были соотечественники. Амессай приходился мне племянником, Авессалом – сыном. Я был искренен, когда сказал: «Авессалом! сын мой, сын мой Авессалом! о, кто дал бы мне умереть вместо тебя!» – но ни Бог, ни Иоав мне этой возможности не предоставили. Есть люди, для которых убить собственного сына – да возьмите того же Саула, норовившего прикончить Ионафана, – значит совершить пустяковый, вполне простительный поступок, для некоторых же отцов это и вовсе отдохновение души, именины сердца. Я не таков. Мне и журить-то моих сыновей удавалось с большим трудом. Наверное, нужно было их сечь, а я не сек, ну вот и разбаловал – большинство их позволяло себе поступки низкие и глупые, даже мои любимцы. Любимцы в особенности. А когда погиб Авессалом, я плакал так, что и поныне не понимаю, почему у меня сердце не лопнуло.
Еще пуще плакал я, когда заболел и стал медленно угасать новорожденный сын мой. Семь дней горевал я, павши лицом на землю. Хлеба и того не ел. Навуходоносор, обезумев, ел с земли, подобно волу. Я был в своем уме, но вел себя примерно так же, надеясь, что пост мой и рыдания подвигнут Бога к милосердию. Как бы не так. Легче подвинуть гору.
Присутствовал в моей натуре этот недостаток – любил я своих детей, во всяком случае сыновей. Дочерей-то я просто не брал в расчет. И это был еще один недостаток, за который мне пришлось поплатиться ужасно, и так тогда все запуталось, что я и до сей поры не могу разобраться во всем до конца. Когда мою дочь, красавицу Фамарь, изнасиловал ее кровный брат Амнон, я, натурально, расстроился. Хотя главным образом я злился из-за того, что попал в неудобное положение, которое, как я, впрочем, надеялся, так или иначе, а разрешится само собой. Вот я и не стал ничего предпринимать. Думал, все как-нибудь образуется, да оно и было на то похоже. А уже два года спустя мне пришлось оплакивать погибшего насильственной смертью Амнона и изгонять мстительного Авессалома, который после совершенного им убийства укрылся в Гессуре.
Три года прошло, прежде чем Иоав уговорил меня дозволить Авессалому вернуться. И только еще через два года я допустил его во дворец, пред лицо мое. Авессалом поклонился. Я его поцеловал. Еще миг, и он поднял вооруженный мятеж, заставивший меня покинуть Иерусалим и бежать на другой берег Иордана.
– Помнишь проклятие? – чуть ли не с ликованием спросил Нафан, когда мы, пешие, топали от задних ворот города к потоку Кедрон. Победа Авессалома была без малого окончательной. В сравнении с нею прямой удар молнии показался бы мягким предостережением. А я был царь мощный. И я оставил дома десяток наложниц поддерживать чистоту во дворце.
Разумеется, я помнил переданное мне через Нафана решение Божие, которое Нафан предпочитал теперь называть проклятием. С чего бы я стал надеяться, что так и останусь ненаказанным после того, как послал на смерть Урию Хеттеянина? Я знал, что наказания мне не избежать, – это видно хотя бы из того, как быстро я проникся сочувствием к бедняку из придуманной Нафаном для такого случая притчи, – к человеку, у которого богач, владевший многим скотом, отобрал единственную овцу.
– Жив Господь! – возгласил я, сильно разгневавшись на кичливого негодяя. – Достоин смерти человек, сделавший это.
– Ты, – объявил Нафан, и захлопал в ладоши, и взвизгнул от радости, увидев, что уловка его удалась, – тот человек!
Сукин сын поймал-таки меня на слове. А пропетая им мстительная литания и вправду отдавала проклятием.
– Три есть способа посрамить тебя и привести к покаянию, – начал он. – Нет, пусть будет четыре. Да, четыре есть печали, не знающие утоления.
Морализаторство Нафана было для меня что уксус для зубов и дым для глаз. Полоний в сравнении с ним был немногословен, как Сфинкс. Впрочем, пока он разглагольствовал, опасливое настроение понемногу покидало меня.
Что меч не отступит от дома моего вовеки, особых тревог и опасений мне не внушало: много ли мира, до той поры или после, вкушал чей-либо дом, построенный в «поясе плодородия», лежащем между Азией и Африкой, между Аравийской пустыней и Средиземным морем? Да, собственно, и в любом другом месте известного нам мира? С этим я как-нибудь справлюсь – и мое внимание, пожалуй, отвлеклось бы, не начни он распространяться о втором пункте олимпийского приговора, встревожившем меня куда сильнее.
Зло воздвигнется на меня из дома моего. Ну и что? Любой еврейский родитель всегда воспринимал это как должное. Какой же отец не получал от своих детей всех мыслимых неприятностей? Даже судьям нашим приходилось не лучше прочих. Сын Самуила брал взятки, а сыновья его предшественника Илия возлегали с женщинами прямо в скинии собрания. У меня же детей было больше, чем я мог сосчитать. И хоть один из них понимал когда-нибудь, что такое благодарность? Увы, увы, намного злей укуса змей детей неблагодарность!
Часть третья показалась мне несколько туманной: за то, что я возлег с чужой женой, подобный же позор ожидает меня от ближнего моего. В общем-то честно, если только это когда-нибудь случится. Но кто бы вывел из туманных речей Нафана, что именно сын мой будет тем «ближним», который пред солнцем проделает с женами моими то, что я проделывал с женой Урии в укромном и темном месте? Кто догадался бы, что Амнон изнасилует и обесчестит свою кровную сестру? Присутствовал ли в Нафановом сильно растянутом перечне ожидающих меня наказаний хотя бы один намек на то, что он говорит не о раздельных карах, а о взаимосвязанных последствиях, которые сольются в умопостигаемое целое лишь после неожиданного бунта моего сына Авессалома?
Нафан витийствовал с такой дельфийской невразумительностью, что даже если бы я слушал его внимательно, я, скорее всего, проглядел бы в его прогнозах любое упоминание Авессалома как главной действующей силы, способной претворить их в реальность. Бог слукавил, избрав посланцем безмозглого Нафана. Он знал, что я стану слушать его вполуха, – иначе я мог бы все это предотвратить. Я бы выдумал средства, я нашел бы чем защититься. Я Давид, а не Эдип, я бы от этого самого рока камня на камне не оставил. В ту пору я ради спасения детей моих готов был молнию украсть с неба. Но Бог, подлюга этакий, и не хотел, чтобы я понял Нафана. То был один из немногих случаев, когда Он меня переиграл.
Со временем все по сказанному и совершилось, не правда ли? – даже часть третья той невнятной совокупности кар, хотя, вообще говоря, осквернению, после того как я покинул город, подверглись не столько жены мои, сколько наложницы. Опять-таки я никогда и не считал моего сына «ближним», а наложниц – женами. Сказать по правде, я и большую часть своих жен женами не считал. Мелхола, Авигея да Вирсавия – таковы были женщины, представлявшие для меня особую важность в разные периоды моей жизни, вот как сейчас Ависага. Эта черноволосая девочка, обнажаясь, становится потрясающе красивой, особенно прелестно черноволосое место слияния ее бедер – даже Вирсавия так говорит, – и я подумываю, не взять ли мне ее в жены, если нам с нею предстоит долго еще встречаться на моем смертном одре. Впрочем, речь у нас сейчас не о ней. Помню, какую благодарность я на миг испытал, когда в монологе Нафана возникла, к моему удивлению, веселая нотка, казалось, предрекающая счастливый конец.
– Не тревожься, не тревожься, – с успокоительной ужимкой объявил он. – Господь снял с тебя грех твой.
Уже хорошо.
– Ты не умрешь.
И того лучше. А следом шла главная радость.
– Но сын твой, – сказал Нафан, – умрет наверняка.
Вот и верь после таких вывертов в Господа.
Моего Бога и моего сына я утратил одновременно.
Пока Бог не снял с меня грех мой и не возложил его на младенца, мы с Ним были такими друзьями – водой не разольешь. Я просил Его о наставлении всякий раз, как мне таковое требовалось. И всегда мог рассчитывать на ответ. Разговаривали мы вежливо и по делу. Попусту слов не тратили.
– Идти ли мне в Кеиль и спасти город? – спросил я, будучи еще беглецом в Иудее.
– Иди в Кеиль и спаси город, – с упованием ответил Бог.
– Идти ли мне в Хеврон Иудин и позволить ли старейшинам короновать меня в цари? – спросил я, получив известие о смерти Саула и сочинив мою знаменитую элегию.
– Почему бы и нет? – сделал Он мне одолжение.
Ответы, получаемые мной от Него, неизменно оказывались теми, какие я больше всего хотел услышать, так что мне часто мерещилось, будто я разговариваю сам с собой. Мне не пришлось сносить вулканических застращиваний, изгадивших Моисееву жизнь с той поры, как Бог вошел в нее, ни даже половины тех мук, которые насылало Его глубокое, холодное, нерушимое молчание и которые в конце концов толкнули беднягу Саула к беззаконной волшебнице из Аэндора, чтобы в отчаянии побеседовать с духом Самуила, более чем кто бы то ни было повинного в распаде Саулова рассудка. Когда Самуил порвал с Саулом и бросил его одиноко плавать по волнам становившегося все более мучительным мира, полагаясь при этом лишь на собственные небогатые силы, он навек лишил его надежды на Бога. Больше Саул ни разу не получил ни слова, ни знака, свидетельствующего о том, что хоть кто-то присматривает за ним сверху, или хотя бы о том, что кому-то там есть до него дело. Всесожжения его имели такой же успех, как если б он просто жарил себе котлеты.
Попав в столь жалкое положение, Саул пошел к Аэндорской волшебнице, чтобы узнать, чем кончится битва на Гелвуе, в которой филистимлянам и евреям предстояло назавтра сойтись. Ну, Самуил ему и выдал, прямо между глаз: Саул завтра погибнет, Ионафан погибнет, двое других сыновей Саула тоже погибнут, а израильтяне потерпят полное поражение и будут изгнаны из домов и шатров своих.
Нужны были Саулу такие сведения, как новая дырка в голове. Он и без них совсем пал духом. Человек с натурой более щедрой, чем Самуил, мог бы подать ему хороший совет. Разве убыло бы у Самуила, если бы он сказал Саулу – не сражайся? Пусть себе продвигаются по долине Изреелевой. Далеко ли продвинутся? Лупи их с высот. Изнуряй их мелкими стычками, тяни время, откладывай сражение. Лупи их сзади, рази с флангов. Изводи их, изводи. Долго ль они протянут?
Однако дни Саула близились к концу, а моя судьба уже брезжила впереди. Судьба – вещь хорошая, это такая вещь, которую легко принимаешь, если тебе с ней по пути. Если нет, значит, никакая это не судьба, а несправедливость, предательство или просто невезуха.
Ныне же дни мои близятся к концу, между тем как Адония и Соломон маневрируют, норовя занять мое место, а Вирсавия, интригуя в пользу сына, навещает меня из побуждений неискренних и более чем очевидных, а науськивает ее остающийся в тени Нафан, справедливо полагающий, что положение его до крайности шатко. Если я завтра загнусь, Нафан переживет меня ненадолго. Бог же, по-видимому, ныне удалился от дел. Чудеса остались в прошлом.
Что до Вирсавии, то проявление озабоченности о благополучии прочих людей требует от нее усилий воли, которых хватает от силы на полторы минуты. Сдерживающими началами природа ее не наделила, а что такое такт, она знает лишь понаслышке. Вирсавия показывает мне свое новое белье – она все еще забавляется время от времени созданием новых моделей, чтобы чем-то себя занять. Если Ависага при ней обихаживает меня, она со скукой наблюдает, по временам отпуская критические замечания, – ни дать ни взять отставной ветеран, подающий игрокам советы из-за боковой линии поля.
– Это ему никогда не нравилось, – к примеру, говорит она старательной служанке, подпирая ладонью сонную физиономию и скучливо приопуская веки. – Вот так, пожалуй, лучше. Ты бы смазала пальцы чем-нибудь скользким, дорогая. Медом, что ли. А лучше всего оливковым маслом. Хорошим оливковым маслом.
– Может, сама попробуешь? – предлагаю я.
Теперь, когда сын ее стал взрослым человеком, – человеком, повторяет она, которому самое место в царях, – даже мысль о сексуальном контакте со мной представляется ей отвратительной. Эта мысль отвращала ее не всегда.
Она очень волнуется, поскольку их конкурент, Адония, по совету Иоава явился ко мне и попросил разрешения устроить публичный завтрак, на котором он будет изображать и хозяина, и прямого наследника. Адония и есть прямой наследник. Он уверен, что придет мне на смену, а я не делаю ничего, способного поколебать эту уверенность. Адония скорей легковерен, чем дипломатичен, и особым умом не блещет. Думать о том, что именно я должен буду покончить с ним, мне неприятно. С другой стороны, я с извращенным удовольствием предвкушаю возможность увидеть, как один из них совершит непоправимый промах. Адония уже близок к этому. Как, впрочем, и Вирсавия с Соломоном.
Если я разрешу Адонии устроить этот его праздник, он сочтет мое присутствие за честь. Вполне естественно. Вирсавия пытается обольстить меня контрпредложением:
– Соломон с радостью устроил бы для тебя небольшой званый обед прямо здесь, во дворце. Так и тебе будет легче, и можно будет обойтись без всей этой расточительности. Соломон ненавидит расточительность. Позволь, я приведу его к тебе, он все объяснит.
– Не приводи его! – грозно предостерегаю я. – Если я увижу его, он станет мне ненавистен и я ничего ему не оставлю. Ависага! Ависага!
Ависага Сунамитянка успокаивает меня поглаживаниями и сладкими поцелуями и провожает Вирсавию до двери, и мы снова остаемся одни. Вирсавия призабыла, что мне присущи гордость и вспыльчивость. Запомните: это я перестал разговаривать с Богом, а не Он со мной. Это я оборвал нашу дружбу. Бог при наших с Ним беседах никогда не высказывал мне недовольства, не говорил со мной бесцеремонно или разгневанно, как с Моисеем. Раздраженные речи и критические замечания доходили до меня только через пророков Его, а я всегда принимал их скептически. Я и сейчас невольно гадаю, что случится, попытайся я вновь обратиться к Нему напрямую. Услышит ли Он меня? Ответит ли? Сдается мне, что мог бы и ответить, если бы я пообещал Его простить. Хотя, боюсь, все же не ответит.
В отличие от меня, бедный, сбитый с панталыку Моисей во всей полноте ощутил тягость гневливого нрава Божия уже через несколько мгновений после того, как услышал голос, известивший его из горящего куста о поразительной миссии, для исполнения которой он только что был избран.
– Па-па-пачему я? – таков был вполне разумный вопрос, предложенный в пустыне Мидиамской этим простым, непритязательным человеком голосу из куста, утверждавшему, будто Он, голос, – Бог отцов его, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. – Я же за-за-заика.
Гнев Господень тут же и возгорелся на Моисея, помыслившего, что Он, быть может, ошибся и выбрал не того, кого следует, и что сила, положившая основания земли и способная удою вытащить левиафана, может быть остановлена таким пустяком, как мелкий дефект речи. Он даст Моисею в помощники брата его, Аарона, в чьи уста можно будет влагать слова. Быстрота и непреклонность этих тиранических предписаний ошеломили Моисея. На компромиссное решение ему рассчитывать явно не приходилось. К тому же Моисей был человеком кротким и мог лишь жалостно пенять на обращение, коему его подвергали.
– А где это сказано, что Я обязан цацкаться с вами? – с вызовом вопросил Господь. – Где написано, что Я добрый?
– Разве Ты не добрый Бог?
– Нет, где это сказано, что Я должен быть добрым? Разве мало того, что Я Бог? Не трать время на пустые мечтания, Моисей. Я приказал Аврааму совершить обрезание, когда он был уже взрослым человеком. По-твоему, это добрый поступок?
– Вот и я н-н-не обрезан, – вспомнил вдруг Моисей и затрясся.
– Это ненадолго, – сказал Господь и загоготал.
Моисей и моргнуть не успел, как его мадианитянка-жена Сепфора накинулась на него с каменным ножом, что-то такое яростно бормоча насчет жизни их сына. Моисей не сопротивлялся. Я ни за что не позволил бы ни одной из моих жен так близко подобраться с ножом к моим укромным частям – даже Авигее, а уж Мелхоле-то и подавно. Сепфора же обрезала крайнюю плоть его и бросила к ногам его. Сомневаюсь, чтобы он многое понял из порицающей тирады, которой она сопровождала эту процедуру.
– Ты жених крови у меня, – сообщила она Моисею. – Жених крови – по обрезанию.
– Б-б-б-больно, – проскулил Моисей.
– А кто сказал, что не должно быть больно? – спросил Господь. – Где это написано, что не должно быть больно?
– На тяжкую жизнь обрекаешь Ты нас.
– А почему она должна быть легкой? – вопросил Господь.
– И в очень жестоком мире.
– А почему он должен быть ласковым?
– А почему мы должны любить Тебя и поклоняться Тебе?
– Я – Бог. Я ЕСМЬ СУЩИЙ.
– А станет ли нам лучше, если мы будем делать это?
– А станет ли вам хуже? Ныне иди в Египет и скажи сынам Израилевым, что Бог отцов их хочет, чтобы ты собрал их всех и вывел оттуда.
Моисей, человек скромный, пессимистично оценивал свои шансы на успех.
– Как они поверят мне? Почему последуют за мною? Что сказать мне им, если спросят они у меня, как Тебе имя?
– Я ЕСМЬ СУЩИЙ.
– Я ЕСМЬ СУЩИЙ?
– Я ЕСМЬ СУЩИЙ.
– Ты хочешь, чтобы я сказал им, что Тебя зовут Я ЕСМЬ СУЩИЙ?
– Я ЕСМЬ СУЩИЙ, – повторил Бог. – А у фараона, – продолжал Он, – приказываю тебе испросить разрешения сходить в пустыню на три дня, чтобы принести жертву Мне. Скажи ему, чтобы отпустил народ твой.
– Чтобы отпустил народ мой?
– Чтобы отпустил народ мой, – повторил Господь.
– И он отпустит народ мой?
– Я ожесточу сердце его.
– То есть он не отпустит народ мой?
– Дошло наконец. Я хочу показать, на что Я способен. Хочу продемонстрировать Мою квалификацию сынам Израилевым.
– Не получится, – уверил его Моисей тяжким от уныния голосом. – Они мне нипочем не поверят.
– Поверят-поверят, – пообещал Господь. – Почему это они тебе не поверят?
Дети Израилевы поверили – и, мать честная, как же они пожалели об этом! Кому другому прошение о трехдневном отпуске в пустыне могло показаться вполне резонным. Для фараона же оно послужило доказательством того, что у евреев слишком много свободного времени, вот они и носятся с дурацкими идеями.
– Праздны вы, праздны, – выговаривал им фараон, – оттого и есть у вас время на жертвоприношения. Дать им побольше работы.
– Нам теперь еще туже приходится, – стенали эти самые сыны Израилевы от возросшей трудовой нагрузки и участившихся побоев. В мрачных глазах их при встрече с Моисеем разгоралась угроза. – Чего ты к нам прицепился?
Озадаченный Моисей обратился с пенями к Богу:
– Для чего Ты подверг такому бедствию народ сей? Для этого ли послал меня? Легче ему не стало, и от фараона он не избавился.
– Я ожесточаю его сердце.
– Ты снова ожесточаешь его сердце? Но зачем ему такое ожесточенное сердце?
– Чтобы Я получил возможность продемонстрировать могущество, которое превосходит силу всех его чародеев и прочих богов. И чтобы показать миру на веки вечные, что вы – народ, избранный Мною в любимчики.
– И что мы с этого будем иметь?
– Решительно ничего не будете.
– Тогда где же тут смысл?
– А кто сказал, что в Моих действиях непременно должен быть смысл? – ответил Бог. – Покажи Мне, где написано, что в Моих действиях должен быть смысл. Никакого смысла Я не обещал. Ему еще смысл подавай. Я дам молоко, Я дам мед. Но безо всякого смысла. Ах, Моисей, Моисей, зачем говорить о смысле? Вон у тебя имя греческое, а никаких греков еще и в помине нету. А тебе смысл понадобился. Если тебе нужен смысл, изволь обходиться без религии.
– Так у нас и нет религии.
– Дам Я вам религию, – сказал Бог. – И законы дам такие, о каких никто и не слыхивал. Я выведу вас из рабства египетского в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будете есть хлеб ваш.
Это то, что Он нам обещал, и все это Он дал нам вместе со сложным сводом ограничительных диетических правил, отнюдь не облегчающих жизнь. Гоям Он дал ветчину, сладкую свинину, сочный филей и толстый край телячьей туши. Нам же Он дал пастрами. В Египте мы ели тук земли. А в книге Левит Он нам есть его запретил. Постановление вечное дал Он там – никакого тука и никакой крови не есть. Кровь содержит дух жизни, а потому принадлежит только Ему. Тук же нехорош для наших желчных пузырей.
А сколько возни выпало Моисею на долю! Едва успел он организовать достойный исход из Египта в пустыню Синайскую, как народ уже начал роптать против него, жалуясь на голод и жажду, и готов был побить его камнями. Моисей и я – мы оба ждали смерти от наших последователей, которым вскоре предстояло нас превозносить. При том что, с одной стороны, Бог сорок лет наваливал на него тяжкую работу, а с другой – ныл и грозился народ, не диво, что римское изваяние изображает его таким стариком и что в могилу он сошел, дожив всего-навсего до ста двадцати лет.
Вы, главное, не забывайте, что ко дню моей битвы с Голиафом я уже успел разок повидаться с Саулом – пел и играл перед ним, после того как его растревоженную душу впервые поразила тяжелая и продолжительная депрессия, с которой ему предстояло промучиться остаток жизни. Благодаря одному из тех поразительных совпадений, которые и внушают веру в мистические и экстрасенсорные явления, злой дух принялся смущать Саула в Гиве в тот самый день, когда Самуил пришел в наш дом в Вифлееме. Боясь, что Саул убьет его, если догадается о цели его визита, Самуил появился, ведя на веревке рыжую телицу, – он притворялся, будто отправился в путь, чтобы совершить жертвоприношение. Он помазал меня оливковым маслом, взятым из рога, что свисал с его шеи на длинном кожаном ремешке. И чуть ли не в этот же миг Саул в Гиве впал в хандру. Заперся у себя и не выходит.
– Освежите его яблоками, – посоветовал Авенир, начальник войска Саулова, – подкрепите его вином.
Вино с яблоками не помогли, и тогда кто-то вспомнил о музыке, сказав, что в ней таится волшебство, способное смирять свирепосердых.
– Без булды? – переспросил Авенир и согласился попробовать.
Тут-то один из слуг и порекомендовал меня как молодого человека, умеющего играть на гуслях, человека храброго, и воинственного, и разумного в речах, и видного собой, да к тому же еще из хорошей семьи – Иессея Вифлеемлянина. Я, собственно, никогда и не сомневался, что мое искусство в обращении со струнными инструментами и замечательный дар стихосложения рано или поздно откроют предо мною все двери.
Да, в то время у нас была еще музыка и любовь к танцам, ну и одеждами мы не пренебрегали – чем крикливей цвета, тем живее они нас радовали. Туника, в которой я вышел на бой с Голиафом, была из тонкого отбеленного виссона с вплетенными в него гиацинтово-синими зубчатыми вертикальными полосками до самого подруба и с такой же гиацинтовой беечкой по всем ее краям и швам. Препоясан же я был вермильоновым пояском из крашеной лайки. Как только финикийцы додумались до золотистой протравы, я перевел мою красильную фабрику, что в Дириаф-сефер, на производство пряжи и ткани именно этого цвета, составляющего столь приятный контраст зеленым, красным и синим одеждам самых разных оттенков, популярных у наших мужчин и женщин, и улиточьему пурпуру из Тира, давшему название земле Ханаанской. Мы любим платье нарядное, многоцветное, да и всегда любили. Самсон ставил на кон рубашки, а Иосиф так важничал в своей разноцветной одежде, что чуть не поплатился за это жизнью, до того возненавидели его все десять старших братьев. Нам еще крупно повезло, что они не убили его, а продали рабом в Египет.
Были у нас также и украшения – кольца, брелоки, броши и колокольца. Кое-какие из них носили и женщины. Помню, как я радовался венцу и ручному запястью, которые притащил мне бродяга-амаликитянин, наткнувшийся на смертельно раненного Саула. Другой венец я сам взял у царя в Равве Аммонитской, когда пал этот город. Если не считать боевых шлемов, других головных уборов, кроме венцов, вокруг, почитай, и не было. Шапок у нас в Палестине тогда не водилось, однако затруднений по части появления в храме без шапочки мы отнюдь не испытывали, потому что храмов у нас не водилось тоже.
Я любил, чтобы мои женщины облачались в желтое, синее, багряное. Я любил алую губную помаду, голубые тени для век, черную тушь для ресниц – все это пошло в дело, когда экономика наша вступила в эру роскоши, досуга и разложения. Все мои жены, слава Богу, хотели казаться прекрасными и тратили большую часть времени на возню с уборами, косметикой, гребнями, зеркалами и щипцами для завивки волос. Одной лишь Вирсавии и этого было мало. Неизменно жадная до новых нарядов франтиха – к вашему сведению, это она в пору одного из ее недолгих, последовательно сменявших друг друга увлечений разного рода ремеслами изобрела дамские трусики с кружавчиками, которые ныне зовут «цветунчиками», – Вирсавия предпочитала стиль вызывающий, неортодоксальный. В то время как прочие мои жены красили волосы в рыжий цвет, она экспериментировала с желтыми и золотистыми составляющими и оттого, если краска плохо держалась или быстро утрачивала однородность, выглядела по временам похожей черт знает на что. Она первой среди известных мне женщин стала пользоваться накладными ресницами и ногтями и черной подводкой для век, и это она изобрела – заодно с трусиками – женский халат и мини-юбку. Ависага Сунамитянка чарует меня прелестными шарфиками, головными повязками и платьями в обтяжку. Что ни день, она нравится мне все больше, глядишь, я еще и влюблюсь в Ависагу. Это в моем-то возрасте и в моем состоянии. Впрочем, Ависага – мне это только что пришло в голову, – наверное, думает, что я педик, поскольку у меня на нее так и не встает и поскольку она, надо полагать, уже слышала те стародавние, ни на чем не основанные сплетни насчет меня и Ионафана.
Первое впечатление – самое прочное, а дурное еще прочней. Думаю, в распространении злобных измышлений на наш с Ионафаном счет, все еще бесстыдно повторяемых недалекими людьми, которым не терпится отыскать во мне недостатки, больше чем что бы то ни было повинна строка из моей знаменитой элегии – насчет Ионафана, женщин и любви. Никто почему-то не вспоминает о предшествующих ей словах, в которых я недвусмысленно утверждаю, что люблю его любовью брата, но не сильнее того. Я написал серьезное поэтическое произведение, вовсе не намереваясь унижаться до скандальной публичной исповеди. Я – царь Давид, а не Оскар Уайльд, пожалуй, я и сегодня прибег бы к тем же самым словам, если б не смог отыскать других, получше, и даже если б предвидел, какие потоки грязнящих меня облыжных басен они породят. Vita brevis, ars longa[1].
Еще одной общей чертой всех моих жен и почти всех наложниц, за которую мне определенно следует отдать должное Богу или удаче, было их маниакальное пристрастие ко всякого рода крепким духам, одеколонам, румянам, умащениям для тела и не менее ароматным освежителям воздуха. Содержать гарем в образцовом порядке – задача в жарком климате нешуточная. А вонища, которая стоит в других помещениях моего дворца и на шумных улицах снаружи, как-то не представляется мне вдохновительным достижением. Я пытался – безрезультатно – подтолкнуть Адонию и Соломона к тому, чтобы они попытались решить интереснейшую проблему вывоза мусора и избавления от нечистот. Но Адонию больше всего занимает светская жизнь, Соломона – его порнографические амулеты, а административные интересы каждого ограничены источниками царских доходов да попытками расположить к себе наших военачальников Иоава и Ванею – соответственно. Я надеялся, что возлюбленный мой город Иерусалим расцветет, обратившись в ослепительную достопримечательность Ближнего Востока, сравнимую по красоте и значению с Копенгагеном, Прагой, Веной и Будапештом; а вместо того, как не преминула указать мне Мелхола, он обратился в еще один Кони-Айленд. Мелхола, жена моей юности, всегда помнившая о своем царственном происхождении, оказалась в конечном итоге царских размеров занозой в заднице, да еще и дожила, на мою беду, до преклонного возраста. Никогда не забуду радостного восклицания, слетевшего с губ моих при полученье известия о ее кончине.
Когда Иисус, приступая к завоеванию Ханаана, перевел нас через Иордан и сровнял с землей огражденный стеною Иерихон, мы оказались в самой гуще населения, которое иначе как смешанным и красочно разнообразным не назовешь. В общем и целом евреи, хананеи и филистимляне уживались друг с другом вполне прилично, если, конечно, не воевали. От живших в Тире дружественных финикийцев мы переняли умение обращаться с красителями и тканями, что позволило нам со временем создать наше собственное прославленное производство готового платья. После того как я отбил Иерусалим у иевусеев, Хирам, царь Тирский, прислал для постройки моего дворца кедровые деревья, и плотников, и каменщиков. Пожалуй, единственное, чего в наших краях не водилось, так это арабов, но по ним никто особо и не скучал. Ко времени моего рождения мы уже пользовались железными орудиями, которые закупали у филистимлян, а народ Ханаана научил нас возделывать землю и вести оседлую жизнь в домах, выстроенных из глиняных кирпичей, с деревянными балками и стропилами. У нас уже были пастбища, рощи, виноградники, пахотные земли, на коих произрастали ячмень и пшеница, и наши собственные крепости и города. Дома, если правду сказать, были махонькие, так что уединиться в них, дабы заняться сексом, было негде, но все гораздо лучше шатров из козлиных шкур, в коих мы ютились в пору нашего кочевого прошлого, а уж по чистоте и удобству они бесконечно отличались от шерстяных плащей, заворачиваясь в которые мы спали, когда путешествовали. И кстати, еще одно обыкновение Соломона, которое повсеместно считается гнусным и алчным, состоит в том, что если он с раннего утра берет у кого-либо плащ в виде залога, то далеко не всегда возвращает его с наступлением ночи.
Люди со средствами и сейчас еще держат в деревне шатры на летние месяцы, другие разбивают их на крышах домов, дабы наслаждаться, сидя там, веющим с моря вечерним бризом. Наверху и просторнее, и покойнее, чем внизу, под крышей. Да что уж там, как раз во время задумчивой, уединенной прогулки по крыше моего дворца, предпринятой во избавление от очередной Мелхоловой сварливой диатрибы, взгляду моему и явилось впервые изысканное зрелище – Вирсавия, принимающая ванну на крыше своего дома. Я так и замер на месте. «Подъем», – скомандовал Дьявол. Похоть моя взыграла, я послал за Вирсавией и в тот же день ее поимел. А также на следующее утро и на следующий вечер, и на следующий, и на следующий, и на следующий. Раз коснувшись ее, я уже не мог остановиться. Я не мог не смотреть на нее. Желал ее и не мог избыть это желание. То была любовь. Я вдыхал ее и не мог надышаться. Я и сейчас не могу глаз от нее отвести. Я хочу обладать ею каждодневно. Вот прямо сейчас и хочу. После первой ночи мы условились, что во всякий день, в какой я не смогу залучить ее к себе, но смогу наблюдать за нею, она будет утром и вечером омываться у себя на крыше. Когда она знала, что я смотрю на нее, движения ее становились особенно сладострастными.
Значение распутства всегда признавалось хананеями и филистимлянами с большей откровенностью, нежели нами, и когда мы столкнулись с этими народами, способы, посредством которых они плодились и размножались, стали здоровым катализатором для возникновения вскоре процветших торговых, культурных и половых сношений между нами. Моисей и компания отродясь не видывали такого количества пипок, какое им, на их непростом пути из Египта в землю Ханаанскую, предъявили жены моавитянские. Едва мы осели здесь, как у нас появились вино, шерсть, зерно и фрукты. У хананеев имелись свинина, религиозные идолы и храмовые проститутки, у филистимлян – морепродукты, пиво и монополия на металлургические секреты, которые они охраняли, не стесняясь в средствах. Они продавали нам орудия, но не желали научить нас затачивать их, да и железного оружия тоже нам не давали. Путешествия были – в мирное время – безопасными, торговля бойкой, отношения дружественными. Да, конечно, временами мы наталкивались на некоторый антисемитизм со стороны филистимлян, но он выглядел скорее следствием осознания определенных узкоместных различий, нежели чем-либо еще. Мы ведь тоже не оставались в долгу: филистимляне были не обрезаны, и мы никогда не позволяли им об этом забыть.
Отношения взаимной выгоды и взаимной зависимости были куда более типичными и привычными, поскольку всем нам с детства примелькалась одна и та же картина – филистимский трудяга, который тащится издалека с притороченным к спине шлифовальным кругом, чтобы наточить для женщин кухонные ножи и ножницы, а для мужчин – стрекала и плуги. Точно так же и мы хаживали в Газу, Геф и Аскалон с посудой на продажу и с плужными резцами, мотыгами и топорами для заточки, а временами и ради того, чтобы приятно скоротать вечерок под пиво с рыбкой. Дорогой туда либо обратно, а то и в обе стороны мы могли завернуть в храм хананеев ради благочестивого участия в отправлении храмовыми проститутками их религиозных обрядов и внести тем самым посильный вклад в процветание нашего сообщества. Мы и по сей день не очень уверены в том, что, отваляв на храмовой земле одинокую или замужнюю женщину, мы так уж резко увеличивали плодородие наших полей и плодовитость скотов. Но хананеи лучше нас разбирались в сельском хозяйстве. А никакого вреда эти наши поступки определенно не приносили.
У нас имелись наш Иегова и наши обряды очищения, у хананеев и филистимлян – эта их штучка Астарта, которую всегда изображали с голой грудью, поместительными бедрами и с тяжелыми боками, образующими почти полный круг. По временам что-то в этой чехарде сбивалось, и мы получали свинину с идолами, а они – наши законы и обряды очищения. Тот же Урия Хеттеянин почувствовал бы себя нечистым и непригодным для битвы, если бы лег с Вирсавией, когда я его об этом попросил. Таков был один из законов, которые Бог дал Моисею и которые вовсе не облегчали нам жизнь. Мужчина, возлегший с женщиной, нечист. А мужчина, возлегший с мужчиной, нечист еще пуще: ибо содеял мерзость. Если же кто смесится со скотиной, говорит Господь, тот умрет. Хотел бы я знать – тот, кто не смесится со скотиной, не умрет, что ли?
Естественно, смешанные браки выглядели в этом плавильном котле делом самым заурядным, да оно и всегда так было. Муж Вирсавии был язычник, Иосиф женился на египтянке, Моисей – сначала на кушитке, потом на мадианитянке, а уж Самсон, который ни одной юбки не мог пропустить, был от рождения падок до филистимских давалок и их интересных приемчиков. Даже моя прабабушка с отцовской стороны и та не была еврейкой: она была той самой моавитянкой, вдовицей Руфью, что вернулась вместе с Ноеминью в Иудею, выбрав нашего Бога и наш народ, и вышла за моего прадеда Вооза. А взять волосатого Исава, женившегося на двух хеттеянках сразу – к огорчению Исаака с Ревеккой, несомненно предвкушавших большой еврейский свадебный пир. У нас были свадебные пиры, хоть не было ни свадеб, ни института брака, да и слов, их обозначающих, тоже не имелось. Мужчина просто платил цену женщины ее отцу и уводил ее к себе домой уже как жену. Они могли праздновать это дело, а могли и наплевать. Я, помнится, во время празднеств, сопровождавших мою женитьбу на Мелхоле, плясал и пил с удовольствием, уязвившим мою новобрачную, царскую дочь, до того, что она стала считать меня парвеню. Я и поныне думаю, что, женившись на Мелхоле, многое потерял, хотя обошлась-то она мне в символическую сотню краеобрезаний филистимских, которые попросил за нее Саул. Я ему еще сотню подкинул, чтобы показать, какой я удалец. Мелхола же оказалась привередой и заурядной мегерой, не стоившей даже одного краеобрезания.
Главное-то в филистимлянах было то, что, когда мы впервые столкнулись с ними, они намного превосходили нас по части культуры, обладая цивилизацией гораздо более развитой. Едва Иисус перевел нас на западный берег Иордана, чтобы мы покорили хананеев и переняли у них приемы землепашества, блудодейства и жилищного строительства, как мы с огорчением обнаружили, что по-настоящему доминирующей военной силой являются в этих краях филистимляне, и это было особенно верно во времена Самсона, этого головореза, троглодита, волосатой обезьяны. Ох уж этот Самсон! Вот уж был дубина, йолд[2], невежественный деревенский переросток, по дурости искушавший лютую ярость филистимлян, упрямо совершая одно за другим злодеяния, вполне достойные такой слабоумной нетолочи. Кто мог с ним справиться? А они его еще и в судьи произвели! Сегодня он влюблялся в филистимлянку и играл с ее соседями в угадайки на тридцать перемен простыней, наволочек и сорочек, а завтра убивал их всех до смерти и сжигал их поля и виноградные сады и масличные, привязав факелы к хвостам трехсот лисиц. Ой-вэй! Проще он ничего придумать не мог? Сотни раз народ Иудеи молил его вести себя поприличней.
– Самсон, Самсон, что же ты с нами делаешь? – толковали ему старейшины. – Или ты не знаешь, что филистимляне правят нами и могут обратить нас в рабов, какими мы были в прежние времена?
Как об стенку горох. Сотни раз они хотели связать его и связанного сдать филистимлянам. В конце концов он им это позволил, и вот, когда народ уже радовался, что избавился от него раз и навсегда, Самсон, окруженный филистимлянами, разорвал путы и ослиной челюстью ухайдакал в придачу к прежним новую тысячу. А следующим номером – никто еще и глазом моргнуть не успел, он, нате вам, уже втюрился в очередную филистимскую потаскушку, в Далилу, и выболтал ей свой драгоценный секрет, за что и лишился волос, силы и глаз. Мильтон с его «Самсоном-борцом» промазал мимо цели на милю, не меньше. Самсон, которого помним мы, был слишком туп и неотесан, чтобы сказать о себе: «безглазый в Газе, я мелю с рабами» – или вообразить, как он умирает «растратив страсти все». Хотя последние его слова, вот это: «укрепи меня только теперь, о Боже! чтобы мне в один раз отмстить филистимлянам за два глаза мои», – в общем, недурны.
Джон Мильтон бывает порой весьма далек от совершенства – первый из двух сонетов, посвященных им «Тетрахорду», ничтожен, да и второй далеко не хорош, – и все же я прошу вас проявить по отношенью к нему такую же снисходительность, с какой время от времени требую относиться ко мне. Все-таки главное – это наше искусство. Мы с ним поэты, а не историки и не журналисты, и рассматривать его «Самсона-борца» следует в том же беспристрастном свете, что и мою знаменитую элегию на смерть Саула и Ионафана вместе с моими же псалмами, притчами и иными выдающимися произведениями. Цените их как поэмы. Ищите в наших творениях прежде всего красоту, а не точное изложение фактов. Вот вам разительный пример: мое прославленное «Не рассказывайте в Гефе, не возвещайте на улицах Аскалона, чтобы не радовались дочери филистимлян». Если бы на первом месте стояли буквалистская истина и здравый смысл, чем можно было бы объяснить неувядающую популярность этой сладкозвучной фразы? Как-никак в Гефе и Аскалоне узнали о поражении и смерти Саула на Гелвуе за добрых две с половиной недели до меня. Такие отклонения от реалистичности получают общее свое объяснение лишь на основаниях эстетических. Мильтон был человеком значительных способностей. Кто знает – кто может с определенностью утверждать, что его творения не проживут столько же, сколько прожили мои, и не будут когда-нибудь читаемы так же широко, как моя знаменитая элегия?
Какую радостную погребальную песнь мне удалось сочинить экспромтом, когда меня припекло! Если говорить объективно, по части веселья моя знаменитая элегия не уступает оде к радости и победе. Смерть Саула открыла для меня двери и очистила путь. Как взыграла душа моя, когда я понял, что написал, и, будучи сам строжайшим своим критиком, заключил, что не вправе изменить ни единого слова или убрать хоть одну строку. Признаюсь, мне случалось с тех пор пожалеть, что я недостаточно поработал над словами: «Ионафан; ты был очень дорог для меня; любовь твоя была для меня превыше любви женской». Это чреватое неприятностями заявление породило множество безвкусных и безосновательных домыслов у всех тех, кто желал меня очернить или найти почтенное оправдание собственным непутевым наклонностям. Что уж такого недостойного в этих словах? Для меня смысл их остается ясен, прост и чист, как в тот день, в который я их написал. Тот же Джон Мильтон мог бы произнести их, если бы первым до них додумался.
Однако Мильтон был суровым пуританином, проживавшим в холодном климате, а мы – похотливой полигамной оравой, обитавшей в местах обильных и теплых. Поэтому мы с упоением вступали в родственные браки, мешали инбридинг с аутбридингом и занимались этим всегда, даже во дни Авраама, общего нашего праотца. Есть тут и еще кое-что. В самом начале мы носили короткие бороды и носы имели прямые – можете сами увериться в этом, взглянув на настенные росписи, – и кто знает? если бы нас в наших блужданиях и совокуплениях постигла немного иная генетическая мутация, мы были бы сейчас белобрысы и миловидны, как датские школьники. Неудивительно, что наши нравственные философы тогда, да и ныне склонялись к сумрачной угрюмости, придиркам и аскетизму. Мильтон был блюстителем нравов и педагогом – он заставил своих дочерей выучить древнееврейский; я же английского так и не освоил. И я считаю, что Саул с Ионафаном дали мне тему более благородную, нежели та, которую дал ему Самсон, этот грубый, вечно садившийся в лужу олух, силой заставлявший своих родителей устраивать для него браки, которых те не одобряли, и не способный удержаться от того, чтобы вставить первой встречной филистимской поблядушке. И вот нар[3] вроде него стал у них судьей, а моим именем даже книги в Библии не назвали. Что меня по-настоящему бесит, так это то, что Самуил получил целые две, Первую и Вторую[4], хотя помер он уже в первой, а во второй ни разу не упоминается, то есть ни единого. Разве это справедливо? Эти две книги Самуиловы следовало назвать моим именем, а не его. Что уж такого великого в Самуиле?
Я так и слышу, что ответил бы мне Бог, если бы я Его об этом спросил:
– А кто сказал, что Я собираюсь быть справедливым? Где сказано, что Я должен быть справедливым?
– Ты вообще-то всегда понимаешь, что творишь? – наверное, спросил бы я, если бы смог проглотить свою гордость и снова с Ним заговорить.
– Понимаю, не понимаю, какая разница? – отвечает Он, я и это слышу, с несокрушимым апломбом.
При таком вот Его цинизме кому нужен Бог вроде Него? Я разве слепой? Да я еще пятьдесят лет назад сообразил, что не проворным достается успешный бег, не храбрым – победа, но время и случай для всех их. Восходит солнце, и заходит солнце, и одно и то же выпадает праведнику и нечестивому. Хлеб не всегда достается мудрым, богатство – разумным, благорасположение – искусным, но одна участь постигает нас всех. Мудрый умирает не приятнее и не мудрее глупого. Чем же в таком случае мудр мудрый? Вот почему я стал ненавидеть жизнь и пришел к заключению, что нет лучшего для человека под солнцем, как есть, пить и веселиться, хотя и это задача не из самых легких, когда всей еды у тебя – одно пастрами. Лишь переднюю четвертину волов и овец отдал Он нам на съедение. А с остальными что прикажете делать?
И при всем том Самсон очень хотел получить те рубашки, Иосиф относился к своей одежде как к драгоценности, а я наслаждался моей короной и браслетами. Дочери израильские радовались нарядам из багряницы с украшениями и золотыми уборами. Понятия не имею, с чего наши потомки в Восточной Европе взяли, будто безрадостная черная шляпа с широкими полями и мрачный длинный сюртук из альпаки или габардиновое пальто без украшений составляют часть нашей традиции или что одежда скучных похоронных тонов в особенности хороша для молитвы. Возможно, все это внушили им плачи Исайи и Иеремии, вторжения и разрушения, которые претерпевал Израиль от ассирийцев, вавилонян, греков и римлян, диаспора, гонения средневековой Европы, погромы в России и Польше, да еще и Адольф Гитлер в придачу.
Даже по сей день мне легко угодить, подарив экзотическую побрякушку или цветастое одеяло, халат, рубашку – или поднеся одежды либо драгоценности служанке моей Ависаге. В удовольствии, с каким она их принимает, нет ни притворства, ни жадности. Это Вирсавия у нас приобретательница, не Ависага. Я люблю смотреть, как Ависага обряжается в какие-нибудь восхитительные обновки. Мне любо видеть, как кокетливо жеманничают нынче наши женщины, как блуждают, отражаясь в ручных зеркальцах, их игривые глаза. Мне нравятся их пышные головные повязки, серьги, шляпки, мантильи и заколки, кольца на пальцах и колокольца на щиколотках, их браслеты, цепочки, накидки, чепчики и вуальки. Я люблю женщин, и всегда их любил, я наслаждаюсь их амбициозными, утомительными потугами сделать себя попривлекательнее. Ныне у них даже из носов торчат драгоценности. А у нас имеются ныне и собственные Савонаролы – как только мы достигли известных успехов и получили возможность немного расслабиться и начать наслаждаться плодами нашего прогресса, тут же появились и люди, предвещающие нам за это крушение и погибель, люди, которым решительно не по нутру наши радости и увеселения, которые упорствуют, предрекая нам злую участь.
«И будет вместо благовония зловоние, – гласит известное уличное присловье. – И вместо пояса будет веревка. И вместо завитых волос – плешь. И вместо широкой епанчи – узкое вретище. И вместо красоты – клеймо».
Тем не менее мы решили попробовать. Кто же по собственной воле станет отказываться от роскоши?
Не забывайте еще и о том, что ко времени, когда я с тележкой, набитой сыром, хлебами и сушеными зернами, добрался в день моей битвы с Голиафом из Вифлеема в Сокхоф, Самуил уже избрал меня в царственные преемники Саула, и оттого я был более, нежели прежде, уверен, что вправе наплевать на ругань моих братьев или сестер, да если на то пошло, и отца с матерью тоже, хотя они-то ко мне никогда особенно не приставали. Вследствие этого я не без удовольствия показал Елиаву, Аминадаву и Самме кукиш, когда они, едва я доставил провизию им и начальнику их, приказали мне немедля возвращаться домой. На свете просто не было благ, ради которых я согласился бы обратиться спиной к достославному зрелищу – двум армиям, стоящим одна против другой в долине дуба, – или отказаться от возможности стать героем, раз уж я заметил, как манит меня эта возможность.
Ведя, дабы облапошить Сауловых информаторов, на веревке рыжую телицу, Самуил без предупреждения заявился в наш дом и, не тратя времени попусту, распорядился привести к нему каждого из сыновей в порядке убывания лет их. Я как услышал насчет этой телицы, так сразу задумался: что бы она, собственно, значила. Все дальнейшее сильно смахивает на сказку про Золушку. Я, самый меньший вьюнош в семье, которому никто никакого значения не придавал, пас в то время овец, обо мне в сей исторический день домашние и думать забыли.
– Войди, – сказал мой гостеприимный отец неулыбчивому, решительно настроенному путнику, пришедшему, исполняя указания, полученные им от Господа, со своей рыжей коровой из Рамы в Вифлеем. – Сними сандалии, зайди в дом. Омой ноги. Присядь на пол, перекуси. А может, хочешь подняться на крышу и отдохнуть немного?
Самуил вознамерился остановиться прямо на Елиаве, перворожденном. Но Бог, сказавший Самуилу, что книгу судят не по обложке, а человека не по виду или росту, говорил тогда на моем языке. Все мои братья ростом превосходили меня. В свой черед прошли перед ним и Аминадав с Саммой. И остальные семеро.
– Больше нет? – недовольно спросил Самуил. – Все дети здесь?
Послали за мной.
Высокий, тощий, мрачный человек, которого я увидел, придя домой, определенно был волосат. Если вы считаете волосатым Исава, вам стоило бы взглянуть на Самуила в его длинной хламиде, на множество черных и седеющих прядей, торчавших чуть ли не из каждого дюйма тела его, какой остался не прикрытым одеждой. Ежели не считать глубоко сидящих темных глаз, пронзительных и печальных, да узкого, желтого, морщинистого лба, трудно было б сказать, где кончаются кости и плоть лица его и начинается волосистая поросль, покрывающая щеки и череп. Внешность Самуила, когда я с нею освоился, вовсе не казалась мне неприятной, не скажу, однако, чтобы я к нему привязался, нет, в его обществе я всегда чувствовал себя неуютно. Его матушка, Анна, бормоча, будто пьяная, у алтаря в скинии Илия, дала обет, что бритва не коснется головы сына ее, если Бог позволит ей выносить хоть одного. Можете, ничем не рискуя, поспорить, что слово свое она сдержала.
Вел он себя в тот день капризно и вспыльчиво, голос его был сух, ничего даже отдаленно похожего на восторг не наблюдалось в том, как он приветствовал меня, человека, которого ему поручено было отыскать и помазать на царство. Слова, коими он объяснил, зачем пришел, произносились им безо всякого выражения. Он нимало не походил на странника, способного порадоваться хорошей шутке или гостеприимству – да просто поболтать о том о сем.
– Господь раскаялся, что воцарил Саула над Израилем, – сказал он, откупоривая рог с елеем, – ибо он не следует каждому слову Его и не исполняет Его повелений. Ныне Он отторгает царство от Саула и отдает оное ближнему его, который лучше Саула и который Господу больше по сердцу. Вот ты этот ближний и есть.
Вам, наверное, интересно будет узнать, что я почувствовал себя польщенным. Но Самуил уже пустился в обратный путь. Я бегом нагнал его.
– Значит ли это, – воскликнул я, – что мне больше не нужно пасти овец и позволять всей семье помыкать мною? Значит ли это, что ты и все остальные обязаны делать то, что я прикажу?
– Это значит, – последовал ядовитый ответ, – что ты и все остальные обязаны делать то, что прикажу я и прикажет Господь. Ибо мы с Господом сильнее всего, что есть на земле, сильнее всех вооруженных сил Саула. Саул не всегда выполнял наши приказы. Поэтому мы отвергли Саула и выбрали тебя.
Меня вдруг вновь поразила мысль о его рыжей корове.
– Телица, телица, – выпалил я опрометчивую ересь, столь типичную для моей отчаянной натуры. – Твоя рыжая корова. Зачем она тебе? Отчего это вы с Господом так боитесь Саула, если вы такие всесильные?
– Не лезь не в свое дело, – скрипучим голосом отозвался Самуил. – Хочешь ты быть царем над Израилем или не хочешь?
Ну, что я ему тут ответил, вы, я думаю, знаете.
– Когда начинать? Скоро это случится?
– Когда случится, тогда и случится.
– А родным можно сказать?
– И не думай, – одернул он меня побледнев. – Скажешь кому хоть слово, нам обоим несдобровать.
Разумеется, я тут же всем рассказал.
– Не перестанешь трепаться, – грозились мои братья, – бросим тебя в ров, а потом продадим в рабство в Египет.
Даже такие неучи, как мои братья и сестры, кое-что слышали об истории Иосифа и его эпохальном путешествии в Египет, отчего и смогли уловить некое ситуационное сходство между мной и ее центральным персонажем.
Во все мое детство мне постоянно сулили, что со мною поступят так же, как с ним, если я не буду следить за своими овцами и своим поведением, и не буду ложиться спать, когда мне велят, и не перестану шуметь в доме, когда все остальные пытаются заснуть. Им почему-то не нравилось, что я играю на арфе и пою, когда они хотят отдохнуть. Никто из моих братьев и сестер не испытывал ни малейшего интереса к музыке и литературе, все они до последних дней своих сохраняли единодушное безразличие к моей знаменитой элегии, все остались невосприимчивыми к высоким достоинствам и царственной красоте множества псалмов и изречений, которые мне совершенно справедливо приписывают. Я, подобно Иосифу, был блистательным вундеркиндом, окруженным неразвитыми, не способными его оценить мужланами, к тому же превосходившими его годами. Назвать их филистимлянами было бы оскорблением – для филистимлян, людей, если правду сказать, куда более развитых. Необрезанных, но развитых. Конечно, тщеславие и снобизм, присущие нам с Иосифом, служили для нашего окружения неиссякаемым источником враждебности, но я все-таки никогда не дерзил старшим так, как дерзил Иосиф, а насколько я способен судить, оснований, чтобы проникнуться чувством превосходства, у меня было побольше, чем разноцветная одежда да умение растолковывать сны.
И все же Иосиф приходится мне родней по боковой линии, это человек, с которым я мог легко себя отождествить и которому симпатизировал – даже в худших его инфантильных проявлениях, когда, например, он показывал братьям, почем фунт лиха. В ту пору случился большой голод, братья приехали в Египет закупать продовольствие, и он обнаружил, что держит их жизни в своих руках. Он-то их узнал, а они его нет. Но сладость мести была для него не в этом. Надежда, долго не сбывающаяся, изнуряет сердце, хоть и не думаю, чтобы он это знал.
Одолевая нежные чувства, которые ему не всегда удавалось сдержать, Иосиф изводил братьев дотошно продуманными жестокостями, пока наконец не открыл им, что он – давно утраченный брат их, и не пригласил перебраться в Египет. Где тут смысл? Никакой особой радости он, терзая их, не испытывал. Вспомните, сколько времени требовалось в те дни, чтобы пешком добраться от Египта до земли Ханаанской, да не просто добраться, а таскаться вперед-назад, и вы поймете, что Иосиф почти полгода заставлял братьев потеть от страха, фабрикуя против них фальшивые улики по части воровства, возводя ложные обвинения в шпионаже и изводя пугающими притязаниями. Больше всего на свете он желал снова полюбоваться на Иакова, увидеть, обнять и расцеловать Вениамина, своего младшего, по-настоящему родного брата. Нагнетая напряжение и ужас, он лишь ненужно оттягивал воссоединение, которого сам же и жаждал всею душой. Какая уж тут радость? Всякий раз, соорудив для них очередную наводящую оторопь препону, он с полными слез глазами убегал в свои покои, чтобы там выплакаться. Даже престарелому отцу его, которого он столь почитал, пришлось терзаться печалью и страхом, а уж потребовав Вениамина в заложники, Иосиф и вовсе едва не свел седину старика с печалью во гроб.
– Иосифа нет, – предвкушая беду, предупредил детей Иаков, когда у него не осталось иного выбора, как только послать с ними Вениамина в Египет, – один остался у меня сын от Рахили, и если уж мне быть бездетным, то пусть буду бездетным, и пусть седина моя поскорее сойдет с горестью во гроб.
Иуда со смиренной прямотой предложил в рабы себя вместо брата, описав Иосифу опасность, которой подвергается их отец. Иосиф выслушал, и сердце его едва не разбилось. Он больше не мог обманывать их и перецеловал всех братьев своих и плакал, обнимая их. А после смерти Иакова Иосиф велел набальзамировать его, и как, наверное, вытаращились неотесанные кочевники, впервые узря эту египетскую премудрость! Иосиф-то о ту пору к ней уже попривык.
Что же такое находит на семьи, в которых родные люди творят один с другим подобные злые дела? Видит Бог, за мной в мое время много водилось грехов, но ни в чем похожем я не повинен. Мне дети достались не лучше Иаковых, довольно взглянуть, что они учиняли друг с другом, да и со мной тоже. Наверное, забалованное дитя, которое во всех нас сидит, так никогда и не вырастает, и чувства Иосифа к отцу и к братьям были такими же бестолковыми и сбивали Иосифа с толку так же, как Саула его чувства ко мне или к родному сыну, к Ионафану. Или меня – мои чувства к Саулу. Или мои же чувства к Богу, а Его ко мне: похоже, мы с Ним никак не решим, чего нам, собственно, надобно. Я ведь всегда Саула жалел и поныне жалею. Я преклонялся перед Саулом, боготворил его, ибо он в конце-то концов позволил мне, пусть ненадолго, полюбить себя самого безоглядно и всей душой, – пока безо всякой на то причины не возненавидел меня, проникнувшись злобной, психопатической подозрительностью, так что мне пришлось под конец уносить ноги от его убийственного гнева. Я ведь стремился только возвыситься, а вовсе не свергнуть его и не думаю, чтобы я когда-либо намеренно сказал или сделал хоть что-то, способное ослабить его позицию.
Я знаю и то, что ни разу не заходил с моими братьями так далеко, как Иосиф со своими, впрочем, и братья мои не поступали со мной так, как Иосифовы с ним поступили. Они надо мной смеялись, рявкали на меня, осыпали приказами, пилили, критиковали и лезли в мои дела. Но они никогда меня не хватали, желая убить, не сажали в ров и не продавали, взамен убийства, рабом в караван купцов, шедших землей Ханаанской из Галаада в Египет. Они не ходили с вымаранной кровью одеждой к пораженному горем отцу и не врали, будто меня сожрали хищные звери. Очень некрасивая история. Я был юн, когда убил Голиафа, а после того не я оказался в их власти, а они в моей. Я защитил их как только мог, когда они в панике убежали из Вифлеема, прослышав, что Саул затевает кровную месть против нашей семьи, и ухитрились добраться до штаб-квартиры, оборудованной мною в пещере Одолламской. Отца с матерью я определил на жительство к царю Моавитскому, за Иордан. А братьев и сестер, уходя в Геф, чтобы служить царю Анхусу с его филистимлянами, забрал с собой заодно с двумя моими новыми женами, шестью сотнями бойцов и всем их домашним скарбом.
– Так ты служил филистимлянам и сражался за них? – и по сей день с ужасом припоминают люди.
– Вы чертовски правы, служил, – отвечаю я вспыльчиво. – А не пойди я на это, мои же воины и побили б меня камнями.
Вот еще один эпизод моей борьбы с Саулом, которого ни в каких Паралипоменонах не сыщешь, не правда ли? Они там подчистили обе наши истории, и его, и мою. Да какая теперь разница? Я своего добился, а только это в счет и идет, разве нет? То же и с Моисеем, и с Иосифом, и Бог еще должен всем нам спасибо сказать за то, что мы помогли Ему сдержать слово, которое Он дал Аврааму. Я помог мечом. Иосиф – переводом напугавшего фараона сна насчет семи колосьев и тучных коров и тощих коров на язык состоящего всего из двух слов простого рецепта, который, пожалуй, мог бы заслужить ему кислые похвалы Зигмунда Фрейда и зажечь уважительный огонь в глазах всякого, кто подвизается в сфере покупки фьючерсов на зерно.
– Скупай хлеб, – сказал Иосиф.
– Скупать хлеб? – переспросил фараон.
– Твой сон, – сказал Иосиф. – Сон означает, что надо скупать хлеб.
Так что, когда грянул голод, только фараоновы житницы и оказались полны. Оголодалые люди, у которых водились деньжата, сходились со всех земель окрест Египта и Палестины, чтобы купить еды, без коей им было не выжить. Когда деньги кончились, они стали расплачиваться скотом, лошадьми и ослами. Когда кончился скот, они стали отдавать в уплату землю, а там и самих себя. Всем этим завладел фараон, некупленными остались только земли жрецов. Иосиф постановил собирать в пользу фараона пятую часть всего, что рождает земля, и прошу любить! – помимо иных чудес цивилизации, египтяне додумались также до феодализма и испольной системы.
Пятая часть? Такого налога даже мне не спустили бы, да я на него и не претендовал. Соломон, тот претендовал, но удовлетворился двенадцатой частью и в итоге поставил царство на грань краха своими бездумными и тщеславными тратами. Он на все норовил наложить лапу и все расточал на себя, а его недоумок сын, едва унаследовав трон после Соломоновой смерти, нанес сокрушительный удар по всем надеждам на возрождение национальной мощи.
– Мой мизинец толще чресл отца моего, – по-дурацки объявил благородный Ровоам населению, которому и так уже опротивела эксплуатация. – Отец мой обременял вас тяжким игом, так я ваше иго увеличу; отец мой наказывал вас бичами, а я буду наказывать вас скорпионами.
Еще и скорпионов приплел, идиот. Такой же умный, как Самсон, но лишь наполовину такой же воспитанный. Интересно, как он себе мыслил – с кем он говорит? В единый миг труды Иосифа, Моисея, Господа и мои обратились в пыль, во взрывчатый хаос, в руины. Опять гражданская война, и опять созданная мною империя развалилась на два обособленных государства.
Моисей не получил за свои труды ничего, кроме поношений с обеих сторон. Иосиф по крайней мере добился от фараона разрешения сынам Иакова переселиться с семьями в Египет, где их поджидали все блага этой страны. На самом-то деле неотесанных обитателей шатров Ханаанских поджидал очередной обескураживающий сюрприз: явившись туда со своим скотом, они немедля обнаружили, что никакая ассимиляция в местном культурном обществе им не светит. Для египтян они были мерзостью. Египтяне даже садиться есть рядом с ними не желали. И не потому, что пришлецы были евреями, не думайте, – они и сами-то толком не знали, кто они такие. Сыновья Иакова, вот и весь сказ. Их сторонились потому, что они – пастухи, скотоводы. Утонченные египтяне любого пастуха, любого кочевника почитали за мерзость. Так что ни в одной египетской харчевне места для них не находилось, пока Иосиф не попросил и не получил у фараона добрых пастбищ в Гесеме, на которых сыновья Иакова, называвшегося теперь еще и Израилем, смогли осесть со своими женами, младенцами, шатрами и скотами и есть, как обещал им благодарный фараон, тук земли. Онейромантический[5] дар Иосифа спас страну от голода, а фараону принес такие богатства, какие тому и в самых буйных снах не грезились.
Четыреста лет спустя Египтом правил уже другой фараон, ничего об Иосифе не знавший. Короткая у египтян память, верно? Фараон этот обратил потомков Израиля в рабство, поставив над ними суровых начальников, отчего и пришлось Моисею, бедняге, выводить их оттуда. Он на эту работу никогда не просился и удовольствия от нее тоже не получил никакого.
– Сними обувь, – вот первое, что услышал Моисей от горящего куста. – Ты стоишь на святой земле.
Так оно и продолжалось до скончания Моисеевой жизни. Уговаривать фараона, чтобы тот отпустил евреев из Египта, само по себе было делом нелегким. Организовать сплоченное движение сопротивления и уговорить евреев уйти вместе с ним из страны было и того труднее. Уйти? Пожалуй. Без споров и препирательств? И думать нечего. Все равно что надеяться ветер догнать.
– Кто-кто-кто-кто…
– Кончай, Моисей, – сказал Господь. – Я же выправил твое заикание, забыл, что ли?
– …кто я, чтобы они продолжали мне верить? И как-как-как…
– Моисей!
– …как мне ответить, когда они спросят об имени?
– Я ЕСМЬ СУЩИЙ.
Моисей, болезненно сморщившись, отступил на шаг.
– Опять Я ЕСМЬ СУЩИЙ?
– А что?
– Они уже глядят на меня с угрозой и бормочут проклятия. Что-что-что…
– Ты прекратишь или нет?
– …что они скажут, когда тяготы возрастут?
«Вэй из мир» – вот что они сказали, когда тяготы возросли, в переводе это значит «горе мне». Фараон навалил на них, труждавшихся в полях, возившихся с кирпичом и известкой, еще больше работы.
– Я по-прежнему ожесточаю сердце его, – сказал Господь, когда Моисей пришел к Нему жаловаться. – И не смей говорить Мне опять, что это бессмысленно. Таков приказ. Я займусь фараоном, а ты занимайся народом. Думаю, скучать тебе не придется.
И не соврал. Интересно, что бы случилось, ответь Моисей отказом?
Словно сообразив, что разговоры им предстоят долгие, Бог дал Моисею брата по имени Аарон, дабы было в чей рот влагать слова, а там и сестру Мариам, принявшуюся бойко пророчествовать. В противном случае при Моисеевом косноязычии вместо десяти язв могло потребоваться двадцать, а вместо сорока лет скитаний – все четыреста.
Уходя из Египта, народ благоразумно уклонился от дороги земли Филистимской, устремившись взамен к югу, дорогою пустынною к Чермному морю. Моисей взял с собою кости Иосифа. Воркотня и занудливые приставания, которых он так опасался, донимали его с самого начала вкупе с обычными ироническими замечаниями, облекаемыми в форму риторического вопроса, который евреи и выдумали и по которому нас узнают еще с тех времен, когда Каин ответил: «Разве я сторож брату моему?»
– В чем дело? – С таким брюзгливым попреком обратилась толпа к Моисею, увидев преследующие ее колесницы египетские. – Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?
Тоже, между прочим, неплохо сказано.
К середине второго месяца вся конгрегация ныла, жалуясь на голод, обвиняя в нем Моисея с Аароном и сожалея о добрых старых днях рабства в земле Египетской, где они сидели у котлов с мясом и ели хлеб досыта. Моисей оправдывался. Господь послал манну. А им все равно хотелось котлов с мясом и хлеба. Бог дал им перепелов. И отравил оных, дабы не ели их.
А кроме того, Он говорил. Он говорил, и говорил, и говорил, и все Моисею, а выговорившись, начинал говорить опять, и опять Моисею. Наговорено было столько, что непонятно, откуда Моисей брал время на то, чтобы еще куда-то идти. И ни единого слова благодарности или хвалы, никогда, ни единого. И ни слова сожаления о Моисее, ни одному человеку, после того как Моисей ушел. Похоже, благой Господь никогда не уставал говорить с Моисеем, бранясь то по одному, то по другому поводу, грозясь массовым уничтожением и день за днем полагая законы, которых хватило и на Исход, и на Левит, и на Числа, и на Второзаконие. Он-то писал их пальцем на камне, Ему это было раз плюнуть, а тащить тяжеленные скрижали с горы пришлось Моисею. И после того как Моисей их разбил, увидев золотого тельца, бедняге пришлось еще лезть обратно в гору за новым комплектом. Сорок лет продолжалось это – Бог гневался, рвал и метал, народ взбрыкивал, упрямился и непокорствовал. И вот наконец доплелись, и Моисей – настолько, готов поспорить, измотанный, что у него не было даже сил омыть руки свои, – взошел на гору Нево, на вершину Фасги, чтобы взглянуть по-над Иорданом на землю обетованную, в которую путь ему был заказан за некий необъясненный проступок, до сути коего ни я и никто другой докопаться так и не смогли. А вскоре затем, хоть зрение его не притупилось и крепость в нем не истощилась, Моисей умер, и где находится его могила, никто и по сей день не знает.
Ну вот, стало быть, – земля обетованная. Мед там действительно имелся, а молоко мы притащили с собой, в вымени наших коз. Народу Калифорнии Бог дал роскошную береговую линию, киноиндустрию и Беверли-Хиллз. Нам Он дал пески. Канны получили от Него великолепный кинофестиваль. Мы получили ООП. Зимой у нас хлещет дождь, летом стоит жарища. Людям, которые не умеют наручные часы завести, Он дал подземные океаны нефти. Нам же Он дал грыжу, геморрой и антисемитизм. Те, во всем подозревавшие недоброе шпионы, что вернулись из земли Ханаанской после первого ее осмотра, описали ее как землю, поедающую живущих на ней, землю, населенную одними исполинами. Вранье, конечно, но не лишенное доли истины. Верно, были в ней и смоквы, и гранатовые яблоки, и виноградные кисти, столь тяжелые, что унести их можно было лишь на шесте, уложенном на плечи двух мужчин. Но такого, чтобы пожирать живущих на ней, за той землей не водилось. Да и не предлагалось нам лучшей, приходилось держаться за эту.
Из двадцати четырех человек, принимавших участие в первой разведке, только Иисусу с Халевом достало веры в предназначение, провозглашенное Божеством, и желания двигаться дальше. Народ же уперся, испугавшись нарисованной остальными разведчиками мрачной картины.
– Шагай, шагай, – попытался Господь ободрить народ Свой, обнаружив, что тот погрязает в страхе. – Я пошлю пред тобою шершней. Обещаю. Князья Едомовы смутятся, трепет объемлет вождей Моавитских, унынье охватит всех жителей Ханаана. Нападет на них страх и ужас, и онемеют они, как камень. Ты прогонишь евеев, хананеев, хеттеев, ферезеев, а заодно уж и иевусеев. Они обратят к тебе спины свои и побегут. Ничто тебя не остановит. Слово даю.
Никто и шагу вперед не сделал. Тогда Господь решил, не сходя с места, истребить их всех. Очень Он прогневался и обозлился.
– Всех перебью! – орал Он на Моисея. – Думаешь, Я шутки шучу? Сколько еще, по-твоему, Я буду терпеть раздражения от народа сего и сидеть сложа руки? Сколько еще знамений Мне сделать среди него, чтобы уверовал он? Я уж это и прежде проделывал – потопом, огнем и серой. Отойди-ка в сторону, Моисей.
– Может, поговорим, обсудим все? – начал Моисей. Он изо всех сил старался удержать Его и особенно напирал на то, что Бог станет посмешищем среди египтян, если уничтожит избранный народ Свой после того, как завел его так далеко и наобещал ему так много: «И они расскажут о том народам других земель, и те тоже будут смеяться над Тобой и перестанут бояться Тебя. И станут говорить, что убиты мы были потому, что Ты не смог вести нас, а не потому, что мы не смогли идти за Тобой. Они поверят, что это Ты ослабел, не мы».
– Ладно, – смилостивился Бог, которому вовсе не улыбалось стать посмешищем египетским. Тем не менее Он ткнул большим пальцем через плечо Свое и приказал: – Давайте топайте. Мотайте отсюда.
И они возвратились в пустыню Фаран, что близ Кадес-Варни, еще на тридцать восемь лет, пока не испустили дух все, кто роптал против Бога, и не ушло одно поколение и не пришло другое. Если Бога и будут помнить, то, уж, наверное, не за терпение Его и человеческую доброту, ведь так? Из всех, кто вышел из Египта, только Иисусу и Халеву дозволено было войти в землю обетованную. Когда Господь сказал: «Слушай, Израиль: ты теперь идешь за Иордан», Иисус и Халев повели свое войско через Иордан к Иерихону, начав завоевание Палестины, которого никто, кроме меня, завершить не смог. Земля Палестины по-прежнему остается землею сильной, вмещающей множество разнообразных, взаимообогащающихся культур. Разница в том, что теперь все они – мои.
Не думайте, впрочем, что Он облегчил мне задачу. Жизнь человека, избранного Богом, – не ложе, устланное розами. Спросите Адама, спросите Еву. Посмотрите, что Он учинил с Моисеем, что случилось с Саулом. Бог мог подготовить мою встречу с Голиафом, но убивать-то его пришлось все же мне. Чуть ли не всю мою жизнь я труждался и мучился как последний пес. Когда я воцарился в Иерусалиме, мне было уже под сорок, и все, чего я добился, досталось мне в поте лица моего.
Иосиф дал нам приют и спасение, Моисей довел до границы, а Иисус перевел через нее. Но именно я докончил Божью работу. И Бог, я думаю, видит, что Он хоть немного да обязан мне за ту роль, которую я сыграл, помогая Ему достичь Его цели.
Представьте, кем бы Его считали теперь, если б мы так сюда и не добрались или, добравшись, были б истреблены. Видит Он и то, что я ожидаю награды Его до того как умру, не после. А кроме того, Он должен еще извиниться передо мной – это по меньшей мере. Я же не говорю, что меня не следовало наказывать за грехи, которые я совершил. Я говорю, что наказания, избранные Им, были бесчеловечны. Я и сам никак не пойму, какой, собственно, милости я жду от Него. Наверное, я просто боюсь попросить. Боюсь, что Он ничего мне не даст. И еще больше боюсь, что даст. Разве не трагедией будет обнаружить, что на самом-то деле Он все это время был тут, рядом?
Есть у Него своекорыстное обыкновение взваливать на других всю вину за Свои ошибки, разве не так? Он выбирает наугад человека, незваный-непрошеный рушится на него, так сказать, прямо с ясного неба и взваливает на беднягу задачу монументальной сложности, до которой мы, по способностям нашим, не всегда еще и дотягиваем, а после обвиняет нас за ошибку, которую Сам же Он и совершил, делая Свой выбор. Ему свойственно забывать, что непогрешимости в нас ничуть не больше, чем в Нем. Так он поступил с Моисеем. Так поступил со мной. Саул Его сильно разочаровал. Зато уж с Авраамом, первым нашим патриархом, Он не промахнулся, не так ли?
Что говорить, с Авраамом Ему повезло, и я горжусь тем, что принадлежу к числу потомков этого достойного человека, горжусь, впрочем, по причинам, не имеющим особого отношения к его завету с Богом или к тому, что он – первый наш патриарх. Да он и сам всем этим особо не кичился. И Сарру, жену его, я тоже очень люблю – и за смех ее, и за ее ложь. Авраам и сам ведь смеялся так, что пал на лице свое, когда услышал от Бога, что Сарра родит ему сына, ибо Сарре было уже за девяносто и обыкновенное у женщин у нее давно прекратилось. Сарра солгала Богу, когда Он спросил ее, отчего это она рассмеялась. Сарра напоминает мне Вирсавию в лучшие ее времена, со всем ее смехом и ложью, склонностью к веселью и пристрастьем к веселому вранью. В юности общительная красавица, Сарра под старость, если ей приходилось отстаивать то, что ей причиталось, обращалась с другими женщинами как сущая мегера. Вот и Вирсавия отличалась тем же, и я был бы рад снова обвить руками ее стан и держать, приклонив свою главу на ее.
Авраам и поныне поражает меня тем, с какой видимой легкостью совершил он подвиг трудности невероятной. Он сам себя обрезал. Это, уверяю вас, не пустяк – попробуйте как-нибудь на досуге и поймете. Вам, разумеется, понятно, что я говорю это, основываясь на обширных, неоспоримых познаниях по части механики обрезания, приобретенных мною в те дни, когда я был помолвлен с Мелхолой, когда я радостно и неспешно спустился с холмов вместе с моим племянником Иоавом и отрядом певших бравые песни добровольцев, чтобы собрать те сто краеобрезаний филистимских, которыми мне предстояло расплатиться за Мелхолу с Саулом. По нашим прикидкам, чтобы совершить обрезание одного живого филистимлянина, требовалось шестеро крепких израильтян. В дальнейшем работа оказалась не столь уж и тяжелой – то есть когда я наконец свыкся с мыслью, что филистимлянина лучше сначала убить. Мне, в мою простоватую голову, не приходило, что Саул расставил мне западню. А в его – что я могу уцелеть. Оба мы недооценили друг друга, и с тех пор он начал меня побаиваться. Я получил жену, а он – огромное преимущество: он знал, что хочет убить меня, а я о том и ведать не ведал.
Даже по прошествии стольких лет, даже помня, как она помогла мне избежать ножей Сауловых убийц, я не способен выдавить из себя ни единого доброго воспоминания о нашем долгом браке с Мелхолой. Взамен того всякий раз, как я вспоминаю ее имя, во мне поднимается то же мстительное негодование против нее, что и в день, когда она омрачила мой триумф, – в день, когда я доставил наконец ковчег завета в Иерусалим, в день национальных и религиозных торжеств, наполнивших всех в Израиле, кроме Мелхолы, восторженным ликованием. Ах, какой получился праздник! А какой парад я возглавил! Но Мелхола была вредоносной бабой, норовившей испортить мне всякий приятный день и радовавшейся всякому худому, она ни разу не снизошла до похвалы в мой адрес, до того, чтобы полюбоваться мною и вообще увидеть меня таким, каким меня видело подавляющее большинство людей: героем-царем мифических масштабов, монументальной фигурой, обретшей бессмертие на огромном беломраморном пьедестале, – и это еще одна особенность Микеланджеловой статуи во Флоренции, от которой меня выворачивает наизнанку. Выставить меня необрезанным! Кем я, бубена масть, по его мнению, был?
Что ни говорите, а созданное Микеланджело римское изваяние Моисея имеет со мной, достигшим расцвета лет, больше сходства, чем то, флорентийское, в какие бы то ни было мои годы. И все вам то же самое скажут. Естественно, я был не такой крупный, да и сделан был не из мрамора. Шрам на голени у меня отсутствовал, рожки на голове тоже. Но я обладал такой же величавой и гордой статью, такой же очевидной аурой бессмертного величия и силы, пока не стал с годами слабеть и пока мне не запретили выходить на поле сражения.
С тех пор я сбавил в весе. Волосы мои истончились, борода побелела, пальцы начали леденеть в повторяющихся припадках озноба, от которых у меня стучат зубы и которых даже Ависага Сунамитянка со всей ее девственной, упругой, благодатной красой облегчить не способна, ибо холод струится во мне по своим кошмарным путям, сколько она ни укрывает меня своим телом, сколько ни растирает во всех местах, до каких достают ее руки и нежное личико. Я все гадаю, довольно ль ей лет, чтобы помнить великолепие и мужскую мощь, которыми я обладал до того, как мышцы мои стали сдавать и сам я иссох от старости. Сквозь веющие аиром и кассией притирания, которыми она освежает себя, сквозь ароматы алоэ и корицы, коими слуги душат мою постель, пробивается резкий, притягательный, прирожденный запашок ее женского тела, и я желаю ее. Я желаю ее, а отвердеть не могу. Тепло ее пор не проникает в мои. Маленькие женственные формы ее совершенны, груди с вытянутыми, темными сосцами так полны и свежи, гладкая плоть ее мерцает в трепетном свете моих масляных ламп, и ни единого нет в ней изъяна. Откуда у нее столь удивительная кожа – ни крошечной родинки, ни малейшей веснушки? Ависага, Ависага. Ависага?
– Ависага!
В последнее время я приохотился звать ее, даже когда мне не холодно, чтобы она полежала со мной. Когда кто-то есть рядом, я себя чувствую лучше, чем один. И, освоившись с ней, я начал примечать то да се. Да, поцелуи ее сладки. Вкус меда во рту ее. Коленом, а там и бедром, которое я стараюсь напрячь, чтобы усилить ощущение, я осязаю щетинку черных волос на аккуратно подстриженном бугорке ее лона, крепких, курчавых, пружинистых. Мне нравится здоровый запах ее живота. Недавно, всего один раз, он же и первый, я протянул руку, чтобы коснуться ее. Я наконец охватил раскрытой ладонью скругленье ее бедра. Гладкое. Ни унции лишней плоти. Все как раз такое твердое и шелковистое, как я и думал. Вирсавия, претерпевшая с течением времени положенные изменения, ныне грузнее, чем в молодости, лицо и тело ее лишились ясности очертаний. Она гордится тем, что сохранила все передние зубы – маленькие, кривоватые, налезающие один на другой, некоторые из них обкрошились по уголкам. К сожалению, детство ее миновало еще до того, как евреи столь естественным для них образом занялись ортодонтией. Мне-то все едино, сколько у нее уцелело передних зубов, ибо я люблю ее и желаю любви ее больше, нежели вина, и так же сильно, как прежде. Вирсавия еще может согреть меня, наполнить мои жилы теплом, целительным притоком крови. Вирсавия могла бы возбудить меня с легкостью, если бы пожелала, но она и не верит в это, и этого не желает. Возможно, потому и не желает, что не знает об этой своей способности. Мне сейчас семьдесят, значит, ей где-то от пятидесяти двух до шестидесяти – в зависимости от того, какая именно ложь из тех, которые она мне привычно скармливала, была правдой. Ограниченная, субъективная картина мира, сложившаяся у нее, как у всякой занятой только собой вертихвостки, не позволяет Вирсавии и на секунду поверить, будто я хочу поиметь ее, хотя мог бы отодрать Ависагу Сунамитянку. Правда-то в том, что отодрать Ависагу Сунамитянку у меня нипочем не получится, а с Вирсавией, глядишь, и проскочит. Шевеление рудиментарной эрекции я ощущаю, лишь когда она рядом со мной или ловя себя на уповании, что она направляется ко мне, чтобы снова, на свой околичный манер, просить о спасении ее жизни, и, может быть, посидеть немного рядом, чуть склонив в притворном почтении голову, стараясь придумать какие-нибудь слова, которые дадут ей возможность затянуть визит. Иногда, видя ее растерянность, я прихожу ей на помощь, подкидывая обрывки сведений, способных ее растревожить. Она прикусывает губу, прикусывает палец. Мне и самому часто хочется, чтобы она задержалась. Это я, к примеру, с тайной спазмочкой жестокого наслаждения первым посвятил ее в идею Адонии насчет публичного пира. Она, перед тем вяло сутулившаяся на обитой мягким скамье, расставив длинные, тонкие ноги и рассеянно наматывая на палец прядь желтоватых волос, навострила уши, подобралась и принялась сосредоточенно слушать. Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, циничный видит цинизм лишь в других, лукавый находит лукавство там, где нет никакого лукавства.
Мы оба считаем само собой разумеющимся, что смерть моя, хоть и близкая, не явится без предупреждения, без того, чтобы оставить мне достаточно времени для окончательного волеизъявления. Вирсавии более чем выгодно поддерживать во мне жизнь до тех пор, пока я не передумаю. На этой неделе длинные волосы ее снова позолотели и что ни день приобретают все более глубокий пепельный тон – естественный их цвет, с которым она решила вдруг покончить, выкрасившись поярче. Мудрить с оттенками или удовлетвориться легкими касаниями осенней кисти – это не для моей Вирсавии. Дня три-четыре о ней может быть ни слуху ни духу. Затем она появляется, чуть не вприпрыжку, ослепительная блондинка, какой и не сыщешь больше во всем христианском мире. Тонкие волоски на предплечьях она, должно быть, тоже обесцвечивает. А волосы на ногах снимает, поливая их растопленным воском и после сдирая затвердевшую корочку. Подмышки же она выстригает ножницами.
Она такая же чокнутая и своекорыстная, какой была всегда, и я люблю ее как прежде. Я не верю, будто она когда-нибудь любила меня, хоть она и твердит, что любила, и я не сомневаюсь – она и вправду так думает. По-моему, она всегда сильнее любила саму мысль о любви и в особенности, конечно, о любви к царю Давиду. Она сама в этом призналась, когда поведала мне, что каждый вечер купалась на своей крыше, которую так хорошо было видно с моей, с заранее обдуманным намерением растормошить мое воображение и заставить меня послать за нею. И она попала прямо в яблочко, эта девчонка, в первый же раз, как я увидел ее.
Наши начальные бурные три года были воистину волнующим временем, жуткая скверна непостижимым образом сплеталась в них с беззаботностью и буйными радостями, пока не погибли Урия и мой ребенок и пока она не родила Соломона. Тогда-то все и кончилось. Похоть ее остыла. Вирсавия нашла ей замену в жизненной цели, которую давно уж искала, в карьере, к которой стремилась и к которой неосознанно себя приуготовляла.
– Давай назовем его Царем. – Вот прямо так и предложила она, едва разрешившись вторым нашим ребенком, довольно крупным мальчишкой.
Бог смилостивился и простил нас. Но я не смилостивился и Его не простил.
Моя восьмая жена, Вирсавия, была первым из всего-навсего двух известных мне людей, которые с такой легкостью пользовались словарем любви в обычных своих разговорах, что самые приторные банальности, самые мерзкие непристойности быстро приобретали привлекательную естественность внятного каждому, драгоценного смысла. Вторым был я. Вирсавия бесстыдно обучила меня этому. Она научила меня говорить о подобных вещах, раскрывать сокровенное, воздыхая, шептать, с обожанием и с некоторой даже витиеватостью, слова об ощущениях, которых я до того не ведал, и безвозбранно расспрашивать ее о разных женских делах, кои всегда почитались запретной загадкой, окутанной мраком великой тайны. Она доказала мне, что я способен на такие свершения, относительно коих я жизнью был готов поручиться, что они лежат за пределами моих мужских возможностей, доказала, что я смогу когда-нибудь научиться выговаривать «я люблю тебя» без колебаний, без трусливого трепета и дурацкой ухмылки, не робея от этих слов до дрожи в коленках, – более того, что когда-нибудь я могу даже захотеть сказать ей «я люблю тебя» и сумею сказать эти слова без запинки, замешательства, испуга, приниженности и стыда.
– Я люблю тебя, Вирсавия, – помню, сказал я ей совершенно искренне, когда все у нас только еще начиналось и мы лежали с ней как-то под вечер, приходя в себя в объятиях друг дружки, – но как мне хотелось бы тебя не любить.
– Уже хорошо, – улыбнулась она, наставница, гордая успехами ученика.
– Я люблю тебя, Вирсавия, – повторил я всего лишь два-три шепчущих мгновенья спустя, – и как же я рад, что люблю.
– Еще того лучше, – одобрительно сказала она, с избытком вознаграждая меня радостным светом, вспыхнувшим в ее синих глазах.
Воспоминания этого рода обдают мое сердце и кости лихорадочным жаром, превосходящим все, чего сумела пока достичь Ависага Сунамитянка с ее цветущей красой и нежными ласками. Слава Богу, моему грубияну племяннику Иоаву ни разу не довелось услышать, как я говорю Вирсавии «я люблю тебя», вот уж было б ему что добавить к унизительным домыслам на мой счет, впервые забредшим в его голову, когда мы с ним мальчишками росли в Вифлееме и он обнаружил во мне пристрастие к музыке, – домыслы эти лишь укрепились моей дружбой с Ионафаном и разного рода бесстыжими бреднями, возраставшими вокруг нее, как прорастают в загаженном саду зловонные плевелы. Нет, Иоава просто необходимо убить, ведь так? Он никогда не взирал на меня с таким почтением, с каким я сам на себя взираю. Более чем достаточная причина для убийства, ибо мысль об этом выходит далеко за пределы того, что способен снести истинный царь, а сколько я себя помню, мысль эта всегда сидела у меня в печенках. А как быть с Нафаном? Нафан, этот ханжа, этот пророк, наверняка с самого начала знал, что я помешался на Вирсавиной заднице и норовлю добраться до нее каждое утро, каждый полдень и каждую ночь – и добираюсь, – и ведь ни словом не попытался меня образумить, пока муж ее не погиб и у него, у Нафана, не появилось нечто, чем меня можно было прижать по-настоящему. Иерусалим – город маленький. А Вирсавия была баба горластая. Может, и Урия все знал.
Освободив меня от всех тормозов и силком приучив выговаривать разные пикантные разности, Вирсавия открыла во мне дремавшую до поры тягу к любовному витийству, которым я в дальнейшем с успехом пользовался для того, чтобы околдовывать и совращать даже ее – и даже после того, как она постановила для себя, что больше у меня этот номер не пройдет. Стоило ей обучить меня, как я с восторгом предался этому занятию. Я стал пользоваться словами – чистыми, поэтичными, восторженными словами, способными вскружить голову даже Вирсавии, я сокрушал ими ее непреклонную неуступчивость, не поступаясь ничем существенным – ничем, что она желала бы получить взамен. Я наслаждался, без зазрения совести играя на струнах давней ее слабости и тем еще острее оттачивая дар, которым она же меня и наделила. Речи мои текли рекой, слова низвергались пышными водопадами, растопляя и одолевая и ее искреннюю решимость держать меня на расстоянии, и неподдельную любовь к себе самой.
– Нет, Давид, подожди-ка минуту, не подходи, стой где стоишь, – строго приказывала она тоном, к которому прибегала, чтобы недвусмысленно напомнить мне о соглашении, каковое мы с ней будто бы заключили. – Если хочешь, чтобы я любила тебя, приходи ко мне с чем-то конкретным. Мне нужны настоящие доказательства твоей любви.
– Аметист?
– Я хочу, чтобы Соломон стал царем.
– Вот она, возлюбленная моя, – отвечал я, переходя в наступление и выговаривая слова со всей доступной мне быстротой. Тем временем руки мои, лежавшие на плечах Вирсавии, понемногу отклоняли ее назад, – она пасет между лилиями.
Или:
– Возлюбленная моя принадлежит мне, а я ей. Два сосца твои – как двойни молодой серны. Волосы твои – как стадо коз, зубы твои – как стадо выстриженных овец. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна! Оооох, ты сукина дочь! Оооох, оооох, оооох, сукина дочь! – Все, что мне требовалось, – это раскрепоститься и сказать ей чистую правду.
– Ах, Давид, Давид, – громко выдыхала она в экстатическом изумленье, уже закатывая глаза и без дальнейшего принуждения опадая на ложе. – И откуда ты берешь такие слова?
– Сам сочиняю.
– Хочешь мне воткнуть?
Вирсавия была единственной из моих жен и наложниц, наделенной даром кончать. Теперь-то я разбираюсь в этих делах достаточно, чтобы понять – Ависага будет второй, если мне когда-нибудь повезет настолько, что я смогу соединить желание с силой. Авигея тоже любила прижиматься ко мне в поисках исцеления от заброшенности, одиночества, страха, против которых мои большие ладони, лежавшие на спине ее, воздвигали крепкую защитную стену. Микеланджело был прав, снабдив меня такими здоровенными лапищами. Авигея с радостью спала бы рядом со мной каждую ночь, но она была слишком тонким человеком, чтобы когда-либо попросить об этом. Она была единственной в моей жизни женщиной, которая действительно любила меня. Мне так ее не хватает. Ныне я с каждой зарей обнаруживаю, что мне не хватает ее сильнее, чем на заре вчерашней. Утро – самое плохое для меня время. Авигея расстроилась бы, узнав, как плохо я сплю, какое испытываю одиночество. Она бы нашла какой-нибудь способ умерить бессловесную грусть, которая одолевает меня, когда мне не спится или когда я, поспав, пробуждаюсь от тусклых, запоминающихся с пятого на десятое снов, в которых ничего дурного не происходит, но которые все равно оставляют во мне ощущение полной отчаяния пустоты. Вирсавия, единственная из трех моих настоящих жен, взрывалась в постели, словно хананейка, или обезьяна-ревун, или одна из тех похотливых моавитянок либо мадианитянок, которых Моисею никак не удавалось отогнать от его стана. Впервые услышав эти неожиданные, судорожно нарастающие звуки, ощутив непроизвольное воздымание ее извивающегося тела, я перепугался. «Оооох, оооох, оооох, сукин ты сын!» – это благословенное, поэтичное выражение я впервые услыхал от нее.
– Где ты выучилась проделывать такие штуки? – поинтересовался я в невинности моей.
– Кое-какие из самых первых моих подружек были блудницами.
Ныне в Вирсавии, когда она наблюдает за тем, как Ависага обихаживает меня, не замечается ни тени ревности. Нет в ней и той спонтанной энергии, с которой бездетная Сарра взяла да и выбрала служанку, чтобы та легла с Авраамом и умножила потомство его, Сарра же стояла снаружи шатра, пока они не добились желаемого. Раздавать свое направо-налево не в природе Вирсавии. В ее природе – приобретать. Эта моя жена гордится таким своим качеством, и я тоже. Влюбленный дорожит в предмете своем и недостатками, которые в другом показались бы гнусными. Кто-то другой, может, и пришиб бы ее до смерти за равнодушие ко мне. А кто-то еще не смог бы понять ее, как я понимаю, или оценить в такой полноте.
– Сегодня ты не так мерзнешь? – Вот, пожалуй, и все, что она способна выдавить из себя, пытаясь проявить сочувствие ко мне и моей слабости. – По-моему, ты худеешь. Не думаю, что ее ухищрения хоть чем-то тебе помогут. Так что ты говорил насчет пира, который они собрались устроить? Кстати, зачем он им понадобился, ты не знаешь?
Она совсем не похожа на ту яростную собственницу, которую я некогда ввел в мой дворец. Жаль, что она теперь не такая ревнивая. Блюдя традицию, Вирсавия, едва обустроившись во дворце, предложила мне самых лакомых своих служанок, чтобы я ложился с ними и держал их в наложницах, но при этом прибавила, с лицом серьезным и полным мрачной решимости, что, если я приму хоть одну, она мне яйца отрежет.
– Я не позволю ей злорадствовать на мой счет.
А как я радовался, когда ей удавалось перехватить меня, шагающего мимо ее покоев в гарем на поиски кого-нибудь, кто смог бы на миг увлечь мое воображение. Расставив руки, высоко подняв окрашенную в яркий цвет голову, Вирсавия деспотическим, внушавшим невольное уважение рыком заставляла меня притормозить у ее дверей.
– Куда это ты, интересно узнать, намылился? – обычно вопрошала она. – А ну заходи сию же минуту внутрь. Подними рубаху.
И через пару секунд мы уже валились с задранными до шеи рубашками на матрас, колотясь друг о друга телами, словно неистовый зверь о двух спинах.
А теперь Вирсавия дает Ависаге советы. Когда она видит, как я кладу руку на тело девочки, в ней обнаруживается проблеск интереса, она слегка наклоняется вперед, вглядываясь в меня и в служанку с вниманием, более напряженным, чем то, какое она обычно проявляет ко мне и к моей девственной наложнице. И порою Вирсавия скучным, сонным голосом задает ей несколько коротких вопросов, удовлетворяя еле теплящуюся любознательность по части мыслей и прошлого девочки.
Ависага благоговеет перед Вирсавией, смотрит на нее не иначе как широко раскрытыми глазами, будто на достойную преклонения легендарную личность. Это она от солнца такая смуглая, отвечает Вирсавии Ависага, мать поставила ее сторожить виноградник в их доме в Сонаме. Больше всего на свете ей хотелось быть всем в радость, она выбивалась из сил, стараясь добиться всеобщей любви. Выбиваться из сил, чтобы стать всем в радость, не отнимая ладони от щеки, сухо замечает моя жена, не лучший способ добиться желаемого.
– На что тебе старуха вроде меня, – вот такими словами ответила Вирсавия на последнее мое предложение, – когда в твоем распоряжении такая красоточка?
Сколько я ее помню, она всегда разрабатывала один за другим планы, слишком запутанные, чтобы осуществиться, и временные графики свершений, слишком далеко заходящие, чтобы их удавалось выдерживать. Ей определенно недостает дисциплины разума, необходимой, чтобы придать хоть какую-то согласованность собственному вранью. Я запоминал проявленья ее двуличия лучше, чем она. Вирсавия врет во всем и всегда говорит правду. Когда я ловил ее на сокрушительных противоречиях, к которым сам же коварно подводил, лилейно-белое лицо ее заливал яркий румянец, а затем неизменно все ее тело начинало сотрясаться от смеха – ни тени опаски не виделось в ней, – и эта прелестная закоренелость во лжи вновь напоминала мне вздорную Авраамову Сарру, чей образ я сохранял в душе, даром что ни отвага, ни добродушие Сарры в Вирсавии и не ночевали.
Сарра была женщиной щедрой. Сарра, бесплодная, отдала Аврааму Агарь для продолжения рода. Агарь же, увидев, что зачала, стала презирать госпожу свою, хвастаться перед нею беременностью. Не на такую напала. Сарра обрушилась на нахальную служанку и вытурила ее в пустыню. И пока Господь не пришел ей на помощь, плачущая Агарь не осмеливалась вернуться. Вот вам Сарра, первая наша еврейская мамаша, которую я так люблю и которой горжусь.
Да и Авраам был человек замечательный. Отцом множества народов обещал Бог содеять его и многих царей, которые произойдут от него. Семени его предстояло умножиться, как звездам небесным, и овладеть городами врагов своих. Бог забыл добавить, что это таки займет немалое время. Человек добросердечный и мирный, Авраам тем не менее взял в руки оружие, чтобы отбить своего племянника Лота у похитителей, и он же убедительно спорил с Богом, уговаривая Его пощадить хотя бы этого порядочного человека, а не губить, разрушая Содом, праведного с нечестивым. Он был уже богат скотом, и серебром, и золотом, когда Бог явился ему в виде трех странников у дубравы Мамре, где Авраам сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Не сомневаюсь, что, окажись они даже мимоезжими бедуинами, Авраам все равно отнесся бы к ним с тем же инстинктивным гостеприимством, он был само благородство и учтивость, когда пригласил их омыть ноги.
– Отдохните под сим деревом. Я принесу немного воды.
И он поспешил в шатер с распоряжениями для Сарры.
– Поскорее замеси три саты лучшей муки и сделай пресные хлебы.
Затем он побежал к стаду и взял теленка нежного и хорошего и приготовил его с маслом и молоком. В то время нам еще разрешалось есть мясо с маслом и молоком. И пока гости ели, Авраам стоял подле них под деревом. Поев и утерев рты, они вновь повторили Аврааму уже слышанное им однажды – что Сарра родит ему сына. Авраам призадумался. Сарра же, стоявшая у входа в шатер, услышала пророчество. И рассмеялась. И Бог это заметил.
– Отчего это рассмеялась Сарра? – спросил Бог.
– Я не смеялась, – солгала Сарра.
– Нет, смеялась, – настаивал Бог. – Я знаю. В чем дело? Думаешь, Мне такое не под силу?
Из всех, кто мне известен, только Аврааму с Саррой и случилось развеселиться, беседуя с Господом.
Христом-Богом клянусь, меня тоже нередко подмывало захохотать. Я и сейчас посмеялся бы. Но я лучше, чем кто бы то ни было, знаю, что мне до такого человека, как Авраам, еще тянуться и тянуться. Я никогда не был столь усердным и послушным слугой. Авраам, я думаю, был святым. Или идиотом. Он готов был идти с Богом до конца, даже когда его подвергли испытанию, приказав отвести маленького сына его Исаака на гору, построить жертвенник и принести мальчика в жертву.
– Отец мой, – говорил Исаак, подтаскивая дрова. – Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?
И Авраам сказал:
– Бог усмотрит Себе агнца для всесожжения, сын мой. Пойдем вместе.
Авраам устроил жертвенник. Разложил дрова. И простер руку свою за ножом, чтобы заколоть связанного сына. Только тут Ангел Господень воззвал к нему с неба и указал запутавшегося в чаще рогами овна, коим надлежало заменить во всесожжении мальчика. Так вот, видит Бог, я ничего подобного делать не стал бы, завет там или не завет. Когда Его посетила мысль убить моего ребенка, Ему пришлось заниматься этим Самому. Он знал – я и пальцем не шевельну, чтобы Ему помочь. Я совершил все молитвы и посты какие мог, чтобы заставить Его отступиться. Но Он не передумал. Даром поколебать Его, каким от рождения обладали Авраам с Моисеем, я не наделен. С другой стороны, Моисей с Авраамом были людьми благочестивыми и преданными Ему беззаветно. А я ни благочестием, ни преданностью отроду не отличался. Я и сейчас Ему не предан. Если Бог хочет как-то поправить наши натянутые отношения, первый шаг придется сделать Ему. У меня есть свои принципы и в придачу к ним слишком долгая память.
Сына они нарекли Исааком, что означает «он смеется». С Ревеккой, женой своей, Исаак породил двух сыновей. Исааку больше нравился Исав. Ревекка же проталкивала Иакова, и я сомневаюсь, что Исаак так уж смеялся, когда узнал, что его, ничего толком не видящего из-за катаракты на обоих глазах, облизывающегося в нетерпеливом предвкушении вкуснейшей дичины, облапошили, заставив дать припасенное для Исава благословение Иакову, переодевшемуся в козлиные шкуры, чтобы приобрести сходство с волосатым братцем. Исааку пришлось еще выслушать поднятый Исавом вопль вселенского отчаяния, способный, по моему разумению, пронять сердце почти что каждого человека.
– Отец мой! благослови и меня, – горько молил Исав, и возвысил голос свой, и заплакал. – Неужели ты не оставил и мне благословения? Благослови и меня, отец мой!
Сколько раз мог и я повторить эти слова!
И возненавидел Исав Иакова, и поклялся убить его: «Я буду попирать его ногами своими. Я сокрушу кости его».
Взамен того при следующей их встрече этот бесхитростный человек со слезами любви и неослабных родственных чувств обнял брата, который присвоил его первородство и его благословение. Это после того, как Иаков в великой тревоге выслал вперед все четыре семейства свои, и оставался всю ночь на безопасной стороне потока, и боролся до появления зари с загадочным ангелом, который, увидев, что дело идет к ничьей, оставил его с поврежденным бедром и перед уходом сообщил, что отныне имя ему будет не Иаков, а Израиль.
Хотя мы его так Иаковом и зовем.
Сомневаюсь я также и в том, что Иаков, человек столько же гладкий, сколько Исав волосатый, сильно смеялся, когда, пробудясь после свадебной ночи, обнаружил, что девица в невестиной фате и сорочке, возлегшая с ним на брачное ложе, это вовсе не Рахиль, за которую ему пришлось оттрубить семь лет, а ее слабоглазая сестра Лия. Рахиль была красива станом и лицом, и Иаков полюбил ее при первой их встрече у колодезя. Лию же донимал конъюнктивит. Чтобы получить Рахиль, нужно было еще семь лет промаяться в каторжной кабале у Лавана.
Лия рожала детей одного за другим. У Рахили детей не было вовсе – все это отчасти напоминало заново разыгрываемую историю Сарры – Агари. Пожираемая завистью Рахиль запихала в постель Иакова свою служанку Валлу, чтобы та вместо нее зачинала детей. Лия контратаковала своей служанкой, Зелфой, отдав ее Иакову в жены. При таком количестве женщин, играющих столь активные роли в этом оргиастическом состязании по деторождению, учиненном соперничающими, темпераментными сестрицами из Харрана, несчастному патриарху пришлось, как последнему козлу, валять баб по четыре раза на дню, и остается лишь удивляться, что его не постигло разжижение мозга. Под самый-самый конец Рахиль родила-таки Иосифа, а потом и Вениамина. Ко времени их исхода утомленного старца окружали рожденные четырьмя женщинами двенадцать сыновей и одна дочь. Набальзамировать Иакова – это был единственный мыслимый способ благоговейно исполнить просьбу старика, чтобы его похоронили с отцами его в пещере, которая на поле Махпела, что пред Мамре, в земле Ханаанской, в той самой пещере, где уже покоились Авраам и Сарра, Исаак с Ревеккой и Лия. Из членов этих первых семей там не хватало только прелестной Рахили, которая умерла, рожая Вениамина, в пустыне, так что ее пришлось завернуть в полотнища виссона и похоронить в песке.
Иосифу, поздно родившемуся любимцу отца, к тому времени, как он получил в подарок разноцветную одежду, уже исполнилось семнадцать лет – достаточно взрослый был человек, чтобы крепко подумать, прежде чем начать хвастаться ею перед тяжко трудившимися старшими братьями, и без того уже места себе не находившими из-за пристрастия их отца к этому избалованному отпрыску, которому, что ни дай, все будет мало. А тут еще Иосифу сон приснился. Как они вяжут снопы, и его сноп встал и стал прямо, а их снопы стали кругом и поклонились его. Вообще-то мне доводилось видеть сны и похуже. Он же увидел еще и другой сон, в котором Солнце и Луна, то есть его родители, и одиннадцать тускловатых звезд, изображающих его братьев, все как одна спускаются с неба, чтобы почтительно склониться пред ним. Тоже ничего себе сон. Вот только Иосиф оказался таким охломоном, что принялся распространяться об этом сне направо-налево. Мне бы тоже захотелось его убить. И вот – престо! Они запихали Иосифа в ров. И – абракадабра! Не угодно ли видеть: он уже ходит в великих визирях, и фараон поставил его правителем всей земли Египетской.
Так что в итоге все как-то утряслось, верно? Бог словно и впрямь знал, что делает: только благодаря тому, что братья продали Иосифа в рабство, тот и оказался в Египте и получил возможность спасти их.
На исходе дней своих Иосиф тоже попросил, чтобы его кости перенесли из Египта в землю, обещанную Богом Аврааму, Исааку и Иакову. Об этом позаботился Моисей. И Иосифа также набальзамировали, когда он умер ста десяти лет от роду, в самом последнем предложении Книги Бытия. Бальзамирование не противоречило закону Моисееву, поскольку никакого закона Моисеева у нас не имелось еще четыреста лет. Все, что у нас имелось, – это завет с Богом, причем каждые сто лет обнаруживались новые признаки того, что сделка с самого начала ни к черту не годилась. Только Авраам свою часть договора и выполнил.
Бог же не сделал ни единого приметного шага, чтобы исполнить требуемое от Него контрактом, до тех пор пока не призвал Моисея к горящему кусту и не сказал:
– Сними обувь.
Ибо Моисей стоял на священной земле.
Вот исторический персонаж, с которым я хотел бы поговорить в первую очередь. Моя симпатия к Иосифу – ничто в сравнении с сочувствием, благоговением, уважительным обожанием, которые я испытываю к Моисею. «Па-па-пачему я?» – самый точный вопрос, какой мог задать в пустыне Мидиамской этот испуганный, ни на что не претендующий беженец. И все же Моисей сохранял единство народа и оставался у Бога в милости – не так ли? – целых сорок лет, несмотря на все препоны и трудности, какие только можно вообразить. Бог раз за разом провоцировал избранный Им народ. Народ стенал и роптал на Моисея; священники обвиняли его в присвоении чрезмерно высоких постов, грешники блудили и поклонялись идолам, а собственные брат и сестра оспаривали авторитет Моисея, поскольку он был женат на эфиопке. К вашему сведению, брак Моисея и эфиопки оказался вполне гармоничным, она едва ли не единственный раз наорала на него, обозвав грязным жидом, да и то после того, как он наорал на нее, обозвав черномазой дурой.
Ну и гвалт же стоял тогда в пустыне! Едва воды Чермного моря сомкнулись за народом, потопляя колесницы фараоновы, как он уже стал забывать о суровых египетских начальниках, делавших жизнь его горькою от тяжкой работы, к которой принуждали его с жестокостью. Зато вспомнил котлы с мясом и хлеб, который ел досыта, и лук, и дыни, и огурцы.
В Рефидиме народ роптал на Моисея, потому что не было воды пить ему.
– Ради этого ты вывел нас из Египта? – укорял его народ. – Чтобы уморить жаждою нас, и детей наших, и стада наши?
Бог отвел их к воде. Он дал им манну небесную, по гомору в день на человека, то есть по десятой части ефы, но, прокормившись сорок лет манной, по гомору в день на человека, народ опять возроптал, требуя какой-нибудь добавки к манне.
– Все манна да манна, а больше ничего! – вопил народ. – А мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, и дыни, и лук-порей, и репчатый лук, и чеснок. Разве можно съесть столько манны? Ради этого ты вывел нас из Египта?
Тогда Бог снабдил их перепелами и отравил мясо, пока оно еще было в зубах их, и поразил народ весьма великою язвою. Вот и попробуй догадаться, что у Него на уме. Строй то, да строй се, это дерево используй для того, а то дерево используй для этого, да не вари козленка в молоке матери его. Почему? Не говорит. По злобе, если вас интересует мое мнение. У Него-то поди спроси. Люди плясали голышом, будто язычники, вкруг златого тельца. Старика побили камнями за то, что он собирал дрова в день субботы, и старик умер. Корей взбунтовался заодно с сынами Левия, желая себе большей доли в делах священнических: они требовали права возжигать курения в кадильницах. Потом взбунтовались сыновья Рувимовы. Множество сыновей Израилевых снова и снова отпадали, поклоняясь другим богам. Некто привел мадианитянку в глазах всего общества и лег с нею у себя в шатре, и Финеес, сын Елеазара, сына Аарона-священника, пронзил обоих их в чрево их, чем и понудил милосердного Бога прекратить еще одну язву. Мариам умерла, Аарон тоже. Но Моисей все вел народ дальше. Он был почти настолько совершенен, насколько это в силах человеческих. Он ничего не просил для себя, вот ничего и не получил. Мне хватает высокомерия, чтобы желать себе такой же скромности, как у него, и скромности, чтобы видеть, насколько высокомерно это желание. Лицо его пылало, когда он спустился с горы, повидавшись с Богом, и люди боялись подходить к нему. Он, кстати сказать, нередко огрызался, а один раз и вовсе разозлился на Бога, услышав, как народ плачет от голода в семействах своих, каждый у дверей шатра своего.
И сильно воспламенился гнев Моисеев, и вопросил он у Господа:
– Черт подери, где я, по-Твоему, возьму мяса, чтобы накормить их? Зачем Ты так поступаешь со мной? Что я такого натворил, что Ты возложил на меня бремя всего народа сего? Кому все это нужно? Они мне не дети, верно? – чтобы я отвечал за них и слушал, как они плачут, потому что не имеют еды. В чем я согрешил? И долго ли еще это будет продолжаться?
– Я же тебе говорил, все пойдет мало-помалу, – напомнил ему Бог, – доколе ты не размножишься, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Я тебя предупреждал, в один год такие дела не делаются.
– Да, но во сколько – в двадцать, в тридцать, в сорок? – недоверчиво запротестовал Моисей. – Мне-то уже все равно. Слишком, слишком велико для меня это бремя. Прости нас и отпусти прямо сейчас, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Лучше мне умереть, чем идти этим путем. Если я нашел милость пред очами Твоими, лучше умертви меня, чтобы мне не видеть бедствия моего.
– Так Его, Моисей! – подмывает меня воскликнуть всякий раз, что я читаю эти слова. – Это ты Ему здорово врезал!
И отменил Господь зло, о котором сказал, что наведет его на народ Свой. Но как раз в ответ на этот всплеск Моисеева гнева Бог и завалил людей перепелами, пока те у них из ноздрей не полезли, а затем отравил еще не разжеванное мясо. Ну и кто победил? И кто был прав?
Хотелось бы услышать ответ.
Да, мне хотелось бы поговорить с Моисеем. Я бы объяснил ему, что мое неприятие флорентийской статуи вовсе не влечет за собой неприятия римской или каких-либо претензий к нему. Он великий человек. И его советы были бы мне полезны. Я бы с радостью выслушал его рекомендации насчет того, как мне поладить с Богом, как прервать затянувшееся молчание между мною и небесами, не поступясь при этом собственным достоинством. Однажды, вспомнив, как Саулу в канун битвы на Гелвуе удалось с помощью ведьмы из Аэндора побеседовать с духом Самуила, я решился, соблюдая полнейшую секретность, попытать счастья с Моисеем. Что я терял? Я понимал, что преступаю законы и нарушаю заповеди тем, что якшаюсь с чародеями, ведьмами и прочей шушерой, имеющей дело с духами. Но я же был царь. Я был одинок, Бог мой оставил меня, я чувствовал, что теряю почву под ногами. Лишившись Бога, волей-неволей хватаешься за разные штуки вроде колдовства и религии.
И я пошел к некроманту, наглотался каких-то порошков, переоделся дервишем и забился в пещеру. Я произнес магические заклинания. Горела всего одна лампа. Я напялил дурацкую шляпу. Натянул, как мне было сказано, капюшон на лицо и вызвал духа Моисея. Вместо него явился Самуил.
– Иисусе-Христе! – с отвращеньем воскликнул я. – Ты-то что тут делаешь?
– Ты посылал за мной? – вопросил Самуил, уставя на меня пустые глазницы. Обратившись в призрака, он не утратил холодности, какой обладал во плоти.
– За Моисеем я посылал. Так что не путайся под ногами.
– А не хочешь узнать от меня, что с тобою случится?
– Заткну уши, – предупредил я его. – И не услышу ни единого слова. Давай сюда Моисея. Ты мне не нужен.
– Он отдыхает. Никак в себя не придет.
– Скажи ему, что я хочу с ним поговорить. Он наверняка про меня слышал.
– Он глух как пень.
– А по губам он читать не умеет?
– Он нынче почти ничего и не видит.
– Когда он умирал, зрение его не притупилось.
– Смерть порой меняет людей к худшему, – похоронным тоном сообщил Самуил. – Да и заикаться он снова начал, еще и почище прежнего.
– А скажи-ка, – спросил я, испугавшись ответа еще до того, как выговорил вопрос, – где он теперь?
– Сидит на скале.
– В аду? В небесах?
– Нет никаких небес. И ада нет.
– Нет никаких небес? И ада нет?
– Все это ваши выдумки.
– Но он действительно мертв?
– Мертвее некуда.
– А где находится камень? – спросил я, коварно расставляя ему западню. – Сам-то ты откуда пришел? Где ты был до этого?
– Не задавай дурацких вопросов, – ответил Самуил. – Хочешь услышать от меня, что с тобою случится, или не хочешь?
– Клянусь, ни слова слушать не стану.
– Я никогда не ошибался.
– Ваты в уши набью. Ни единого слова слушать не стану. Это же ты сказал Саулу, что его убьют на Гелвуе, разве нет? И что Ионафана и двух других его сыновей тоже убьют, и сыны Израилевы будут рассеяны, и побросают свои города, и побегут из них.
Самуил утробно всхрапнул.
– Так оно все и вышло, верно?
– Вот потому я и не хочу тебя слушать. Зачем он, выслушав тебя, спустился в долину и сражался? Почему не засел в холмах и не лупил их оттуда? Мы же мастера партизанской войны. Его, наверное, тяга к смерти одолела.
– Таков был его рок, Давид.
– Дерьма собачьего, Самуил! – сказал я ему. – Мы евреи, а не греки. Скажи нам, что вот-вот начнется новый потоп, и мы научимся жить под водой. Рок – это характер.
Кто меня понял бы, так это Фридрих Ницше. Если рок – это характер, благие прокляты. В подобной мудрости много печали. Знал бы я в мои юные годы, как я себя буду чувствовать в старости, я бы, пожалуй, филистимского защитника Голиафа за три версты обошел, вместо того чтобы, убив здоровенного ублюдка, с таким легкомыслием вступить на прямой и высокий путь к успеху, который в конце концов привел меня к приниженному состоянию духа, в коем я обретаюсь ныне. Что пользы от прошлого, если настоящее хуже его?
3. В день, когда я убил Голиафа
Ну кто бы в это поверил? Кто поверил бы, что удача поджидала меня в долине дуба, когда я, посланный в тот день отцом из Вифлеема, явился в Сокхоф с ослом, слугой и тележкой провизии и увидел, что происходит? Я бы не поверил. То есть ни за какие коврижки. Проживи я хоть миллион лет, я все равно и на минуту не поверил бы в подобное, если б оно так-таки не случилось, и именно со мной. Похоже, некий блестящий ум старательно подготовил сцену для моего эффектного появления.
На сцене я появился с хлебами и сушеными зернами для трех моих братьев и с десятью сырами для их тысяченачальника, под командой которого состояло пятьдесят два добровольца из северной Иудеи. Долина Дуба находится в северной Иудее, и потому семейства наши на сей раз проголосовали за то, чтобы послать людей из наших селений и городов в помощь Саулу, пытавшемуся отразить очередное вторжение филистимлян. В тот день на нашей стороне стояли, образуя передний край обороны, сотни и сотни хваленых сынов Вениаминовых, и ни единый из них не углядел возможности, которую я обнаружил сразу. Впрочем, сыны Вениаминовы никогда особым умом и не славились, они славились безрассудством, дикостью, яростным нравом и бешенством страстей. Разве не они насиловали наложницу проезжего левита, пока та не умерла?
– Вениамин, – предсказал старик Иаков в том, что дошло до наших дней как часть чрезмерно затянутого и чересчур эксцентричного предсмертного благословения, – хищный волк, утром будет есть ловитву и вечером будет делить добычу.
И разве Саул, этот помешанный, мой царь и будущий тесть, не был из колена сынов Вениаминовых?
Диво ли, что вскоре я исполнился и нетерпения, и презрения ко всем этим израильтянам и иудеям, обнаружив, что они, едва завидев и заслышав Голиафа, зарываются носом в землю, словно перед угрозой массового уничтожения? Мне и минуты не потребовалось, чтобы проанализировать природу тупика, в котором оказались обе армии, простоявшие на месте ровно сорок дней. Почти с такою же быстротой я инстинктивно отыскал возможность благоприятного для нас выхода из этого тупика. Я не всегда был совершенным знатоком человеческой природы, но уж золотого шанса, подносимого мне на серебряном блюдечке, не проглядел ни разу и удачи, которая сама лезла в руки, тоже не упускал. Так что, когда до меня дошло, насколько проста эта задачка, я чуть не рехнулся от изумления.
– Что сделает царь тому, – не удержавшись, спросил я у братьев, когда меня осенила мысль, что я, может быть, и есть тот самый человек, которого судьба назначила в победители Голиафа, – кто сразится с этим филистимлянином и убьет его?
– Твое какое дело? – ответил старший из братьев, Елиав, и велел мне возвращаться домой. Мозгов у него в голове было не больше, чем в ослиной заднице. Да и двое других, бывших с ним, тоже умом не блистали.
Вместо того чтобы послушаться, я вернулся к своей тележке, вытащил из нее шерстяной плащ и провел ночь в укромном месте, чуть выше небольшого отряда людей из Гада, прятавшихся в естественном проходе за скоплением желтых камней, выступавших на склоне горы. Услышав их опасливые разговоры о том, до чего же им страшно, я возрадовался без меры. Ровно то, что доктор прописал, думал я о сложившейся ситуации. Завтра мне выпадет удачный день – эта вера крепла во мне с каждой минутой, я даже начал подумывать, не имело ли все же некоего космологического срока действия то ошеломительное пророчество Самуила, которое он произнес два года назад во время странной вылазки в Вифлеем, предпринятой им совместно с рыжей телицей, когда он помазал лицо мое смрадным оливковым маслом и заявил, будто Бог избрал меня в цари. «Саулу – конец, тебе – начало», – сказал Самуил, помазав меня. Даже травяные присадки не забивали прогорклого запаха, источаемого Самуиловым маслом. И с тех пор со мной ничего больше интересного не произошло.
Следующее утро, утро того дня, когда я убил Голиафа, было, разумеется, теплым, сухим и ослепительно ясным. Близилась пора сбора зимнего урожая. Смоковницы уже распустили почки свои, и виноградные лозы издавали благовоние. Еще один год миновал, и вновь наступало роскошное, благоуханное время, когда цари выходят сражаться. Я всегда питал особую склонность к описаниям природы, что и нашло отражение в моем широко известном цикле свадебных песен, которые ошибочно приписываются этой бесцветной бестолочи, моему сынку Соломону. Дождь миновал, перестал, время пения птиц настало. Мастерское описание, не правда ли? Цветы показались на земле. И ложе у нас – зелень. Где уж было Соломону создать подобные образы? Мой флегматичный сын Соломон не смог бы отличить серну от молодого оленя, даже если б от этого зависела его жизнь. Одно из различий между ним и мной состоит в том, что у него вообще никаких чувств нету, у меня же их всегда было в избытке. В первый же раз, как я увидал Авигею, – я тогда топал по дороге в Кармил, препоясавшись для боя и жаждая мести, – дрын мой одеревенел что твой гикори, и я почтительно и робко прикрылся от нее сложенной газетой.
Ах, как у меня уши вставали торчком, когда кончалась холодная, слякотная зима и голос горлицы слышался в стране нашей, извещая о приближении времени очередного сражения! Ничего нет лучше войны – или усердного погружения в догмы, не важно какие, – для избавления от ужасов одиночества, которыми в обязательном порядке угощает нас наша духовная жизнь. Поверьте мне, я знаю. В том-то и беда с одиночеством, от которого я так страдал, что общество других людей нипочем его не излечивает. А пойдешь повоюешь, и вроде полегчает.
Не забывайте, за всю мою долгую и трудную карьеру я не проиграл ни одного сражения, не получил ни единой раны. Что такое поражение, мне неизвестно. Найдите на моем теле хоть одну полученную от врага царапину, и я подарю вам ячменное поле или парочку моих жен. В то эпохальное утро я проснулся пораньше и сразу же подобрался к небольшому обрыву, чтобы впитать в себя все подробности неправдоподобно патовой ситуации. И все, что я увидел, подтвердило основательность вдохновенной мысли, осенившей меня накануне, ни единого изъяна я в ней не обнаружил.
Зрелище предо мной открылось неописуемое. Несметное число филистимлян разбило лагерь у подножия гор, возвышавшихся на дальней стороне долины. Саул расставил людей Израиля и Иудеи несколько выше в горах по другую ее сторону. Песчаную долину внизу, словно межевая линия, делил практически пополам мелкий ручей.
День разгорался, становилось все жарче, и напряжение возрастало с каждой минутой. Все стоявшие на нашей стороне ожидали очередного появления Голиафа. Воздух пламенел от переливистого сверкания в лагере филистимлян. Они, в отличие от нас, давно привыкли к доспехам, и скоро блеск восходящего солнца волшебно отразился в том зачарованном, расплавленном озере полированного металла, который они таскали на себе, которым потрясали и в котором ходили в верховые атаки. Вы не поверите, если сказать вам, сколько у них было этого металла, сколько имелось железа и меди. Мы недаром встали для битвы выше, чем они: мы боялись их до смерти, ибо то еще были дни, когда народ Израиля не умел выбивать из долины или с равнины обладателей железных колесниц.
Железные колесницы имелись и тут, причем в пугающих, жутких количествах. Имелись также филистимские лучники, ряды за рядами. Имелись герольды с пурпурными флагами и великолепными трубами, кованными из цельного куска серебра. Вот такой я себе войну всегда и представлял, и масштабы всей этой роскоши взволновали меня до покалывания в моих юных щеках. В зачарованном ожидании я оглядывал блистающие на солнце ряды филистимских пехотинцев, превосходивших ростом всех прочих жителей Палестины, – ужасных, будто божества, с их обоюдоострыми прямыми железными мечами, которые в один мах разрубали наши палицы, топоры, булавы и кривые бронзовые мечи, насаженные на рукояти из ломкого дерева. Удачи нам было не занимать, верно? И ума тоже. При нашей легендарной одаренности и здравом смысле, при массе полезных советов, которые Бог надавал Аврааму, Моисею и Иисусу, нам все еще предстояло усвоить на горьком опыте сражений с филистимлянами, что железо крепче бронзы, а прямой двуострый меч с заточенным стрекалом намного превосходит наши короткие, изогнутые крючком мечи, заостренные только с одной, внешней стороны. В этом и состоит основная причина, по которой мы в Пятикнижии все бьем да бьем, но не колем, копий не мечем и не стреляем. Топором, дубиной или кривым мечом вроде серпа, заточенным с одной стороны, ничего другого, почитай, и не сделаешь. Те немногие пики и копья, какие у нас имелись, были либо захвачены в мелких стычках с филистимлянами, либо брошены ими же при беспорядочном бегстве после триумфальной атаки Саула в Михмасе. Вот, надо полагать, битва была! Да, но кто из нас знал, как пользоваться этим оружием? Саул трижды пытался убить меня копьем и трижды промазал. А ведь я сидел от него футах в двадцати, никакой беды не чуя. Он и в Ионафана не попал – всего-то навсего через царский обеденный стол, – когда Ионафан, приняв мою сторону, попытался нас примирить. Возможно, впрочем, что где-то внутри у Саула и уцелело зерно здравомыслия и душа его, в сущности, не лежала к тому, чтобы нас убивать или, во всяком случае, убивать самому, да еще таким способом. Помню, когда я стал царем, я неизменно предпочитал, чтобы за меня убивали другие.
Что и говорить, в тот день в долине дуба численное превосходство было отнюдь не на нашей стороне. С другой стороны, за плечами филистимлян не значилось серьезного опыта горной войны, да и планов атаки, суливших хоть какой-то успех, у них не имелось. Их колесницы были хороши лишь на ровной земле. А скалы и пещеры, которые мы отыскали и в которых засели, служили нам естественной защитой от их лучников. Если бы они со своими колесницами, лучниками и доспехами сдуру полезли на нас, мы бы набросились на них, как леопарды. Но настолько тупыми они все же не были.
Однако и мы оставались бессильны, поскольку у них имелись и колесницы, и лучники, и боевые доспехи, израильтянам же, до самых моих времен, не удавалось выиграть в низинах ни одного решительного сражения, если только они не использовали какого-нибудь секретного плана или психологического приема – или не получали сверхъестественной помощи в виде редкостного явления природы.
Итак, они к нам подняться не могли. А мы не могли к ним спуститься. И потому каждое утро и каждый полдень они выставляли вперед самого могучего своего бойца, Голиафа, чтобы в очередной раз испытать наше терпение дерзким вызовом на единоборство. Когда я его в первый раз увидал, я глазам своим не поверил. Он вышагивал устрашающей поступью, с видом надменным и нетерпеливым. Двигаясь слишком быстро для своего перегруженного оруженосца, он выступил из лагерного шатра, встал за ручьем и поднял голову, чтобы повторить унизительный вызов. Стоял сухой, безжалостный зной, и тем не менее он появился в медном шлеме и медной кольчуге, которая одна, наверное, весила не меньше пяти тысяч сиклей. На ногах красовались медные наколенники, за плечищами висел медный щит, вообще он больше походил на греческого воина под Троей, чем на обитателя болотистых береговых низин южной Палестины, лежащих невдалеке от Синая. Древко копья его было как навой у ткачей, а само копье – огромно и из железа. Росту в нем, по моим прикидкам, было локтей шесть, возможно даже, шесть с пядью – не будем скупиться и зачтем сомнение в его пользу.
Как с таким справишься? Саул вот уже сорок дней совещался со своим генеральным штабом, пытаясь решить эту задачу. Наши лучники могли бы отогнать его, даже убить или ранить, если он не уйдет, да вот беда, как раз лучников-то у нас и не было. Я уже тогда понимал, что использовать лучников с максимальной тактической эффективностью дело до чрезвычайности трудное, особенно когда никаких лучников у тебя нет и в помине. Да, собственно, и лучники мало бы нам помогли, потому что луков и стрел у нас не было тоже. А имейся у нас луки со стрелами, мы все равно не сумели бы ими воспользоваться. Поверите ли, я прямо тогда и пообещал себе, что рано или поздно научу своих солдат пользоваться луком и стрелами, – если у меня когда-нибудь будут солдаты и если нам повезет разжиться и тем, и другим. Можете сами прочитать об этом в книге Праведного – если когда-нибудь эту книгу отыщете. А еще одно принятое мною решение касалось филистимского железа: оно мне необходимо. Зачем мне потребовалось их железо? А я вам скажу зачем. Знаете ли вы, что происходило всякий раз, как филистимское железо встречалось с умной еврейской головой? Мозги из нее летели во все стороны, вот что происходило. Об этом вы тоже сможете прочитать в книге Праведного, если вам все-таки повезет ее отыскать.
Когда Голиаф наконец остановился и заговорил, голос его резко пронизал драматическое безмолвие, павшее на всю долину, едва он выступил вперед, так что слова его слышались ясно. Сидя на краешке облюбованного мною обрыва, я слушал, как он слово в слово повторяет то, что я уже слышал вчера после полудня. Когда я понял, что он затвердил свою речь наизусть, а склонности к импровизации никакой не имеет, во мне изрядно поубавилось уважения к нему. Впрочем, чего же и ждать от филистимлянина? Есть ли вкус в яичном белке?
– Зачем вышли вы воевать с филистимлянами? – Такие пренебрежительные слова проревел он и следом принялся повторять то же самое заявление, какое повторял без изменений по два раза на дню вот уже сорок дней.
И все армии израильские очень испугались и ужаснулись. Лучшее, до чего им удалось додуматься, – это вжаться в прах земной, поглубже затиснуться в свои норы и канавы и вцепиться в землю так, словно они боялись оторваться от нее и улететь.
– Не филистимлянин ли я, а вы рабы Сауловы? – издевательски взревывал он голосом, который бухал, точно взрывы, в горных лощинах за нашей спиной и, несомненно, вызвал бы снежный обвал в Альпах или Гималаях, будь мы европейцами или азиатами, сошедшимися для схватки в одном из этих студеных краев.
– Выберите у себя человека, и пусть сойдет ко мне. Если он может сразиться со мною и убьет меня, то мы будем вашими рабами; если же я одолею его и убью его, то вы будете нашими рабами и будете служить нам.
Едва ли не самым громким звуком в наступившей затем тишине было тяжкое дыхание кузнечика. Должен признать, когда я впервые увидал Голиафа, мое сердце тоже пропустило удар. Когда же я его увидел вторично, мне оставалось лишь хохотать, причем во все горло.
Ибо здесь, в горах по нашу сторону долины, расположилось до семи сотен отборных, одинаково владеющих обеими руками сынов Вениаминовых, и все они до единого были пращниками, со смертоносной точностью бьющими что левой рукой, что правой. Стояло здесь и более тысячи поглядывавших на нас сверху вниз антииудейски настроенных наглецов из Ефрема, которые при всей их воспаленной гордости своими виноградниками, при всех элитарных претензиях на превосходство не способны были произнести слово «шибболет» и не сшепелявить при этом, даже если б жизни их снова стояли на кону. Здесь были сыны Манассиины и сотни и сотни других людей из всех наших северных и западных кланов и родов, пришедших в этот раз на помощь Саулу. Здесь были мы, избранный Богом народ, если вы в силах в это поверить, и каждый из нас хоть малой частью да происходил от благоразумной Сарры и умного Авраама. Но, видимо, что-то подгнило в генах у всех, не считая меня, пагубно сказавшись на процессе мышления, ибо ни в одну голову, кроме моей, не пришла та очевидная мысль, что с Голиафом можно успешно сойтись в единоборстве на условиях, отличных от тех, что подразумевались в его призывах.
Если сказать честно, у Голиафа, как я это понимал, не имелось ни единого шанса. Дела у бедняги были хреновые. Каждый из избранных сынов Вениаминовых мог с любой руки пустить камень в волос, подвешенный в пятидесяти ярдах от него, и ни один бы не промахнулся. Да они виноградные гроздья умели с лозы снимать плоскими камушками с отточенными краями. Я и сам мог девять раз из десяти срезать с тридцати шагов гранатовое яблоко. А уж разбить его в лепешку мне удавалось почти всякий раз, как я совершал такую попытку. Между тем физиономия у Голиафа была покрупнее граната. От меди на груди его до меди шлема, от шеи до волос на лбу простиралась ничем не прикрытая пустошь плоти размером с добрую персидскую дыню. То, что я вскоре наговорил Саулу в том шатре с плоской крышей из козлиных кож, где располагался его штаб, было почти чистой правдой: я действительно убил льва – правда, мелкого, – унесшего ягненка, когда я пас овец у отца моего, только я его предварительно покалечил камнем из пращи, и медведя я тоже, ну, не убил, конечно, но оглоушил. Насчет медведя я Саулу малость приврал.
Ходить за овцами – все равно что бабу языком ублажать – работа тоскливая и одинокая, но кто-то ведь и ее должен делать. Я со своими отарами порой покидал дом на целые недели, бывало, я несколько часов кряду провождал с травинкой в зубах или вкусом зеленого одуванчика на языке, упражнялся в игре на лире, сочинял песни и метал из пращи камни в треснувшую глиняную бутыль, пристроенную в виде стоячей мишени на деревянный забор, а то еще в заржавленную консервную банку. Я даже в другие камни швырялся камнями. Помимо возвращения в стадо заблудших овечек, в чем мне инстинктивно помогали наши козлы, сообразительностью овечек превосходившие, у пастуха, в сущности говоря, только и дела, что отгонять диких зверей да устраивать на ночь овец и козлищ в разных загонах, перед тем как съесть холодный ужин и, завернувшись в плащ, завалиться спать близ костерка. Кстати сказать, из этих каждодневных забот и родилось мое повсеместно цитируемое «отделяя овец от козлищ и мужей от юнцов», так странно режущее слух в одном из моих малоизвестных псалмов или, возможно, в какой-то из притч, авторство коих нередко приписывают то Соломону, то кому-нибудь еще. Я совершенно точно знаю, что «отделяя овец от козлищ» далеко не единожды встречается в сочинениях этого перехваленного писаки Уильяма Шекспира из Англии, главный дар которого состоял в умении воровским манером утягивать лучшие мысли и строки из сочинений Кита Марло, Томаса Кида, Плутарха, Рафаэля Холиншеда и моих. Идею «Короля Лира» он, конечно, позаимствовал у меня с Авессаломом. Хотите возразить? Но кто, если не я, был до конца ногтей король? Думаете, этот неразборчивый в средствах плагиатор смог бы написать «Макбета», если б никогда не слыхал о Сауле?
Хотя, с другой стороны, по абсолютной частоте употребления ничто в мире и в подметки не годится фразе «Господь – Пастырь мой», в общем, довольно удачной, теперь я могу это признать, а ведь ее между делом сочинила Вирсавия в ту недолгую пору, когда от макраме и вышивки шерстью она уже устала, а изобретению «цветунчиков» еще всецело не отдалась. Она тогда полагала, будто способна превзойти меня в писании лирических стихотворений!
Кто в состоянии объяснить, почему одно сочинение переживает другое?
Ибо Господь, разумеется, никакой не пастырь – не мой и ничей вообще. Подобная Его характеристика – это то, что я называю фигурой речи. Всякий, кому не повезло в жизни настолько, что ему пришлось попастушить, знает, что назвать Господа пастухом – не хвала, а богохульство. С какой стати Господь подался бы в пастухи? Пастуху полдня приходится месить ногами овечье дерьмо. Пастушество – труд унылый, грязный, потный и нудный, не диво, что, возвращаясь домой, пастухи закатывают такие пиры. Как раз на подобный-то пир мой сын Авессалом и заманил другого моего сына, Амнона, чтобы его там прикончить. Если бы Бог и вправду был пастухом, он, я думаю, страдал бы от однообразия еще сильнее меня и, наверное, так же неплохо владел бы пращой. Для человека с деятельным умом растить овец – не профессия. Лично я предпочитаю буколическим утехам пастбищ разлагающую городскую жизнь. Ночами там мерзнешь, днем ищешь укрытия от палящего солнца. И куда можно пойти, чтобы развлечься? Что было общего между мной и прочими пастухами? Музыка их не интересовала, а когда я пытался им петь, они, случалось, кидались в меня отбросами.
Разве удивительно, что я был несчастен? Я проводил целые утра и вечера, упражняясь с пращой, чтобы хоть как-то убить время. Я-то знал, что я хорош. Знал, что я дерзок. Знал, что отважен. И в тот день, при встрече с Голиафом, я знал, что, если мне удастся подобраться к здоровенному сукину сыну на двадцать пять шагов, я сумею всадить ему в горло камень размером со свиную голяшку, летящий со скоростью достаточной, чтобы пробить это горло до самого затылка и прикончить его обладателя, – и знал я еще кое-что, я знал, что если промажу, то смогу повернуться и задать стрекача, как распоследний выблядок, и успею улизнуть под защиту гор, нисколько не рискуя тем, что кто бы то ни было, облаченный в такие доспехи, как у него, сумеет меня догнать.
Конечно, в то утро я, уже решившись на следующий ход, вынужден был немало поинтриговать, чтобы получить возможность его сделать. Оставив тележку обозному сторожу, я направился к позициям иудеев, вперся в самую их середину и заговорил решительным тоном, который сразу привлек ко мне всеобщее внимание. Я знал, какое впечатление мне следует произвести и какие вызвать толки. Мне требовалось растревожить их, раздосадовать попреками, чтобы люди вокруг загудели и чтобы гуд этот распространялся по войску и в конце концов неминуемо достигнул ушей Саула. «Что сделает царь тому, – вопросил я трубным голосом, способным, как я надеялся, долететь даже до тех, кто стоял на соседних позициях, – кто сразится с этим филистимлянином и убьет его и снимет поношение с Израиля?»
– Не спрашивай, – сказал мой братец Самма, желтея от страха.
– Я тебе еще вчера сказал, катись домой, – сердито буркнул братец Елиав.
– Да, он же тебе еще вчера сказал, катись домой, – поддакнул Аминадав. – Кто будет пестовать немногих овец тех в пустыне, пока ты тут шалопайничаешь?
Я напустил на себя обиженный вид.
– Я всего-навсего задал простой вопрос.
– Иди ты со своими простыми вопросами, – оборвал меня Самма, – знаю я твои простые вопросы.
– Я дам тебе простой ответ, – свирепо сказал Елиав. – Я знаю, зачем ты вернулся – покрасоваться захотел. Ступай домой, ступай домой, дрянной, тщеславный мальчишка.
– Ты что, не видишь, у нас и так забот полон рот, – прибавил Самма, указав на Голиафа.
– А может, я смогу вам помочь, – сказал я.
– Не смеши меня, – огрызнулся сквозь щербатые зубы Елиав. – Тебе охота потолкаться вокруг, посмотреть на сражение, ведь так? Мы знаем высокомерие твое и дурное сердце твое.
– Какое еще высокомерие? – высокомерно ответил я. – Какое дурное сердце? Нет у меня высокомерия. И дурного сердца нет. Я всего лишь спросил: что сделает царь тому, кто сразится с этим филистимлянином и убьет его и снимет поношение с Израиля?
– Что сделает царь? – словно не веря своим ушам, откликнулся их тысяченачальник, и от него я наконец-то получил нужные сведения. – Что сделает царь? – вторично воскликнул добряк, прожевав утреннюю порцию свежих фиников и сырого лука. При мысли о смешанном их соке у меня слюнки потекли. – Ты лучше спроси, чего царь не сделает. Может быть, царь одарит того великим богатством, и дочь свою выдаст за него, и дом отца его сделает свободным от налогов в Израиле.
Естественно, я возликовал.
– Без булды? – спросил я.
– Без булды, – заверил он.
– Так почему же тогда, – вопросил я нахально и вычурно, – никто до сих пор не сошел к нему, ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?
Заслышав это, Елиав, Аминадав и Самма стиснули кулаки, обступили меня и потребовали, чтобы я сию же минуту покинул поле боя и отправился к отцу моему в Вифлеем.
Вот тут-то я и показал им всем кукиш, а сам, точно озорной и упругий луч света, понесся к другим позициям, тараторя почти без умолку. Очень мне странно, с неизменной розовощекой, беззаботной наглостью сообщал я одному отряду бойцов за другим, что никто в армии израильтян не имеет достаточно веры в Бога живого, чтобы помериться силами и уменьем с этим необрезанным ворогом, пусть даже столь неодолимым с виду. Во что же теперь верить неискушенному деревенскому пареньку вроде меня? О да, я выводил их из себя, я их провоцировал, я возбуждал любопытство. Я пролетел вдоль боевых порядков, будто дуновение ветерка. То были дни, когда каждый из нас, молодых, способен был скакать по горам и перепрыгивать холмы с проворством, какое и не снилось коренастым, нескорым на ногу филистимлянам, вламывавшимся в наши селения, чтобы портить виноградники наши в цвете, а затем тщетно пытавшимся от нас отбиться. Раз за разом я повторял все одно и то же. Сыны Манассиины препроводили меня в стан сынов Ефремовых, а те в свой черед к сынам Вениаминовым, к их сотскому, под началом которого состояло двадцать четыре человека.
– Что сделает царь тому, – таков был заданный мною вопрос, от которого и сам я начал уже уставать, – кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?
– А ты, мать твою размотать, кто такой? – Такой ответ получил я от сурового сына Вениаминова, который, если верить ходившей о нем славе, всегда готов был с одинаковой охотой и изнасиловать человека, не важно, мужчину ли, женщину, и убить его, а если повезет, так учинить и то и другое.
Слова мои были осмотрительны:
– Я сын слуги царского Иессея Ефрафянина из Вифлеема Иудина.
– Иудина, – презрительно хмыкнул он.
– Я потому спрашиваю, – развесив губы, откликнулся я, – что самому мне нипочем не сообразить. Вы же знаете, какие мы там, в Иудее, туповатые. Что сделает царь тому, кто убьет этого человека, и почему никто не выйдет против этого филистимлянина и не снимет поношение с Израиля?
– Ты что, не видишь, какой он громила? – спросил Вениаминов начальник. – Сам-то ты полез бы с таким драться?
– А чего? – ответил я. – Он же поносит армии Бога живого, разве нет?
– Отведите щенка к Саулу.
– Пусть никто не падает духом из-за меня! – уходя, крикнул я им через плечо и мысленно поздравил себя с большим достижением.
Саул и виду не подал, что уже встречался со мной. Мне тоже хватило такта не напоминать ему о нашем знакомстве. Он сильно сдал за два года, прошедших с того дня, когда меня привели из Вифлеема, чтобы играть перед ним. Лицо прорезали глубокие морщины, курчавые волосы и прямоугольную бородку покрыла преждевременная седина. Он стоял, скрестив на груди руки и разглядывая меня. Похоже, ему меня было жалко. Но он оставался силен и крепок, и горбоносый Авенир, да и прочие офицеры, стоявшие вкруг него, едва дотягивали ему до плеча. Он был самым высоким человеком, какого я когда-либо видел, если не считать Голиафа.
– Ты еще отрок, – произнес наконец Саул, – а он великий воин от юности своей. Не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним.
– Чем они больше, – ответил я, – тем больнее им падать.
Это у меня вышло неплохо.
– Раб твой пас овец у отца своего, и однажды явился лев, а в другой раз медведь и унес овцу из стада. И льва, и медведя убивал раб твой – Богом клянусь, убивал, – и с этим филистимлянином необрезанным будет то же, что с ними. Тот же самый Господь, Который избавлял меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина.
– А почему бы и нет, господин мой царь? – предложил Авенир. – Пожалуй, стоит попробовать.
Саул объяснил ему, почему нет:
– Филистимлянин сказал, что если мы выберем человека, который сможет сразиться с ним и убить его, то они будут нашими рабами. Если же Голиаф одолеет его и убьет, то мы будем их рабами и будем служить им.
– Господин мой царь, – возразил практичный Авенир, придвигаясь поближе к Саулу, – не будь идиотом. Неужто ты вправду веришь, Саул, будто филистимляне станут, если мы победим, нашими рабами? Или мы – их, если потерпим поражение? Не такие же мы ослы. Да и они тоже. Пусть паренек сойдет в долину, если ему так хочется. Что мы теряем, кроме его жизни?
В конце концов Саул уступил, и сопротивление его сменилось заботливостью, почти смутительно отеческой. Он облачил меня в свои собственные доспехи, в свой медный шлем, в свою кольчугу, опоясал меня своим мечом, и, когда он окончательно снарядил меня к битве, я обнаружил, что с трудом волочу ноги и совсем ничего не вижу. Человек я, знаете ли, не так чтобы очень крупный, и потому обод Саулова шлема пришелся мне в аккурат на нос и драл его немилосердно. Я снял с пояса Саулов меч и вернул его хозяину. Саулу я прямо сказал, что меч его и доспехи мне не нужны, потому что я к ним не привык и не имею опыта, который позволит мне сражаться во всем этом. Я не видел смысла добавлять, что не имею ни малейшего намерения подходить к Голиафу так близко, чтобы коснуться его мечом, или позволить ему приблизиться ко мне настолько, чтобы он мог достать меня своим. Только последний дурак полез бы врукопашную со здоровяком филистимлянином, вооружась мечом, щитом и кольчугой, и при этом еще надеялся бы уцелеть. Да одного удара этого громилы хватило бы, чтобы выбить из ваших рук любое оружие, а второй наверняка разлучил бы вас с вашей душой.
– Позволь мне пойти как есть, – с самым серьезным видом попросил я, оправляя на себе красивую новую тунику, в которую успел переодеться, – ибо не мечом и копьем спасает Господь. Это война Господа, и Он предаст филистимлян в руки наши.
Выражение снисходительного недоверия появилось на лицах тех, кто услышал меня, и они принялись обмениваться соображениями насчет моего умственного здравия, что меня более чем устраивало. Дальше упоминания о мече и копье мне заходить не хотелось. Я вовсе не жаждал, чтобы Саул или кто иной проник в мои мысли. Зачем напоминать им о том, что Господь может также спасать и пращой? Пусть сочтут это чудом.
Конечно, выйдя из шатра Саула и неторопливо двинувшись в дух занимающий путь к долине, посреди которой, расставя, точно колосс, переступающий Землю, могучие ноги, торчал в ожидании Голиаф, я уже ощущал себя совершенным царем. В конце-то концов, разве Самуил два года назад не помазал меня на царство благовонным оливковым маслом, которое заляпало мне все лицо? Я вспоминал, с какой доверчивостью выслушал я Самуила, известившего меня, что Господь отторг царство от Саула и отдал оное ближнему его, который Ему больше по душе.
– Это мне, что ли? – Ничего неразумного я в таком предположении не видел.
– Кому же еще? – откликнулся Самуил.
И собственно, ничего больше не произошло – ни черта ни тогда, ни после. Ни тебе трубных звуков, ни волхвов с дарами. Осанны я тоже что-то не слышал. И Бах кантат не сочинял, ну то есть ни единой. Только братцы мои козлились. Диво ли, что там, в Вифлееме, я чувствовал себя таким обескураженным? Казалось, ничего особенного и не произошло. Земля не стронулась с места. Аллилуйи никто хором не пел. Все, что я получил в тот день, – это обильно намасленную физиономию.
Невелика вообще-то радость быть царем, когда никто тебя таковым не считает, не правда ли? – а я понимал, что пытаться заставить братьев, да и кого бы то ни было подобострастно склониться предо мной – затея пустая. Вот когда годы спустя Саул погиб и филистимляне рассеяли армию израильтян, а я с триумфом вошел в Хеврон, дабы старейшины города провозгласили меня царем иудейским, вот это было совсем другое дело. Хотя сначала я все же направил к ним самого юного из моих племянников, быстроногого Асаила, чтобы он выяснил, как им эта моя идея.
– Спроси у них, – наставлял я его, – не желают ли они ныне, когда нет больше Саула, провозгласить меня царем над Иудеей? Напомни им, что со мною шесть сотен бойцов, что армия израильтян разбежалась, подобно овцам, не знающим пастыря, по холмам, и что никаких вооруженных сил, кроме моих, в стране не осталось. Напомни им также, что человек я нервный и очень легко обижаюсь.
Старейшинам Хеврона моя идея просто на душу легла.
– Им не терпится провозгласить тебя царем над Иудеей, – сообщил мой племянник Асаил.
Мне тогда только-только стукнуло тридцать.
Не меньший восторг испытал я и в день, когда убил Голиафа, выйдя наконец из шатра Саула и начав спускаться в долину – безобидный пастушок в цивильном платье, с посохом в руке и с пращой, неприметно свисавшей позади с опояски. На миг я остановился на нижней гряде холмов, чтобы все желающие как следует меня разглядели. Единственное, о чем я жалел, так это о том, что не могу сам увидеть себя таким, каким меня видят другие.
Разумеется, я понимал, что все глаза прикованы ко мне. Кто средь этих бесчисленных зрителей мог догадаться, что произойдет, когда я спущусь по зеленому склону, густо покрытому фиалками, ромашками и желтыми лютиками? Да за миллиард лет никто бы не догадался. И уж конечно, не Голиаф. Теперь-то мы все это знаем. Но я и тогда мог это сказать, достаточно было только взглянуть на него. Спустившись на ровную землю, я замедлил шаг и вгляделся в него через поток. Он щурился, разглядывая меня из все уменьшающей дали, не вынимая меча из ножен, как человек, обуянный чувством собственной непобедимости. Оруженосец его уважительно переминался с ноги на ногу в нескольких шагах сзади. Голиаф смотрел, как я приближаюсь, и приобретал все более озадаченный вид. Меня опять стал разбирать смех. Щегольская новая туника моя была до крайности коротка, так что я мог шагать привольно, не подбирая ее повыше. Мне не хотелось подрывать его самодовольство, подходя к нему с подолом, заткнутым за мою козловой кожи опояску. На вид я был не многим грознее улитки. Я и хотел, чтобы он счел меня ничтожеством – посланником, быть может, несущим сообщение о капитуляции, или местным юнцом, случайно забредшим на поле битвы в поисках заблудшего агнца или козленка.
Хотите верьте, хотите нет, но по пути я остановился, чтобы подобрать пяток гладких камней из ручья. Ну, это уж я так, на публику работал. Любой хоть чего-то стоящий пращник носит камни с собой, и я, преклонив колени в воде, неприметно вытащил парочку из висевшей у меня на поясе кожаной сумки и зажал их в ладони правой руки. Двух мне определенно хватило бы – если я с первого раза не вышибу дух из этого здоровяка, на второй у меня, скорее всего, времени не останется. Поднимаясь на ноги, чтобы перейти мелкий ручей, я перебросил пастушью палку из правой руки в левую. Голиаф, похоже, ничего не заметил. Я с трудом подавил улыбку. Правой рукой я начал потихоньку отвязывать от пояса ремешки пращи и распутывать петли.
Ладно, давайте назовем его великаном. Это его зубы, не Вирсавины, были как стадо выстриженных овец. Ей я просто пытался польстить. В Голиафе же все превосходило натуральную величину. Я и теперь еще фыркаю, вспоминая, как он взъярился, когда до него стало наконец доходить, зачем я к нему пожаловал. Как выпучились от изумления его глаза. Как потемнела от гнева мясистая рожа, как она полиловела от бешенства. Как он, оправившись от первого потрясения, завыл, заревел. Можно было подумать, что его ткнули в печень копьем. Сорок дней он уговаривал израильтян выслать ему мужа, достойного сойтись в единоборстве с храбрым филистимским силачом. И в итоге получил юного пастушка, белокурого и красивого лицом. Он поджидал Ахилла. А дождался меня. Да сверх всего я еще и явился к нему с одной только палкой.
И поныне я веселюсь, вспоминая выражение ошеломленного недоверия, появившееся на его лице, когда до него начало доходить, зачем я явился. Он стоял точно вкопанный в землю паралитик и, разинув рот, таращился на меня. Озадаченный оруженосец маячил на заднем плане, не зная, на что решиться. В общем-то лично я Голиафа великаном не назвал бы, но человек он был крупный. Солнце сверкало на его доспехах. Глаза горели, как уголья, безбородое, рябое лицо покрывала темная щетина. Я увидел, как он, шевеля губами, начал что-то сам себе бормотать. А я и на миг не испугался. Пуще всего его проняла моя палка. Вены и жилы на его мускулистой шее явственно вздулись, когда наконец он, по-гаргантюански выпустив воздух из груди, разинул пасть, намереваясь сказать речь. Голос его оглушал. Гулкие словеса предназначались не столько мне, сколько батальонам израильтян, в тревоге и ужасе приникших к кустам, камням и канавам на горных склонах за моею спиной.
– Разве я собака? – взревел он и набрал побольше воздуху в грудь, чтобы взреветь еще громче.
Я, прикинувшись глуховатым, тут же его перебил.
– Чего? – прокричал я в ответ.
Я уже опустил тот камушек, что побольше, в люльку пращи, свободно и скрытно свисавшей вдоль моего бедра.
– Я говорю, разве я собака? – разгневанно взвыл он. – Глухой, что ли? Разве я собака, что ты идешь на меня с палкою?
И пока я неспешно приближался к нему, он клял меня именами своих богов – Дагона и Молоха, Ваала и Велиала. Ох и здоров же он был ругаться, этот великан!
– Подойди, подойди ко мне! – Он уже махал обеими руками, неистово подманивая меня к себе. – И я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым.
– Чего? – Я по-прежнему делал вид, будто не слышу его.
Он слово в слово повторил свою угрозу, пока я, босой, подбирался к нему все ближе и ближе. Теперь он уже обращался только ко мне. И на этот раз я решил ответить.
– Ты отдашь мое тело птицам небесным и зверям полевым? – с вызывающим пылом откликнулся я. – Это я отдам твое тело. Я тебе покажу, кто чье тело отдаст! Я отдам тело твое птицам небесным и зверям полевым. Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом.
– С каким щитом? – презрительно ощерился Голиаф и воздел руки, показывая, что в них пусто. – Где мои копья, где мой меч?
– А я иду против тебя во имя Господа сил, Бога воинств Израильских, которые ты поносил.
Голос мой наполнила праведная мощь. Спросите меня, что я хотел сказать этим «Господом сил», я вам и сейчас не отвечу. Я много наговорил фраз, смысл которых так и остался для меня непонятным, но риторика она риторика и есть.
– Ныне предаст тебя Господь в руку мою, – храбро уведомил я Голиафа, – и я убью тебя и сниму с тебя голову твою. И отдам ныне трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сонм, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши.
Скажу откровенно, все это не производит на меня впечатления речи, которую я мог бы произнести при нормальных обстоятельствах, хотя о ту пору чувства, в ней выраженные, вполне могли быть моими. Я был тогда молод, зелен и в сужденьях незрел, я верил во многое из того, к чему ныне отношусь скептически. Я верил в будущее. Все еще верил Богу. Я верил даже в Саула. В жизни моей у меня было три отца – Иессей, Саул и Бог. Все трое меня разочаровали. Теперь-то я давно уж живу без Бога и, надо полагать, как-нибудь управлюсь и умереть без Него.
Ответ Голиафа на мое отчасти ходульное заявление оказался неожиданным. Он приложил к уху ладонь и спросил: «Чего?» Представьте, как я удивился, обнаружив, что Голиаф, силач филистимский, несколько глуховат – и, в отличие от меня, неподдельно. Наверное, потому он так и орал.
Я покачал головой, не желая повторяться, и взамен показал ему нос. А следом язык. Я сберегал дыхание для спринтерского броска, в который собирался удариться с минуты на минуту.
На этот раз Голиаф, снова принявшийся клясть меня своими языческими богами, привлек к этому делу даже Астарту с Хамосом, однако дойти до конца списка так и не успел. Он еще разорялся насчет Ваала, а я уж рванул в атаку. Нас разделяло меньше пятидесяти шагов, когда я, отбросив палку, полетел прямо на него так стремительно, как только мог, подняв над головой пращу и раскручивая ее с ускорением, какого за всю мою прежнюю жизнь добиться не смог. Тяжесть лежащего в праще камня, казалось, удваивалась с каждой секундой. Голиаф, разинув рот, стоял как неживой, он словно прирос к земле. Я же испытывал восторг. Словами этого не расскажешь. Созданная мною центробежная сила натягивала мышцы, наполняя меня наслаждением, превосходящим по остроте все, что я когда-либо испытывал или даже мечтал испытать. Опьянение чрезмерной самоуверенности подносило меня все ближе и ближе, грозя лишить разумения. По счастью, я сумел с собой совладать. Тридцати шагов хватит, решил я, и заскользил, тормозя, когда шагов оставалось даже поменьше, и замер, расставив ноги для броска. В последние два оборота я вложил все свои силы. Я целил в темную дыру раззявленного рта между его большими, отвратительными зубами. С последним оборотом я отпустил прижатую большим пальцем петельку пращи. Я почувствовал, как камень высвобождается из пращи, как он выпархивает из нее по неуклонной прямой, и всем нутром своим понял, что не промахнусь. И промахнулся. Я попал ему в лоб, прямо над левым глазом. Он еще простоял секунду-другую, кровь хлестала изо лба на несколько ярдов вперед. Потом он рухнул, точно скала. С хрустом ударился оземь. Оруженосец его уже улепетывал. Голиаф же остался лежать, где упал, и песчаная почва под ним бурела. Он даже не дернулся. Радость моя была безмерна.
Все было кончено – кроме крика, и, видит Бог, крику было немало. Горестные вопли поднялись в стане филистимлян, увидевших внезапную гибель своего силача. Они заметались, описывая лихорадочные крути, собирая снаряжение, и наконец побежали. В тот же миг воины Израиля и Иудеи с буйными восклицаниями посыпались с гор, чтобы накинуться на отступающих филистимлян с топорами, дубинами и оружием рубящим, и гнать их, и поражать по всей дороге Шааримской до Гефа и до самого Аккарона.
Я со своей стороны рисковать не желал. Я стоял, опасливо глядя на павшего великана. Прошла целая минута, ни малейших признаков жизни он не подавал, и тогда я бросился вперед, пробежал расстояние, все еще отделявшее меня от его неподвижного тела, вытащил его меч из ножен и, чтобы уж больше ни о чем не тревожиться, отсек ему голову. Теперь я по крайней мере мог с уверенностью сказать, что он убит. Варварство? Подумаешь! Не забывайте, времена стояли первобытные. С Саулом и Ионафаном, да и с другими двумя его сыновьями филистимляне, обнаружив их павшими на горе Гелвуйской, обошлись еще и похуже, разве нет? Воткнули Саулову голову в храме Дагона. А трупы остальных повесили на внешней стене своего укрепленного города Беф-Сана, где те и висели, пока сильные люди Иависа Галаадского не пришли ночью, не сняли тела и не похоронили с почтеньем кости их, чтобы прекратить святотатство. В сравнении с этим я выглядел воплощением мягкосердечия. Мне нужно было вернуться с головой Голиафа – в качестве трофея. Все остальное, разумеется, предназначалось птицам небесным и зверям полевым. Разве не сам он сказал, что именно так со мной и поступит?
Теперь, когда бояться Голиафа мне уже было нечего, я мог удовлетворенно передохнуть, поставив ему на грудь ногу. Впереди меня еще ждала грязная работа – предстояло стащить с его великанских ножищ медные наколенники, снять с плеч медный щит, стянуть с него чешуйчатую броню весом в пять тысяч сиклей меди, если не больше. И как, спрашивается, потащу я это его копье, у которого древко, как навой у ткачей? Голову ведь тоже придется тащить, вместе с медным шлемом на ней. Одна голова весила целую тонну.
Я недооценил неотразимое обаяние славы. По счастью, вскоре меня окружили и принялись деятельно мне помогать сыны Израилевы, возвращавшиеся назад, выбив филистимлян из их опорных пунктов и разграбив их шатры. С радостными, поздравительными кликами они избавили меня от тяжестей, а самого усадили себе на плечи. С громкими восклицаниями, с победными песнями они втащили меня на гору, опустив на землю лишь в стане Сауловом. Саул, немного смущенный и озадаченный, смотрел на меня как-то странно, помаргивал слезящимися глазами, по-прежнему притворяясь, будто он ни разу в жизни со мной не встречался.
Скосясь на своего главнокомандующего, он спросил:
– Авенир, чей сын этот юноша?
– Я сын раба твоего Иессея из Вифлеема, – смело ответил я, не дав ответить Авениру, и замер в ожидании, с сердцем, колотящимся в горле.
Я получил что хотел. Саул взял меня в свою армию.
Естественно, на всем возвратном пути в Гиву меня бурно приветствовали. А кого бы не приветствовали, сделай он то, что я сделал? Меня усадили на осла, возвысив над всеми, даже над Саулом, чтобы всякий мог меня видеть. Люди смотрели на меня во все глаза, и мне это было приятно. Щеки у меня пылали, шея моя была – как столп из слоновой кости, кудри волнистые, черные, как ворон, голова, как золото кованое. Вести о моей блестящей победе достигли города раньше нас. Мелхола нарумянила лицо свое и уселась у окна. Вообразите, какой вдвойне – да нет, втройне – благословенной ощутила она себя, когда я прошествовал мимо и она увидела, сколь я красив. Сам-то я не сознавал, какая у меня роскошная внешность. Я барахтался в счастье, точно свинья в грязной луже. Я помнил Создателя моего в дни юности моей и с любовью относился к тому, что Он создал, создавая меня!
4. Дни моей юности
То был лучший день моей жизни. Теперь каждый из них смахивает на худший. Во дворце моем дует из всех углов, и все равно он пропитан резкими, неприятными запахами. На месте Адонии я бы первым делом продезинфицировал весь этот дерганый гарем. Меня веселит мысль, которая Вирсавии так до сих пор в голову и не пришла: она, как и весь гарем, достанется в наследство Адонии. Иное дело – судьба Ависаги, она меня заботит. Мне как-то не хочется, во всяком случае пока, чтобы она попала в чьи-либо руки, помимо моих. Такова уж любовь при начале ее – грозная, как полки со знаменами.
В день, когда я убил Голиафа, меня подобного рода заботы – насчет гаремов и женщин – не донимали. В тот день я еще не стал предметом зависти и подозрений, не было ни вражды, ни страха, ни тени опасности, простертой ко мне, как острие копья, которое держит в руке некий неумолимый ангел рока, ничто не предвещало жалкой участи, поджидавшей меня впереди. Кто бы мог заподозрить тогда, что царя, подобного мне, свалит с ног геморрой и увеличение простаты, или что человек, награжденный в начале своего пути столь цветущим здоровьем, будет почти ежедневно испытывать приступы одинокой подавленности и тревоги? Кому все это нужно? И кто в состоянии вынести это? Когда меня начинает колотить озноб, зубы мои выбивают дробь – по сто ударов в минуту. Желания меня покинули. Я просыпаюсь с первым задроченным сверчком. Толком бодрствовать у меня не получается, спать – тоже. Утром мне хочется, чтобы уже наступил вечер, вечером я жду не дождусь рассвета. И мне теперь кажется, будто так оно всегда и было – ощущение обескураживающее. Узнайте, что чувствует человек под конец своей жизни, и вы поймете, как он к ней всегда относился. Кто бы поверил, что наступит время, когда такой человек, как я, станет считать день смерти лучшим, нежели день рождения?
Ничто не обманывает так, как успех.
Поверьте мне, я знаю. В какое уныние приводит меня, даже после всех моих личных триумфов, мысль, что каждому из нас приходится взрослеть и грустнеть, что никому из нас не избегнуть старения, слабости, что со временем всем нам предстоит сойти в вечный дом свой под землей и что даже дева с пламенем в очах или трубочист – все прах. Мне недостает Саула. Мне недостает даже моего простодушного старого отца. Оба они снятся мне, заменяя во снах один другого и исполняя одну и ту же роль. Я томлюсь по их любви. Обоих давно уже нет. И как это ни смешно, меня все время подмывает повторить мою хорошо известную апофегму насчет тщеты: человек, жаждущий хвалы, не насытится хвалой, и человек, жаждущий любви, не насытится любовью. Желания вообще никогда не исполняются. А потому я и поныне не знаю, что лучше – страшиться Бога и соблюдать заповеди Его или проклясть Бога и умереть. Мне-то, по счастью, удалось обойтись и без того и без другого.
В то время при мне еще не было Нафана, изводившего меня разговорами о прелюбодеянии и убийстве. Подрядить Иоава для убийства Урии было большим неблагоразумием с моей стороны – Иоав знает, что я совершил преступление, а я знаю, что он знает. Оба мы слишком много знаем друг о друге. У меня еще не было в то время ни изнасилованных дочерей, ни убитых сыновей, и упрямый Авенир еще не успел на целых семь лет отсрочить мое самой судьбой предопределенное правление Иудеей, составившей вместе с Израилем единую Палестину. Дня не проходило, чтобы я не желал смерти этому конопатому сукину сыну. А вот когда он понадобился мне живым, тут-то Иоав его и ухлопал. Ткнул ножом под пятое ребро.
Иоава к этому самому пятому ребру всю жизнь как магнитом тянуло, разве нет?
Как-то раз, впав в дурашливое настроение, я подумал: не попросить ли Иоава ткнуть под пятое ребро и мою первую жену, Мелхолу? Каким бальзамом для моих истрепанных нервов была перспектива избавиться навсегда от этой язвительной ведьмы! Как я корил себя за то, что потребовал ее назад после того, как Саул отдал ее другому мужу! Конечно, есть такие смирные мужички, которых природа, похоже, порождает не для чего иного, как разве для того, чтобы ими помыкали властные мегеры. Но, сдается мне, я не из их числа. Чтобы человека моего звания пыталась загнать под башмак какая-нибудь стерва – мне это представляется решительно неправильным. Ревность и ехидство, с которыми она регулярно наскакивала на меня после того, как я потребовал ее назад, были совершенно нестерпимы. Лучше жить в углу на кровле, нежели со сварливою женою в пространном доме, лучше жить в дробаной пустыне вроде Зифа, Маона или Ен-Гадди, нежели с женою сварливою и сердитою. К царям это тоже относится. И даже более, чем ко всем прочим. Добродетельная жена вроде Авигеи – венец для мужа своего; а позорище, подобное Мелхоле, – как гниль в костях его. Да, я обрадовался – и ничего тут нет удивительного, – когда мне сообщили, что она помирает. Что она страдает, что ее мучают боли. «Свят Господь! Господь милосерд!» – воскликнул я и в тот же день принес в жертву ягненка.
Одна из причин, по которой я не стал просить Иоава ткнуть Мелхолу под пятое ребро, состояла в том, что я не сомневался – он это сделает.
Никакие предчувствия вульгарных свар подобного рода не посещали меня, удручая мой дух, в день, когда я убил Голиафа. У меня еще не было строптивой жены, чтобы портить мне жизнь, у меня вообще ни одной жены не было. И умерших детей тоже. Меня не мучила память об утрате ребенка, которого я и узнать-то толком не успел, не мучила память об ужасном, хладнокровном убийстве другого сына, постарше, которого я любил слишком сильно. Бедный мальчик. Пока дитя болело, я лежал, прижимая лицо к земле, и молил Бога о милости, о сохранении жизни стенающему младенцу. Кожа его иссохла, горела. С таким же успехом я мог разговаривать сам с собой. Я снова понял то, что знал и раньше: никакого, никакого милосердия ждать от небес не приходится. Я все еще не простил Бога за то, что Он так со мной поквитался, и уверен, никогда не прощу, даже если Он миллион лет будет умолять меня о прощении, даже если выяснится, что Он с начала времен к нам сюда вообще не заглядывал. Посмотрите сами, Он вечно делает то, что хочется Ему, а не нам. Посмотрите, как Он снимает вину с меня и возлагает ее на невинное дитя. По-моему, это и есть самый настоящий первородный грех, разве не так? Посмотрите, как Он дал мне теперь эту ангелоподобную, любвеобильную девственницу с глазами темными, как виноградины, с матовой ореховой кожей, с лицом сердечком, которое мне так хочется погрузить в мягкое тепло моих дрожащих ладоней, – дал, когда я уже слишком стар, чтобы вполне насладиться ею, когда я боюсь, что мне недостанет сил, чтобы еще раз войти в девицу. И как Он заново угрызает меня жадной и жалкой тягой к Вирсавии, которая говорит, что ее тошнит от любви, и неизменно отвергает меня самым унизительным образом, какой только можно представить, – не придавая значения моему желанию обладать ею. Она даже представить не может, как меня это ранит. Да и вообще ей наплевать.
Я не верю, что я ей противен, потому что она обычно пробует, а то и доедает то, что я оставляю в моей чашке, отправляя еду в рот прямо пальцами и между тем не переставая жаловаться на ночное несварение и все возрастающий вес.
– Что это за красная штука, которую ты кладешь ему на хлеб, и в бобы, и в измельченный латук? – спрашивает она Ависагу, проявляя вялый интерес и к девушке, и к еде, которую та заботливо для меня готовит.
– Красный чилийский перец.
– А почему ты никогда не называешь меня «Вашим величеством»?
– Он сказал мне, что вы не царица.
– А что это за зеленая штука, которую ты кладешь в рубленую баранину?
– Зеленый чилийский перец.
– Что ты сейчас готовишь?
– Тако с зеленым чилийским перцем, тушеной бараниной, прожаренными бобами и сметаной.
– Тако?
– Тако.
– Можно я съем немножко? Выглядит вкусно. А я проголодалась. Зачем ты так для него стараешься? Глупо столько работать, когда ты вовсе не обязана это делать.
Отправив в рот первую вилку, Вирсавия морщится и ставит чашку на пол. Ависага грациозно опускается на колени, берет чашку, чтобы ее унести. Движется она как балерина – можно подумать, она школу манекенщиц окончила.
– Будешь так на него ишачить, простишься со своей красотой, – прибавляет Вирсавия. – Кожу испортишь. Руки у тебя растрескаются. Когда пересыхаешь от жары, нужно все тело намазывать мягчителем. Я всегда так делаю. Вот, гляди. – Вирсавия распахивает одежду, выставляя напоказ намасленные руки, ноги и бока. Она нынче в белых «цветунчиках», и я чувствую, как что-то подрагивает у меня в паху. Моя белокурая жена Вирсавия все еще пользуется сурьмой, подводя и увеличивая свои маленькие хитрые глазки. Теперь она вяло ковыряет в зубах голубиным пером. Другой рукой она рассеянно, но с силой почесывает сбоку свое широкое бедро и ягодицу, а затем принимается за внутренность бедра, скребется, точно ее блохи заели. Ноги и талия Вирсавии по-прежнему тонки. Я знаком с ее неотесанными манерами еще с тех дней, когда мы с ней предавались распутству. Я снова хочу ее. Она пробуждает во мне желание, которое Ависага растормошить не способна. Я гляжу на мясистые, жирные бугры пожилой плоти на бедрах и на животе моей жены, на ее округлый зад и чувствую, что смог бы снова ее отвалять, если бы только она легла в мою постель и открылась предо мною. Ну и что в этом чувстве хорошего? Могу ли я, царь, сказать моей бесчувственной и безразличной жене, что, если она позволит мне снова сделать с ней это, я отдам сыну ее Соломону созданную мною Израильскую империю, а ей позволю и впрямь стать царицей-матерью, к чему она так стремится? Почему нет, мог бы сказать Екклесиаст, тем более что я всегда успею взять данное мной обещание назад. Но ни ей, и никому во Вселенной не стал бы я платить столь стыдной цены, как признание в том, что меня отчаянно тянет еще раз подержаться за ее задницу.
В прежние дни, когда я был помоложе, мне удавалось завалить ее на спину всякий раз, что я пытался это проделать, даже когда она была нечиста, – для этого мне хватало ошеломительного потока медовых слов, которые льстили ей и кружили голову так, что лицо ее начинало блистать от прилива крови. О, неизменное мастерство, прибегая к коему, я всегда ухитрялся одолеть ее, лия потоки безостановочных слов:
– Отворись мне, радость моя, возлюбленная моя, голубица моя, чистая моя. Лобзай меня лобзанием уст твоих. Ласки твои лучше вина. Я буду превозносить ласки твои больше, нежели вино, о прекраснейшая из женщин. Знамя твое надо мною – любовь. Кобылице моей в колеснице фараоновой я уподобил тебя.
Думаете, я всегда понимал, что несу? А разве есть разница? Всякий раз она, изнемогая от вздохов, падала на спину, раздвигала пошире ноги и поднимала колени, раскрывая руки в восторженном забытьи, словно хотела всего меня засунуть в себя.
– О Давид, Давид, – слышал я ее стоны, – и откуда ты берешь такие волшебные слова?
– Сами в голову лезут.
– Сами лезут?
– Вот так прямо сами и лезут.
– Ах, как это красиво!
Теперь я лежу, сотрясаясь от хладных, одиноких желаний, а моя поглощенная своей особой жена только лишь и способна – и то если вдруг заскучает, – что глазеть, чуть приподняв густо накрашенные веки, на Ависагу, приставать к неиспорченной девушке с суетными вопросами да делиться с нею бабьей житейской мудростью.
– Не надо так вкусно готовить, – наставляет она мою служанку. – Зачем ты так много работаешь, когда ты вовсе не обязана это делать? И нечего его причесывать с таким усердием и мыть так старательно тоже не надо. Пусть немного помается, пусть побудет грязным. Не будь такой доброй стряпухой, не хлопочи по хозяйству. Кому это нужно? Ему что ни дай, он все равно не доест. И лампу его иногда забывай заправлять, пускай гаснет. Делай только то, что тебе приятно. Разве ты хочешь утратить свою красоту?
Ависага отвечает:
– А мне как раз и приятно стряпать для него и омывать его. Мне нравится, когда он красиво причесан. Да и домашняя работа мне всегда была в радость.