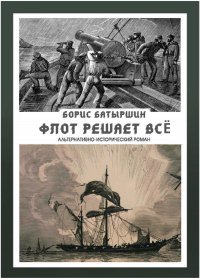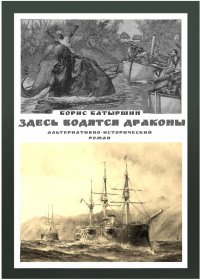Читать онлайн Хранить вечно. Дело № 3 бесплатно
- Все книги автора: Борис Батыршин
©Борис БАТЫРШИН
Часть первая
Ученики чародея
I
Восточный каменный круг Трегесил расположен примерно в миле к северо-востоку от городка Сент-Джаст, что в Корнуолле. Это единственный сохранившийся кромлех из трех, стоявших в давние времена вдоль оси восток-запад на склоне холма. Термин «кромлех» пришёл то ли из валлийского, то ли из бретонского наречий кельтского языка: «crom» – изгиб, круг и «llech» – каменная плита. Девятнадцать гранитных глыб, известные, как Танцующие камни, пользуются немалой популярностью в краях, где память о древних бриттах смешивается с наследием Рима и отголосками легенд о короле Артуре и рыцарях Круглого Стола. Гиды водят сюда туристов, приехавших из Европы, местные жители по выходным устраивают на склонах холма пикники. Тут проводят свои бдения на Бельтайн и Самайн новоявленные друиды, а виккане и адепты кельтского язычества отмечают в каменном круге праздник начала осени Лугнаса́д, а так же Мабон – день осеннего равноденствия.
Двое мужчин, неспешно прогуливающихся по тропинке, ведущей к Танцующим камням, не были туристами. Корзины для пикников у них при себе тоже не имелось; не относились они и к числу поклонников валлийской старины. Сообщество, которое представлял тот, чьи плечи поверх тёмно-зелёной охотничьей куртки прикрывал небрежно наброшенный клетчатый плед, возникло лишь примерно в начале восемнадцатого века – и с тех пор заслуженно считалась самым влиятельным тайным обществом Великобритании. «Тайным», конечно, его можно назвать весьма и весьма условно – в «Древней Великой Ложе вольных каменщиков Англии» состояли министры, лорды Адмиралтейства, герцоги, промышленники и издатели крупнейших газет. Многочисленные традиции требовали, однако, обставлять деятельность Ложи множеством замысловатых ритуалов, создающих столь притягательный для неофитов флёр причастности к тайне – что и происходило неизменно на протяжении двух с лишком сотен лет.
Джентльмен с пледом (звали его Джоунс Томас Хинчли) состоял в вольных каменщиках сравнительно недавно, но уже успел занять один из высших постов – секретаря и личного помощника Великого Мастера Ложи, Артура Уильяма Патрика, принца Великобритании, герцога Коннаутского и Стратернского. Кроме того, он занимал не столь громкую, но куда более весомую должность в военно-морской разведке Империи – и как раз сочетание этих двух постов и привело к тому, что владелец клетчатого пледа оказался ясным январским днём 1930-го года на холме к югу от Карн Кениджек.
Его спутник не был отмечен высоким положением в обществе и не мог похвастать тем, что вхож в высшие масонские сферы. Скорее он был там своего рода анфа́н терри́бль, возмутителем спокойствия, ниспровергателем авторитетов и традиций, одержимый идеей создать собственное оккультное учение – и немало продвинувшийся по этому пути.
– Как вы понимаете, Алистер, нам непросто было принять решение обратиться к вам. – говорил первый мужчина. – После того, как вас со скандалом изгнали из Франции, ваша репутация… ну, да вы всё и сами понимаете.
– Однако вам понадобились именно мои услуги. – ответил тот, кого назвали Алистером. Полное имя его было Э́двард Алекса́ндр Кроули, и он был довольно широко известен оккультных кругах Европы и САСШ, как приверженец чёрной магии, сатанинских культов и пророк созданного им самим мистического учения «Телема».
– Мы никогда не отрицали, что вы обладаете множеством талантов. И, что особенно важно, имеете доступ к некоторым…
скажем так, материям, которые для нас по очевидным причинам недоступны.
– Жан-Майне с его гностическим вуду? – усмехнулся Кроули. – Я догадывался, что речь пойдёт именно о нём.
– Ну, Ordo Templi Orientis Antiqua, Древний Орден Восточного Храма, основанный на Гаити патриархом и первосвященником вуду Люсьеном-Франсуа Жаном-Майне, так или иначе восходит корнями к вашему, Алистер, Ordo Templi Orientis – Ордену Восточных Тамплиеров. Правда, в Англии их деятельность приостановлена решением суда – ерундовый спор о праве на название, но закон есть закон! – но в САСШ ваши адепты чувствуют себя достаточно комфортно. И, насколько нам известно, поддерживают весьма тесные связи с доктором Либенфельсом и его Орденом Новых Тамплиеров.
Кроули спрятал ироническую усмешку. Когда представитель самой крупной и влиятельной масонской ложи Британской Империи, он же, по совместительству, сотрудник военно-морской разведки, говорит «насколько нам известно» – это, обычно означает, что он осведомлён о предмете до самых последних мелочей.
– Вы правы, Джоунс, я поддерживал связь с гроссмейстером Ordo Novi Templi, несколько моих статей даже были опубликованы в его журнале «Остара» – а вы, полагаю, знаете, как неохотно Либенфельс печатал кого-то, кроме себя самого. Но теперь, после его трагической гибели это всё в прошлом. Орден Новых Тамплиеров держался исключительно на личности Ланца фон Либенфельса, без него он не просуществует и года. Кстати… Кроули пристально поглядел на собеседника. – вы, случайно, не в курсе, что с ним произошло?
– Совершенно случайно, Алистер, уверяю вас, совершенно случайно. – собеседник чёрного мага поправил сползший с плеча плед. – Однако, холодает, вы не находите? Это всё ветер с моря, он приносит сырость и скоро, надо думать начнётся дождь…
Предложенный разговор о погоде – обычный для старой доброй Англии способ сменить тему беседы, – Кроули, однако не поддержал.
– Я снял тут неподалёку премиленький домик. – продолжил Джоунс, сделав вид, что не заметил бестактности своего визави. Он стоит на отшибе, прислуги нет, и ничто не помешает нам согреться у камина, выпить грога – а заодно обсудить кое-какие интересующие нас обоих вопросы.
– Только осторожно, не обожгитесь!
Джоунс протянул собеседнику большую оловянную кружку. Вместительный медный чайник, из которого он её наполнил, стоял на каминной решётке, и от него по комнате распространялись ароматы пряностей и крепкого алкоголя.
– Признаться, я соскучился по настоящему грогу – сказал Кроули. – В Германии, где я жил в последнее время, о нём и понятия не имеют!
Он сделал глоток, прислушался к ощущениям и кивнул.
– Должен признать, вы настоящий мастер!
– Спасибо за комплимент, Алистер. – второй мужчина в свою очередь отхлебнул грога. – Пожалуй, стоит добавить немного корицы, да и щепотка кайенского перца не помешает. Я научился варить грог на Цейлоне – я провёл там полгода, когда служил на «Рипалсе» – и с тех пор горжусь этим умением.
– И вполне заслуженно! – поддакнул Кроули. – Даже на Кубе я не пробовал ничего подобного. А ведь в портовых кабачках Гаваны знают толк в его приготовлении – по рецептам флибустьеров, когда-то державших в страхе те воды.
– Мне случалось там бывать. Как по мне, то для грога больше подходит ямайский, а не кубинский ром, только обязательно чёрный.
Он склонился и поколдовал над чайником. Кроули следил за манипуляциями собеседника, прихлёбывая грог маленькими глотками – напиток действительно получился обжигающим, что в прямом, что в переносном смысле.
– Значит, Либенфельса убили его же собственные создания?
Джоунс со стуком поставил кружку на низкий столик.
– Да, представьте, такая вот ирония! Можно сказать, этот джентльмен повторил судьбу ученика чародея из детских сказок, не сумевшего справиться с вызванными им демонами.
– А старый знахарь так и не появился, чтобы загнать их обратно в ад. – Кроули намекал на известное стихотворение Гёте. – Действительно, ирония судьбы…
– Скорее – результат самоуверенности и высокомерия. Мы не раз намекали Либенфельсу, что готовы помочь, если он поделится с нами кое-какими секретами. Мы даже оказали помощь его посланцу в Иерусалиме, когда он охотился за известным вам манускриптом. Но, к сожалению, немец предпочёл действовать в одиночку…
– …за что, в итоге, и поплатился. – кивнул оккультист. – Остаётся только сетовать, что плоды его трудов пропали. Или… – он пристально посмотрел на собеседника, – не совсем пропали?
– Книга, как и варианты перевода, сделанные доктором Либенфельсом, действительно достались похитителям. – согласился Джоунс. – Между прочим, свидетели случившегося уверяют, что это были трое русских, два юноши и девушка. С ними, правда, был, ещё один человек, итальянец – но он, думаю, в этой истории на третьих ролях. Боевик, не более того.
– Свидетели? У вас есть кто-то из помощников Либенфельса? – оживился Кроули. Сообщение о возрасте и национальности «похитителей» он проигнорировал.
– Да, трое. Тоже, кстати, подростки, из числа его воспитанников.
– Те, кого он готовил для… – оккультист замолк на полуслове.
– Вот именно. Либенфельс называл их «фамилары», по аналогии с духами-оборотнями, которые сопровождали ведьм и колдунов. Не слишком точно, ведь им предстояло не сопровождать того, кому они предназначены, а передать ему свою силу.
– Вместе с жизнью, как я понимаю. Либенфельс готовил обряд кровавой жертвы…
– … и провёл бы его, не вмешайся похитители. Собственно, зомби ему были ни к чему – он решился на этот шаг, чтобы остановить тех, кто вторгся в его замок, но чего-то не рассчитал.
– Возможно, допустил ошибку в переводе гримуара? – предположил Кроули. – Искусство создания зомби опасно даже для таких опытных адептов вуду, как упоминавшийся вами Жан- Майне и другие, столь же сильные гаитянские хунганы. А тут – дилетант, без должной подготовки, без соответствующего ритуала… неудивительно, что его создания вцепились ему в горло!
– Потому мы к вам и обратились, Алистер. У нас специалистов по зомби и прочим вудуистским фокусам нет, а вы, насколько я знаю, в теме.
Вместо ответа Кроули кивнул.
– Значит, вы вывезли троих фамиларов. А что с остальными, где они?
– Некоторые разбежались, их найти не удалось. Ещё двое наотрез отказались иметь с нами дело. Мы не стали настаивать, ограничившись допросом – в таком деле важно добровольное согласие. Так что, да, только трое. Один из них – доверенный помощник Либенфельса и по слухам… не просто помощник.
– Старина Ланс был гомосексуалистом? – ухмыльнулся Кроули.
– а я, признаться, не заметил, когда встречался с ним.
Собеседник ответил двусмысленной улыбкой – видимо, он был в курсе не вполне традиционных интимных вкусов самого оккультиста.
– Есть основания так полагать.
– Что ж, меня это не удивляет. Впрочем, к интересующему нас предмету это никак не относится. Вы, кажется, упомянули, что похитителями были молодые люди из России?
– Так и есть, Алистер, и это не может нас не тревожить. Говоря «нас» я имею в виду обе… хм… организации, которые я имею честь представлять.
Кроули удивлённо вздёрнул бровь.
– С каких пор военно-морская разведка Его Величества интересуется вопросами чёрной магии?
– С тех самых, как в Советской России активно развивают свой оккультный проект. Занимаются этим политическая разведка большевиков, и наши аналитики считают, что следующая их цель… вот!
Он отодвинул кружку с грогом и расстелил на столике карту. Кроули склонился над ней, пытаясь разобрать в свете камина незнакомые названия.
– Ясно… я так и думал. – он выпрямился. – В двадцать четвёртом году, в Париже, я был в гостях у одного выходца из России. Его зовут Георгий Гурджиев – мистик, то ли грек, то ли армянин по происхождению, он основал в Фонтенбло под Парижем «Институт гармонического развития человека». Кажется, я ему не слишком понравился, но, тем не менее, он удостоил меня личной встречи.
Кроули поморщился – похоже, это воспоминание не доставило ему удовольствия.
– Так вот, в беседе со мной Гурджиев упомянул о некоем своём знакомом, поклоннике теософской теории мадам Блаватской. Этот джентльмен – к сожалению, я не запомнил его имени, у русских они подчас совершенно непроизносимые – годом раньше побывал с русской научной экспедицией на Кольском полуострове. Есть там одно место, крайне интересное… Так вот, представьте себе: он уверял, что до него там работали какие-то англичане!
Оккультист сделал паузу.
– Признайтесь, ваши… организации, которые вы представляете, имели к этому отношение?
Собеседник Кроули шутливо развёл руками.
– Решительно, от вас ничего не скроешь, Алистер! Да, имели, причём и та, и другая. Дело – в восемнадцатом году, ещё во время их революции. Я в этом не участвовал, но знаю, что тогда пришлось срочно сворачиваться и уносить ноги. Но, насколько мне известно, кое-какие наработки остались.
Оккультист ещё раз посмотрел на карту, где красным карандашом был обведен контур озера.
– Что ж, значит пришло время стряхнуть с них пыль.
II
– Слушай, а почему нас привезли сюда? Я-то думал, доставят в Москву, посадят в какой-нибудь кабинет, расспрашивать станут…
Марк повторял этот вопрос в пятый раз – с момента нашего прибытия в коммуну имени Ягоды меньше суток назад. А до того ещё, как минимум, трижды, по дороге из харьковского аэропорта.
Ответ, впрочем, тоже был выучен назубок.
– А я знаю? Сам думал, что закроют на конспиративной квартире, заставят бумажки писать, отчитываться за каждый чих. Но нет – только забрали то, что мы привезли с собой, и сразу посадили в самолёт.
– Зато здесь посадили на карантин в «особом корпусе». вздохнул Марк. – Никого, кроме врача, не допускают, с ребятами поздороваться не позволили, еду носят из столовой в судках…
– А бумажки ещё заставят писать, вот увидишь! Потом ещё сверять показания начнут, чтобы на вранье нас поймать. – посулил я, но Марк пропустил зловещее пророчество мимо ушей.
– Татьяну третий день в медчасти держат. – вздохнул он. Доктор Василий Игнатьевич говорил: сегодня в Харьков повезли, в горбольницу, рентген делать. Что-то у неё в плече воспалилось, предупреждал же тот немец…
– А ты чего хотел? – я пожал плечами. – Через половину Европы ехали, потом ещё морское путешествие, да десять без малого часов в воздухе – и это всё, заметь в декабре! Тут и у здорового человека воспалится всё на свете, а её рана ещё толком даже не зажила…
Доставивший нас военно-транспортный «Юнкерс», вылетел из Ленинграда меньше чем через сутки после того, как мы сошли с борта парохода, выполнявшего рейс Гамбург-Ленинград с грузом сельскохозяйственных машин и станков на борту. Как мы попали на эту посудину – достойно отдельного рассказа в лучших традициях авантюрного жанра. Марио, с которым мы расстались на берегу Боденского озера, оказался прав: царящий в Германии бардак, логическое следствие одиннадцати лет существования Веймарской республики, позволил бы проделать и не такое. Вот, к примеру: разве можно было представить, чтобы в Германии (неважно, при Гитлере, Аденауэре, или фрау Меркель) хирург, работающий в государственной клинике, согласился бы в частном порядке прооперировать пациента с подозрительным ранением, да ещё так, чтобы операция эта не оставила следов в регистратуре и свидетелей из медперсонала? Конечно, арбалетная стрела – не пуля из «рейхсревольвера» (эти антикварные стволы состояли в немецкой глубинке на вооружении полиции) но вот так, с ходу проглотить шитое белыми нитками объяснение насчёт браконьерского самострела в горном лесу? Да любой добропорядочный немец обязан сообщить о столь вопиющем происшествии властям – хотя бы для того, чтобы отыскать другие ловушки, опасные для людей и, несомненно, нарушающих все мыслимые законы.
Операция заняла меньше часа. Хирург извлёк стрелу, очистил, обработал рану и заявил, что пациентке придётся провести в постели минимум, неделю. Нет-нет, господа, кость не задета, организм молодой, сильный, справится. Но стоит застудить простреленное плечо, что более чем вероятно сейчас, в декабре – и тогда не избежать воспаления. Вы ведь не хотите, чтобы очаровательная фройляйн лишилась руки? А раз так – вот вам адресок, хозяйка привыкла не задавать лишних вопросов, соседи тоже не любопытны, а в кабачке на той же улице можно взять на вынос превосходный айсбайн в пиве и сосиски с тушёной капустой. Что? Пиво? Не противопоказано, наоборот, даже рекомендовано, и лучше не пиво, а красное вино – фройляйн потеряла много крови, ей надо восстанавливаться. Да, я буду заходить, осматривать её каждый день, а вы пока ступайте в аптеку, вот список лекарств. Недёшево, конечно – но господа, как я понимаю, не испытывают недостатка в средствах?
В результате мы проторчали в Фридрихсхафене неделю с лишним. За это время и сам городок, и окружающие горные пейзажи, и Боденское озеро, (там до сих пор показывают приткнувшиеся к берегу остов плавучего эллинга, служившего убежищем для первых творений графа Цеппелина, и разрушенного зимней бурей в 1907-м году) надоели нам хуже горькой редьки. И как только после очередного осмотра врач заявил, что состояние пациентки более не вызывает у него опасений, мы арендовали за несуразно высокую плату автомобиль, на котором и проделали весь путь от Фридрихсхафена, через Нюрнберг, Ганновер, до портового Гамбург.
Дальше было гораздо проще: улучив момент, я послал по известному мне адресу телеграмму. В ней содержалась одна- единственная совершенно невинная фраза, прочтя которую, специально обученные люди сделали правильные выводы и предприняли необходимые шаги. В результате всего через три дня мы наслаждались морским путешествием на борту советского грузового парохода. Финский залив пару недель назад схватился тонким льдом, но ледоколы исправно расчищали фарватер Морского Канала – и в город трёх революций мы прибыли с отставанием от графика всего на сутки. Ну а дальше: беседа на пирсе с встречающими нас товарищами в штатском, краткий визит в городское управление ОГПУ («знаменитый «Большой дом» на Литейном ещё строился), где мы под опись сдали чекисту с одним ромбом на петлицах нашу «добычу». И вот уже новенький «Форд» везёт нас на военный аэродром, где уже прогревает движки наш с Марком старый знакомый, военно-транспортный ЮГ-1. А дальше – девять выматывающих часов с промежуточной посадкой в Смоленске – и здравствуй, город Харьков, столица Советской Украины! Давненько мы тебя не видели, месяца два с половиной, пожалуй…
Клац!
Затвор соскочил с задержки и с лязгом встал на своё место. Я загнал в рукоять магазин и щёлкнул предохранителем.
– Как ты его ухитрился пронести? – осведомился Марк, наблюдавший за моими манипуляциями. – Мы-то с Таней от своих «люгеров» ещё на озере, избавились. По твоему, между прочим, настоянию!
– Как-как… каком кверху!
Я протёр воронёный металл рукавом и засунул «Браунинг» за ремень, под юнгштурмовку. Непривычно было снова ощущать себя в коммунарской одежде – времени прошло всего ничего, а вот, поди ж ты, отвык…
– Я теперь с ним ни за что не расстанусь, он у меня вроде талисмана. К тому же – какая-никакая, а историческая реликвия.
– Ну, так и сдал бы в музей. – буркнул Марк. – А то придумал: таскать с собой! Чай не в Палестине…
Тут он был прав: раньше я не носил при себе оружие на территории коммуны – безвременно почившая в доме покойного ребе Бен-Циона финка, разумеется, не в счёт. Но куда, спрашивается, спрятать «Браунинг» здесь, в изоляторе «особого корпуса», где нас держат уже неделю без малого, и который в любой момент могут обшарить в нашем присутствии? До сих пор такого, правда, не случалось – но зарекаться я бы поостерегся.
С провозом же «исторической реликвии» проблем не возникло. За всё это время нас ни разу не обыскивали – ни при посадке на пароход (если можно так назвать подъём по сброшенному с борта верёвочному штормтрапу – ночью, тишком, украдкой, чтобы не попасться никому на глаза), ни в ленинградском ГПУ, где ограничились требованием сдать «что вы там привезли, товарищи». Не было досмотра и на аэродроме – здесь, по-моему, до этой процедуры ещё не успели додуматься – ни, тем более, по прибытии в коммуну. Нас просто развели по спальням (мне и Марку досталась одна на двоих) где на табуретках была сложена аккуратными стопочками выстиранная и отглаженная одежда – спортивные шаровары, зимняя суконная юнгштурмовка и всё прочее, полагающееся коммунару имущество. Наше собственное, то, что мы оставили здесь, когда уезжали в ноябре в Москву, готовиться к заграничному вояжу – я определил это по собственноручно нашитым ярлычкам со своей фамилией, надписанной химическим карандашом.
Так что перепрятать «Браунинг» было несложно – только вот таскать его, и правда, приходилось всё время при себе, что создавало некоторые неудобства. Впрочем, это относилось только к тем нечастым моментам, когда мы покидали «изолятор» для прогулок на свежем воздухе – тут же, на территории, примыкающей к особому корпусу, под присмотром неразговорчивого товарища в штатском. Раз или два я выбирался на спортплощадку, размять затёкшие после долгого сидения на одном месте мышцы. Марк с удовольствием составил мне компанию, и мы часа полтора кряду упражнялись на турнике, лупили боксёрские груши, а потом и друг за друга.
На третий день я попросил позволения навестить Татьяну. К моему удивлению, разрешение было получено, и с тех пор мы ещё дважды бывали у неё в медчасти – болтали о разных пустяках, вспоминали эпизоды недавних приключений, осторожно высказывали предположения о будущем.
Один раз я посетовал, что мы не успели в коммуну к празднованию Нового Года – то-то, наверное, закатили здесь веселье! И с удивлением узнал, что официально этот праздник в СССР находится… если не под запретом, то в опале. Оказывается, после революции Новый Год праздновали целых десять лет подряд, в ходу даже был диковатый термин «красная ёлка». Но потом в газетах стали появляться статейки, гневно осуждающие попытки привить детям религиозность под видом празднования Нового Года, и другие, где утверждалось, что «эксплуататорские классы пользуются «милой» елочкой и «добрым» Дедом Морозом чтобы сделать из трудящихся послушных и терпеливых слуг капитала». Результат нетрудно предсказать: любимый всеми праздник постарались поскорее предать забвению, во всяком случае, на официальном уровне. К каковому, безусловно, относится любое культмассовое мероприятие в детской трудовой коммуне имени товарища Ягоды.
Но большую часть времени, часов по десять в сутки, мы проводили за заполнением толстых клеенчатых тетрадей. Их вместе с прочими письменными принадлежностями выдали нам на второй день с предложением подробнейшим образом описать все наши похождения за эти два месяца. За первые же два дня я исписал половину страниц – пальцы к вечеру буквально одеревенели.
Как-то само собой получилось, что мы не обсуждали написанное и уж тем более, не показывали друг другу готовые куски текста. Не знаю, как Марк, а я пользовался этой возможностью, чтобы избавиться от накопленного нервного напряжения, излив его на бумагу. И ведь сработало – во всяком случае, изрешеченные пулями люди в белых балахонах и безголовые зомби в чёрной, расшитой серебряными свастиками униформе перестали с завидной регулярностью являться мне по ночам…
Закончился «карантин» на восьмой день, и совсем не так, как это виделось нам с Марком. Мы-то ожидали, что наши рукописи изучат, а изучив, возьмутся непосредственно за авторов. За личными, так сказать, впечатлениями, которые, как известно, не почерпнёшь не из одного отчёта. Я даже догадывался, с кем состоится первая беседа – с Барченко или Гоппиусом, а то и с обоими сразу. О том, что нас повезут в Москву на встречу с самим Бокием, в отделе которого и трудились эти два адепта «красной магии», я не помышлял – не того всё же полёта мы птицы, чтобы удостоиться внимания одного из высших функционеров главной советской спецслужбы.
Так вот, как оказалось – ничего подобного! После девятого по счёту завтрака (сладкий чай, булочка с маслом и глазунья из двух яиц) нас вызвали в кабинет «кума» – там мы с первых дней пребывания в «особом корпусе» прозвали сотрудника, ведающего внутренним распорядком. Нам предложили сесть, после чего каждому был выдан листок с текстом – для прочтения, ознакомления и подписи. Это оказалась форма обычная подписки о неразглашении, разве что, некоторые формулировки намекали на то, что в случае нарушения обычной уголовкой не отделаться. Мы подписали – а куда деться? Попала собака в колесо – пищи, а беги! После чего, собрали свои невеликие пожитки, и в сопровождении ассистента Гоппиуса двинулись прочь.
Небольшая деталь: проходя мимо железных ворот в стене, отгораживающей территорию «особого корпуса», мы заметили торчащую в сугробе ёлку – наполовину осыпавшуюся, с обрывками бумажных гирлянд и конфетных фантиков, сиротливо висящих на ниточках. Похоже, всеобщий запрет на празднование мещанского, мелкобуржуазного и дурманно-религиозного Нового Года на ведомство доктора Гоппиуса не распространялся.
Снега этой зимой навалило много, и для коммунаров, которым требовалось отработать наряды, хватало работы – расчищать дорожки и площадки перед зданиями коммуны. Вот и сейчас мы миновали не меньше троих «провинившихся», размахивавших фанерными лопатами. По старательно очищенным от снега ступеням мы поднялись на крыльцо, обмахнули стоявшим тут же веником из ивовых прутьев от снега обувь (знаем мы этих «дэчеэска», не посмотрят, что люди прибыли после долгой отлучки, обязательно прикопаются) распрощались с провожатым, и вступили под гостеприимные своды главного корпуса коммуны имени товарища Ягоды.
Здесь всё было так же, как и когда мы уезжали – и знамя в узком, крашеном ярко-зелёной краской ящике, и дневальный с винтовкой, одетый по случаю зимних холодов в вязаную безрукавку поверх юнгштурмовки, и аппетитные запахи из двери в столовую.
– Гринберг, Давыдов, это вы? Вернулись, значит?
По широкой, лестнице, ведущей на второй этаж, навстречу нам сбегал коммунар Семенченко, из нашего отряда. Ого, да у него на рукаве – повязка дежурного командира?
– Привет Лёвка! Что это ты в дежкомах? А Олейник где?
– Руку сломал на катке, неделю назад. – с готовностью ответил Семенченко. – И неудачно так вышло: перелом оказался открытый, да ещё какой-то там особенно сложный. Его в Харьков увезли, на операцию, а я вот пока замещаю. Да вы потом всё узнаете, а сейчас – пошли! Койки ваши свободны, тумбочки никто не трогал, так и стоят запертые, как вы их оставили. Разложите вещички, в порядок себя приведёте, а там и обед…
И, не слушая нас, рванул вверх по лестнице. Мы с Марком, чуть помедлив, отправились за ним. Я поднимался по засланным ковровой дорожкой ступеням, и всем своим существом впитывал забытое чувство дома, куда судьба позволила мне вернуться.
…На этот раз – повезло…
III
Белая пустота затопила его сознание, стоило только вынырнуть из чёрного провала, которым знаменуется начало любого флэшбэка. Контраст оказался настолько силён, что Яша не сразу сообразил, что белизна вокруг – вовсе не зрительные галлюцинации. Белый потолок над головой; белые стены, белая простыня, прикрывающая лежащее на койке тело. И только широкие кожаные ремни, притягивающие его к ложу – один поперёк груди, другой ниже, в области поясницы – жёлтые, из толстенной сыромятной кожи. Однажды ему приходилось видеть человека, «спелёнатого» таким вот способом – в психиатрической клинике доктора Фрейда, где он побывал на импровизированной экскурсии. Самого создателя теории психоанализа увидеть не удалось (сам Зигмунд Фрейд уже несколько лет страдал от рака нёба и челюсти, и не появлялся на людях) но не побывать в стенах, где заново писались постулаты психиатрии и психологии, раз уж представился такой случай, Яша, конечно, не мог. Впечатление, вынесенное им оттуда, было столь же поучительным, сколь и тягостным – и кто же мог тогда знать, что однажды он сам окажется в доме скорби, притянутый ремнями к койке, в палате для буйных?
…не он сам, если быть точным, а его тело. Отчего-то Яша совершено точно знал, что флэшбэк, пусть ненадолго, но вернул его назад, в конец первой трети двадцатого века. И теперь приходится делить его – опять же, в течение весьма краткого промежутка времени, – с сознанием Алёши Давыдова, ставшего безропотной жертвой в этих загадочных играх с обменами разумов. Но, видимо, угнетённое состояние психики несчастного подростка каким-то образом повлияло и на собственное Яшино сознание – потому что он обнаружил, что пытается говорить. И не просто говорить – он бессвязно, обрывками, перескакивая с одной темы на другую, вываливал на слушателей сведения о своём пребывании в будущем, о том, что успел узнать здесь, что сумел понять за эти несколько долгих месяцев.
…слушатели? Кто, откуда?.. Яша не смог бы точно сказать, были они вообще или нет – размытые тени, может и не люди вовсе, а видения, призраки, порождённые взбудораженным сознанием, неясно, его собственного, или Алёши Давыдова. И оставалось надеяться, что и слова, против его воли срывавшиеся с губ, были столь же неясны, размыты, обрывисты – потому что контролировать это словоизлияние он никак не мог. Пытался, старался, пробовал даже заставить себя прикусить язык, и добился лишь того, что провалился в чёрную, пронизанную россыпями цветных огоньков, муть, знаменующую обычно завершение флэшбэка.
Тинг-танг…
Тинг-танг…
Тинг-танг…
Яша рывком поднялся и сел на постели. На часах – три ночи. Ставшая привычной спальня в квартире Симагина, в окнах, выходящих на Ленинский проспект, плещутся полотнища света – автомобили, рекламные огни, жизнь в столице не замирает даже глубокой ночью. В голове звенящая пустота; тем не менее, всё, что он испытал во время этого флэшбэка, отпечаталось в памяти ясно, до последней детали, до последней мелкой мелочи.
..вот только – были слушатели у его скорбного ложа, или нет? Если были, если они ему не померещились – тогда дело дрянь. Подобные утечки сведений из будущего не доведут до добра, разве что сотрудники психбольницы сочтут его слова за бред, образы, почерпнутые на донышке расстроенного разума, и попросту от них отмахнутся? В этом заведении, надо полагать, ещё и не такое слышали…
А если нет? Если найдётся чудак – или человек, внимательный, способный нестандартно мыслить – который воспримет всё сказанное всерьёз? Конечно, здесь, в двадцать первом веке, это ничем ему не грозит, но… всё равно, тревожно. И если странный флэшбэк повторится, надо будет приложить все усилия, чтобы не допустить нового потока сознания.
Тинг-танг…
Кабинетная «мозеровская» шайба мягко, бархатно отбила половину четвёртого ночи, и Яша ощутил, как кикимора, с некоторых пор переселившаяся с дачи под порог московской квартиры, присосалась к сердцу – не очень-то и больно, но тоскливо и как-то безнадёжно. Он нашарил на тумбочке возле постели пузырёк нитроглицерина и сунул под язык два шарика. Потом подумал, и добавил ещё два.
…Нет уж, хватит с него видений – спать, спать…
Нач. Секретного отд. ОГПУ СССР
тов. Агранову. Я. С.
Срочно. Лично.
Выдержки из оперативного донесения секретного сотрудника (вымарано).
В дополнение к (вымарано).
«Согласно полученной инструкции я, пребывая в должности санитара в психиатрической клинике первого МГУ, ежедневно с 11.00 по 20.00 находился на медицинском посту, где имел постоянный доступ к пациенту (вымарано) оперативный псевдоним «Беглец». Действуя в соответствии с имевшимися у меня указаниями, я осуществлял непрерывное, насколько предоставлялась такая возможность, наблюдение за «Беглецом», о результатах какового и сообщаю в настоящем донесении:
1. До 11.01.1930 г. поведение и состояние «Беглеца» оставалось стабильным (см. оперативное донесение от 17.12.1929 г.) В беседы поднадзорный ни с кем не вступал, говорил сам с собой, причём слова его были неразборчивы и бессвязны, что не позволяло уловить смысл сказанного. Большую часть времени «Беглец» находился в возбуждённом состоянии, не оставляя попыток освободиться, из-за чего был на постоянной основе зафиксирован на койке. Поскольку проведение гигиенических процедур с «Беглецом» входило в мои ежедневные обязанности, я воспользовался этим, чтобы задать ему указанные в инструкции вопросы. Ответы на большинство каковых были даны так же бессвязные и неразборчивые. На вопрос «кто ты и что о себе помнишь?» «Беглец», как неоднократно делал и раньше, представился Алексеем Давыдовым, учащимся школы из г. Чита. На дальнейшие вопросы отвечать отказался.
2. 12.01.1930 г. в 14.23. с «Беглецом» случился сильнейший припадок, симптомами схожий с эпилептическим. Медсестра Т.А. Кононенко, находившаяся в этот момент в палате, убежала за дежурным врачом (зав. отделением тов. Шапиро в клинике отсутствовал по случаю воскресного дня). Я же в ожидании появления дежурного врача, стал оказывать «Беглецу» предписанную в таких случаях помощь, а именно: дополнительно зафиксировал его на койке и попытался поместить между зубами скрученное в жгут полотенце. Однако в этот момент судороги у «Беглеца» внезапно прекратились, и он начал говорить. Речь его была чрезвычайно быстрой, в связи с чем я сумел разобрать только отдельные фразы, каковые, согласно полученной ранее инструкции, в данном донесении не привожу (см. приложение 1). «Беглец» говорил около двух с половиной минут, причём последние полминуты при этом присутствовали медсестра Т.А. Кононенко и дежурный врач С.И. Шмеерзон, явившийся в палату «Беглеца» по её вызову. По указанию вышеозначенного Шмеерзона «Беглецу» был поставлен укол препарата «фенобарбитал» (сведениями о назначенной дозировке я не располагаю), после чего «Беглец» почти сразу погрузился в глубокий сон.
3. В 15.56 в отделение явились трое мужчин в штатском, представившихся сотрудниками ОГПУ СССР. Предъявив служебные удостоверения и сославшись на личное указание нач. Секретного отдела тов. Бокия Г.И., они забрали «Беглеца», изъяв так же его историю болезни и прочие документы и личные вещи, с которыми «Беглец» поступил в клинику. Сам «Беглец» при этом находился в состоянии сна и на попытки разбудить, а так же прочие действия, совершаемые с ним, не реагировал. В результате чего сотрудникам, для того, чтобы его вынести, пришлось воспользоваться носилками, взятыми в ординаторской отделения.
4. На требование дежурного доктора С.И. Шмеерзона поставить сперва в известность заведующего клиникой профессора П.Б. Ганнушкина, сотрудники ответили отказом в резкой форме, сопроводив его обещанием тяжких последствий, буде упомянутый Шмеерзон попробует предупредить профессора после их отбытия. Особо следует упомянуть, что медсестра Т.А. Кононенко, присутствовавшая при инциденте, никакого участия в нём не приняла, и за всё время, пока дежурный врач Шмеерзон спорил с сотрудниками, не сказала ни слова.
5. Сам я не имел возможности сообщить об инциденте по телефону, поскольку дежурный врач С.И. Шмеерзон посадил возле единственного имеющегося в отделении телефона медсестру Т.А. Кононенко, запретив ей подпускать кого-нибудь к аппарату. До другого же аппарата я добраться не мог, поскольку дежурный врач С.И. Шмеерзон запер на замок решётку, перегораживающую выход из отделения; ключ же от замка имелся только у него.
6. По поводу сотрудников Секретного отдела ОГПУ СССР, производивших изъятие «Беглеца», имею сообщить следующее…»
– Зима-то в этом году какая!.. – мужчина, стоящий возле окна, вздохнул. – Впору пожалеть, что отменили празднование Нового Года!
Для подобного восхищения имелись все поводы: снег на улице валил густой, по-настоящему январский. Электрический фонарь на чугунном столбе красиво подсвечивал его пелену, укрытые белыми подушками ветви лип на бульваре, засыпанные по самые спинки скамейки…
– Религиозный дурман, Меир. – с усмешкой ответил второй, сидящий возле стола. Он откупорил бутылку коньяка с надписью «Арарат» на этикетке, сделанной по-русски и по-армянски. – Сплошной религиозный дурман и злонамеренное отвлечение трудящейся молодёжи от идеалов мировой революции. Хотя, Ильич, помнится, одобрял, и даже сам устраивал ёлки для детей кремлёвских служащих…
– Времена меняются. – Трилиссер ещё с минуту полюбовался крупными хлопьями снега, которые третьи сутки без перерыва валились на Москву из низких серых туч, и отошёл от окна. – И нам следует заранее подготовиться к этим переменам. Вот скажи: ты, Мессинг, Лацис, даже Ягода – неужели вы так уж ждёте прихода Кобы?
– Ты ещё скажи Агранов с Петерсом. – невесело усмехнулся Бокий.
– Я слышал, Петерс сейчас руководит чисткой в Академии Наук?
– Да, с тех пор, как в октябре его вывели из членов Коллегии, он никак не может успокоиться, всё ищет врагов. Арестовал – ты только подумай! – академика Платонова вместе с дочерью. Шьёт создание какого-то там «Всенародного союза борьбы за возрождение свободной России», а ему без малого семь десятков!
– Не Петерс, так кто-нибудь другой, не сейчас так через год. – Трилиссер пожал плечами. – Надо было Платонову уезжать ещё в двадцать втором, вместе с Ильиным, Бердяевым и прочими нашими историками-философами[1]. Ясно ведь было, как день, что не уживётся эта публика с соввластью ни за какие коврижки!
Бокий сел к столу и опрокинул рюмку коньяку. Трилиссер поморщился – драгоценный напиток, доставлявшийся в кремлёвский буфет фельдкурьерами прямиком из Армении, его собеседник хлестал, как банальный самогон. Окажись на столе селёдка с варёной картошкой – он, пожалуй, ими бы и закусил. Вот уж действительно, никакого чувства стиля у человека…
– Ладно, то дело прошлое. – За неимением селёдки Бокий выбрал кружок лимона, сжевал, скривился и торопливо плеснул себе ещё коньяка. – А сейчас, вот, полюбопытствуй…
Он потянулся к портфелю. На стол легли листки бумаги – в углу верхнего бледно лиловели штампы «ОГПУ СССР» и «совершенно секретно». Трилиссер подтянул листки к себе, просмотрел.
– Вон оно как… – он поцокал языком, что – Бокий давно это выучил – означало немалую степень озадаченности. – Значит, к Яше возвращается память? И кто же тебя предупредил, что твои люди так вовремя оказались на месте? Если не секрет, конечно.
– Какие от тебя секреты? С тех пор, как его поместили в клинику к Ганнушкину, Барченко не переставал проявлять к Яше интерес. Спрашивал чуть ли не каждый день, сам порывался звонить, заезжать. Пришлось, чтобы его успокоить, приставить к Яше мою сотрудницу под видом медсестры. Она-то и позвонила моему человеку, как только у него началось… то, что началось.
– С Ганнушкиным беседовали? Как он это объясняет?
– Вообще-то он не очень склонен разговаривать – крепко разозлён, что пациента изъяли без его ведома. А так… ну, какие могут быть объяснения? Острая шизофрения, сумеречное состояние. Сам-то он, слава богу, не слышал, что Яша успел наговорить…
– А Барченко?
– Барченко… – Бокий издал короткий смешок. – Насколько я смог понять, они с Гоппиусом носится с теорией, что между его разумом Яши и агрегатом из московской лаборатории до сих пор сохраняется какая-то связь.
– Так Гоппиус его, вроде, выключил после того случая?
– Кто их поймёт, этих учёных? – Бокий собрал листки и убрал обратно в портфель. – Видимо, снова включил и продолжает исследования. Барченко, видишь ли, полагает, что эта штука может воздействовать на помрачённое сознание Блюмкина даже на расстоянии. Собственно, он говорит, что расстояние вообще не имеет значения.
Трилиссер задумался.
– Воздействие, значит… и где Яша теперь?
– Его поместили в нашу спецклинику. Контактирует только с наблюдающим врачом и Барченко. Ещё там двое охранников, но они с пациентом не разговаривают, даже не заходят в палату, наблюдают через стеклянную дверь.
– Вполне разумно. – Трилиссер сделал маленький глоток коньяка. Покатал на дне рюмке остатки янтарной жидкости, глотнул ещё. – Сам-то что об этом думаешь?
– Пока воздерживаюсь от выводов. Жду, когда Барченко дозреет и скажет что-нибудь вменяемое. С ним это в последнее время иногда случается.
Трилиссер усмехнулся.
– Что ж, подождём. И вот ещё что, Глеб… – он посмотрел собеседнику прямо в глаза. – Ты мне так и не ответил насчёт Кобы. Думаешь отсидеться в сторонке?
– Нет, Меир. Ни в коем случае. – Бокий для убедительности рубанул воздух ребром ладони. – Может, раньше и были такие мысли, но теперь точно нет. Это пусть Агранов тешится иллюзиями, что сможет с ним поладить, да ещё, пожалуй, Менжинский – всё равно ему недолго осталось, плох…
Он торопливо, почти бегом, прошёлся туда-сюда по комнате. Трилиссер наблюдал, вертя в пальцах пустую рюмку.
– В бумагах, которые ты видел, далеко не всё из того, что Яша наговорил в бреду – или что у него там, не бред? Короче, слушай…
IV
«Дом, милый дом!» – так и хотелось крикнуть во весь голос, не сдерживая эмоций. Вроде, и не было нас всего ничего, два с половиной месяца – а вот, поди ж ты, будто вернулись после долгого отсутствия, когда и сами не чаяли увидеть родных стен, а те, кого мы в них оставили, уже и думать о нас забыли. Ан нет – вот он я, такой красивый, поспешаю с пачкой тетрадок и учебников под мышкой в направлении светлого коммунистического завтра. Принявшего в моём случае облик классных комнат коммунарской школы.
Вообще-то в СССР 193-го года от Рождества Христова (ах, простите, нашей эры, конечно!) повсеместно практикуется раздельное обучение – мальчики и девочки занимаются в разных классах, а в городах, так и в разных зданиях. Это пошло ещё с царских времён – отдельные эксперименты новой пролетарской педагогики не в счёт. А вот в макаренковской колонии имени Горького, как, впоследствии, и в коммуне Дзержинского, и в других, созданных «по образу и подобию» заведениях, к которым относится и детская трудовая коммуна имени товарища Ягоды, ничего такого в заводе не было. Поначалу не хватало учителей, готовых работать с бывшими беспризорными и воришками, потом… а потом сложились крепкие традиции, поломать которые не могли даже грозные распоряжения Наробраза – хотя попытки, надо отдать им должное, предпринимаются чиновниками от педагогики с похвальной регулярностью.
Сегодняшний учебный день начинается с урока, который ведёт Эсфирь Соломоновна, появившаяся в коммуне только этой осенью. Новой учительнице двадцать два года, она только что закончила Харьковский пединститут и собиралась преподавать русский язык и литературу – как здесь говорят, «словесность». Но острый дефицит педагогических кадров заставил Эсфирь Соломоновну расширить горизонты профессиональной специализации, взяв на себя ещё и обучение истории.
Именно это нам сейчас и предстоит – глубокое погружение в средневековую историю, а если точнее, в тёмные и кровавые времена Столетней Войны.
На прошлом уроке Эсфирь Соломоновна старательно пересказывала хронологию событий. Я не особенно вслушивался – было очевидно, что её знания предмета исчерпываются половиной страницы учебника по истории средних веков старого, ещё дореволюционного, издания. Не самый худший вариант, между прочим – если память меня не подводит, в советском учебнике «История средних веков», по которому мне пришлось учиться в прежней жизни, из всех грандиозных сражений той войны упоминалась одна только битва при Пуатье, а большая часть учебного времени посвящалась Жакерии и Жанне д'Арк.
– О чём размечтались, молодой человек?
Я вздрогнул от неожиданности.
– Александр Давидо̀вич, я не ошибаюсь?
– Ошибаетесь, Эсфирь Соломоновна. Давыдов я. Алексей. Давидо̀вич – он в третьем отряде, а я в пятом.
Она слегка покраснела. На уроках истории я присутствовал только во второй раз, и неудивительно, что новая «училка» перепутала мою фамилию с фамилией другого коммунара.
– Да, конечно, простите. – она сделала пометку в журнале. – Ступайте к доске… Давыдов!
…Вперед, вперед! К пролому! К пролому!..[2]
– Можете напомнить, на чём мы остановились в предыдущий раз?
– На дне Святого Криспина. – немедленно среагировал я. Прошлый урок педагогиня закончила кратким – чересчур кратким, на мой вкус, – рассказом об Азенкуре.
– Какого ещё святого? – глаза Эсфири Соломоновны, большие, чёрные, как греческие маслины, слегка навыкате, как у многих выходцев из черты оседлости – сделались удивлёнными.
– …ты сам этого хотел, Жорж Данден!..[3]
– Как? Разве вы не читали Шекспира? – пришла моя очередь строить из себя удивлённую невинность. – Это же из «Генриха Пятого», пьеса такая…
- …Кто переживший день тот, цел домой вернётся,
- Дрожать от страха будет, день тот вспоминая.
- Настанет завтра день Святого Криспина, и тот, кто уцелел,
- Засучит рукава, и, обнаживши шрамы, скажет:
- «Вот эти раны я получил в Святой Криспинов день…
– с завыванием продекламировал я. Не то, чтобы мне когда-то приходило в голову учить шекспировские пьезы наизусть («Быть или не быть» не в счёт, разумеется), но этот монолог короля я помнил крепко. В основном, благодаря эпизоду из фильма «Человек эпохи Возрождения» с Дэнни де Вито в главной роли.
Сказать, что Эсфирь Соломоновна была сконфужена – значило бы сильно преуменьшить истинное положение вещей. Несчастная учительница покраснела как рак, до мочек ушей (очень милых, надо отметить, аккуратненьких ушек, украшенных крошечными серебряными серёжками с бирюзовыми капельками) и посмотрела на меня взглядом затравленного оленя. Я сжалился.
– У отца в библиотеке имелось собрание сочинений Шекспира с картинками, и я любил их рассматривать. Как раз возле этого кусочка текста была особенно красивая иллюстрация – рыцари, лучники, король верхом на коне, с мечом… вот я и запомнил.
– Что ж, замечательно. – она помедлила. – А ещё какие-нибудь стихи на эту тему ты знаешь?
…В конце концов – почему бы и нет? Очаровательной Елены свет-Андреевны в коммуне нет и непонятно, появится ли она когда-нибудь. Отношения с Татьяной никак не складываются, оставаясь уже который месяц на стадии взаимных подколок и редких откровений. А Есфирь Соломоновна очень даже миловидна, фигурка выше всяких похвал, и не помешает произвести на неё благоприятное впечатление. Без всякой задней мысли, разумеется, исключительно ради чистого искусства.
– Знаю одно. – сказал я. – Только это не Шекспир, но зато как раз про сражение при Азенкуре. Один малоизвестный поэт, у мамы была маленькая такая книжечка, на серой бумаге. Фамилии, простите, не помню.
– Ничего, Алёша, это не так важно. Ты читай, читай…
…Ага, уже не «Давыдов», а «Алёша»? А глазки-то потупила, и румянец не сходит со щёчек…
Я откашлялся.
- …Доспехи – вдрызг. Шлем сброшен. На смех курам
- Мой вид. И, слава Богу, смерть вблизи.
- На борозде войны под Азенкуром
- Стою, по наколенники в грязи.
- Где пала голубая Орифламма
- В объятья сотни бешеных копыт,
- Где плачет к отступлению навзрыд
- Далекий рог. И щит, врезаясь в щит,
- Кричит, как иудей над пеплом Храма —
- В оси еще живого колеса
- Голов, кирас, блестящих конских крупов
- Стою, светя средь гор железных трупов
- Свечой кровоточащего лица…
Я умолк. В классе повисла мёртвая тишина. Все, включая двух парней с «галёрки», обычно мало интересовавшихся происходящим у доски, смотрели на меня во все глаза.
– А «орифламма» – это что? – спросила Рита Ольховская, девочка из седьмого отряда, сидящая, как и полагается примерным ученицам, на первой парте.
– Французское королевское знамя, штандарт. – среагировал я, прежде чем Эсфирь Соломоновна успела открыть рот. – Только на самом деле она была не голубая, а пурпуровая, с вышитыми золотом языками пламени. При Азенкуре Орифламму захватили в качестве трофея англичане, и это стало одним из самых горьких символов поражения Франции. Но это была не самая страшная их потеря в тот день…
- …Виват тебе, неведомый мой брат,
- Что, налетев всей массой мне на грудь,
- От крови пьяный, в плен решил не брать!
- Виват огню твоих прекрасных рук.
- Руби наотмашь, не дрожи, не целься.
- Мой меч – обломок, жду и не бегу.
- На лютне стали, мальчик из Уэльса,
- Спой реквием последнему врагу!..
Я пробежал глазами по рядам парт. Коммунары, замерев, внимали.
– После битвы англичанам досталось много пленных. За рыцарей тогда было принято брать выкупы, их старались не убивать, а захватывать живыми. Но когда пришло известие, что к разбитым французам вот-вот подойдёт подкрепление – король Генрих приказал перебить пленников, всех, до единого. Известие оказалось ложным, но дело было сделано – несколько сотен дворян лучших французских фамилий пали, как скот под ножом мясника.
- ..Аррасских графов ветреный потомок,
- Я шел, пока хватало сил, бренча
- Железом. И за жизнь, как за обломок
- Холодного кастильского меча
- Держался. Но всему свои пределы
- Искромсан щит, забился в корчах конь…
- Ты слышишь, слышишь, Пресвятая Дева,
- Хранившая французов испокон:
- Когда последний из полка, устав
- От боли, опрокинется на шелк штандарта,
- Сжав
- Подрубленный сустав,
- Крестом себя по пашне распластав —
- Не осуди! Пока он мог – он шел…[4]
Тишина в классе звенела. На передней парте беззвучно вытирала раскрасневшиеся глаза отличница Рита.
– Спасибо, Алёша. – выдохнула опомнившаяся наконец Эсфирь Соломоновна. – Нам все очень понравилось, верно, ребята?
Класс одобрительно загудел – в том смысле что «да, ещё как понравилось!..»
– Через месяц, двадцать третьего февраля, мы отмечаем День Красной Армии. Будет праздничный концерт, может, ты прочтёшь?..
Я решительно помотал головой.
– Нет, Эсфирь Соломоновна, не стоит. Стихи, конечно, замечательные, просто немного… не в тему, что ли? Давайте подготовим что-нибудь другое – Маяковского там, Багрицкого… Или, скажем, Николая Тихонова, «Балладу о синем пакете» – чем плохо? Поверьте, так будет правильнее.
Зазвеневший в этот самый момент звонок избавил меня от продолжения неловкой сцены.
…вот надо было опять выделываться? А с другой стороны – что-то в последнее время скучно стало жить…
После уроков мы всем классом ломанулись в столовую. Несколько раз я ловил на себе удивлённые взгляды – как-никак, шоу я сегодня устроил недурное! – но вскоре перестал обращать на это внимание. «Не вполне обычных» подростков в коммуне хватает и без моей скромной персоны, взять хоть того же Марка – сам способ «отбора кандидатов», запущенный однажды доктором Гоппиусом, этому весьма способствует. Так что, посудачат- посудачат, поперемывают косточки Лёхе Давыдову, которого хлебом не корми, а дай только выпендрится, да и привыкнут. А там и новый повод для удивления подвернётся, здесь за этим дело не станет…
А вот мне, пожалуй, стоит задуматься над своей выходкой. В самом деле: «что-то в последнее время скучно стало жить» – годный аргумент для шестнадцатилетнего сопляка, которым я являюсь сугубо физиологически, а отнюдь не для битого жизнью мужика на пороге пенсии, каковой я и есть на самом деле. Впрочем, и вышеупомянутому сопляку стоило бы задуматься о том, что скука – не лучшая мотивация для поступков, особенно, учитывая его не такой уж и скудный жизненный опыт. В замке покойного Либенфельса скучать, конечно, было некогда, но спроси сейчас любого из нашей троицы: а хотел бы он повторения подобного веселья? То-то, товарищи дорогие, развлечение развлечению рознь. И поиски приключений на собственную пятую точку – занятие не из самых разумных. Они и сами нас найдут, дай только срок.
Тем не менее, именно скука за эти несколько дней стала хоть и небольшой, но проблемой. После обеда большинство коммунаров расходились кто по цехам нашего производства, кто по разным внутренним работам, которых в коммуне всегда навалом. Мы же были от этого избавлены ещё с начала лета – отведённую на трудовое воспитание часть суток без остатка съедали занятия в «особом корпусе», прихватывая ещё и немалую толику свободного времени, наступавшего, как правило, после ужина. Но, вернувшись в коммуну после «загранкомандировки, мы с удивлением обнаружили, что в стройных ещё недавно рядах спецкурсантов царят разброд и… если не уныние, то некоторое недопонимание текущего момента. Оказывается, доктор Гоппиус почти сразу после нашего отъезда в Москву двинулся следом, прихватив с собой большинство помощников и лаборантов. И, ладно бы, просто прихватил – он вдобавок забыл оставить инструкции на предмет учебных занятий, так что наши однокашники по паранормальному цеху в самом буквальном смысле оказались предоставлены сами себе. Комендант «особого корпуса» занимался сугубо хозяйственными вопросами; инструктора, не имея утверждённых начальством учебных планов, старались лишний раз на глаза не показываться. Оставались тир, спортзал, лыжные прогулки – и, разумеется, безотказные земляки и коллеги учителя Лао, никогда не отказывавшиеся провести в медитации со своими подопечными лишние часа три-четыре. Но мы-то трое были лишены и этой жалкой отдушины – выяснилось, что наш «шифу» исчез из коммуны на следующий день после нас, и когда он объявится снова – никто ответить не мог.
Итак, обед съеден и переваривается, что само по себе не настраивает на избиение безответной боксёрской груши, упражнения на брусьях или у шведской стенки. В тир тоже не тянет (настрелялся, благодарю покорно!) как, впрочем, и в библиотеку.
…Может, и правда, разыскать дежкома и попросить приставить к какому ни на есть полезному делу? Дорожки, вон расчищать от снега вместе с «нарядниками», как тут называют коммунаров, отбывающих трудовую повинность за разного рода мелкие нарушения – чем не вариант? Уж всяко лучше, чем шататься по территории коммуны с руками в карманах и чрезвычайно независимым видом, отчаянно стараясь скрыть от всех остальных своё вынужденное тунеядство.
– Олег? Копытин? Ты, что ли?
Идущий впереди коммунар обернулся.
– А, Давыдов? Привет! А я вот ходил в медчасть. Руку, понимаешь, порезал – ерунда, царапина, но бригадир разорался, заставил идти к врачу. Ну, руку мне залили йодом, забинтовали…
И продемонстрировал свежую повязку на запястье левой руки. Я кивнул – мелкие травмы на нашем производстве были делом обычным, нормальная ТБ здесь и не ночевала. Тем более, если дело касается слесарей, нет-нет, да и подрабатывавших мелкими левыми заказами вроде изготовления блёсен, портсигаров… или кое-чего не столь безобидного. Об этом я и вспомнил, сразу, как увидел Копытина – благо, однажды уже пришлось воспользоваться его услугами.
– Ты сейчас назад, в слесарку? Если не против, я с тобой, поговорить нужно.
Копытин пожал плечами – нужно, так иди! Мы миновали просторный ангар сборочного цеха, того самого, где я когда-то приобщался к трудовой жизни коммуны на участке протирки, и прошли дальше, где в торце располагалась слесарная мастерская. Копытин замедлил шаг.
– Ну, чего надо? А то у нас народу много, услышат…
А парень-то всё правильно понимает, усмехнулся я – про себя разумеется.
– У меня такой вопрос: ты как, ножи ещё делаешь?
Цех я покинул, став потенциально беднее на тридцать рублей. Потенциально – потому что нужного мне «изделия» у Копытина не оказалось, да и оказаться не могло. Заказ я изобразил на заляпанном маслом листке бумаги карандашом тут же, на уголке слесарного верстака, старательно пряча листок, когда кто-нибудь из слесарей проходил мимо. Конечно, все знают, чем промышляют слесаря помимо основной работы – но внешние приличия всё же надо соблюдать…
Несуразно высокая цена, в полтора раза больше купленной когда-то у того же Копытина новенькой финки, обуславливалась как срочностью заказа так и его нестандартностью. Увидав плоды моих усилий, слесарь удивлённо присвистнул: «и зачем тебе эта хреновина? Без ручки, без упоров, неудобно, да и некрасиво же!..» И стал предлагать варианты рукояти – наборной, из эбонита, из дерева, с головкой из дефицитной латуни… Я отказался, потребовав, чтобы «изделие» в точности соответствовало изображению. Не объяснять же Копытину, что чертёжик я набросал по памяти, держа в голове нож Стивена Сигала из боевика «В осаде» – он там в роли судового кока Кейси Райбека срывает похищение террористами крылатой ракеты с ядерной боеголовкой с американского линкора. Тот нож был изначально задуман, как метательный – не лишком длинный, толстым, миллиметров в шесть, с плоской рукоятью, сделанной из одной заготовки с хищно выгнутым клинком. Копытину, чтобы избавиться от ненужных расспросов, я заявил, что ещё не решил, какую хочу рукоятку, а когда решу – сваяю сам или обращусь к нему. За отдельную плату, разумеется.
На самом деле, ничего подобного я делать не собирался – мне нужен был именно такой нож, который легко скрыть хоть в рукаве, хоть за голенищем, хоть за крагой, полагающейся к коммунарским башмакам. К тому же его можно использовать в качестве метательного. Отсутствие удобной, ухватистой рукоятки – конечно, неудобство, но это дело привычки, а при необходимости ручку можно обмотать, к примеру, тонким кожаным шнуром или пропитанной клеем бечёвкой. Габариты ножа это не особо увеличит, а в руку ляжет не в пример лучше.
На том мы и расстались. Плату за «заказ» я пообещал передать вечером, в отрядной спальне, заручившись обещанием сделать всё точно в срок. Метательный нож – это хорошо, можно будет поупражняться в роще за стадионом, благо, времени хватает. Если Копытин справится с заказом, сделает всё, как нужно (а с чего бы ему не справиться?) закажу ещё два точно таких же. Три метательных ножа – это уже полный тренировочный комплект, с ним можно приступать к серьёзным занятиям. Когда-то я неплохо метал ножи, причём упражнялся именно с такими вот образцами и теперь имел все основания рассчитывать, что в молодом теле этот навык восстановится достаточно быстро.
V
«…вы сами усугубляете своё деяние, требуя повторения тайн, вами разглашаемых. Что вы скажете по поводу вашего труда о вымирающих расах, где вы даёте ключи к уразумению скрытой истории человечества, о цифровых ключах к апокалипсису и первой книге Моисея, наконец… – голос полковника пропитался искренним ужасом. – Наконец, о тех данных, которые вы открываете профанам о первобытных письменах отжившего человечества?..»
Я откинулся на спинку стула. Мозг срочно требовал хотя бы небольшого роздыха. Три с половиной часа художественных опусов от товарища Барченко – это всё же перебор. Хотя читается сравнительно легко: беллетристика в лучших традициях викторианской эпохи, берущая начало от Жюля Верна и Луи Буссенара…
Я пролистал книжку до конца. Собственно, не книжку вовсе, а февральский номер журнала «Мир приключений» за 1914-й год – в нём, наряду с рассказами Конана Дойля, Честертона и «записками офицера наполеоновской армии» Делоне, публиковались главы из романа Барченко «Из мрака». Номеров, содержащих роман целиком, в библиотеке нашлось четыре, все с лиловыми штампами спецотдела ОГПУ на задней странице обложки, выдаваемые исключительно по списку. Однажды я уже имел случай в него заглянуть – когда мы с Марком преступным образом проникли поздно вечером в библиотеку, чтобы ознакомиться с кое-какими новинками, присланными, как выяснилось, компетентными товарищами, курировавшими от ОГПУ некоторые специфические области деятельности коммуны. Те самые, в которые мы оказались потом втянуты по самое не балуйся…
Почему я решил вернуться к этим книгам? Уж точно не от скуки – чтение литературных упражнений товарища Барченко навевало на меня непреодолимый сон и заставляло горько пожалеть об отсутствии в коридоре кофейного автомата, способного выдать по первому требованию пластиковую чашечку с обжигающий «эспрессо». Ну, или, на худой конец, «капучино».
Мотивы, заставившие меня закопаться в книжные раритеты, были иного свойства: догадываясь, что в самое ближайшее время нам, всем троим, предстоит куда более близкое знакомство с Барченко и его теориями, я решил поискать их «первоистоки» – а где ещё они могут найтись, как не в фантастическом романе, который упомянутый господин сваял на заре своего творческого пути? В те времена вообще было принято облекать разного рода околонаучные теории в форму литературных произведений, так что я имел все основания рассчитывать на успех.
«…То обстоятельство, что символы апокалипсиса, включая таинственное «звериное число», раскрываются этим ключом, – лучшее доказательство того, что ключ этот был известен автору откровения.
Полковник хотел возразить, но спохватился, выжидательно стиснул губы.
– Третье обвинение – письмена первобытного племени. Но разве другие исследователи не обращали внимания на то, что таинственные иероглифы на самой вершине скал Уади Сипайского полуострова, начертанные выше других, уже разобранных, не имеют ничего общего с арамейскими, куфическими письменами. Разве не обнаружено в них начертание символа, которым арийцы изображали огонь? Разве десятки экспедиций не дали нам изображений таких же таинственных знаков, начертанных чьей- то рукой на самых недоступных вершинах голых каменных скал великих Сибирских бассейнов?..»
Что-то это подозрительно напоминало – может, увлечение Барченко темой Гипербореи, а так же страсть к давно забытым древним письменам? Если так, то он явно остался верен прежним своим интересам…
В любом случае, ознакомиться с учёными (или псевдоучёными, это уж как посмотреть) трудами Барченко я возможности не имел. В библиотеке коммуны их не нашлось, и я не имел представления, где ещё их искать. Возможно, какие-то специальные научные журналы, сборники монографий? Как всё- таки хорошо было в оставленном мной двадцать первом веке: забил фамилию автора и тему в поисковую строку – и сиди, жди, пока ГУГЛ сделает за тебя всю работу.
За спиной скрипнула дверь, торопливо застучали по паркетному полу подошвы. Библиотекарша Клава из седьмого девичьего отряда, уткнувшаяся в картотечный ящик за своим столиком, недовольно вскинулась: кто это смеет столь бесцеремонно нарушать тишину, царящую в этом храме знаний?
– Давыдов, ты здесь? Дежком зовёт, там за вами машина пришла!
Это был трубач Тоха, сменивший по случаю зимнего сезона голошейку и трусики на юнгштурмовку и плотные шаровары. Однако свой инструмент он всё так же сжимал под мышкой, и отблески полированного серебра играли в мальчишеских глазах – весёлых и серьёзных одновременно.
– Нас – это кого? – спросил я. – И вообще, кто приехал-то?
– Тебя, Гринберга и Таньку Макарьеву из восьмого отряда. А кто приехал – почём мне знать? Двое, в форме. Один, шофёр ждёт в машине, а второй, по виду главный, сейчас в кабинете у Антоныча. Бумаги какие-то рассматривают.
Он почесал ухо мундштуком трубы.
– Так ты идёшь или нет? А то у меня ещё дел полно…
– Сейчас. – Я встал, положил «Мир приключений» на столик Клавы. – Только с Татьяной-то как же? Она до сих пор в медчасти… – Дежком так и сказал. – кивнул Тёмка. – А он отвечает: велено, чтоб все трое!
– Ну, раз велено – тогда пошли.
И мы вышли, оставив в недоумении Клаву, прислушивавшуюся к нашему разговору.
…то-то сегодня в девчоночьей спальне будет пересудов…
– За образцовое выполнение задания ОГПУ Давыдов, Гринберг и Макарьева премированы ценными именными подарками!
Голос сотрудника, проводившего церемонию награждения, звучал сухо и невыразительно, но это нисколько не портило торжественности момента. «Внештатные сотрудники» – это звучит гордо, особенно, когда к должности прилагаются самые настоящие ГПУшные корочки – с ФИО, фотографиями три на четыре (довольно паршивого качества), дающие, помимо прочих преимуществ перед обычными гражданами СССР, ещё и право на ношение оружия – без всяких дополнительных разрешений, просто по факту своего наличия. Здесь с этим вообще проще, а уж в праве сотрудников данного ведомства на ствол в кармане, вообще никому не придёт в голову сомневаться.
Удостоверения нам выдали сразу, как только мы вошли в кабинет. Признаться, всю дорогу от коммуны до Харькова меня грыз эдакий червячок – всё же за нами числились кое-какие грешки, вроде некоторых моментов недавнего вояжа, утаенных от начальства и не вошедших в отчёты. Но – обошлось; в здании управления нас провели на третий этаж, где располагались кабинеты высшего начальства, и проводили к замначальника горотдела – высокому, худому мужчине с одним «ромбом» на петлицах и круглыми очками на характерной физиономии выходца из черты оседлости. Товарищ Тумаркин (так представился владелец очков) вышел навстречу нам из-за необъятного письменного стола, где он обычно восседал под портретами Ленина и Дзержинского, по очереди пожал каждому руку – и началась официальная церемония раздачи плюшек.
Перво-наперво, нам вручили упомянутые удостоверения. Я судорожно припоминал, была ли речь об этом раньше, во время подготовки к операции – и припомнил-таки, что один из наших инструкторов вроде бы обмолвился о чём-то подобном. Что ж, удостоверения так удостоверения – мы расписались, как положено, в ведомости, выслушали приличествующие мантры о том, что беречь полученные документы следует так же, как партийные билеты (которых у нас не было), но при этом лишний раз их не светить, поскольку враг не дремлет. Приняли из рук товарища Тумаркина ярко-красные корочки, убрали их в нагрудные карманы юнгштурмовок – после чего перешли ко второй части марлезонского балета.
«Именные подарки» были заранее разложены на столе. Замначальника брал их по одному и передавал награждённым – сопровождая короткой речью и рукопожатием. Ладонь у второго по старшинству чекиста Харькова оказалась мягкая, слегка даже влажная – и я краем глаза увидел, как Татьяна едва сдержала брезгливую гримаску, пожимая эту «котлету».
Но вернёмся к подаркам. Мне досталась новенькая кобура- приклад для «Браунинга» модели 1903-го года. К кобуре прилагались все надлежащие аксессуары: шомпол, ремешок через плечо, а так же запасная обойма на десять патронов, убираемая в особое внутреннее гнездо в кобуре – по замыслу разработчика пистолета, использовать её можно было только с пристёгнутым прикладом. На красном дереве коробки имелась бронзовая табличка: «За образцовое выполнение задания командования». И всё – ни имени награждённого, ни организации, чьё задание тот сподобился образцово выполнить. Как не было и самого «Браунинга» – мягкий намёк на то, что компетентные товарищи в курсе того, что хранится в запертой на ключ тумбочке возле койки в спальне четвёртого отряда, и ничего против этого не имеют. Пока, во всяком случае.
Что ж, спасибо товарищам чекистам и в особенности, вышестоящему начальству – вещь солидная, нужная. А уж как будет смотреться деревянная коробка с «Браунингом» на ремешке через плечо поверх форменной юнгштурмовки! На миг я даже пожалел, что не удастся пофорсить перед друзьями-коммунарами в таком шикарном виде.
..Увы. Не поймут-с…
Мои спутники тоже удостоились именного оружия – самого настоящего, а не как в моём случае, набора аксессуаров. Оба получили карманные «Кольты» 1908-го года, являющихся американскими копиями карманных же «Браунингов» 1906-го года калибра 6,35 мм. При скромных размерах (пистолетики вполне помещались на ладонь взрослого мужчины) это было надёжное и достаточно эффективное оружие самообороны, которое с удовольствием использовали в качестве запасного ствола полицейские и сотрудники спецслужб. На костяных щёчках рукояток у «кольтов» имелись такие же латунные таблички, как и на моей кобуре, разве что поменьше – и такие же «безымянные».
И завершающий, третий акт марлезонского балета: за «образцовое выполнение задания» все трое премированы денежными выплатами в размере семи тысяч рублей каждый, каковые и следует получить в бухгалтерии городского управления, здесь же, в этом здании. Новые рукопожатия, пожелание отличного несения службы – всё!
– А форма нам теперь тоже полагается? – спросила Татьяна, когда мы оказались в коридоре. – Интересно, её самим придётся заказывать, или выдадут готовую?
– Это вряд ли. – отозвался я. – Полагалась бы – позаботились бы заранее, и на карточках в удостоверениях мы были бы в соответствующем виде. А так – думаю, нештатным сотрудникам форма попросту не полагается.
– Нештатные сотрудники… – повторил Марк, словно пробуя это словосочетание на язык. – Это что же, значит сексоты?
Я сдержал смешок. Сильны всё-таки стереотипы…
– Ну, уж нет! Сексоты – это тайные осведомители, завербованные агенты. А мы действительно сотрудники, только обученные для выполнения особых задач. К тому же, и действовать нам до сих пор приходилось исключительно за границей.
– Значит, не сексоты, а шпионы?
– И опять-таки нет! «Шпион» – это их плохой парень, а тот, кто на нашей стороне – офицер разведки. Вот мы они самые и есть, только без званий.
Это определение я вычитал давным-давно в одной из книг Тома Клэнси, в которой шла речь о сотрудниках ещё не существующих здесь организаций – ЦРУ и КГБ. Марк, впрочем, смысл сказанного понял.
– Что ж, если за работу шпиона так хорошо платят – я не против. Пошли, надо ещё найти, где у них тут бухгалтерия…
То ли это нам так «повезло», и у кассира действительно не оказалось крупных банкнот, то ли она решила воспользоваться случаем, и сбыть мелочь безответным новичкам – а только «премиальные» мы получили исключительно десяти- и пятирублёвками, примерно в равной пропорции. По сотне бумажек в упаковке с бумажными, крест-накрест, бандеролями, украшенными штампами госбанка, по семь косых на каждого – вот и считайте, сколько пухлых денежных пачек оказалось у нас на руках. И это, заметьте, при отсутствии портфелей, барсеток, или хотя бы дамских сумочек у прекрасной трети нашего дружного коллектива!
Нам-то с Марком ещё ничего – после некоторых усилий пачки удалось распихать по карманам наших полугалифе. При этом они уродливо оттопыривались, но пережить сей неприятный факт мы ещё могли. А вот каково Татьяне с её юбкой, в которой и карманов- то нет? В нагрудных карманах юнгштурмовки не поместится даже одна денежная пачка, боковых же, на манер британских офицерских френчей, тут не предусмотрено. Можно, конечно, было бы набить деньгами карманы пальто – но это означало бы провоцировать на противозаконные действия любого встреченного карманника, которых в Харькове в последний год НЭПа пруд пруди..
Приходилось выкручиваться. Марк выклянчил у кассира вчерашний номер «Радяньской Украiны» и мы тщательно упаковали стопки банкнот в газетную бумагу, перевязав поверх подобранной здесь же бечёвкой. Так и вышли на улицу – с топорщащимися от денег карманами и газетным свёртком, который Татьяна несла, взяв тремя пальчиками за узелок. Одно это способно было убить удовольствие от любой прогулке, а мы ведь собирались перед возвращением в коммуну провести в Харькове несколько часов. В кафе там посидеть, пройтись по магазинам, может, заглянуть в кино. А что? Имеем право…
Выручил нас плакат слегка криво налепленный на афишную тумбу на углу улицы Равенства и Братства (в памятной мне реальности переименованная в «Вулицю Жен Мироносиць») и Карла Либкнехта, будущей Сумской. Плакат этот с изображением бородатого селянина и его щекастой жизнерадостной супружницы в платочке призывал трудящийся люд помещать «Рубли, копейки, все излишки – на сберегательную книжку», и почему-то был выполнен, вопреки взятому партией и правительством курсу на тотальную украинизацию, на русском языке.
Совет, тем не менее, оказался хорош, и уже через пять минут мы по очереди сгружали в окошко стойки ближайшей сберкассы наши богатства. у стойки-барьера. Надо было видеть физиономию барышни-операционистки (или, как они тут называются?), когда трое подростков в хорошо известной всему городу коммунарской униформе стали выкладывать перед ней пухлые пачки денег. Однако вовремя продемонстрированные ГПУшные корочки отбили у неё желание задавать глупые вопросы, и из сберкассы мы вышли, избавившись от груза финансовых проблем – зато с тоненькими бледно-розовыми сберкнижками в нагрудных карманах.
Что ж, не знаю, как там обернётся дальше, а на сегодня жизнь, похоже, удалась. В карманах хрустят новенькие купюры (я предусмотрительно оставил себе триста рублей из полученных тысяч) до восьми вечера, когда в сторону коммуны по шоссе отправится всего месяц, как пущенный рейсовый автобус, ещё далеко – гуляем!
VI
«…в 1918–1919 гг. в оперативных чекистских сводках начинают мелькать сведения об Александре Барченко, учёном, занятом изысканиями в области древних знаний. Ещё в молодости он всерьёз увлекался оккультными науками, астрологией, хиромантией. В 1920 г. Барченко, успевший к тому времени поучиться на медицинских факультетах Казанского и Юрьевского (нынешний эстонский Тарту) университетов, получил приглашение академика Бехтерева в возглавляемый тем Институт изучения мозга и психической деятельности, расположенный в Петрограде. Видимо, юношеские увлечения Барченко пришлись вполне здесь ко двору, поскольку всего год спустя он отправляется согласно выписанного лично Бехтеревым мандата, на Кольский полуостров, «для поиска древних знаний»…»
Яша снова работал в читальном зале Ленинки. Недавний телевизионный «круглый стол», на котором он рассказывал о незавидной судьбе московских «новых тамплиеров» во главе с Солоновичем, прошёл вполне удачно; продюсеры захотели ещё и вот теперь по настоянию неугомонного Игорька Перначёва приходилось готовиться к новой телепередаче. Решено было «развить и углубить» тему тайных обществ в раннем СССР. Материал был по выражению Перначёва «жареным», хотя и заезженным бесчисленными дилетантами, пытавшимися урвать на столь эффектной теме свои пять минут известности.
Для своего нового появления на голубом экране Яша выбрал тему деятельность адептов оккультных и эзотерических наук в тогдашнем ЧК-ОГПУ-НКВД. И тут уж без личности Александра Барченко и его покровителя Глеба Бокия обойтись было немыслимо. Благо, с обоими Яша был знаком не понаслышке, а с Барченко успел даже и посотрудничать. Правда, следов этого сотрудничества он обнаружить не смог, как ни старался – то ли они всё ещё оставались под грифом «Секретно», то ли тут начиналась туманная область событий, вызванных к жизни его знакомством с Давыдовым-Симагиным и странным образом никак не отразившихся на той реальности, в которой он пребывал сейчас. Чем дальше, тем чаще он сталкивался с подобными фактами – и пока не мог найти этому разумного объяснения.
«…в двадцать третьем году Барченко начинает сотрудничать с ОГПУ, возглавив нейроэнергетическую лабораторию Всесоюзного института экспериментальной медицины. Тогда же, как это доподлинно известно из недавно рассекреченных документов, он организовал в подмосковном Красково «спиритическую станцию», которая должна была обеспечить связь в Тибетом и загадочной Шамбалой…»
Этот момент Яша помнил хорошо. По сути, тогда он и сблизился с будущим главой «нейроэнергетического» проекта. Поступив в двадцать третьем году на учёбу в Академию Генерального штаба РККА на факультет Востока, где готовили работников посольств и агентуру разведки, он добавил к своему знанию идиша турецкий и арабский языки, а так же занялся монгольским и даже китайским. Тогда же он заинтересовался правда, лишь на уровне увлечения – древними практиками в области оккультных наук и Каббалы, что свело его с Барченко и Мёбесом, видным русским мартинистом и автором прогремевших в определённых кругах лекций «Курс энциклопедии оккультизма».
С Мёбесом, правда, у Яши тогда не задалось – тем более, что спустя три года тот угодил под суд и был сослан в Сыктывкар, где вскорости и умер. Другое дело Барченко: то ли учёный вовремя угадал, откуда ветер дует, то ли помогла случайность, а только начиная с двадцать четвёртого года его имя постоянно мелькает в документах «специального отдела», которым руководил ярый приверженец оккультных наук Глеб Бокий.
«…Вторая экспедиция Барченко имела своей целью самые глухие районы Кольского полуострова. Основной задачей явилось обследование Ловозерского погоста, где с незапамятных времён проживало небольшое племя, относящееся к группе саамов, известное тем, что у членов этого племени, и только у них, встречается странный массовый психоз под названием «мерячение» или «мэнерик». Саамы считали это явление либо одержимостью демонами, либо, напротив, призывом «служить духам» – особенно если в роду подверженного мэнерику были шаманы.
Однако изучение данного феномена, стало всего лишь прикрытием. Главной целью экспедиции был поиск следов древней цивилизации. Искать их по мнению Барченко нужно было именно на Кольском полуострове – в районе так называемой «Гиперборейской периферии». Он был убеждён, что древнейшие, ещё допотопные обитатели этих мест, гиперборейцы, умели расщеплять атомное ядро, использовали атомную энергию, покоряли с её помощью воздушное пространство и даже строили космические аппараты. И это убеждение он сумел внушить своим покровителям-чекистам, возжелавшим не просто отыскать следы северной палеоцивилизации, но и завладеть её знаниями…»
Яша перевернул ещё несколько страниц, потом открыл брошюру в самом конце, где помещались обычно выходные данные. Так и есть – издано в середине девяностых, когда на читателей хлынула волна сенсаций из якобы рассекреченных архивов. Монография, которую он изучал сейчас, могла бы считаться на фоне чепухи, что охотно публиковали в те мутные времена, чуть ли не образчиком исторической достоверности – особенно если вспомнить о том, что реальный, а не выдуманный бойким писакой профессор Барченко действительно всерьёз интересовался тайнами Гипербореи. И он, Яша, немало тому поспособствовал, отправив троих подростков на поиски загадочной книги.
Правда, знать об этом автор монографии никак не мог – Яша, как ни старался, так и не нашёл даже мимолётного упоминания об этом событии. Может, оно и правда состоялось в «иной ветке реальности», как обожают писать фантасты?
«…о второй экспедиции Барченко на Кольский полуостров мы знаем немного, поскольку часть материалов засекречена до сих пор. Доподлинно известно, что экспедиция сначала отправилась в земли проживания племени саамов. По заключению Барченко саамские шаманы, жившие на Кольском полуострове, были единственными носителями памяти о древних людях Севера. Получив от них какую-то ценную информацию, экспедиция отправилась в район Сейдозера (оно почиталось саамами как священное), и там, в течение последующих двух-трёх недель была сделана масса поразительных открытий. На скале, возвышающейся радом с озером, исследователи увидели гигантскую фигуру человека с раскинутыми руками, а рядом камень, который Барченко после осмотра объявил алтарём- жертвенником. Фигуру на скале саамы называли «Старик Куйва» и подплывать к нему на лодках отказались наотрез.
В окрестностях Сейдозера экспедиция нашла обтесанные гранитные параллелепипеды; рядом с ними обнаружились участки очень похожие на вымощенные камнем дороги. Самыми поразительными находками стали древние пирамиды, сложенные из массивных каменных блоков с явными следами обработки. Всё это вне всяких сомнений имело искусственное происхождение, и Барченко был твердо уверен, что они нашли материальные подтверждения существования Гиперборейской цивилизации…»
Будильник в смартфоне еле слышно мурлыкнул. Яша бросил взгляд на цифры в углу экрана – ого, время уже вышло, скоро его ждут в Останкино! Он сделал ещё несколько пометок в блокноте, сложил книги стопкой и понёс к столику библиотекаря.
Порученец посторонился, пропуская в кабинет мужчину, нагруженного полированным деревянным ящиком размером примерно с патефон. Посетитель (скрещенные молоточки на малиновых петлицах указывали на принадлежность к техническому отделу ОГПУ) водрузил свою ношу на круглый столик в углу кабинета и замер рядом по стойке «смирно». Только что каблуками не щёлкнул, отметил Агранов – наверняка из особо ценных специалистов, привлечённых к работе ещё при Железном Феликсе. Сам он не очень-то доверял «бывшим», хотя с представителями столичной богемы (сохранились и такие, хотя и куда меньше, чем в незабвенные времена «Стойла Пегаса) общался много и охотно, и даже слыл среди московских поэтов и художников своего рода меценатом.
– Доставлено, согласно вашему распоряжению, Яков Саулович!
– отрапортовал порученец. Товарищ военинженер покажет, как эта штука работает, и наладить поможет.
– А другое название у неё есть, кроме «штука»? – осведомился хозяин кабинета, поднимаясь из-за стола. – Видимо, какая-то разновидность фонографа?
Нынешний начальник Специального отдела высшим образованием отягощён не был – окончив четыре класса городского училища, он делил всё своё время между лесным складом, где он служил конторщиком, и революционной деятельностью в партии социалистов-революционеров. В пятнадцатом году Агранов ушёл из эсеров и вступил в РКП(Б), а четыре года спустя, в тяжелейший для Республики Советов 1919-й год занял место особоуполномоченного Особого отдела ВЧК – и с тех пор не покидал ни этого поста, ни здания на Лубянке. За это время он, выходец из семьи еврейского бакалейщика, обзавёлся массой полезных знаний и навыков, однако техническая грамотность в их число не входила.
– Никак нет, товарищ особоуполномоченный! – ответил военинженер. – Этот аппарат называется «телеграфон», изобретение датского инженера Поульсена. В фонографе, видите ли, для записи звуковых колебаний используется покрытый воском валик, запись же нарезается специальной иглой. А здесь используется стальная лента, а запись производится особой магнитной головкой. Это позволяет…
– Можно без подробностей. – великодушно разрешил хозяин кабинета. – Я слышал про телеграфоны, но полагал, что в них используют стальную проволоку.
– Это новейшая модель фирмы «Блаттнерфон». Здесь вместо проволоки применяется стальная лента – она реже запутывается и рвётся. Этот аппарат мы недавно получили из Англии и только- только успели его освоить.
– Успели, говорите? – Агранов потрогал пальцем катушку, на которую была намотана блестящая стальная лента. – Это замечательно, что успели. Аппаратуру на месте монтировали тоже вы?
Команду установить прослушивающие устройства на конспиративной квартире, числящейся за Спецотделом ОГПУ, он дал, сразу, как только узнал, что начальник упомянутого Спецотдела Глеб Бокий встречался на этой самой квартире с Трилиссером, изгнанным недавно из лубянского кабинета.
– Так точно, я. – кивнул военинженер. – Сам проверял качество записи с микрофонов. Мы поставили их три – так, чтобы во время работы можно было переключать запись с одного на другой.
– Весьма разумная предосторожность. – кивнул Агранов. – А готовую запись вы прослушивали?
– Так точно. – военинженер облизнул языком губы. – Надо же было убедиться, что запись качественная…
Волнуется, понял Агранов. Значит, на записи что-то по- настоящему опасное. Такое, о чём даже сотрудник технического отдела ОГПУ, которому по долгу службы постоянно приходится иметь дело с государственными секретами, предпочёл бы не знать. Что ж, тем лучше, тем лучше…
– Запись получилась вполне приличная. – продолжал, справившись с волнением, военинженер. – Только слушать придётся через наушники, звук слишком слабый. Позвольте…
Он откинул в задней стенке ящика крышку и извлёк оттуда большие эбонитовые наушники на витом электрическом шнуре. Повозился, закрепляя клеммы на панели прибора.
– Готово, товарищ особоуполномоченный! Вот эта клавиша – включение записи, вот эта – остановка. Если захотите прослушать какой-нибудь фрагмент ещё раз, то вот этот рычажок, сверху, управляет перемоткой. Вправо – вперёд, влево – назад.
– Как-нибудь разберусь. – Агранов взял наушники и надел на голову. Военинженер сунулся было поправить, но замер, наткнувшись на недовольный взгляд.
– Вы, товарищ, подождите пока в приёмной. Если понадобится что-нибудь по технической части, я вас вызову.
– Значит, решено. – Трилиссер поднялся из-за стола. Видимо, сегодня была его очередь в волнении расхаживать по комнате. – Пусть Барченко попробует повторить опыт Либенфельса с этими, как их…
– Зомби. – подсказал Бокий. Он, не в пример прошлой их встрече, сохранял видимость спокойствия, только хлестал коньяк рюмками, усидев на пару с собеседником целую бутылку. – Немцы называли их на гаитянский манер, а наши умники предпочитают другой термин – «мертвяки».
– Ну, пусть будут «мертвяки». – согласился собеседник чекиста.
– Лишь бы не случилось такого конфуза, как в замке у Либенфельса. Барченко уже решил, как он собирается их контролировать?
– Пока думает. Он тоже поначалу предположил, что Либенфельс ошибся с переводом, из-за чего его твари вышли из повиновения, но теперь считает иначе. Говорит: не хватает чего-то важного, какого-то обязательного условия, без которого успеха нельзя достичь в принципе.
– И чего именно? Какой-то ингредиент… тинктура?
– Тинктура – это, Меир, из области алхимии, а покойник такой ерундой не баловался. И Барченко тоже не собирается. Нет, то, что ему нужно, прячется за неким «порогом Гипербореи». Об этом, кстати, и в книге говорится – в тех фрагментах, переводы которых привезли из Палестины наши посланцы. Не слишком много и довольно туманно, но это словосочетание там определённо встречается.
– «Порог Гипербореи»… задумчиво повторил Трилиссер. – Звучит словно какое-то шаманство!
– Шаманство и есть. Барченко, когда понял о чём речь, аж затрясся. Он ведь именно у шаманов выспрашивал во время своей экспедиции, где искать эту самую Гиперборею! И до сих пор уверен, что нашёл – только не смог разгадать, как туда проникнуть. Они, видишь ли, кроме фигуры на скале и пирамид, сложенных из каменных плит, обнаружили неподалёку от того озера какую-то то ли пещеру, то ли тоннель, то ли лаз, уводящий глубоко под землю. Причём тоннель этот явно искусственного происхождения – стены ровные, потолок высотой метра три, полукруглый, сводчатый. Барченко убеждён, что через этот лаз можно попасть в скрытое от людей подземное царство – ту самую Гиперборею. И теперь отказывается продолжать работк, пока не доберётся до этого самого «порога».
– А ты что, собираешься ему потакать?? – сощурился Трилиссер. – Снова?
– Ну… – Бокий покачал головой. – Слушать Барченко так или иначе придётся, кроме него никто толком не понимает, что делать дальше. Но я убедил Гоппиуса повторить опыт Либенфельса, не дожидаясь результатов поисков. Разумеется, в безопасных условиях, жертвы нам не нужны.
– А материал? – негромко поинтересовался Трилиссер. – Из кого он будет делать своих «мертвяков»? Тут, согласись, без жертв никак.
– Материала хватает. Я распорядился отсрочить исполнение нескольких расстрельных приговоров, вынесенных в Харькове, и сейчас там для нас накапливают… контингент.
– Что ж, логичное решение. Работать будете в коммуне?
– С ума сошёл? – Бокий казалось, испугался, услыхав такое предположение. – Мы, конечно, кровавое чека и всё такое, но там всё же дети… Нет, местечко уже подыскали – это неподалёку, заброшенный кирпичный завод. Сейчас там ведутся подготовительные работы – разумеется, в полнейшей тайне.
– Полагаешь, у Гоппиуса ничего не выйдет? – негромко спросил Трилиссер. Чекист пожал плечами.
– Кто ж его знает? С одной стороны, опыт проводится не в пример основательнее, чем это делал Либенфельс, а с другой – Барченко, возможно, прав. В любом случае, мы должны быть готовы к любому варианту.
– Я именно это имею в виду. Если Гоппиус таки добьётся успеха – придётся как можно скорее перебрасывать «мертвяков» в Москву и… ну, ты понимаешь, куда.
– Понимаю. – Бокий поджал губы. – И уже готовлю всё необходимое. Кстати, я собираюсь подключить к разработке операции Корка[5] – он, если ты не забыл, командует войсками Московского округа, и может быть чрезвычайно для нас полезен.
– Охрану Кремля несут войска ОГПУ. Корк ими не распоряжается.
Шпильку насчёт забывчивости Трилиссер пропустил мимо ушей.
– На этот случай у нас имеется Петерсон[6], как-никак, комендант Кремля. Что до Корка, то он всё равно понадобится – не в этот раз, так в другой. Имей в виду, Меир, подготовка к февральскому пленуму – это так, на всякий случай и, скорее всего, не пригодится. А вот на июль намечен Объединённый пленум ЦК и Центральной контрольной комиссии, и тон на нём будет задавать Сталин со своими прихлебателями. Эксперимент Гоппиуса намечен на февраль, но если он закончится неудачей – а я в этом почти не сомневаюсь, – у нас останется ещё четыре месяца на поиски «Порога Гипербореи» и реализацию идей Барченко.
Он неожиданно ударил кулаком по столешнице – пустые коньячные рюмки, звякнув, подпрыгнули.
– Это шанс, Меир, и упустить его было бы глупо. Я хочу сам, своими глазами увидеть, как наши «мертвяки» растерзают Кобу и его шайку! А что до тайных знаний гиперборейцев, о которых так радеет Барченко – с ними потом разберёмся … если доживём.
VII
Полезная штука – регулярное пассажирское сообщение! Во всяком случае, до тех пор, пока автомобиль не успел стать в СССР не роскошью, а средством передвижения – а затянется этот процесс ещё как бы не на полвека. Красно-жёлтый автобус на шасси грузовичка АМО высадил меня возле развилки, где от харьковского шоссе отходила грунтовка, ведущая к коммуне, прощально квакнул клаксоном и покатил дальше. Чумацкие лошадёнки шарахались от механического дива, а их хозяева, вислоусые и красноносые Тарасы с Мыколами провожали первенца сельского общественного транспорта сакраментальными «Тю!..» и многословными напутствиями непристойного содержания.
До ворот с сетчатой вывеской «Детская трудовая коммуна имени тов. Ягоды» от развилки было пешком километра полтора – через деревянный мост, возле которого мы как-то повстречали цыганский табор.
Наручные часы (подлинный «Лонжин», купленный на остатки валюты в Гамбурге перед посадкой на пароход) показывали девять- тридцать утра. Коммуна уже проснулась, позавтракала и готовилась вступить в очередной трудовой и учебный день. Пробраться в главный корпус незамеченным нечего и думать, да и смысла в этом никакого. Наверняка моё отсутствие замечено на утренней поверке – замечено и отмечено в журнале дежкома, куда заносятся факты всех, даже мелких нарушений. Отрабатывать же честно заработанный наряд, размахивая лопатой для снега, мне не улыбалось – намахался за предыдущие три дня, добровольно, без всякой вины! – и я решил следовать мудрому правилу, изложенному ещё в фильме «Айболит-66».
Нормальные герои, как пел Ролан Быков в роли Бармалея, всегда идут в обход – так что я свернул с тракта, не доходя до ворот коммуны, аккурат там, где придорожные заросли прорезает тропинка, выводящая на зады «особого корпуса». Ну и досталось мне на этой кривой дорожке никак не меньше, чем кинематографическим пиратам – тропка была сплошь укрыта сугробами, и к неприметной калитке в ограде я подошёл злой, уставший и пропотевший насквозь. Оставалось сменить ботинки и юнгштурмовку с галифе на рабочую обувь и одежду, которую мы держали в своих шкафчиках, в «особом корпусе». развешать мокрое на трубах парового отопления (комната, в которой мы отсиживались во время карантина всё ещё числилась за нами) и, как не в чём ни бывало, направиться по расчищенной «нарядниками» дорожке к главному корпусу. Типа: «я тут заглянул вчера перед отбоем в «особый корпус» по срочному и чрезвычайно секретному делу, да так там и заночевал – у нас, спецкурсантов такое случается…
Не прокатило. Дневальный тормознул меня у ступеней лестницы, ведущий на второй этаж, в спальни, велев дожидаться, и послал за дежкомом. Как выяснилось, тот не поленился после завтрака навести справки – и выяснить, что коммунар четвёртого отряда Алексей Давыдов в коммуне не появлялся, а значит, на полном основании числится в злостных нетчиках и, как таковой, подлежит… В общем, не прошло и получаса, как старательно сгребал снег перед крыльцом – два наряда за неявку в срок и ещё два сверху, за попытку ввести в заблуждение дежурного командира, – находя утешение в воспоминаниях о вчерашнем вечере. И особенно, конечно, о том, что было ночью.
Всё началось в кафе – здесь их называют «кофейни». За время недавнего путешествия мы, все трое, пристрастились к хорошему кофе – Татьяна, впервые открыла для себя этот дивный напиток, мы же с Марком, обновили давнюю привязанность. И вот, увидев на бульваре вывеску с чашкой и россыпью зёрен, мы не сговариваясь, повернули к гостеприимно распахнутым дверям.
Кофе в заведении оказался так себе, а цены, наоборот, способны были ввергнуть в оторопь человека неподготовленного.
Но тут уж ничего не поделать – культура употребления ароматного напитка в Стране Советов ещё не сложилась, и кофе, тем более, сваренный по всем правилам, проходил по разряду дорогостоящей экзотики. Зато выпечка, крошечные песочные корзиночки с заварным кремом пяти различных видов, были выше всякой критики, и мы успели уполовинить блюдо с этими лакомствами, когда взгляд мой упал на женщину за столиком у окна.
Она сидела к нам вполоборота, и лица я разглядеть не мог – но, тем не менее, испытал острый электрический укол узнавания. Елена Андреевна Коштоянц, красавица моя ненаглядная! Как всегда, убийственно элегантна: жакет в крупную шотландскую клетку, длинная, заметно ниже колен, юбка цвета беж, собранная в мелкую складку. На стройных ножках зимние ботиночки, отделанные мехом – разумеется, на неизменных каблучках. На очаровательной головке шляпка, которую она, пользуясь извечной женской привилегией, не стала снимать, зайдя в кофейню. Словно и не в столице Советской Украины она, а на парижском бульваре зашла, села за привычный столик, и гарсон принёс ей то же, что и приносит каждый день, когда она посещает заведение.
Я смотрел и удивлялся, как это мне в голову пришло сравнить эту великолепную женщину с Есфирью Соломоновной. Вот что значит чересчур долгое воздержание…
Она, несомненно, почувствовала мой взгляд, но оборачиваться не стала. Раскурила тонкую дамскую сигарету на длинном мундштуке, глотнула кофе из крошечной чашечки – и только тогда непринуждённо сменила позу – так, чтобы иметь возможность встретиться со мной взглядами. Я сделал над собой невероятное усилие и повернулся к Марку, как раз затеявшему с Татьяной спор о том, следует ли им, как комсомольцам, передать полученные «премиальные» в Осоавиахим или, скажем, на нужды индустриализации – или можно оставить себе пару-тройку сотен?
..Не хватало ещё, чтобы они её заметили!..
Не заметили, обошлось. Через две минуты Елена встала, что-то сказала официанту и поплыла (вульгарное «пошла» тут не годилось) к выходу. Судя по тому, что она не торопилась расплачиваться решила навестить дамскую комнату. В мою сторону – ни полвзгляда, ни намёка на интерес.
Что ж, сигнал принят и понят. Я медленно досчитал до двадцати пяти и тоже поднялся со стула.
– Сейчас вернусь. А вы пока смотрите, не прикончите всю эту вкуснотищу! – сказал, кивнув на блюдо с остатками корзиночек, и направился к зеркальным дверям, прилагая титанические усилия, чтобы не припуститься бегом.
Елена ждала возле гардероба, и я заметил, как вспыхнули радостью её глаза. Однако, она осталась верна себе – кисть чуть дёрнулась вверх, в извечном жесте: палец, приложенный к губам, тише! Я сбавил шаг и подошёл, стараясь встать так, чтобы между мной и стеклянной дверью в зал, оказалась кадка, в которой, в компании двух-трёх десятков вдавленных в пересохший грунт окурков засыхал развесистый фикус. Она чуть повернула голову и беззвучно, одними губами, произнесла: «через полчаса, напротив горсовета». Я кивнул – до назначенного места скорым шагом было не больше пяти минут, и я ещё успею допить кофе и придумать подходящее объяснение предстоящей отлучке.
Зимний день спешил к ранним сумеркам, и я ожидал, что Елена, как и при прошлой нашей встрече в Харькове, предложит сначала посидеть в ресторане, и только потом отправиться в гостиницу. И ошибся – она подсунула руку в перчатке мне под локоть и со словами «пойдём, у меня тут, в городе уютная квартирка…», увлекла меня к стоянке таксомоторов. Дорога заняла не больше четверти часа, и за это время моя спутница успела рассказать, что с тех самых пор, как оставила работу в коммуне (как я понял, по распоряжению Гоппиуса), она преподавала в одном из харьковских ВУЗов. В каком именно – не уточнила, но ВУЗ этот был, надо думать, не из последних, поскольку выделил сотруднице вполне приличную двухкомнатную квартиру – служебную, разумеется, но и это довольно странно на фоне «квартирного вопроса», свирепствующего в столице Советской Украины. Располагалась квартира неподалёку от общежития авиазавода, где я не раз ночевал во время поездок в аэроклуб. Район, прямо скажем, не самый фешенебельный – обыкновенная рабочая окраина, куда таксист согласился везти, только когда я посулил ему рубль сверху счётчика. Сам дом тоже мало напоминал хоромы: двухэтажный, неказистый, обшарпанный, стены цокольного этажа сложены из кирпича, второго – из потемневших от времени брёвен. Елена обитала на втором, куда вела узкая, отчаянно скрипящая лестница. Лампочка над ней отсутствовала, как явление, и я чуть не расквасил нос, поскользнувшись на какой- то дряни, когда поднимался вслед за ней.
…дверь скрипнула, захлопываясь от сквозняка. Я зашарил по стене в поисках выключателя, но узкая ладонь перехватила мою руку, обжигающие губы впились в рот. Пальто, коммунарская шинель, жакет, юбка, юнгштурмовка – брошенная одежда отмечала наш путь к постели. Избавляя её от легчайшей шёлковой нежно-зелёной рубашки (в более поздние времена такие будут называть комбинациями) я обнаружил, что Елена, оказывается, не забыла о моих пристрастиях, и не стала расстёгивать пояс, поддерживающий чёрные, со швами позади, чулки. А уж когда она успела сменить зимние ботиночки на меху на чёрные туфли на вызывающе высоком каблучке – сие есть тайна, доступная только женщине. А ещё – Елена, похоже, взяла в привычку производить некую косметическую операцию с лобком, в результате которой от курчавой каштановой поросли осталась только сужающаяся книзу дорожка. Туда и скользнули мои пальцы, и ответом стал лёгкий вздох, еле слышное «не торопись… нежнее…» и острые ноготки, впившиеся в спину.
Вино было терпким, тёмно-красным – настоящее кахетинское десятилетней выдержки, подарок пилота «Воздухпути», который, в свою очередь, доставил его с Кавказских Минеральных вод. Когда Елена сообщила об этом, вытаскивая пробку из горлышка глиняного, оплетённого соломой кувшина, меня на миг кольнула ревность. Кольнула – и немедленно оставила в покое: в конце концов, не думал же я, что эта женщина собирается хранить мне верность? Тем более, что о любви между нами речи никогда не было – сплошная физиология, да ещё, пожалуй, сдержанный, уважительный интерес друг к другу. Видела она что-то, выделяющее меня на фоне других сверстников.
Я принял из рук Елены рюмку и сделал, приподнявшись на локте, глоток. Вкус был восхитительным – в меру терпким, бархатистым, с лёгкой, едва угадывающейся горчинкой.
– А ведь скоро мы будем видеться гораздо чаще. – она поставила кувшин на столик, перевернулась и стала водить остро отточенным ярко-красным ноготком по моей груди. – Ваше начальство настоятельно требует, чтобы я вернулась в коммуну, на прежнее место. Между прочим, персонально ради тебя!
От неожиданности я поперхнулся вином, и струйка пролилась мне на грудь. Елена дождалась, когда я откашляюсь, после чего улыбнулась, высунула острый розовый язычок и медленно – нарочито медленно! – слизнула гранатово-красную жидкость с моей кожи. Моё мужское достоинство, слегка утомлённое за два часа плотских радостей, отреагировало на эту ласку. Я, тем не менее, сделал попытку этого не заметить.
– Начальство? Какое? Гоппиус, да? Ты снова будешь жить в коммуне?
– Фу, какой! – Елена недовольно наморщила носик. – У тебя тут голая, на всё готовая женщина, а ты о делах…
– Так ты же сама заговорила… ой!
До споров она не снизошла – намотала на палец прядку волос у меня на груди (с некоторых пор они стали расти чересчур густо) и чувствительно дёрнула. Мне оставалось только обнять её и опрокинуть на спину, попутно попытавшись закинуть немыслимо стройные, затянутые чёрным шёлком ножки, себе на плечи. Попытка сорвалась – Елена ужом вывернулась из-под навалившейся тяжести и ловко оседлала мои бёдра.
– Знай своё место, ничтожный раб! – она хищно улыбнулась, показав мелкие, жемчужно-белые зубки. Я мельком подумал: как они тут ухитряются добиваться такого результата при помощи всего лишь зубного порошка, который только и можно купить? – В наказание будешь теперь исполнять все мои желания до самого утра! А их у меня много…
Женщина призывно провела кончиком языка по губам и упёрлась руками мне в плечи. При этом она склонилась достаточно низко, чтобы позволить мне вернуть утраченные стратегические позиции – я обхватил женщину за талию и в свою очередь опрокинул спиной на простыни. Елена не сопротивлялась – наоборот, закинула ноги мне за спину, скрестив на пояснице. Подалась бёдрами навстречу – и издала низкий, хриплый стон, когда моя разгорячённая плоть вторглась во влажную женскую глубину.
Стрелки стареньких ходиков доползли до половины седьмого, когда, как писал в своих «Трёх мушкетёрах» Дюма-отец, «восторги влюбленной пары постепенно утихли». Январь, во дворе темно, лишь на востоке, над дальними крышами начинало едва заметно сереть. Елена вдруг застеснялась своего вида – быстро скатала чулки, расстегнула пояс и улеглась, натянув простыню до самого подбородка. Я не возражал – ночь страсти и меня выпила до донышка.
– Что ты там говорила о совместной работе? Я ведь не так просто спрашиваю, мне знать надо…
Она покосилась на меня недовольно.
– Ну, вы и зануда, Алексей! Всё в своё время узнаете, и вообще – скоро у вас многое изменится, вы уж мне поверьте! А сейчас – если так уж не спится, одевайтесь и ступайте прочь. Первый автобус отправляется… – она приподнялась на локте и поглядела на часы, при этом не забыв придержать простыню, скрывающую грудь, – через тридцать минут. Если поторопитесь, как раз успеете, будете в своей драгоценной коммуне через полтора часа, раз уж вы её предпочитаете моей постели!
..Вот как с такой спорить? Одно слово – королева… К тому же, Елена права, в коммуне мне стоит оказаться пораньше. Хотя, тут уж спеши – не спеши, так и так мимо дневального не прошмыгнуть – всё увидит и сообщит дежкому.
– Давыдов? Алексей?
Я оглянулся. Со стороны «особого корпуса» по только что расчищенной мною дорожке спешил знакомый лаборант – тот самый, что пропал из коммуны вместе с Гоппиусом. Был он в пальто, накинутом на плечи поверх белого лабораторного халата, и вид имел чрезвычайно недовольный.
– Сколько можно вас искать? Немедленно прекращайте заниматься ерундой, и идите за мной!
Что ж, идти – так идти. Начальству виднее, у него зарплата больше. Я воткнул лопату в сугроб, отряхнулся и пошёл за лаборантом.
…А ведь права, права Елена свет-Андреевна: жизнь, похоже, вот-вот выкинет очередное коленце…
VIII
В актовом зале «особого корпуса» собрались все до единого спецкурсанты, но на первом ряду сидели только шестеро – остальные стулья были свободны, и давешний лаборант без разговоров заворачивал всякого, кто нацеливался занять удобное местечко. В числе этих шестерых были и мы с Марком и Татьяной – рука у неё всё ещё была на перевязи, воспалившаяся рана в плече заживала долго и мучительно. Был здесь пирокинетик Егор, который восстановился после своего перелома и с тех пор, как мы вернулись в коммуну, всё время расспрашивал о наших заграничных приключениях. Мы молчали, разумеется – подписка о неразглашении дело нешуточное! – но он не терял надежды выведать хоть какие-то подробности.
Ещё был парень по имени Илья. Ему едва исполнилось шестнадцать лет; он появился в составе спецкурсантов незадолго до того, как мы отправились на задание, так что познакомиться с ним мы толком не сумели. Я знал только, что Гоппиус полагал его весьма перспективным – за способности практически безошибочно считывать эмоциональное состояние человека. Мешало Илье элементарное отсутствие общей культуры и, как ни странно, начитанности – считывать-то он считывал, а вот чтобы описать результаты ему порой попросту не хватало слов и понятий.
Второй была девушка лет восемнадцати. Самая старшая в нашей группе, она то ли старательно придерживалась модного в конце двадцатых образа «женщина-вамп», то ли что-то другое накладывало отпечаток – а только была она бледной, с тёмными кругами вокруг глазниц, бледными тонкими губами и мрачным огнём в глубоко запавших глазах. В одежде она неизменно предпочитала чёрный цвет, и была одной из немногих обитательниц коммуны, кто пользовался макияжем – опять-таки тёмных оттенков.
Способности были под стать внешности. Нина – так её звали – чувствовала смерть. Не угрозу, нет, а особую «некротическую» ауру, сопутствующую переходу человека из состояния жизни в состояние не-жизни. Слышали, наверное, о специфическом поведении некоторых обречённых? Приговорённых к смерти в нескольких шагах от эшафота, умирающих от неизлечимой болезни на пороге наступления агонии – когда и внешность, и поведение человека необъяснимо (а порой и неуловимо) меняется. Кто-то совершает судорожные и внешне бессмысленные движения, кто-то принимается стряхивать с себя видимых только ему то ли вшей, то ли жуков, или же отмахивается от незримой паутины…
Так вот, Нина предчувствовала это состояние – порой за несколько минут, а иногда даже за несколько часов. Не ошибалась никогда, а когда приходила смерть, впадала в своего рода транс, в котором могла оставаться по своему желанию до момента, когда – по её собственному выражению – «рассеется смертная аура». Это состояние доставляло ей некое необъяснимое, если не сказать, извращённое удовольствие. Как-то она призналась, что в такие моменты она подпитывается энергией, забирая её из некротической ауры покойника. Признание это я услышал от неё во время одного из занятий, ещё до нашей заграничной поездки, когда Гоппиус «тестировал» меня в режиме поддержки со всеми сколько-нибудь перспективными спецкурсантами. Тогда-то и выяснилось, что Нине, единственной из всех я не могу помочь; мало того, в моём присутствии её способности размываются, а порой и вовсе угасают – к счастью, лишь на краткое время. Я же после такого сеанса чувствовал себя не просто выжатым, как лимон, а чуть ли не изнасилованным – в ментальном плане, разумеется.
Многозначительные штришки, верно? Меня они наводили на вполне определённые мысли, делиться которыми я ни с кем не спешил – но от Нины с тех пор старался держаться подальше.
Прочие же коммунары – неважно, спецкурсанты или нет тоже чуяли в Нине что-то недоброе, а девушки откровенно её не любили, называя "ведьмой", "кикиморой", «упырицей». Знала ли об этом Нина? Разумеется, знала – и платила однокашникам молчаливой неприязнью и старательно скрываемой ненавистью.
Зачем Гоппиусу и Барченко понадобилось развивать в девушке эту зловещую способность, неизбежно делая её и без того непростой характер вовсе уж невыносимым – оставалось только гадать. И только в замке доктора Либенфельса, после столкновения с его жуткими «немёртвыми» творениями забрезжило, пусть пока и невнятно, подобие разгадки.
– Трое ваших товарищей недавно вернулись с чрезвычайно опасного задания.
Голос Барченко звучал глухо, даже ниже чем обычно, моментами переходя в хрип. Глаза под набрякшими веками были усталыми, и я подумал, что он, наверное, не имел случая хорошенько выспаться уже не одну неделю.
– Задание состояло в том, чтобы раздобыть крайне важные документы. Подробности сейчас несущественны, но теперь, когда эти документы у нас… – Барченко запнулся и закашлялся. Кашлял он долго, прижимая ладонь ко рту и сотрясаясь всем своим большим телом. Слушатели – и спецкурсанты, и Гоппиус, всё это время державшийся за спиной патрона, и стайка его лаборантов ждали, задержав дыхание.
– Кх-х… теперь, когда документы у нас, – продолжил Барченко, справившись, наконец, с кашлем, – мы можем перейти к новому этапу нашей работы. Участие в нём примут не все.
Он обвёл сидящих тяжёлым взглядом из-под насупленных бровей.
– Давыдов… – его палец, толстый, с коричневым ногтем, уткнулся в меня.
– Я, Александр Васильевич! – вскочил я.
– Сидите, молодой человек… Стеценко здесь?
– Здесь! – пирокинетик Егор вскинулся, едва не опрокинув стул. – Здесь Стеценко!
– Отлично. – Барченко кивнул. – Вы второй в списке. Макарук, вы третий. – он указал на Илью, и тот тоже поднялся и даже сделал попытку встать по стойке «смирно», едва не опрокинув при этом стул. Барченко чуть заметно скривился.
– Надо быть аккуратнее, юноша… – он сверился со списком. – Так, четвёртая – вы, Шевчук.
Нина вставать не стала – выпрямилась, поджав подведённые лиловой, почти чёрной помадой губы.
Вслед за Ниной Барченко по очереди ткнул пальцем ещё в двоих, каждый раз заглядывая в свою бумажку. Наверняка ведь и так знает весь список наизусть, подумал я, сам же его составлял, а вот, поди ж ты…
– Остальные могут быть свободны. Возвращайтесь к вашим обычным занятиям, молодые люди, и не забывайте – всё, что вы сейчас услышали, категорически не для распространения. Ни одно единое из сказанного здесь не должно покинуть этих стен!
По залу прокатились недовольные шепотки – спецкурсанты вставали и, переговариваясь, направлялись к выходу. Я поймал разочарованный взгляд Марка и едва заметно кивнул – «не тушуйся, потом расскажу!» Он кивнул в ответ и что-то шепнул Татьяне, покидавшей зал вместе с ним.
…а ведь и правда, придётся рассказывать! Секретность секретностью, но если хоть раз не оправдать доверие друзей – конец нашей слётанной боевой тройке.
Барченко дождался, когда зал опустеет.
– Сейчас, молодые люди, доктор Гоппиус ознакомит вас с ближайшими планами. Прошу вас, товарищ…
Гоппиус вышел к краю сцены и стал зачитывать, заглядывая в блокнот, «план мероприятий», сводящийся к тому, что «избранные» в сопровождении ассистентов должны будут отправиться на некий загадочный «объект». А до тех пор группа переводится на военное положение – категорически запрещается покидать территорию «особого корпуса», а так же вступать в контакты с кем-либо помимо присутствующих здесь. Робкую попытку Егора выяснить, что именно нам предстоит делать, Гоппиус пресёк в зародыше:
– Попрошу, молодые люди, впредь воздержаться от вопросов. В своё время вся необходимая информация будет доведена до вас в должном объёме. А пока ваша задача – точно исполнять полученные инструкции.
И он стал зачитывать список личных вещей, которые разрешено взять с собой на «объект», но я его уже не слушал. Всё и так было яснее ясного: Барченко затеял повторение эксперимента Либенфельса с зомби, выбор «спецкурсантов», которым предстоит принять в нём участие, однозначно на это указывает. В первую очередь это Нина с её талантом воспринимать «некротическую ауру». Потом Егор – если уж пули не способны остановить зомби, то возможно, с этим справится огонь? Илья – видимо, с его помощью Барченко намеревается изучить «эмоциональный мир» будущих зомби. И, наконец, ваш покорный слуга – как имеющий опыт общения с либенфельсовыми «мертвяками». И совершенно ясно, почему в список не включили ни Марка, ни Татьяну: во-первых, их таланты в этой истории вроде и ни к чему, а во вторых – зачем лишний раз подвергать неокрепшую психику подростков таким нагрузкам? Нет, правда, шутки шутками, а здесь я целиком согласен с Барченко, поскольку хорошо помнил, как корёжило Марка, почувствовавшего – только почувствовавшего! присутствие оживших мертвецов. И не смог бы поручится, что он выдержит повторное испытание.
«Никогда такого не было – и вот, опять!» – как говаривал один государственный деятель обновлённой демократической, прости господи, России. Конечно, флэшбэки были для меня отнюдь не в новинку, а всё же не случались они довольно давно – пожалуй, тех самых пор, как они выбрались из руин замка Либенфельса. Но и тот флэшбэк был каким-то… неубедительным, что ли? Так, пара- тройка сценок из повседневной жизни двадцать первого века, по большому счёту не содержавшие сколько-нибудь ценной информации.
И вот – опять! Причём на этот раз флэшбэк был не вполне типичный? Обычно – оно ведь как бывало? Я оказывался как бы в том, другом теле, и мог его органами чувств воспринимать окружающую реальность, но не был в состоянии ни вмешаться в происходящее, ни проникнуть в мысли того, кто в данный момент управлял этим телом. Мотивы, которые им двигали, соображения, исходя из которых он принимал решения – обо всём этом я мог только гадать.
Другое дело теперь. Собственно, ничего и не происходило: мой альтер эго просто сидел за столом – моим собственным письменным столом в кабинете моей собственной московской квартиры! – и думал, пытаясь переосмыслить некие сведения, полученные им… я не понял, каким именно способом, но без флэшбэков точно не обошлось. Причём – каких-то других, с моей личностью никак не связанных.
Непонятно? Сумбурно? А каково было мне, вынужденному воспринимать это в полубреду-полувидении, да ещё и находясь под впечатлением собрания, на котором Барченко объявил, что нам предстоит воспроизвести опыт Либенфельса, не к ночи будь помянут, с «мертвяками»-зомби? Вот-вот, меня это тоже не слишком воодушевило…
Флэшбэк накрыл меня, как только я прикоснулся головой к подушке. Продолжался он, от силы, минут пять, но выжал все силы досуха. Некоторое время я лежал, не шевелясь, и старался как-то разложить по полочкам полученные сведения. Получалось не очень, но кое-что я всё же понял – например, выстроил для себя всю цепочку «обмена разумов», который я запустил своим опрометчивым опытом на даче.
Итак, по порядку:
Шаг первый: престарелый олух Алексей Симагин, решивший от нечего делать, поэкспериментировать с найденными много лет назад записями «нейроэнергетической лаборатории» доктора Гоппиуса устанавливает вневременную и внепространственную связь с агрегатом, задействованным упомянутым Гоппиусом во время опыта. Результат – сознание старого дурня Алексея Симагина оказывается в теле пятнадцатилетнего Алёши Давыдова, играющего в опыте Гоппиуса малопочтенную роль подопытной крысы. Его сознание, в свою очередь, отправилось на столетие без малого вперёд, заняв освободившееся место в теле, пребывающем в самодельной симагинской установке. Агрегат Гоппиуса при этом надолго выходит из строя; на починку требуется несколько месяцев, за которые много чего происходит.
Шаг второй: Яков Блюмкин, по пятам которого идут, размахивая ордером на арест, оперативники из ОГПУ, вынуждает Гоппиуса (тот как раз закончил ремонт своей установки, ухитрившись сохранить настройки, использованные при прошлом опыте) усадить его в лабораторное кресло и повернуть рубильник. Результат – сознание Блюмкина ускользает из-под носа посланных его арестовать, отправившись в двадцать первый век. При этом сознание Алёши Давыдова, который так и не успел выбраться из опутанного проводами кресла в подвале симагинской дачи, возвращается назад, в тысяча девятьсот двадцать девятый год – но не в май, а в сентябрь, и не в своё тело, а в тело Блюмкина. Потрясение от двух перемещений подряд оказывается слишком сильным – бедняга то ли сходит с ума, то ли надолго утрачивает душевное равновесие настолько, что это мало отличается от безумия. В таком состоянии мнимого Блюмкина забирают явившиеся в лабораторию чекисты, и после допроса, на котором становится очевидно, что проку от арестованного нет, помещают в психиатрическую клинику.
Шаг третий – даже и не шаг, а, скорее, фон происходящего. Между сознаниями и оставленными ими телами возникает свообразная «внепространственная» рода связь, порождающая явление, которое я, за неимением подходящего термина, называю «флэшбэк». И относится это не только к связке «я – Блюмкин». Насколько мне удалось понять, у «дяди Яши» случились один или два кратковременных флэшбэка, связавшего его разум с помутнённым сознанием Алёши Давыдова, запертом в собственном Яшином теле. Что он вынес из этого, я толком не понял, но сам факт говорил…
…о чём? Только о том, что я запутался окончательно и не понимал, что дальше делать со всем этим. А ведь наверняка можно что-то сделать – Гоппиус жив-здоров, установка его действует, а раз так, то и произведённый однажды опыт можно ведь и повторить! Обратить, отразить… отреверсивовать? Да, вот правильный термин: пустить на реверс, повернуть вспять, вернуться к исходному состоянию.
…Вот только – зачем? Как бы не съехать крышей от всех этих сложностей – один я с ними не справлюсь, это очевидно…
– Марк, а Марк! Спишь, что ли?
Невнятное мычание было мне ответом. Я потряс его за плечо.
– Проснись же ты, наконец! Надо прямо сейчас обсудить кое- что важное.
Марк разлепил глаза и сел, недоумённо воззрившись на меня.
– Что… случилось что-то?
– Ну, это как посмотреть. – я присел на краешек его кровати. Помнишь, я как-то рассказывал, что могу как бы подключаться к сознанию «дяди Яши»?
Я старался говорить кратко, по возможности, не перескакивая с одной темы на другую. Судя по тому, как округлялись глаза Марка, получилось не очень. Оно и понятно: таких наворотов даже у Шекли не встречается…
– Прости, что разбудил, но мне больше не с кем поделиться. А носить в себе – так ведь и спятить недолго. Что думаешь, а?
Марк поскрёб ногтями грудь под майкой.
– Что тут скажешь, Лёх? Боюсь, у нас и без твоих видений будет, от чего спятить. Кстати, ты ведь так и не рассказал, что затеял Барченко – а обещал ведь!
…Вот и делись после этого с людьми сокровенным…
IХ
– Тридцать седьмой год?
– Эта дата упоминалась не раз. – Барченко протянул собеседнику листок бумаги с карандашными пометками. – И всегда – в связи с некими кровавыми событиями. То ли преследование политической оппозиции, то ли ликвидация заговорщиков в комсоставе РККА… Поймите правильно, Глеб Иванович: даже это я собирал по кусочкам, складывал из отдельных фраз, прозвучавших в бреду – и далеко не факт, что они были истолкованы верно. Но то, что там не раз мелькало и ваше имя, и имена ваших коллег из руководства ОГПУ – в этом я уверен.
– И всё, о чём он говорил, будет происходить с одобрения Сталина?
– Наш друг, не раз употреблял термин «культ личности», и именно в отношении Иосифа Джугашвили. Выводы делайте сами.
Бокий озадаченно нахмурился.
– Как-то это всё зыбко, Александр Васильевич… неконкретно. Хотелось бы более убедительного подтверждения.
– Никаких проблем. Арест с последующим расстрельным приговором достаточно для вас убедителен? Если верить этому бедняге, несколько лет у нас есть.
Барченко кивнул на лежащего мужчину. Тот словно понял, что речь идёт о нём – беспокойно заворочался, что-то неразборчиво забормотал, заскулил, попытался привстать. Не вышло – широкие кожаные ремни, притягивающие его к койке, держали крепко.
– Вы сказали: «У нас»? – Бокий поглядел на учёного с интересом.
– Моё имя тоже было названо в списке тех, кто будет расстрелян. Так что я, как вы понимаете, есть сторона заинтересованная.
– Какие-нибудь объяснения этому у вас есть?
– Объяснения? – Барченко помедлил. – Пожалуй, да. Видите ли, в редкие минуты просветления наш клиент упорно именует себя Алёшей Давыдовым, подростком из Читы, сыном погибшего на КВЖД телеграфиста. Такой подросток действительно был отобран в Читинском детприёмнике согласно циркуляру, разосланному год назад доктором Гоппиусом, доставлен в нейролабораторию, прошёл обследование, после чего отправился в коммуну имени Ягоды, где содержатся все, отобранные по этому циркуляру. Там он прошёл повторное обследование, был включён в программу развития особых способностей, где продемонстрировал значительный прогресс. Настолько значительный, что был включён в состав группы, занимавшейся возвращением известной вам книги, и даже эту группу возглавил…
– Это интересно. – Бокий проглядел переданные ему листки. – Получается, он и с Блюмкиным был знаком?
– Не просто знаком, Глеб Иванович. Именно с подачи Блюмкина он был включён в состав оперативной группы. И, заметьте, сработал отлично – книга-то у нас!
…А теперь Блюмкин называет себя Алексеем Давыдовым. – сказал Бокий. – При том, что настоящий Давыдов сейчас находится в коммуне и чувствует себя превосходно. Любопытно, чрезвычайно любопытно…
– Я полагаю, что всё дело в том, что случилось в московской лаборатории Гоппиуса. Когда Алексей Давыдов подвергся там обследованию, установка вышла из строя. Я полагаю, что это была не просто поломка – имело место некое неизвестное явление, в результате которого сознание Давыдова раздвоилось, и его… назовём это «отпечаток разума» – был ненадолго отправлен в будущее.
– В будущее? – Бокий иронически хмыкнул. – Воля ваша, Александр Иванович, но это уже уэллсовшина какая-то, роман «Машина времени»!
– Тем не менее, товарищ Бокий, другого объяснения у меня для вас нет. – Барченко высокомерно вздёрнул подбородок, при этом бульдожьи щёки затряслись. – Позже, когда в кресле оказался Блюмкин, «отпечаток» вернулся в наше время и слился с его сознанием, что и вызвало нынешнее помрачённое состояние. Можно сказать, что сейчас наш пациент страдает тяжелейшей формой шизофрении: с одной стороны, на него давит «отпечаток разума» Давыдова, а с другой – сознание самого Якова Блюмкина пытается осмыслить полученные сведения и выдаёт их в окружающий мир в форме более или менее связного бреда. И, главное…
Учёный запнулся, не решаясь продолжить. Бокий терпеливо ждал.
– Видите ли, Глеб Иванович, один из фрагментов книги, который мы успели перевести, ясно указывает, что мудрецы Гипербореи, кем бы они ни были на самом деле, умели управлять перемещениями сознания – как между разными телами, так и между временами, разделёнными многими веками. Возможно, Гоппиус, сам того не осознавая, прикоснулся к их тайне?
Бокий покачал головой.
– То есть вы наверняка ничего не знаете?
– Я с самого начала вам это сказал, Глеб Иванович. Всё, что у меня есть – предположения и гипотезы, более или менее обоснованные.
– Гипотезы, значит… – Бокий подошёл к койке. Теперь он нависал над лежащим. – Вы бы побрили его, что ли… щетине дней пять, не меньше!
Действительно, щёки и подбородок лежащего покрывала густая колючая даже на вид поросль.
– Мы бреем… иногда. – отозвался Барченко. – Но он при этом впадает в сильнейшее беспокойство, и приходится колоть фенобарбитал. А после каждого укола его откровения прерываются не меньше, чем дня на три.
– Да, это слишком долго. – согласился чекист. – Пусть тогда небритым лежит, тем более, что любоваться на него всё равно некому.
Он отошёл от койки к окну.
– И как вы собираетесь прояснить эти… гипотезы?
– Пока мы ограничены в средствах. По сути, можем только фиксировать его бред и пытаться как-то сложить отдельные кусочки в мозаику. Есть, правда, одна зацепка: можно поработать с самим Давыдовым.
– С тем подростком, который сейчас в коммуне? Вы же говорили, он и так задействован в программе Гоппиуса?
– Так и есть, Глеб Иванович, задействован. И, тем не менее, не помешает приглядеться к нему повнимательнее. Я не исключаю, что и у самого Давыдова могут быть какие-то воспоминания, скрытые знания, которыми он почему-то не торопится с нами делиться.
– А допросить не пробовали? – сощурился чекист. – Гадать, знаете ли, можно очень долго …
– Боюсь, столь прямолинейные методы только всё испортят. И потом – о чём мы будем его спрашивать?
Бокий задумался и кивнул.
– Да, пожалуй, вы правы. И какие тогда варианты?
– Одна из моих сотрудниц – она опытный психолог, обучалась по методике доктора Фрейда, – и раньше наблюдала за Давыдовым в процессе его обучения. И не просто наблюдала, согласно её отчётам их отношения стали весьма… хм… тесными.
– Он с ней спал, что ли? – весело удивился Бокий. – Ну, молодчага парень!
– Скорее, это заслуга нашей сотрудницы – мы изначально полагали, что такое сближение способно принести пользу. Недавно они снова встретились и до некоторой степени возобновили отношения.
– И что вы собираетесь выяснить с её помощью?
– Пусть попробует покопаться в его подсознании. Это неплохо срабатывает во сне, и в особенности, когда мужчина расслаблен после интимной близости. К сожалению, мы не знаем точно, что нужно искать, но если удастся нащупать хотя бы ниточку, это будет уже хорошо.
– Что ж, на том и порешим. – Бокий согласно кивнул. – И, вот что ещё, Александр Васильевич: попрошу не затягивать с «мертвяками». Если ваши предположения верны, то времени у нас не так уж и много.
– Ни в коем случае, товарищ Бокий. – Барченко поднял перед собой ладони. – Никаких задержек! Материала, который предполагается использовать, достаточно, все доставлены на место и содержатся под усиленной охраной. Работы на объекте вот-вот будут завершены, а мы пока заканчиваем готовить сотрудников. Кстати, Алексей Давыдов так же задействован – он, видите ли, обладает чрезвычайно полезными способностями, да и в возвращении книги сыграл не последнюю роль. Вот, кстати, отличный повод чтобы они с Еленой – так зовут нашу сотрудницу – могли встречаться почаще.
Чекист расплылся в скабрёзной ухмылке.
– Сводничаете, стало быть, Александр Васильевич? В ваши-то годы… Ну-ну, не надо обижаться, я же понимаю, что это для пользы дела! – поспешно добавил он, увидев, как гневно вскинулся учёный. – Кстати, карточки этой сотрудницы у вас нет? Любопытно взглянуть, что у вас в отделе за особо привлекательные кадры?
Нечасто флэшбэки отдавались у Яши такими взрывами эмоций. Обычно это была передача информации – в одну или в обе стороны, как когда. Но сам он всякий раз сохранял некоторую отстранённость – и во время самого процесса, и после, когда приходило время осмыслить пережитое.
Но на этот раз его зацепило всерьёз. Встревожило, пожалуй, даже испугало – да ведь и то сказать, пугаться было с чего. Не за себя, конечно, что могло ему угрожать здесь, в безопасном двадцать первом веке? Другое дело альтер эго, над чьей головой там, в прошлом, сгущаются грозовые тучи.! Уж лучше сцепиться с полудюжиной зомби иди толпой озлобленных арабов (Яша благодаря серии флэшбэков сумел довольно точно реконструировать похождения отчаянной троицы), чем оказаться втянутым в те смертельно опасные игры, которые затеяли его бывшие коллеги по ЧК-ОГПУ. Что они там планируют – заговор, переворот, покушение? В любом случае, объектом их «интереса» является Сталин со своей камарильей, и тут уж кто кого: то ли Коба, заподозрив неладное, успеет сковырнуть верхушку ОГПУ на несколько лет раньше, чем это должно произойти, то ли Бокий с Трилиссером осуществят свой безумный план и впустят в Кремль ораву жаждущих крови зомби.
В любом случае, людям, причастным к намечающимся разборкам, не позавидуешь – и неважно, по своей воле они влезли в эту историю, или втянуты случайно. Лес рубят – щепки летят, как высказался однажды вождь и учитель, а тут «лес» сводить под корень, сплошь, делянками…
Так что и у Марка Гринберга, и у Алёши Давыдова (он же Алексей Симагин) имеются все шансы стать теми самыми щепками. И неважно, кто возьмёт верх в намечающемся противостоянии – их уберут как свидетелей и носителей опасной информации, которая ни в коем случае не должна попасть в чужие руки. На всякий случай, одним словом. Кабы чего не вышло.
Яша прекрасно это осознавал; более того – понимал, что шансов вывернуться у ребят, почитай, нет вовсе, особенно, если учесть, что ни о чём таком они не подозревают. А хоть бы и подозревали – что они могут предпринять? Бежать? Куда – снова в Турцию и на Ближний Восток? Или отправиться за океан, понадеявшись на помощь «Дорадо»-Марио, с которым на всякий случай условились о способе связи на самый крайний случай? Звучит неплохо, но вряд ли осуществимо; да и достанут их, хоть в Бенгази, хоть в Чикаго, хоть в каком-нибудь Вальпараисо. Замешанных в настолько «чёрных» историях ищут, не считаясь с временем и затратами – и, как правило, находят. После чего лучшее, на что могут надеяться беглецы – это безымянные кресты на каком-нибудь заштатном кладбище. Да и то, если «исполнители» попадутся не вполне чуждые христианских добродетелей, а рассчитывать на это в их положении, по меньшей мере, опрометчиво…
А значит – что? Принимать правила затеянной не ими игры и рассчитывать, что кривая вывезет? С одной стороны, шансы есть: знают и умеют они немало, да и Барченко оба сейчас нужны по- настоящему. К тому же «особые способности», а так же послезнание и немаленький жизненный багаж Симагина – это всё серьёзные факторы, которые не стоит сбрасывать со счетов. Но вот опыт, бесценный опыт интриг и выживания в банке с пауками, на которую криво налеплена этикеткой «ОГПУ СССР», и куда они имели неосторожность угодить – его-то чем заменить? Сожрут обоих, и не подавятся, и девчонку не пожалеют – даром, что она в этой истории вообще ни с какого боку… Яша представил, как бы он сам мог сыграть в таких условиях, да и информацией, привезённой из будущего. На миг ему остро захотелось найти способ оказаться на месте своего альтер эго – там, в двадцать девятом, в коммуне имени товарища, будь он неладен, Ягоды. Уж он бы показал этим затейникам – Бокию, Барченко, да и всем остальным, включая обворожительную стерву Елену Андреевну – что такое высший класс тайных операций! А чью сторону он при этом выберет, кого решит поддержать, Сталина или заговорщиков-чекистов – это, как говорят в Одессе, «будем посмотреть»…
И ведь есть способ, есть! Установка Гоппиуса цела и, кажется, действует. Уверенности, конечно, нет, и быть не может – но, раз сработало с самим Яшей – что мешает повторить результат, но уже целенаправленно? Остаётся главный вопрос: как дать знать о Яшиных планах Давыдову-Симагину и как убедить его помочь воплотить их в жизнь? Далеко ведь не факт, что тот решиться на «обратный обмен», согласится вернуться в собственное далеко не молодое и не слишком здоровое тело. Опасности, конечно, опасностями, но молодой, полный сил организм плюс открывающиеся перспективы перекроить историю – это серьёзный аргумент в пользу того, чтобы оставить всё, как есть. А ведь есть ещё и шанс прикоснуться к настоящей тайне, в виде пресловутого «Порога Гибпербореи» который собирается-таки найти Барченко…
Но без помощи альтер эго Яше не обойтись: находясь в двадцать девятом году, только он может добиться содействия Гоппиуса – или хотя бы выяснить у него все подробности, касающиеся работы установки. Неважно как – заставить, запугать, подкупить, лишь бы аппаратура сработала как тогда, в ноябре, в московской лаборатории, когда сознание самого Яши отправилось в будущее…
Итак, первая задача ясна: установить связь с Симагиным. Единственный доступный путь – это флэшбэки, но пока Яша не научится контролировать их хоть отчасти, строить дальнейшие планы было бы сущей маниловщиной.
Что ж, как говорил кто-то умный: точно сформулированная задача несёт в себе решение. Главное – задать правильный вопрос, а это у него, кажется, получилось. С тем Яша и провалился в сон, как в тёмный омут канул. Утро вечера мудренее, хоть в двадцатом веке, хоть в двадцать первом, хоть в первом от сотворения мира…
Конец первой части.
Часть вторая
Обезьяна с гранатой
I
Гидроплан сделал вираж над внутренним рейдом и пошёл на посадку. Пронёсся над угрюмыми утюгами линкоров, замерших на бочках, снизился и коснулся острым, на лодочный манер, днищем воды – и побежал, оставляя за собой раздвоенный пенный след. Сбавил скорость, поравнялся с торчащими из воды остовами дредноутов кайзермарине, затопленных здесь, в Скаппа-Флоу в девятнадцатом году, и повернул к берегу.
– «Супермарин «Саутгемптон». – прокомментировал Джоунс. Сегодня он был не в прогулочном костюме валлийского джентльмена, а в строгой тёмно-синей с золотыми позументами, форме коммодора Королевского Флота. – Дальний разведчик, на вооружении состоит с двадцать пятого года. Вместимость семь человек, включая трёх членов экипажа, радиуса действия с избытком хватает для наших задач. Эти конкретные машины выпущены по спецзаказу – складные крылья и съёмное хвостовое оперение, чтобы можно было разместить в судовых ангарах и на палубе. Но всё равно, повозиться с ними предстоит немало.
– И сколько таких будет на авиаматке? – поинтересовался собеседник коммодора.
– Не на авиаматке, Алистер, а на гидроавианосце. Мы с вами на военном корабле Его Величества короля Георга Пятого, и здесь следует употреблять правильные термины. Хотя, вам, человеку сугубо штатскому, простительна некоторая неточность.
Кроули дёрнул уголком рта – в этой гримасе коммодор уловил оттенок презрения. Впрочем, его собеседник и не думал ничего скрывать: ему ли, признанному знатоку оккультных наук и создателю учения «Телема» забивать себе голову подобной ерундой?
– Я слышал, это довольно старое судно?
– Старое, но заслуженное. «Пегасус» принимал участие в прошлой экспедиции на русский Север во время их гражданской войны.
Оккультист проводил взглядом гидроплан, подруливавший к дощатому наплавному пирсу кабельтовых в трёх от гидроавианосца. Там его уже ждали техники в форменных флотских бушлатах – они приняли брошенные бортмехаником швартовый конец, завели его на чугунный кнехт и, подтянув летающую лодку к доскам, подали сходни.
– Значит, пилоты уже летали… туда, куда предстоит лететь на этот раз?
Коммодор покачал головой.
– Нет, в прошлый раз исследовательская группа добиралась до места по суше. У гидропланов с «Пегасуса» хватало других дел работы, куда более важных. Большевики наступали, приходилось много летать – в том числе, и корректировать огонь наших канонерок и мониторов, противостоящих на Северной Двине красным плавбатареям.
О том, что лётный состав на гидроавианосце с тех пор сменился, по меньшей мере, дважды, он упоминать не стал. Сухопутная крыса – что с него взять! Однако своё, оккультное дело понимает крепко, иначе к нему не обратились бы за помощью в столь деликатной операции…
А Кроули всё не мог успокоиться.
– Я слышал, судно собирались продать на слом?
Джоунс кивнул.
– Да, в двадцать пятом году «Пегасус» отправился в Сингапур, и там его вывели в резерв флота. И совсем было собрались порезать на иголки, когда подвернулась наша экспедиция.
В голосе «чёрного мага» мелькнуло беспокойство.
– То есть вы хотите, чтобы мы доверились такой ветхой посудине?
– Ну, старина «Пегасус» не такой уж и ветхий. Дело в том, Королевский Флот перестал нуждаться в судах подобного класса, тем более, старой постройки, переделанных из коммерческих пароходов. Проще было избавиться от него, чем содержать и измысливать какое ни то применение.
Кроули покачал головой – похоже, собеседник его не очень-то убедил.
– Так вы не ответили, сколько самолётов будет на борту?
– На заре своей карьеры в качестве гидроавианосца «Пегасус» нёс девять поплавковых разведчиков «Шорт». – снова принялся объяснять Джоунс. – Кроме того, на борт брали ещё один колёсный истребитель «Сопвич» – для него на полубаке была оборудована короткая взлётная палуба, ну а садиться предполагалось на суше. Но то были небольшие самолёты, одномоторные. Для наших целей такие не годятся, и сейчас ангары «Пегасуса» переделывают для «Саутгемптонов». Их предполагается взять четыре, возможно, пять и, чтобы освободить для них побольше места, с корабля снимают носовую взлётную палубу, катапульту и пушки.
– Говорите, снимают пушки? – тревога в голосе Кроули на этот раз было куда заметнее. – Но разумно ли это? Всё же мы будем заходить в территориальные воды страны, которую не назовёшь дружественной Соединённому Королевству!
«…Эти мне штатские… – коммодор едва скрыл презрительную усмешку. – Будь ты хоть трижды маг и оккультист, дражайший Алистер, а всё равно останешься дилетантом…»
– Артиллерийское вооружение «Пегасуса» состояло из четырёх трёхдюймовых орудий, два из которых были приспособлены для стрельбы по воздушным целям. В обычном морском бою от такого арсенала мало проку. К тому же, у русских на Севере совсем нет военного флота – боевые единицы морских сил Северного моря они ещё в двадцать третьем передали в ведение частей ОГПУ, несущих охрану морских границ. Да и что это за «боевые единицы», одно название: парочка старых гидрографических посудин, да полдюжины вооружённых рыбацких шхун, гордо именующихся тральщиками и сторожевиками.
Кроули покачал головой – похоже, собеседник его не убедил.
– И всё равно, соваться в гости к большевикам с голыми руками…
– Нас будет сопровождать лёгкий крейсер Его Величества «Каледон». – терпеливо объяснил Джоунс. – Тоже, между прочим, ветеран боевых действий в России, правда, не на Севере, а на Балтике. Он один сильнее всего, что русские могут наскрести, так что пусть это вас не волнует.
– Ну, разве что… – Кроули с сомнением посмотрел на собеседника. – А где сейчас этот ваш «Каледон»?
– Идёт в Скаппа-Флоу с Мальты, где он состоял в Средиземноморской эскадре Королевского флота. Раньше середины весны мы в путь не тронемся. Погода у побережья Кольского полуострова просто ужасная, а ведь нам придётся поднимать с воды и затем принимать обратно гидропланы, которые не выдержат даже двухбалльного волнения! Да и лёд на озере хорошо, если сойдёт к началу мая. Так что не переживайте, время есть.
Коммодор поднял воротник шинели – ветер с моря накатывался студёными дождевыми шквалами, от которых не спасали парусиновые обвесы мостика.
– Не спуститься ли нам в кают-компанию, Алистер? Здесь становится неуютно, а нам много ещё что нужно обсудить.
Кроули захлопнул бювар.
– Откуда у вас эти бумаги?
– Из Москвы. – ответил коммодор. – Но прежде нас их получил господин, о котором упоминал ваш французский друг – не припомню имени, тот, что основал в Фонтенбло институт с довольно-таки претенциозным названием…
– Георгий Гурджиев, «Институт гармонического развития человека». И никакой он мне не друг – встретились раз-другой, побеседовали, вот и всё знакомство. Я вообще слабо представляю, что у такого человека могут быть друзья.
– Как и у вас, Алистер, как и у вас. – Джоунс улыбнулся едва заметно, самыми кончиками губ. – Люди вашего склада нуждаются в поклонниках, единомышленниках, возможно, врагах – но друзьям возле них не место.
Кроули досадливо поморщился.
– Может, обойдёмся без философских отступлений? У меня имеются свои источники в Советской России – и они сообщают, что русский профессор Барченко плотно работает сейчас с «наследством» Либенфельса. И собирается в ближайшее время повторить его опыты с зомби.
– А каковы его шансы на успех, ваш источник не уточнил?
– Полагаю, он и сам этого не знает. – Кроули пожал плечами. – Но, боюсь, они невелики, ведь Барченко собирается пользоваться методикой Либенфельса. А к чему это привело – нам известно.
– А полученные бумаги не позволят вам сделать более точную оценку? – Джоунс кивнул на бювар, который Кроули всё ещё держал в руках.
– Сомнительно. Это перевод, сделанный тем же Либенфельсом, и ошибка вполне могла закрасться именно на этом этапе работы. Вот если бы вам удалось заполучить копию, а лучше фотоснимок страниц манускрипта – тогда было бы о чём говорить…
– Мы над этим работаем. – сухо отозвался Джоунс. – Пока похвастаться особо нечем, но ясно одно: Барченко изо всех сил старается ускорить процесс.
– А значит, с большой долей вероятности наделает и других ошибок, помимо тех, что заложены в стартовых, так сказать, условиях. – Кроули потёр ладонь о ладонь, словно предвкушая неудачу незнакомого, но уже неприятного ему русского. – Кстати, вы не знаете, почему он торопится? Я понимаю, Либенфельс – в замок проникли враги, они продвигались, уничтожая всех, кто пытался оказывать им сопротивление, и у него попросту не было другого выхода. Но сейчас – к чему торопиться? Ясно ведь, что эксперимент предстоит крайне рискованный, лучше потратить время и хорошенько во всём разобраться…
– Как вы догадываетесь, Алистер, Барченко действует не по своей инициативе и уж точно не из чисто научного любопытства. – усмехнулся коммодор. – Хотя вполне допускаю, что и такой мотив имеет место. У него высокопоставленный покровитель в ЧК, и, если верить моего информатору, он-то и торопит исследования. Возможно, хочет использовать полученные результаты во внутриполитической борьбе? Мы имеем сведения, что у большевиков намечаются перестановки в партийном руководстве, и это наверняка будет сопровождаться большой кровью.
– Одни коммунисты уничтожают других руками оживших мертвецов? – Кроули злорадно оскалился. – Сюжет прямо-таки для Брэма Стокера!
– Скорее уж, для Джеймса Уэйла. Я слышал, он ведёт переговоры с киностудией «Юниверсал» об экранизации «Франкенштейна, а этот сюжетец, пожалуй, будет поубойнее.
– А где они собираются брать… как бы это получше… исходный материал для своих опытов? Наверняка понадобится не один и не два… экземпляра?
– Вы невнимательно меня слушали, Алистер. Я, кажется, упоминал, что большевики решили поиграть в дворцовые перевороты – на свой, большевистский манер? А при таких играх в «материале», как вы изволили выразиться, недостатка не бывает. А если вспомнить, что покровитель Барченко состоит в высшем руководстве ЧК – то это последнее, о чём ему стоит беспокоиться.
– Тут я с вами соглашусь, Джоунс. – Кроули присел к столу и снова открыл бювар. – Тогда, с вашего позволения, следующий вопрос: вы действительно полагаете, что русские будут устраивать свои эксперименты возле того озера?
– Как раз нет. Они собираются проводить их где-то на Украине, сейчас не вспомню названия.
– Тогда зачем мы затеваем экспедицию? Согласитесь, расстояние от побережья Кольского полуострова до берегов Днепра великовато даже для ваших построенных по специальному заказу «Соммерсетширов»!
– «Саутгемптонов», Алистер, опять вы всё перепутали. – коммодор добродушно усмехнулся. – Можете быть уверены, что подобная бредовая мысль нам и в голову не могла прийти. Всё гораздо проще: если большевики действительно устроят у себя в Кремле очередную заварушку, да ещё и с участием зомби, им уж точно будет не до того, чтобы приглядывать за каким-то озером у своих дальних границ – как бы не рвался господин Барченко заглянуть за Порог Гипербореи. А значит, на этот раз нам ничто сможет помешать.
Гудок хрипло прозвучал над акваторией – один раз длинно и два коротко, отрывисто. Стоящий на бочке сторожевик (обычный сейнер, на полубаке которого торчала горная трёхдюймовка на тумбе) отозвался тремя тонкими свистками, приветствуя вымпел Морпогранохраны ОГПУ – зелёный, с парой косиц и красным прямоугольником, разделённым на манер корабельного гюйса Российской империи прямым и косым крестами, и с пятиконечной звездой в центре. Вымпел развевался на флагштоке ледокольного парохода «Таймыр», спущенного на воду в Санкт-Петербурге в далёком 1909-м году.
На долю старого ледокола выпало немало всякого. В навигацию четырнадцатого-пятнадцатого годов он вместе с ледокольным пароходом «Вайгач» первым из русских судов прошел Северным морским путем из Владивостока в Архангельск, открыв по дороге архипелаг Северная Земля – тогда на правах первооткрывателей ему присвоили имя «Материк Николая II». Затем участие в войне с германцами, служба в отряде судов Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана. Простояв два года в Архангельском порту на консервации, ледокол прошёл капремонт и в двадцать пятом был передан сначала в распоряжении Убекосевера (эта пугающая аббревиатура обозначала всего лишь «Управление по обеспечению безопасности кораблевождения на северных морях») а уже оттуда – в мурманский отряд Морпогранохраны, где и состоял по сей день. Ещё в пятнадцатом году, во время мировой войны, затронувшей и русский Север, «Таймыр» получил артиллерийское вооружение в виде двух противоаэропланных пушек Лендера, и теперь числился сторожевым судном.
– Что, дядя Мирон, идём норвежцев гонять? – спросил матрос. Имя его было Григорий, но соседи по кубрику обычно обращались к нему «Гришка». Круглая рязанская физиономия матроса была так густо усыпана веснушками, что они, казалось, делали немного ярче тёмный полярный день, много месяцев висящий над городом Романов-на-Мурмане, в семнадцатом году переименованный по распоряжению революционных властей в Мурманск.
Трюмный машинист, к которому все в команде, от капитана, до матроса-первогодка, обращался исключительно «дядя Мирон», служил на «Таймыре» при всех властях – и упрямо продолжал именовать город на старый манер, всякий раз вызывая этим приступ раздражения у судового помполита, как и смешки матросов – особенно тех, что пришли с недавним призывом. Таких, однако, было немного – во флот, тем более, в Морпогранохрану, входившую в структуры ОГПУ, брали людей проверенных, политически грамотных. И любого другого на месте «дяди Мирона» давно бы уже привлекли по статье «контрреволюционная агитация» за ослиное его упрямство, но тут коса в виде комиссарской принципиальности и верности пролетарскому долгу нашла на камень. В его роли выступил капитан «Таймыра», осознающий свою ответственность за то, чтобы судно выходило, когда это нужно, из порта – и делало это своим ходом. Обеспечить сей хлопотный процесс из всего наличного плавсостава мог один единственный человек – именно этот самый машинист, знавший механизмы ледокола как крот собственную нору. За что ему прощали и «Романов-на-Муроме», и постоянное нахождение под хмельком и упорное нежелание надевать форму. Казалось, окружающие перестали воспринимать дядю Мирона, как живого человека, а относились к нему, как к важной части судна – неказистой, изношенной, порой доставляющей мелкие неудобства, но жизненно необходимой для нормальной работы целого.
– А и погоняем! – ответил машинист рыжему Гришке. – И их, и англичан, ежели придётся – а то взяли, понимаешь, манеру браконьерствовать в наших водах! Не-ет, шалите, не пройдёт у вас этот паскудный номер, раньше не проходил, и теперь не пройдёт!
– А я слышал, будто англичане года три назад присылали в наши воды миноносец, своих браконьеров защищать. – влез в разговор другой матрос, чернявый, малорослый, весь какой-то узловатый, будто скрученный из тросов. – Скажи, дядьМирон, если такого встретим – одолеем его, или он нас потопит?
– Ежели миной под мидель долбанёт, тогда, известное дело, потопит. – рассудительно ответил машинист. – Только ты мне напомни, Семён – вы с Гришкой состоите у по боевому расписанию?
– Ну, у кормового орудия. – ответил матрос, которого звали Семёном. – Он заряжающим, а я подносчиком боеприпасу. А что?
– А то, что, ежели ты к пушке снаряд вовремя подашь, а Гришка энтот снаряд в ейный казённик запихнёт, как полагается то английский миноносец свою мину пустить не успеет, потому как сам потонет. Уразумел, салага?
Дядя Мирон дождался бравого «так точно!» от изрядно смущённого матроса и вперевалочку, как подобает морскому волку, потопал к трапу, ведущему вниз, к машине. А над рейдом раскатились ещё два гудка, на этот раз заунывно-долгие, прощальные. В ответ с пирса долетели жиденькие звуки марша, исполняемого духовым оркестром – так, согласно распоряжению капитана порта, провожали любое из судов Морпогранохраны, отправляющееся нести патрульную службу в неласковом зимнем море.
II
Коммуну наш сводный отряд – четверо спецкурсантов в сопровождении гоппиусовского доверенного лаборанта и два инструктора из числа тех, что развивали в нас «особые способности» – покинул в последних числах февраля. Отъезду предшествовало шумное празднование Дня Красной Армии, на котором мне, несмотря на титанические усилия, так и не удалось отвертеться от публичного выступления. Как я и предложил в своё время милейшей Эсфири Соломоновне, мы поставили нечто вроде мини-спектакля на основе «Баллады о синем пакете» Тихонова – с тремя разными исполнителями стихов, декорациями и музыкальным сопровождением. Действо продолжалось на сцене около пяти минут и успех имело ошеломительный – комсомольцы из харьковского горуправления ГПУ, приехавшие к коммунарам в гости по случаю праздника, даже сгоряча предложило повторить спектакль у них, в доме культуры. Комсомольская ячейка инициативу с восторгом поддержала (а что, могло быть как-то иначе?) и под руководством бессменного массовика-затейника завклубом коммуны гражданина Тяпко рьяно взялась за подготовку. Но это уже без меня – незримый фронт паранормального противостояния с силами мирового империализма ждать не станет!