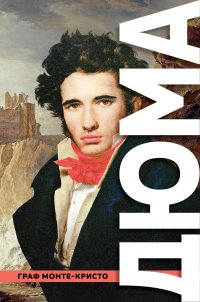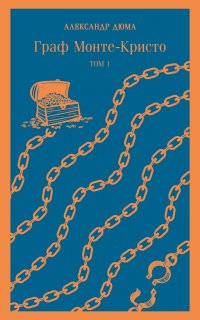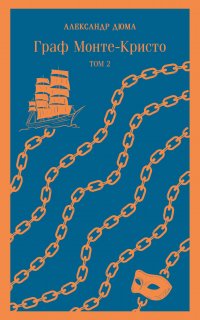Читать онлайн Черный тюльпан бесплатно
- Все книги автора: Александр Дюма
Серия «Эксклюзивная классика»
Перевод с французского Е. Овсянниковой
Серийное оформление А. Фереза, Е. Ферез
© ООО «Издательство АСТ», 2023
* * *
I
Благодарный народ
20 августа 1672 года город Гаага, такой оживленный, сияющий и нарядный, словно в нем царит вечный праздник, – город Гаага со своим тенистым парком, огромными деревьями, склоненными над готическими зданиями, с зеркальной поверхностью широких каналов, в которых отражаются почти восточные по стилю купола его колоколен, – 20 августа 1672 года город Гаага – столица семи Соединенных провинций – был заполнен высыпавшими на улицу возбужденными толпами граждан. Они, торопясь и волнуясь, с ножами за поясом, с мушкетами на плечах или с дубинами в руках, пестрым потоком стекались со всех сторон к грозной тюрьме Бюйтенгоф. Там в то время томился по доносу врача Тикелара, за покушение на убийство, Корнель де Витт, брат Яна де Витта, бывшего великого пенсионария Голландии.
Если бы история этой эпохи, и в особенности того года, с середины которого начинается наш рассказ, не была неразрывно связана с двумя вышеупомянутыми именами, то несколько последующих пояснительных строк могли бы показаться излишними. Но мы предупреждаем нашего старого друга-читателя, которому на первых страницах всегда обещаем, что он получит удовольствие, по мере наших сил выполняя это обещание, – мы предупреждаем его, что это введение так же необходимо для ясности нашего повествования, как и для понимания того великого политического события, с которым связана эта повесть.
Корнелю, или Корнелиусу де Витту, главному инспектору плотин области, бывшему бургомистру своего родного города Дордрехта и депутату генеральных штатов Голландии, было сорок девять лет, когда голландский народ, разочаровавшись в республиканском образе правления, как его понимал великий пенсионарий Голландии Ян де Витт, проникся страстной любовью к идее штатгальтерства, которое в свое время было особым эдиктом и навсегда упразднено в Голландии по настоянию Яна де Витта.
Так как очень редко бывает, чтобы общественное мнение в своей капризной изменчивости не связывало определенного принципа с какой-нибудь личностью, то и в данном случае народ связывал республику с двумя суровыми братьями де Витт, этими римлянами Голландии, непоколебимыми сторонниками умеренной свободы и благосостояния без излишеств. А за идеей штатгальтерства, казалось народу, стоит, склонив свое суровое, осененное мыслью чело, молодой Вильгельм Оранский, которому современники дали прозвище Молчаливый.
Оба брата де Витт проявляли величайшую осторожность в отношениях с Людовиком XIV, так как они видели рост его влияния на всю Европу, силу же его они почувствовали на самой Голландии, когда столь блестящим успехом закончилась его Рейнская кампания, в три месяца сломившая могущество Соединенных провинций.
Людовик XIV с давних пор был врагом голландцев, и они оскорбляли его или насмехались над ним всеми способами, правда – почти всегда устами находившихся в Голландии французских эмигрантов. Национальное самолюбие голландцев видело в нем современного Митридата, угрожающего их республике.
Народ питал к де Виттам двойную неприязнь. Вызывалась она, с одной стороны, упорной борьбой этих представителей государственной власти с устремлениями всей нации, с другой – естественным разочарованием побежденного народа, надеющегося, что другой вождь сможет спасти его от разорения и позора.
Этим другим вождем, готовым появиться, чтобы дерзновенно начать борьбу с Людовиком XIV, и был Вильгельм, принц Оранский, сын Вильгельма II, внук (через Генриетту Стюарт) Карла I – короля английского, тот молчаливый юноша, тень которого, как мы уже говорили, вырисовывалась за идеей штатгальтерства. В 1672 году ему было 22 года. Его воспитателем был Ян де Витт, стремившийся сделать из бывшего принца хорошего гражданина. Он-то и лишил его надежды на получение власти своим эдиктом об упразднении штатгальтерства на вечные времена. Но страх перед Людовиком XIV заставил голландцев отказаться от политики великого пенсионария, отменить этот эдикт и восстановить штатгальтерство для Вильгельма Оранского.
Великий пенсионарий преклонился перед волей сограждан; но Корнель де Витт проявил больше упорства и, несмотря на угрозы смертью со стороны оранжистских толп, осаждавших его дома в Дордрехте, отказался подписать восстанавливавший штатгальтерство акт. Только мольбы и рыдания жены заставили его наконец поставить свою подпись под этим актом, но к подписи он прибавил две буквы: V. С. – то есть vi coactus – «вынужденный силой».
И только чудом он спасся в этот день от своих врагов.
Что касается Яна де Витта, то и он ничего не выиграл от того, что быстрее и легче склонился перед волей сограждан. Спустя несколько дней после этого события на него было произведено покушение, – пронзенный несколькими ударами кинжала, он все же не умер от ран.
Это не удовлетворило оранжистов. Жизнь обоих братьев была постоянной преградой их замыслам. Они изменили свою тактику и пытались достичь клеветой того, чего не могли выполнить при помощи кинжала, рассчитывая в любой момент, когда будет нужно, вернуться к первой своей тактике.
Не всегда случается, чтобы для выполнения великого исторического дела появлялся столь же великий деятель. Когда же такое совпадение происходит, история тотчас же отмечает имя такого деятеля, чтобы им могли восхищаться потомки.
Но когда сам черт вмешивается в людские дела, чтобы погубить какого-нибудь человека или целое государство, редко бывает, чтобы у него под рукой не оказалось подлеца, которому достаточно шепнуть на ухо одно слово – и он тотчас же примется за работу. Таким подлецом, в данных обстоятельствах оказавшимся весьма подходящей для черта личностью, явился, как мы уже, кажется, говорили, Тикелар, по профессии врач.
Он заявил, что Корнель де Витт, возмущенный отменой эдикта о штатгальтерстве, что он, впрочем, доказал припиской к своей подписи, и воспламененный ненавистью к Вильгельму Оранскому, подговорил убийцу освободить республику от нового штатгальтера и что этим убийцей является он, Тикелар. Однако при одной лишь мысли о данном ему поручении он почувствовал такое угрызение совести, что предпочел лучше разоблачить преступление, чем его совершить.
Можно себе представить, какое возмущение охватило оранжистов при известии о заговоре. 16 августа 1672 года Корнель был арестован в своем доме, и его подвергли в Бюйтенгофской тюрьме пытке, чтобы вырвать у него признание в заговоре против Вильгельма.
Но Корнель был не только выдающимся умом, – он был также человеком великого мужества. Он принадлежал к той породе людей, которые преданы своим политическим убеждениям, так как их деды преданы были вере, которые улыбаются под пыткой; и в то время, как его терзали, он декламировал твердым голосом, скандируя размер, первую строфу оды Горация Yustum et tena cem[1] – ни в чем не признался и не только измотал палачей, но и поколебал их фанатическую уверенность в своей правоте.
Тем не менее судьи не предъявили Тикелару никакого обвинения, а Корнеля де Витта лишили всех должностей и званий и приговорили к вечному изгнанию из пределов республики.
При первых же слухах о возведенных на брата обвинениях Ян де Витт отказался от своей должности великого пенсионария. А Вильгельм Оранский, стараясь, впрочем, несколько ускорить события, поджидал, чтобы народ, идолом которого он являлся в то время, сложил ему из трупов обоих братьев две ступеньки, необходимые для того, чтобы взойти к месту штатгальтера.
Итак, 20 августа 1672 года, как мы уже сказали в начале этой главы, все население города стекалось к Бюйтенгофу, чтобы присутствовать при выходе из тюрьмы Корнеля де Витта, отправлявшегося в изгнание. Всем хотелось увидеть, какие следы оставила пытка на благородном теле этого человека, который так хорошо знал Горация.
Поспешим добавить, что не вся масса, стекавшаяся к Бюйтенгофу, стремилась туда с безобидной целью присутствовать на необычном зрелище; многие из толпы хотели сыграть при этом активную роль или, вернее, выступить в роли, которая, по их мнению, была раньше плохо сыграна.
Мы имеем в виду роль палача.
Правда, в толпе были также люди, спешившие к зданию тюрьмы с менее враждебными намерениями. Их главным образом интересовало зрелище, столь привлекательное для толпы и льстящее ее самолюбию, зрелище повергнутого в прах человека, который долго и гордо стоял во весь свой рост.
Ведь Корнель де Витт – этот бесстрашный человек – сидел в заключении и был измучен пыткой. Не увидят ли они его бледным, окровавленным, униженным? Разве это не блестящий триумф для буржуазии, еще более завистливой, чем простой народ, триумф, в котором каждый порядочный гражданин Гааги должен был принять участие?
– И к тому же, – говорили оранжистские подстрекатели, ловко рассеявшиеся в толпе с расчетом превратить ее одновременно в острое и тупое орудие, – не подвернется ли случай по пути от Бюйтенгофа до заставы швырнуть грязью, а может быть, даже и камнем в этого гордеца, главного инспектора плотин, который не только дал принцу Оранскому штатгальтерство vi coactus, но еще хотел его убить?
А более ярые враги Франции говорили, что надо бы действовать с толком, и если б нашлись в Гааге смелые люди, – они никогда бы не допустили Корнеля де Витта отправиться в изгнание. Ведь он, как только очутится за пределами Голландии, сейчас же снова начнет вместе с Францией плести свои интриги и будет жить со своим негодяем-братом Яном на золото маркиза Лувуа.
Понятно, что при таком настроении люди, жаждущие зрелища, обычно не идут шагом, а бегут. Вот почему жители Гааги стремительно бежали по направлению к Бюйтенгофу.
Среди наиболее торопившихся бежал и Тикелар, полный озлобления и не знающий, что же ему теперь предпринять. У оранжистов он считался олицетворением честности, национальной гордости и христианского милосердия.
Этот благородный негодяй изощрял все свое остроумие и пускал в ход всю силу своего воображения, рассказывая, как Корнель де Витт пытался купить его совесть, какие суммы денег он сулил ему и какие адские махинации строил заблаговременно, чтобы устранить для него, Тикелара, все затруднения при покушении на убийство.
И каждая его фраза жадно воспринималась толпой, вызывала бурные возгласы восторженной любви к Вильгельму Оранскому и слепой ненависти к братьям де Витт.
Толпа готова была проклинать неправедных судей, которые своим приговором давали возможность скрыться живым и невредимым такому ужасному преступнику, каким был этот негодяй Корнель де Витт.
А подстрекатели тем временем шептали исподтишка:
– Он ускользнет от нас. Он уедет.
Другие добавляли:
– В Схвенингене его поджидает корабль, французский корабль. Тикелар видел его.
– Доблестный Тикелар! Честный Тикелар! – хором кричала толпа.
– А вы не думаете о том, – произнес кто-то, – что вместе с Корнелем сбежит и Ян, такой же предатель, как и его брат?
– И эти два мерзавца будут проедать во Франции наши деньги, деньги за наши корабли, наши арсеналы, наши верфи, проданные Людовику XIV!
– Не дадим им уехать! – воскликнул некий патриот, более ярый, чем прочие.
– К тюрьме! К тюрьме! – завопила толпа.
И под эти возгласы ускорялись шаги горожан, заряжались мушкеты, сверкали бердыши и загорались глаза.
Однако никакого насилия пока еще не было совершено, и кавалерийская цепь, охранявшая доступ к Бюйтенгофу, стояла суровая, непроницаемая, молчаливая и более грозная в своей неподвижности, чем эти возбужденные толпы гаагских буржуа с их криками и угрозами. Отряд стоял неподвижно под зорким взглядом своего командира, капитана гаагской кавалерии, который сидел на коне с обнаженной, но опущенной к стремени шпагой.
Этому отряду кавалерии, единственному барьеру, защищавшему тюрьму, пришлось сдерживать не только бушующую, разнузданную толпу народа, но также и отряд гражданской милиции, выстроенный перед тюрьмой для совместного с кавалерией поддержания порядка. Милиция подавала пример смутьянам провокационными выкриками:
– Да здравствует принц Оранский! Долой предателей!
Правда, присутствие капитана Тилли и его кавалеристов несколько сдерживало пыл вооруженных буржуа, но вскоре они разъярились от собственных криков, и, так как им не было понятно, что можно быть храбрыми, не производя шума, они приняли спокойствие кавалеристов за робость и двинулись к тюрьме, увлекая за собой толпу.
Тогда граф Тилли, нахмурив брови и подняв шпагу, один двинулся им навстречу.
– Эй, вы, господа из гражданской милиции, – воскликнул он, – зачем вы тронулись с места и чего вы хотите?
Буржуа замахали мушкетами, продолжая кричать:
– Да здравствует принц Оранский! Смерть предателям!
– Да здравствует принц Оранский, пусть так, – сказал Тилли, – хотя я и предпочитаю веселые лица мрачным. Смерть предателям! Если вам угодно, но при условии, что вы ограничитесь только криками. Кричите сколько вам угодно: «Смерть предателям», – но выполнить этой угрозы вам не придется. Я поставлен здесь, чтобы этого не допустить, и не допущу. – И затем, повернувшись к своим солдатам, скомандовал: – Целься!
Солдаты Тилли выполнили команду с невозмутимым спокойствием. И милиция и толпа немедленно отступили назад в некотором смятении, вызвавшем улыбку у командира кавалерии.
– Ну-ну, – сказал он насмешливым тоном, свойственным только военным, – не пугайтесь, граждане, мои солдаты не сделают ни одного выстрела, но зато и вы, со своей стороны, не сделаете ни одного шага к тюрьме.
– А знаете ли вы, господин офицер, что у нас есть мушкеты? – крикнул взбешенный командир гражданской милиции.
– Еще бы, я хорошо вижу, что у вас есть мушкеты, – ответил Тилли, – они все время мелькают у меня перед глазами; но заметьте также и вы, что у нас есть пистолеты, которые прекрасно бьют на пятьдесят шагов, а вы стоите только в двадцати пяти.
– Смерть предателям! – загорланили возмущенные буржуа.
– Ну, – проворчал офицер, – вы повторяете все одно и то же; это надоедает.
И он занял свой пост во главе отряда, в то время как смятение вокруг Бюйтенгофа все усиливалось.
И однако, возбужденные толпы не знали, что в тот самый момент, когда они чуяли кровь одной из своих жертв, другая жертва, словно спеша навстречу своей судьбе, направлялась в Бюйтенгоф и проходила в каких-нибудь ста шагах от площади, позади отряда кавалеристов.
Действительно, Ян де Витт только что вышел из своей кареты и в сопровождении слуги спокойно шел пешком по переднему двору, ведущему к тюрьме.
Он назвал себя привратнику, который, впрочем, и так знал его.
– Здравствуй, Грифус, – сказал он, – я пришел, чтобы увезти моего брата Корнеля де Витта, приговоренного, как тебе известно, к изгнанию.
Привратник, похожий на выдрессированного медведя, обученного открывать и закрывать двери тюрьмы, поклонился Яну де Витту и пропустил его внутрь здания, двери которого сейчас же за ним закрылись.
Пройдя шагов десять, Ян де Витт встретил очаровательную семнадцати- или восемнадцатилетнюю девушку в фрисландском костюме, которая сделала ему изящный реверанс.
– Здравствуй, прекрасная милая Роза, – сказал он, взяв ее ласково за подбородок. – Как чувствует себя мой брат?
– О, господин Ян, – ответила девушка, – я опасаюсь не за страдания, которые ему причинили, – они ведь уже прошли.
– Чего же ты боишься, красавица?
– Я опасаюсь, господин Ян, зла, которое ему намереваются еще причинить.
– Ах да, – сказал де Витт, – ты думаешь об этой толпе, не правда ли?
– Вы слышите, как она бушует?
– Да, действительно, народ очень возбужден, но так как мы ему, кроме добра, ничего не сделали, то, может быть, при виде нас он успокоится.
– К несчастью, этого недостаточно, – прошептала девушка и удалилась, заметив властный знак, который ей сделал отец.
– Да, недостаточно, дитя мое, ты права.
– Вот молоденькая девушка, – шептал, продолжая свой путь, Ян де Витт, – по всей вероятности, она не умеет даже читать и, следовательно, никогда ничего не читала, но она одним словом охарактеризовала историю человечества.
И Ян де Витт, бывший великий пенсионарий, по-прежнему спокойный, но только более грустный, чем при входе, продолжал свой путь к камере брата.
II
Два брата
В тревоге красавицы Розы было верное предчувствие: в то время как Ян де Витт поднимался по каменной лестнице, ведущей в тюрьму к брату, вооруженные буржуа прилагали все усилия, чтобы удалить отряд Тилли, не дававший им действовать.
При виде их стараний народ, одобрявший благие намерения своей милиции, кричал во всю глотку:
– Да здравствует гражданская милиция!
Что касается Тилли, то он, столь же осторожный, сколь и решительный, вел под охраной пистолетов своего эскадрона переговоры с гражданской милицией, стараясь втолковать ей, что правительством дан ему приказ охранять тремя кавалерийскими взводами тюрьму и прилегающие улицы.
– Зачем этот приказ? Зачем охранять тюрьму? – кричали оранжисты.
– Ну вот, – ответил Тилли, – теперь вы мне задаете вопросы, на которые я вам не могу ответить. Мне приказали: «Охраняйте», – я охраняю. Вы, господа, сами почти военные, и вы должны знать, что военный приказ не оспаривается.
– Но этот приказ вам дали для того, чтобы предоставить возможность предателям выйти за пределы города.
– Вполне возможно, раз предатели осуждены на изгнание, – ответил Тилли.
– Но от кого исходит приказ?
– От правительства, конечно.
– Они предают нас!
– Этого я не знаю.
– И вы также изменник!
– Я?
– Да, вы.
– Ах вот как! Но подумайте, господа горожане, кому мог бы я изменить? Правительству? Но где же здесь измена? Ведь я нахожусь у него на службе и в точности выполняю его приказ.
Ввиду того, что граф был совершенно прав и на его ответ нечего было возразить, крики и угрозы стали еще громче. Эти крики и угрозы были ужасны, а граф отвечал на них с самой изысканной вежливостью:
– Господа горожане, убедительно прошу вас, разрядите свои мушкеты; может произойти случайный выстрел, и, если он ранит хоть одного из моих кавалеристов, мы уложим у вас человек двести. Нам это будет очень неприятно, а вам еще неприятнее; тем более что ни у меня, ни у вас подобных намерений нет.
– Если бы вы это сделали, – кричали буржуа, – мы бы тоже открыли по вас огонь.
– Так, так, но если бы вы, стреляя в нас, перебили бы нас всех от первого до последнего, все же от этого не воскресли бы и ваши люди, убитые нами.
– Уступите нам площадь, и вы поступите как честный гражданин.
– Во-первых, я не гражданин, – ответил Тилли, – я офицер, что далеко не одно и то же; а затем я не голландец, а француз, что еще более усугубляет разницу. Я признаю только правительство, которое платит мне жалованье. Принесите мне от него приказ очистить площадь, и я в ту же минуту сделаю полуоборот, тем более что мне самому ужасно надоело здесь торчать.
– Да! Да! – закричала сотня голосов, которую сейчас же поддержали еще пятьсот других. – К ратуше! К депутатам! Скорей! Скорей!
– Так, так, – бормотал Тилли, глядя, как удаляются самые неистовые из горожан, – идите к ратуше, идите требовать, чтобы депутаты совершили подлость, и вы увидите, удовлетворят ли ваше требование. Идите, мои друзья, идите!
Достойный офицер полагался на честь должностных лиц так же, как и они полагались на его честь солдата.
– Знаете, капитан, – шепнул графу на ухо его старший лейтенант, – пусть депутаты откажут этим бесноватым в их просьбе, но все же пусть они нам пришлют подкрепление; я полагаю, оно нам не повредит.
В это время Ян де Витт, оставленный нами, когда он поднимался по каменной лестнице после разговора с тюремщиком Грифусом и его дочерью Розой, подошел к двери камеры, где на матраце лежал его брат Корнель, которого, как мы уже говорили, прокурор велел подвергнуть предварительной пытке.
Приговор об его изгнании был получен, и тем самым отпала надобность в дальнейшем дознании и новых пытках.
Корнель, вытянувшись на своем ложе, лежал с раздробленными кистями, с переломанными пальцами. Он не сознался в не совершенном им преступлении и после трехдневных страданий вздохнул наконец с облегчением, узнав, что судьи, от которых он ожидал смерти, соблаговолили приговорить его только к изгнанию.
Сильный телом и непреклонный духом, он бы очень разочаровал своих врагов, если бы они могли в глубоком мраке бюйтенгофской камеры разглядеть игравшую на его бледном лице улыбку мученика, который забывает о всей мерзости земной, когда перед ним раскрывается сияние неба.
Напряжением скорее своей воли, чем благодаря какой-либо реальной помощи, Корнель собрал все свои силы, и теперь он подсчитывал, сколько времени еще могут юридические формальности задержать его в заключении.
Это было как раз в то время, когда гражданская милиция, которой вторила толпа, яростно поносила братьев де Витт и угрожала защищавшему их капитану Тилли. Шум, подобно поднимающемуся морскому приливу, докатился до стен тюрьмы и дошел до слуха узника.
Но несмотря на угрожающий характер, этот шум не встревожил Корнеля, он даже не поднялся к узкому решетчатому окну, через которое проникал уличный гул и дневной свет.
Узник был в таком оцепенении от непрерывных физических страданий, что они стали для него почти привычными. Наконец он с наслаждением чувствовал, что его дух и его разум готовы отделиться от тела; ему даже казалось, будто они уже распрощались с телом и витают над ним подобно пламени, которое взлетает к небу над почти потухшим очагом.
Он думал также о своем брате. И может быть, эта мысль появилась потому, что он каким-то неведомым образом издали почувствовал приближение брата.
В ту самую минуту, когда представление о Яне так отчетливо возникло в мозгу у Корнеля, что он готов был прошептать его имя, дверь камеры распахнулась, вошел Ян и быстрыми шагами направился к ложу заключенного. Корнель протянул изувеченные руки с забинтованными пальцами к своему прославленному брату, которого ему удалось кое в чем превзойти: если ему не удалось оказать стране больше услуг, чем Ян, то, во всяком случае, голландцы ненавидели его сильнее, чем брата.
Ян нежно поцеловал Корнеля в лоб и осторожно опустил на тюфяк его больные руки.
– Корнель, бедный мой брат, – произнес он, – ты очень страдаешь, не правда ли?
– Нет, я больше не страдаю, ведь я увидел тебя.
– Но зато какие для меня мучения видеть тебя в таком состоянии, мой бедный, дорогой Корнель!
– Потому-то и я больше думал о тебе, чем о себе самом, и все их пытки вырвали у меня только одну жалобу: «Бедный брат». Но ты здесь, и забудем обо всем. Ты ведь приехал за мной?
– Да.
– Я выздоровел. Помоги мне подняться, брат, и ты увидишь, как хорошо я могу ходить.
– Тебе не придется далеко идти, мой друг, – моя карета стоит позади стрелков отряда Тилли.
– Стрелки Тилли? Почему же они стоят там?
– А вот почему: предполагают, – ответил со свойственной ему печальной улыбкой великий пенсионарий, – что жители Гааги захотят посмотреть на твой отъезд, и опасаются, как бы не произошло волнений.
– Волнений? – переспросил Корнель, пристально взглянув на несколько смущенного брата. – Волнений?
– Да, Корнель.
– Так вот что я сейчас слышал, – произнес Корнель, как бы говоря сам с собой. Потом он опять обратился к брату: – Вокруг Бюйтенгофа толпится народ?
– Да, брат.
– Как же тебе удалось?
– Что?
– Как тебя сюда пропустили?
– Ты хорошо знаешь, Корнель, что народ нас не особенно любит, – заметил с горечью великий пенсионарий. – Я пробирался боковыми уличками.
– Ты прятался, Ян?
– Мне надо было попасть к тебе, не теряя времени. Я поступил так, как поступают в политике и на море при встречном ветре: я лавировал.
В этот момент в тюрьму донеслись с площади еще более яростные крики.
Тилли вел переговоры с гражданской милицией.
– О, ты – великий кормчий, Ян, – заметил Корнель, – но я не уверен, удастся ли тебе сквозь бурный прибой толпы вывести своего брата из Бюйтенгофа так же благополучно, как ты провел между мелей Шельды до Антверпена флот Тромпа.
– Мы все же с Божьей помощью попытаемся, Корнель, – ответил Ян, – но сначала я должен тебе кое-что сказать.
– Говори.
С площади снова донеслись крики.
– О-о, – заметил Корнель, – как разъярены эти люди! Против тебя? Или против меня?
– Я думаю, что против нас обоих, Корнель. Я хотел сказать тебе, брат, что оранжисты, распуская про нас гнусную клевету, ставят нам в вину переговоры с Францией.
– Глупцы!..
– Да, но они все же упрекают нас в этом.
– Но ведь если бы наши переговоры успешно закончились, они избавили бы их от поражений при Орсэ, Везеле и Рейнберге. Они избавили бы их от перехода французов через Рейн, и Голландия все еще могла бы считать себя, среди своих каналов и болот, непобедимой.
– Все это верно, брат, но еще вернее то, что если бы сейчас нашли нашу переписку с господином де Лувуа, то хоть я и опытный лоцман, но не смог бы спасти даже и тот хрупкий челнок, который должен увезти за пределы Голландии де Виттов, вынужденных теперь искать счастья на чужбине. Эта переписка, которая честным людям доказала бы, как сильно я люблю свою страну и какие личные жертвы я готов был принести во имя ее свободы, во имя ее славы, – эта переписка погубила бы нас в глазах оранжистов, наших победителей. И я надеюсь, дорогой Корнель, что ты ее сжег перед отъездом из Дордрехта, когда ты направлялся ко мне в Гаагу.
– Брат, – ответил Корнель, – твоя переписка с господином де Лувуа доказывает, что в последнее время ты был самым великим, самым великодушным и самым мудрым гражданином семи Соединенных провинций. Я дорожу славой своей родины, особенно я дорожу твоей славой, брат, и я, конечно, не сжег этой переписки.
– Тогда мы погибли для этой земной жизни, – спокойно сказал бывший великий пенсионарий, подходя к окну.
– Нет, Ян, наоборот, мы спасем нашу жизнь и одновременно вернем былую популярность.
– Что же ты сделал с этими письмами?
– Я поручил их в Дордрехте моему крестнику, известному тебе Корнелиусу ван Берле.
– О, бедняга! Этот милый, наивный мальчик, этот ученый, который, что так редко встречается, знает столько вещей, а думает только о своих цветах. И ты дал ему на хранение этот смертоносный пакет! Да, брат, этот славный бедняга Корнелиус погиб.
– Погиб?
– Да. Он проявит либо душевную силу, либо слабость. Если он окажется сильным (ведь, несмотря на то что он живет вне всякой политики, что он похоронил себя в Дордрехте, что он страшно рассеян, он все же рано или поздно узнает о нашей судьбе), если он окажется сильным, он будет гордиться нами; если окажется слабым, он испугается своей близости к нам. Сильный, он громко заговорит о нашей тайне, слабый, он ее так или иначе выдаст. В том и другом случае, Корнель, он погиб, и мы тоже. Итак, брат, бежим скорее, если еще не поздно.
Корнель приподнялся на своем ложе и взял за руку брата, который вздрогнул от прикосновения повязки.
– Разве я не знаю своего крестника? – сказал Корнель. – Разве я не научился читать каждую мысль в голове ван Берле, каждое чувство в его душе? Ты спрашиваешь меня, – силен ли он? Ты спрашиваешь меня, – слаб ли он? Ни то ни другое. Но не все ли равно, каков он сам. Ведь в данном случае важно лишь, чтоб он не выдал тайны, но он и не может ее выдать, так как он ее даже не знает.
Ян с удивлением повернулся к брату.
– О, – продолжал с кроткой улыбкой Корнель, – главный инспектор плотин ведь тоже политик, воспитанный в школе Яна. Я тебе повторяю, что ван Берле не знает ни содержания, ни значения доверенного ему пакета.
– Тогда поспешим, – воскликнул Ян, – пока еще не поздно, дадим ему распоряжение сжечь пакет.
– С кем же мы пошлем это распоряжение?
– С моим слугой Кракэ, который должен был сопровождать нас верхом на лошади. Он вместе со мной пришел в тюрьму, чтобы помочь тебе сойти с лестницы.
– Подумай хорошенько, прежде чем сжечь эти славные документы.
– Я думаю, что раньше всего, мой славный Корнель, необходимо братьям де Витт спасти свою жизнь для того, чтобы спасти затем свою репутацию. Если мы умрем, кто защитит нас, Корнель? Кто сможет хотя бы понять нас?
– Так ты думаешь, что они убьют нас, если найдут эти бумаги?
Не отвечая брату, Ян протянул руку по направлению к площади Бюйтенгофа, откуда доносились яростные крики.
– Да-да, – сказал Корнель, – я хорошо слышу эти крики, но что они значат?
Ян распахнул окно.
– Смерть предателям! – вопила толпа.
– Теперь ты слышишь, Корнель?
– И это мы – предатели? – сказал заключенный, подняв глаза к небу и пожимая плечами.
– Да, это мы, – повторил Ян де Витт.
– Где Кракэ?
– Вероятно, за дверью камеры.
– Так позови его.
Ян открыл дверь и позвал верного слугу:
– Войдите, Кракэ, и запомните хорошенько, что вам скажет мой брат.
– О нет, Ян, словесного распоряжения недостаточно, к несчастью, мне необходимо написать его.
– Почему же?
– Потому что ван Берле никому не отдаст и не сожжет пакета без моего точного приказа.
– Но сможешь ли ты, дорогой друг, писать? – спросил Ян, взглянув на опаленные и изувеченные руки несчастного.
– О, были бы только чернила и перо!
– Вот по крайней мере карандаш.
– Нет ли у тебя бумаги? Мне ничего не оставили.
– А вот Библия, оторви первую страницу.
– Хорошо.
– Но твой почерк сейчас будет неразборчив.
– Пустяки, – сказал Корнель, взглянув на брата, – эти пальцы, вынесшие огонь палача, и эта воля, победившая боль, объединятся в одном общем усилии, и не бойся, брат, строчки будут безукоризненно ровные.
И действительно, Корнель взял карандаш и стал писать.
Тогда стало заметно, как от давления израненных пальцев на карандаш на повязке выступили капли крови.
На висках великого пенсионария выступил пот. Корнель писал:
«Дорогой крестник! Сожги пакет, который я тебе вручил, сожги его, не рассматривая, не открывая, чтобы содержание его осталось тебе неизвестным. Тайны такого рода, какие он содержит, убивают его владельцев; сожги, и ты спасешь Яна и Корнеля. Прощай и люби меня. Корнель де Витт. 20 августа 1672 года».
Ян со слезами на глазах вытер каплю крови, просочившуюся на бумагу, и передал письмо Кракэ с последними напутствиями. Затем он вернулся к Корнелю, который от испытанных страданий еще больше побледнел и был близок к обмороку.
– Теперь, – сказал он, – когда до нас донесется свисток нашего храброго слуги Кракэ, это будет означать, что он уже за пределами толпы, по ту сторону пруда. Тогда и мы тронемся в путь.
Не прошло и пяти минут, как продолжительный и сильный свист прорезал вершину черных вязов и заглушил вопли толпы у Бюйтенгофа.
В знак благодарности Ян простер руки к небу.
– Теперь, – сказал он, – двинемся в путь, Корнель.
III
Воспитанник Яна де Витта
В то время как доносившиеся к братьям все более и более яростные крики собравшейся у Бюйтенгофа толпы заставили Яна де Витта торопить отъезд Корнеля, – в это самое время, как мы уже упоминали, депутация от горожан направилась в городскую ратушу, чтобы потребовать отозвания кавалерийского отряда Тилли.
От Бюйтенгофа до Хогстрета совсем недалеко. В толпе можно было заметить незнакомца, который с самого начала с любопытством следил за деталями разыгравшейся сцены. Вместе с делегацией или, вернее, вслед за делегацией он направился к городской ратуше, чтобы узнать, что там произойдет.
Это был молодой человек, не старше двадцати двух – двадцати трех лет, не отличавшийся, судя по внешнему виду, большой силой. Он старался скрыть свое бледное длинное лицо под тонким платком из фрисландского полотна, которым беспрестанно вытирал покрытый потом лоб и пылающие губы. По всей вероятности, у него были веские основания не желать, чтобы его узнали. У него был зоркий, словно у хищной птицы, взгляд, и длинный орлиный нос, тонкий прямой рот, походивший на открытые края раны. Если бы Лафатер жил в ту эпоху, этот человек мог бы служить ему прекрасным объектом для его физиогномических наблюдений, которые с самого начала привели бы к неблагоприятным для объекта выводам.
«Какая разница существует между внешностью завоевателя и морского разбойника? – спрашивали древние. И отвечали: – Та же разница, что между орлом и коршуном».
Уверенность или тревога?
Мертвенно-бледное лицо, хрупкое болезненное сложение, беспокойная походка человека, следовавшего от Бюйтенгофа к Хогстрету за рычащей толпой, могли быть признаками, характерными или для недоверчивого хозяина, или для встревоженного вора. И полицейский, конечно, увидел бы в нем последнее, благодаря старанию, с каким человек, интересующий нас в данный момент, пытался скрыть свое лицо.
К тому же он был одет очень просто и, по-видимому, не имел при себе никакого оружия. Его худая, но довольно жилистая рука, с сухими, но белыми тонкими аристократическими пальцами опиралась не на руку, а на плечо офицера, который до того момента, как его спутник пошел за толпой, увлекая его за собой, стоял, держась за эфес шпаги, и с вполне понятным интересом следил за происходившими событиями.
Дойдя до площади Хогстрета, человек с бледным лицом стал вместе со своим сотоварищем у окна одного дома за открытой, выступающей наружу ставней и устремил свой взор на балкон городской ратуши.
На неистовые крики толпы окно ратуши распахнулось, и на балкон вышел человек.
– Кто это вышел на балкон? – спросил офицера молодой человек, только взглядом указывая на заговорившего, который казался очень взволнованным и скорее держался за перила, чем опирался на них.
– Это депутат Бовельт, – ответил офицер.
– Что за человек этот депутат Бовельт? Знаете вы его?
– Порядочный человек, как мне кажется, монсеньор.
При этой характеристике Бовельта, данной офицером, молодой человек сделал движение, в котором выразилось и странное разочарование и явная досада. Офицер заметил это и поспешил добавить:
– По крайней мере так говорят, монсеньор. Что касается меня, то я этого утверждать не могу, так как лично не знаю Бовельта.
– Порядочный человек, – повторил тот, кого называли монсеньором, – но что вы хотите этим сказать? Честный? Смелый?
– О, пусть монсеньор извинит меня, но я не осмелился бы дать точную характеристику лица, которое, повторяю вашему высочеству, я знаю только по наружности.
– Впрочем, – сказал молодой человек, – подождем, и мы увидим.
Офицер наклонил голову в знак согласия и замолчал.
– Если этот Бовельт порядочный человек, – продолжал принц, – то он не особенно благосклонно примет требование этих одержимых.
Нервное подергивание руки принца, помимо его воли судорожно вздрагивавшей на плече спутника, выдавало жгучее нетерпение, которое он порою, а особенно в настоящий момент, так плохо скрывал под ледяным и мрачным выражением лица.
Послышался голос предводителя делегации горожан. Последний требовал от депутата, чтобы тот сказал, где находятся другие его товарищи.
– Господа, – повторил Бовельт, – я говорю вам, что в настоящий момент я здесь один с господином Аспереном и ничего не могу решать на свой страх.
– Приказ! Приказ! – крикнули тысячи голосов.
Бовельт пытался говорить, но слов не было слышно, и можно было видеть только быстрые отчаянные движения его рук.
Убедившись, однако, что он не может заставить толпу слушать себя, Бовельт повернулся к окну и позвал Асперена.
Асперен также вышел на балкон. Его встретили еще более бурными криками, чем депутата Бовельта десять минут тому назад.
Он также пытался говорить с толпой, но вместо того чтобы слушать увещания господина Асперена, толпа предпочла прорваться сквозь правительственную стражу, которая, впрочем, не оказала никакого сопротивления суверенному народу.
– Пойдемте, – сказал спокойно молодой человек, в то время как толпа врывалась в главные ворота ратуши. – Переговоры, как видно, будут происходить внутри. Пойдемте, послушаем, о чем будут говорить.
– О, монсеньор, монсеньор, будьте осторожны!
– Почему?
– Многие из этих депутатов встречались с вами, и достаточно лишь одному узнать ваше высочество…
– Да, чтобы можно было обвинить меня в подстрекательстве. Ты прав, – сказал молодой человек, и его щеки на миг покраснели от досады, что он проявил несдержанность и обнаружил свои желания. – Да, ты прав, останемся здесь. С этого места нам будет видно, вернутся ли они оттуда удовлетворенные или нет, и таким образом мы сможем определить, на сколько порядочен господин Бовельт, честен он или храбр. Это меня очень интересует.
– Но, – заметил офицер, посмотрев с удивлением на того, кого он величал монсеньором, – но я думаю, что ваше высочество ни одной минуты не предполагает, что депутаты прикажут кавалеристам Тилли удалиться. Не правда ли?
– Почему? – холодно спросил молодой человек.
– Потому что этот приказ был бы просто равносилен подписанию смертного приговора Корнелю и Яну де Виттам.
– Мы это сейчас узнаем, – холодно ответил молодой человек. – Одному лишь Богу известно, что творится в сердцах людей.
Офицер украдкой посмотрел на непроницаемое лицо своего спутника и побледнел.
Этот офицер был человеком честным и смелым.
С того места, где остановились принц и его спутник, было хорошо слышно и голоса и топот толпы на лестнице ратуши. Затем этот шум стал распространяться по всей площади, вырываясь из здания через открытые окна зала с балконом, на котором появлялись Бовельт и Асперен; они теперь вошли внутрь, опасаясь, по всей вероятности, как бы напирающая толпа не перекинула их через перила.
Потом за окнами замелькали волнующиеся, беспорядочные тени. Зал, где происходили переговоры, заполнился народом.
Вдруг шум на мгновение затих, а потом вновь усилился и достиг такой мощи, что старое здание сотрясалось до самого гребня крыши.
Поток людей снова покатился по галереям и лестницам к выходной двери, из-под сводов которой он вихрем выкатывался наружу.
Во главе первой группы скорее летел, чем бежал, человек, с лицом, искаженным омерзительной радостью.
То был врач Тикелар.
– Вот он! Вот он! – кричал он, размахивая в воздухе бумажкой.
– Они получили приказ, – пробормотал пораженный офицер.
– Ну, вот теперь я убедился, – спокойно сказал принц. – Вы не знали, мой дорогой полковник, честный или храбрый человек этот Бовельт. Он ни то и ни другое.
Провожая спокойным взглядом катившийся перед ним поток толпы, он добавил:
– Теперь пойдемте к Бюйтенгофу, полковник; я думаю, что там мы сейчас увидим изумительное зрелище.
Офицер поклонился и, не отвечая, последовал за своим повелителем.
Площадь и все кругом было запружено бесчисленной толпой, но кавалеристы Тилли продолжали успешно сдерживать ее по-прежнему, а главное – с прежней твердостью.
Вскоре граф Тилли услышал всевозраставший шум приближавшегося людского потока и заметил его первые валы, катившиеся с быстротой бурного водопада. В то же мгновение он увидел над судорожно простертыми руками и сверкающим оружием развевающуюся в воздухе бумагу.
– Ого, – заметил он, приподнявшись на стременах и коснувшись своего помощника эфесом шпаги, – мне кажется, что эти мерзавцы добились приказа.
– Подлые негодяи! – крикнул офицер.
Действительно, это был приказ, который гражданская милиция принесла с радостным ревом. Она тотчас же двинулась вперед и с громкими криками и опущенным оружием направилась к кавалеристам Тилли.
Но граф был не такой человек, чтобы позволить вооруженным приблизиться больше, чем это полагалось.
– Стой! – закричал он. – Стой! Назад от лошадей, или я скомандую «вперед»!
– Вот приказ! – закричала сотня дерзких голосов.
Он с изумлением взял его, окинул быстрым взглядом и очень громко произнес:
– Люди, подписавшие этот приказ, являются истинными палачами Корнеля де Витта. Что касается меня, то я скорее дал бы отрубить себе обе руки, чем согласиться написать хоть одну букву этого гнусного приказа.
И, оттолкнув эфесом шпаги человека, который хотел у него взять обратно приказ, он сказал:
– Одну минутку, бумага эта не пустячная, и я должен ее сохранить.
Он сложил приказ и бережно положил его в карман своего камзола. Затем, повернувшись к отряду, скомандовал:
– Кавалеристы Тилли, направо, марш!
И совсем не громко, но все же так, что слова его были отчетливо слышны, произнес:
– А теперь, убийцы, делайте свое дело.
Бешеный вопль ярой ненависти и дикой радости, клокотавший на Бюйтенгофской площади, провожал кавалерию. Кавалеристы отъезжали медленно.
Граф оставался сзади, до последнего момента сдерживая оголтелую толпу, которая постепенно двигалась вперед, вслед за его лошадью.
Как видите, Ян де Витт не преувеличивал опасности положения, когда он помогал брату подняться и торопил его покинуть тюрьму.
И вот Корнель, опираясь на руку бывшего великого пенсионария, спускался по лестнице во двор.
Внизу он увидел красавицу Розу, она вся дрожала от волнения.
– О, господин Ян, – сказала она, – какая беда!
– Что случилось, дитя мое? – спросил де Витт.
– Говорят, что они направились в ратушу требовать там приказа господину Тилли очистить площадь.
– О-о, – заметил Ян, – это правда, дитя мое, – если кавалеристы удалятся, то для нас создастся действительно скверное положение.
– Если бы вы разрешили дать вам совет, – сказала девушка, трепеща от волнения.
– Говори, дитя мое.
– Вот что, господин Ян, я на вашем месте не выходила бы главной улицей.
– Почему же, раз кавалеристы Тилли находятся еще на своем посту?
– Да, но до тех пор, пока этот приказ не будет отменен, они обязаны оставаться у тюрьмы.
– Безусловно.
– А есть у вас приказ, чтобы Тилли сопровождал вас за городскую черту?
– Нет.
– Ну вот видите, как только вы минуете первых кавалеристов, вы попадете в руки толпы.
– Ну а гражданская милиция?
– О, она-то больше всего и беснуется.
– Как же быть?
– На вашем месте, – продолжала застенчиво девушка, – я вышла бы через потайной ход. Он ведет на безлюдную улочку; вся же толпа находится на большой улице, ожидая у главных ворот; оттуда я бы пробралась к заставе, через которую вы хотите выехать.
– Но брат не сможет дойти, – сказал Ян.
– Я попытаюсь, – ответил с твердостью Корнель.
– Но разве у вас нет здесь кареты? – спросила девушка.
– Карета там, у главного входа.
– Нет, – ответила девушка, – я решила, что ваш кучер преданный вам человек, и велела ему ждать вас у потайного выхода.
Братья с умилением переглянулись, и оба их взгляда, преисполненные величайшей благодарности, устремились на девушку.
– Теперь, – сказал великий пенсионарий, – еще вопрос, согласится ли Грифус открыть нам эту дверь.
– О нет, он никогда не согласится на это, – сказала Роза.
– Как же быть?
– А я предвидела его отказ и, пока он разговаривал через тюремное окно с одним из кавалеристов, вытащила из связки ключ.
– И этот ключ у тебя?
– Вот он, господин Ян.
– Дитя мое, – сказал Корнель, – я ничего не могу тебе дать в награду за оказываемую мне услугу, кроме Библии, которую ты найдешь в моей камере: это последний дар честного человека; я надеюсь, он принесет тебе счастье.
– Спасибо, господин Корнель, я никогда с ней не расстанусь, – сказала девушка. Потом с улыбкой добавила про себя: «Какое несчастье, что я не умею читать!»
– Крики усиливаются, дитя мое, и я думаю, что нам нельзя терять ни минуты, – сказал Ян.
– Идемте же. – И прелестная фрисландка внутренним коридором повела обоих братьев в противоположную сторону тюрьмы.
В сопровождении Розы они спустились по лестнице, ступенек в двенадцать, пересекли маленький дворик с зубчатыми стенами и, открыв ворота под каменным сводом, вышли на пустынную улицу, по другую сторону тюрьмы, где их ожидала карета со спущенной подножкой.
– Скорее, скорее, господа! – кричал испуганный кучер. – Вы слышите, как они кричат?
Усадив Корнеля в карету первым, Ян повернулся к девушке.
– Прощай, мое дитя, – сказал он, – все наши слова могли бы только в очень слабой степени выразить нашу благодарность. Надеюсь, что сам Бог вспомнит о том, что ты спасла жизнь двух человек.
Роза почтительно поцеловала протянутую ей великим пенсионарием руку.
– Скорее, скорее, – сказала она, – они, кажется, уже выламывают ворота.
Ян быстро вскочил в карету и крикнул кучеру:
– В Толь-Гек!
Через эту заставу дорога вела в маленький порт Схвенинген, где братьев ожидало небольшое судно.
Две сильных фламандских лошади галопом подхватили карету, унося в ней обоих беглецов.
Роза следила за ними, пока они не завернули за угол. Затем она вернулась, заперла за собой дверь и бросила ключ в колодец.
Шум, заставивший Розу предположить, что народ взламывает ворота, действительно производила толпа, которая, добившись, чтобы отряд Тилли удалился с площади, ринулась к тюремным воротам.
Хотя тюремщик Грифус, надо ему отдать справедливость, упорно отказывался открыть тюремные ворота, все же ясно было, что, несмотря на свою прочность, они недолго устоят перед напором толпы. В то время как побледневший от страха Грифус размышлял, не лучше ли открыть ворота, чем дать их выломать, он почувствовал, как кто-то осторожно дернул его за платье.
Он обернулся и увидел Розу.
– Ты слышишь, как они беснуются? – сказал он.
– Я так хорошо их слышу, отец, что на вашем месте…
– Ты открыла бы? Ведь так?
– Нет, я дала бы им взломать ворота.
– Но ведь тогда они убьют меня!
– Конечно, если они вас увидят.
– Как же они могут не увидеть меня?
– Спрячьтесь.
– Где?
– В потайной камере.
– А ты, мое дитя?
– Я тоже спущусь туда с вами, отец. Мы там запремся, а когда они уйдут из тюрьмы, выйдем из нашего убежища.
– Черт побери, да ты права! – воскликнул Грифус. – Удивительно, – добавил он, – сколько рассудительности в такой маленькой головке.
Ворота, при общем восторге толпы, начали трещать.
– Скорее, скорее, отец! – воскликнула девушка, открывая маленький люк.
– А как же наши узники? – заметил Грифус.
– Бог их уж как-нибудь спасет, а мне разрешите позаботиться о вас, – сказала молодая девушка.
Грифус последовал за дочерью, и люк захлопнулся над их головой как раз в тот момент, когда сквозь взломанные ворота врывалась толпа.
Камера, куда Роза увела отца, называлась секретной и давала нашим двум героям, которых мы вынуждены сейчас на некоторое время покинуть, верное убежище. О существовании секретной камеры знали только власти. Туда заключали особо важных преступников, когда опасались, как бы из-за них не возник мятеж и их не похитили бы.
Толпа ринулась в тюрьму с криком:
– Смерть изменникам! На виселицу Корнеля де Витта! Смерть! Смерть!
IV
Погромщики
Молодой человек, все так же скрывая свое лицо под широкополой шляпой, все так же опираясь на руку офицера, все так же вытирая свой лоб и губы платком, стоял неподвижно на углу Бюйтенгофской площади, теряясь в тени навеса над запертой лавкой, и смотрел на разъяренную толпу – на зрелище, которое разыгрывалось перед ним и, казалось, уже близилось к концу.
– Да, – сказал он офицеру, – мне кажется, что вы, ван Декен, были правы: приказ, подписанный господами депутатами, является поистине смертным приговором Корнелю. Вы слышите эту толпу? Похоже, что она действительно очень зла на господ де Виттов.
– Да, – ответил офицер, – такого крика я еще никогда не слыхал.
– Кажется, они уже добрались до камеры нашего узника. Посмотрите-ка на то окно. Ведь это окно камеры, в которой был заключен Корнель?
Действительно, какой-то мужчина ожесточенно выламывал железную решетку в окне камеры Корнеля, которую последний покинул минут десять назад.
– Удрал! Удрал! – кричал мужчина. – Его здесь больше нет!
– Как нет? – спрашивали с улицы те, которые пришли последними и не могли уже попасть в тюрьму – настолько она была переполнена.
– Его нет, его нет! – повторял яростно мужчина. – Его здесь нет, он скрылся!
– Что он сказал? – спросил, побледнев, молодой человек, тот, кого называли высочеством.
– О, монсеньор, то, что он сказал, было бы великим счастьем, если бы только было правдой.
– Да, конечно, это было бы большим счастьем, если бы это было так, – заметил молодой человек. – К несчастью, этого не может быть.
– Однако же посмотрите, – сказал офицер.
В окнах тюрьмы показались и другие разъяренные лица, они от злости скрежетали зубами и кричали:
– Спасся, убежал! Ему помогли скрыться!
Оставшаяся на улице толпа со страшными проклятьями повторяла: «Спаслись! Бежали! Скорее за ними! Надо их догнать!»
– Монсеньор, – сказал офицер, – Корнель де Витт, кажется, действительно спасся.
– Да, из тюрьмы, пожалуй, но из города он еще не убежал, – ответил молодой человек. – Вы увидите, ван Декен, что ворота, которые несчастный рассчитывал найти открытыми, будут закрыты.
– А разве был дан приказ закрыть городские заставы, монсеньор?
– Нет, я не думаю. Кто мог бы дать подобный приказ?
– Так почему же вы так думаете?
– Бывают роковые случайности, – небрежно ответил молодой человек, – и самые великие люди иногда падают жертвой таких случайностей.
При этих словах офицер почувствовал, как по всем жилам его прошла дрожь; он понял, что так или иначе, а заключенный погиб.
В этот момент, точно удар грома, разразился неистовый рев толпы, убедившейся, что Корнеля де Витта в тюрьме больше нет.
Корнель и Ян тем временем выехали на широкую улицу, которая вела к Толь-Геку, и приказали кучеру ехать несколько тише, чтобы их карета не вызвала никаких подозрений.
Но когда кучер доехал до середины улицы, когда он увидел издали заставу, когда он почувствовал, что тюрьма и смерть позади него, а впереди свобода и жизнь, он пренебрег мерами предосторожности и пустил лошадей во всю прыть.
Вдруг он остановился.
– Что случилось? – спросил Ян, высунув голову из окна кареты.
– О, сударь! – воскликнул кучер. – Здесь…
От волнения он не мог закончить фразу.
– Ну, в чем же дело? – сказал великий пенсионарий.
– Решетка ворот заперта.
– Как заперта? Обычно днем ее не запирают.
– Посмотрите сами.
Ян де Витт высунулся из кареты и увидел, что решетчатые ворота действительно заперты.
– Поезжай, – сказал он кучеру, – у меня с собой приказ о высылке; привратник отопрет.
Карета снова покатилась вперед, но чувствовалось, что кучер погоняет лошадей без прежней уверенности.
Когда Ян де Витт высунулся из кареты, его увидел и узнал какой-то трактирщик, который с некоторым запозданием запирал у себя двери, торопясь догнать своих товарищей у Бюйтенгофа.
Он вскрикнул от удивления и помчался вдогонку за теми двумя, которые бежали впереди.
Шагов через сто он догнал и стал что-то рассказывать. Все трое остановились, следя за удалявшейся каретой, но они еще не были вполне уверены в том, кто в ней сидит.
Карета подъехала к самым воротам.
– Открывайте! – закричал кучер.
– Открыть, – сказал привратник с порога своей сторожки, – открыть, а чем?
– Ключом, конечно, – сказал кучер.
– Ключом, это верно, но для этого надо его иметь.
– Как, у тебя нет ключа от ворот?
– Нет.
– Куда же он девался?
– У меня его взяли.
– Кто взял?
– Тот, кому, по всей вероятности, нужно было, чтобы никто не выходил за городскую черту.
– Мой друг, – сказал великий пенсионарий, высовывая голову из дверцы кареты и ставя все на карту, – ворота нужно открыть для меня, Яна де Витта, и моего брата Корнеля, которого я сопровождаю в изгнание.
– О, господин де Витт, я в отчаянии, – воскликнул, подбегая к карете, привратник, – но клянусь вам честью, что ключ у меня взяли.
– Когда?
– Сегодня утром.
– Кто?
– Молодой человек, лет двадцати двух, бледный, худой.
– Почему же ты отдал ему ключ?
– Потому, что у него был приказ, скрепленный подписью и печатью.
– А кем он был подписан?
– Да господами из городской ратуши.
– Да, – сказал спокойно Корнель, – по-видимому, нас ждет неминуемая гибель.
– Ты не знаешь, всюду ли приняты эти меры предосторожности?
– Этого я не знаю.
– Трогай, – сказал кучеру Ян. – Бог велит делать все возможное, чтобы спасти жизнь. Поезжай к другой заставе.
– Спасибо, мой друг, за доброе намерение, – обратился он к привратнику. – Намерение равноценно поступку. Ты хотел спасти нас, в глазах Господа – это все равно как если бы тебе это удалось.
– Ах, – воскликнул привратник, – посмотрите, что там творится!
– Гони галопом сквозь ту кучку людей, – крикнул кучеру Ян, – и поворачивай на улицу влево; это единственная наша надежда.
Ядром кучки, о которой говорил Ян, были те трое горожан, которые, как мы видели недавно, провожали взглядами карету. Пока Ян разговаривал с привратником, она увеличилась на семь-восемь человек.
У вновь прибывших людей были явно враждебные намерения по отношению к карете.
Как только они увидели, что лошади галопом летят на них, они стали поперек улицы и, размахивая дубинами, закричали: «Стой! Стой!»
Кучер со своей стороны метнулся вперед и осыпал их ударами кнута.
Наконец люди и карета столкнулись.
Братьям де Витт в закрытой карете ничего не было видно. Но они почувствовали, как лошади стали на дыбы, и затем ощутили сильный толчок. На один миг карета как бы заколебалась и вздрогнула всем корпусом, затем снова понеслась, переехав через что-то или кого-то, и скрылась под непрерывный град проклятий.
– О, – сказал Корнель, – я боюсь, что мы натворили беды.
– Гони! Гони! – кричал Ян.
Но вопреки этому приказу кучер вдруг остановил лошадей.
– Что случилось? – спросил Ян.
– Посмотрите, – сказал кучер.
Ян выглянул.
В конце улицы, по которой должна была проехать карета, показалась вся толпа с Бюйтенгофской площади и, подобно урагану, с ревом покатилась на них.
– Бросай лошадей и спасайся, – сказал кучеру Ян. – Дальше ехать бесполезно, мы погибли.
– Вот, вот они! – разом закричали пятьсот голосов.
– Да, вот они, предатели, убийцы! Разбойники! – отвечали им люди, бежавшие позади кареты. Они несли на руках раздавленное тело товарища, который хотел схватить лошадей под уздцы, но был ими опрокинут. По нему-то и проехала карета, как это почувствовали братья.
Кучер остановил лошадей, но, несмотря на настояния своего господина, отказался искать спасения в бегстве.
Карета оказалась в западне между гнавшимися за ней и бежавшими ей навстречу. В одно мгновение она словно поднялась над волнующейся, подобно плавучему острову, толпой.
Вдруг плавучий остров остановился. Какой-то кузнец оглушил молотом одну из лошадей, и она пала наземь.
В этот момент в одном из ближайших домов приоткрылась ставня и в окне можно было видеть бледное лицо и мрачные глаза молодого человека, который наблюдал за готовившейся расправой.
Позади него показалось лицо офицера, почти такое же бледное.
– О Боже мой, Боже мой, монсеньор, что же сейчас произойдет? – прошептал офицер.
– Конечно, произойдет нечто ужасное, – ответил первый.
– О, смотрите, монсеньор, они вытащили из кареты великого пенсионария, они его избивают, они его терзают!
– Да, правда, у этих людей прямо какое-то яростное ожесточение, – заметил молодой человек тем же бесстрастным тоном, который он сохранял до самого конца.
– А вот они вытаскивают из кареты и Корнеля; Корнеля, уже истерзанного и изувеченного пыткой! О, посмотрите, посмотрите!
– Да, действительно это Корнель.
Офицер слегка вскрикнул и тотчас отвернулся.
Корнель еще не успел сойти наземь, он еще стоял на подножке кареты, когда ему нанесли удар железным ломом и размозжили голову. Однако же он поднялся, но тут же снова рухнул на землю.
Затем стоявшие впереди схватили его за ноги и поволокли в гущу толпы. Виден был кровавый след, который оставляло за собой его тело. Толпа с радостным гиканьем окружила Корнеля.
Молодой человек побледнел еще сильнее, хотя казалось, что большей бледности быть не может, и на мгновение закрыл глаза.
Офицер заметил это выражение жалости, впервые проскользнувшее на лице его сурового спутника, и хотел воспользоваться им.
– Пойдемте, пойдемте, монсеньор, – сказал он, – они сейчас убьют и великого пенсионария.
Но молодой человек уже открыл глаза.
– Да, – сказал он, – этот народ неумолим; плохо тому, кто его продает.
– Монсеньор, – сказал офицер, – может быть, еще есть какая-нибудь возможность спасти этого несчастного, воспитателя вашего высочества; скажите мне, и я, хотя бы рискуя жизнью…
Вильгельм Оранский, ибо это был он, зловеще нахмурил свой лоб, усилием воли погасил мрачное пламя ярости, блеснувшее за опущенными веками, и ответил:
– Полковник ван Декен, прошу вас, отправляйтесь к моим войскам и передайте приказ быть на всякий случай в боевой готовности.
– Но как же я оставлю ваше высочество одного среди этих разбойников?
– Не беспокойтесь обо мне больше меня самого, – резко сказал принц. – Ступайте.
Офицер удалился с поспешностью, которая свидетельствовала не столько о его повиновении, сколько о том, что он был рад уйти и не присутствовать при гнусном убийстве второго брата.
Он еще не успел закрыть за собой дверь, как Ян, последними усилиями добравшись до крыльца расположенного почти напротив дома, где прятался его воспитанник, зашатался под ударами, сыпавшимися на него со всех сторон.
– Мой брат? Где мой брат? – стонал он.
Кто-то из разъяренной толпы ударом кулака сшиб с него шляпу.
Другой показал ему обагренные кровью руки. Он только что распорол живот Корнелю, труп которого волокли на виселицу, и прибежал сюда, чтобы не упустить случая проделать то же самое и с великим пенсионарием.
Ян жалобно застонал и закрыл рукой глаза.
– Ах, ты закрываешь глаза, – сказал один из солдат гражданской милиции, – так я тебе их выколю!
И он ткнул ему в лицо острие пики – брызнула кровь.
– Брат! – воскликнул де Витт, пытаясь, несмотря на заливавшую ему глаза кровь, разглядеть, что сталось с Корнелем, – брат!
– Ступай же за ним, – прорычал другой убийца, приставив к виску Яна мушкет и спуская курок.
Но выстрела не последовало.
Тогда убийца повернул свое оружие, обеими руками схватил за дуло и оглушил Яна де Витта ударом приклада.
Ян де Витт пошатнулся и упал к его ногам.
Но, сделав последнее усилие, он еще поднялся.
– Брат! – воскликнул он таким жалобным голосом, что молодой человек закрыл перед собой ставню. Да и видеть уже было почти нечего, так как третий убийца выстрелил в Яна в упор из пистолета и размозжил ему череп.
Ян упал и больше уже не поднимался.
Тогда каждый из негодяев, которые осмелели, видя, что он мертв, стал палить из мушкетов в его труп, каждый хотел ударить его дубиной, шпагой или ножом, каждый жаждал его крови, каждый порывался оторвать лоскут от его одежды.
Оба брата были растерзаны, изувечены, изуродованы. Толпа поволокла их голые окровавленные трупы к импровизированной виселице, где добровольные палачи повесили их вниз головой.
Тут на них накинулись самые подлые; живых еще они не смели коснуться и зато теперь кромсали мертвые тела: они отрезали от них клочки кожи и мяса и расходились по городу продавать куски тела Яна и Корнеля по десять су за кусок.
Мы не знаем, видел ли молодой человек сквозь еле заметную щель в ставне конец ужасающего зрелища, но в момент, когда вешали тела обоих мучеников, он, пересекая толпу, слишком поглощенную своим веселым делом, направился к воротам Толь-Гек.
– О сударь, – воскликнул привратник, – вы мне принесли ключ?
– Да, дружище, вот он, – ответил молодой человек.
– О, какое несчастье, что вы не принесли ключа хотя бы на полчаса раньше! – сказал, вздыхая, привратник.
– Почему? – спросил молодой человек.
– Тогда бы я мог открыть ворота де Виттам. А так, найдя заставу запертой, они должны были повернуть обратно и попали в руки своих преследователей.
– Открывайте ворота, открывайте ворота! – послышался голос какого-то, по-видимому, очень спешившего человека.
Принц обернулся и узнал полковника ван Декена.
– Это вы, полковник? Вы еще не выехали из Гааги? С большим запозданием выполняете вы мое распоряжение.
– Монсеньор, – ответил полковник, – я подъезжаю уже к третьей заставе, те обе были заперты.
– Ну, так здесь этот славный парень отопрет нам ворота. Отпирай, дружище, – обратился принц к привратнику, застывшему в изумлении: он расслышал, как полковник ван Декен назвал монсеньором этого бледного молодого человека, с которым он только что запросто разговаривал. И чтобы исправить ошибку, он поспешно бросился открывать. Ворота заставы распахнулись со скрипом.
– Не желает ли ваше высочество взять мою лошадь? – спросил Вильгельма полковник.
– Благодарю вас, полковник, моя лошадь ждет меня в нескольких шагах отсюда.
И, вынув из кармана золотой свисток, служивший в эту эпоху для зова слуг, он резко и продолжительно свистнул. В ответ на свист прискакал верхом конюший, держа в поводу вторую лошадь.
Вильгельм, не касаясь стремян, вскочил в седло и помчался к дороге, ведущей в Лейден. Доскакав, он обернулся.
Полковник следовал за ним на расстоянии корпуса лошади.
Принц сделал знак, чтобы он поравнялся с ним.
– Знаете ли вы, – сказал он, продолжая ехать, – что эти негодяи убили также и Яна де Витта вместе с его братом?
– Ах, ваше высочество, – грустно ответил полковник, – я предпочел бы, чтобы на вашем пути к штатгальтерству Голландии еще оставались эти два препятствия.
– Конечно, было бы лучше, – согласился принц, – если бы не случилось того, что произошло. Но что сделано, то сделано, не наша в этом вина. Поедем быстрее, полковник, чтобы быть в Альфене раньше, чем придет послание, которое, по всей вероятности, пошлет мне правительство.
Полковник поклонился, пропустил вперед принца и поскакал на том же расстоянии от него, какое разделяло их до разговора.
– Да, хотелось бы мне, – злобно шептал Вильгельм Оранский, хмуря брови, сжимая губы и вонзая шпоры в брюхо лошади, – хотелось бы мне посмотреть, какое выражение лица будет у Людовика-Солнца, когда он узнает, как поступили с его дорогими друзьями, господами де Витт. О, Солнце! Солнце! Недаром зовусь я Молчаливым и Сумрачным; Солнце, бойся за твои лучи!
Он быстро скакал на добром коне, этот молодой принц, упорный противник короля, этот штатгальтер, еще накануне мало уверенный в своей власти, к которой теперь гаагские буржуа сложили ему прочные ступеньки из трупов Яна и Корнеля де Витт.
V
Любитель тюльпанов и его сосед
В то время как гаагские буржуа раздирали на части трупы Яна и Корнеля, в то время как Вильгельм Оранский, окончательно убедившийся в смерти двух своих противников, скакал по дороге в Лейден в сопровождении полковника ван Декена, которого он нашел слишком сострадательным, чтобы и в дальнейшем считать его достойным своего доверия, – в это время верный слуга Кракэ, не сомневавшийся в том, что после его отъезда совершатся ужасные события, тоже мчался на прекрасном коне по усаженным деревьями дорогам, пока не выехал за пределы города и окрестных деревень.
Здесь, почувствовав себя вне опасности и не желая вызывать никаких подозрений, он оставил своего коня и спокойно продолжал путь по реке, пересаживаясь с лодки в лодку и добравшись таким образом до Дордрехта. Лодки ловко проплывали по самым маленьким извилистым рукавам реки, омывавшей своими влажными объятиями очаровательные островки, окаймленные ивами, тростниками и пестреющей цветами травой, где, лоснясь на солнце, беспечно пасется тучный скот. Кракэ издали узнал Дордрехт, этот веселый город, расположенный у подножия усеянного мельницами холма.
Он издали видел красивые красные с белыми полосами домики, кирпичные фундаменты которых погружались в воду. На их открытых балконах над рекой развевались шитые золотом шелковые ковры, дивные творения Индии и Китая, а около ковров свисали длинные лески, постоянная западня для прожорливых угрей, привлекаемых сюда кухонными отбросами, которые ежедневно выбрасывали из окон в воду.
Кракэ еще с лодки, сквозь вертящиеся крылья мельниц, увидел на склоне холма бело-розовый дом – цель своего путешествия. Дом четко вырисовывался на темном фоне исполинских вязов, в то время как гребень крыши утопал в желтоватой листве тополей. Он был расположен так, что падавшие на него, словно в воронку, лучи солнца высушивали, согревали и обезвреживали даже туманы, которые, несмотря на густую ограду из листьев, каждое утро и каждый вечер заносились туда ветром с реки.
Высадившись среди обычной городской сутолоки, Кракэ немедленно отправился к этому дому. Необходимо описать его читателю, что мы сейчас и сделаем. Это был беленький, чистый, блестящий домик, еще более основательно вымытый и начищенный внутри, чем снаружи. И в домике этом жил счастливый смертный.
Этим счастливым смертным, rara avis[2], как говорит Ювенал, был доктор ван Берле, крестник Корнеля. Он жил в описанном нами домике с самого детства, ибо это был дом его отца и его деда, славных купцов славного города Дордрехта.
Торгуя с Индией, господин ван Берле-отец скопил от трехсот до четырехсот тысяч флоринов, которые ван Берле-сын в 1668 году после смерти своих добрых и горячо любимых родителей нашел совершенно новенькими, хотя они и были отчеканены одни в 1640 году, другие в 1610 году. А это говорило о том, что здесь были флорины ван Берле-отца и ван Берле-деда. Поспешим заметить, что четыреста тысяч флоринов были только наличными, так сказать, карманными деньгами Корнелиуса ван Берле, так как от своих владений в провинции он получал ежегодно еще около десяти тысяч флоринов.
Когда умирал достойный гражданин, отец Корнелиуса, через три месяца после похорон своей жены (она скончалась первой, словно для того, чтобы облегчить мужу путь к смерти так же, как она облегчала ему жизненный путь), – он, обнимая в последний раз сына, сказал ему:
– Если ты хочешь жить настоящей жизнью, то ешь, пей и проживай деньги, ибо работать целые дни на деревянном стуле или в кожаном кресле, в лаборатории или в лавке – это не жизнь. Ты тоже умрешь, когда придет твой черед, и если тебе не посчастливится иметь сына, то наше имя угаснет, и мои флорины будут очень удивлены, оказавшись в руках неизвестного хозяина, эти новенькие флорины, которых никто никогда не взвешивал, кроме меня, моего отца и чеканщика. А главное, не следуй примеру твоего крестного отца Корнеля де Витта; он всецело ушел в политику и, безусловно, плохо кончит.
Затем достойный господин ван Берле умер, оставив в полном отчаянии своего сына Корнелиуса, который был равнодушен к флоринам и сильно любил отца.
Итак, Корнелиус остался одиноким в большом доме.
Напрасно его крестный отец Корнель предлагал ему общественные должности; напрасно он хотел соблазнить его славой, когда Корнелиус, чтобы пойти навстречу желанию крестного, отправился вместе с ван Рюйтером на военном корабле «Семь провинций», шедшем во главе ста тридцати девяти судов, с которыми знаменитый адмирал готовился бросить вызов соединенным силам Англии и Франции. Когда же Корнелиус приблизился на расстояние выстрела из мушкета к боевому судну «Принц», где находился брат английского короля герцог Йоркский; когда нападение его патрона ван Рюйтера было проведено настолько энергично и умело, что герцог Йоркский едва успел перейти на борт «Св. Михаила»; когда он увидел, как «Св. Михаил», разбитый и изрешеченный голландскими ядрами, вышел из строя; когда он увидел, как взорвался корабль «Граф де Санвик» и погибло в волнах и в огне четыреста матросов; когда он убедился, что в конце концов, после того как двадцать судов было разбито, три тысячи человек убито и пять тысяч ранено, бой все же остался нерешенным, и каждый приписывал победу себе, так что надо было начинать сначала, и к списку морских сражений прибавилось лишь новое название – сражение при Суттвудской бухте; когда он понял, сколько времени теряет человек, закрывающий глаза и затыкающий уши, стремясь мыслить даже в те часы, когда ему подобные палят друг в друга из пушек, – тогда-то Корнелиус распростился с ван Рюйтером, с главным инспектором плотин и со славой. Он облобызал колени великого пенсионария, к которому чувствовал глубокое уважение, и вернулся в свой домик в Дордрехт. Он вернулся, обогащенный правом на заслуженный отдых, своими двадцатью восемью годами, железным здоровьем, проницательным взором и убеждением более ценным, чем капитал в четыреста тысяч и доход в десять тысяч флоринов, убеждением, что человек получил от судьбы слишком много, чтобы быть счастливым, и достаточно – чтобы не узнать счастья.
Поэтому, стремясь создать себе благополучие по своему вкусу, Корнелиус стал изучать растения и насекомых. Он собрал и классифицировал всю флору островов, составил коллекцию насекомых всей области, написал с них трактат с собственноручными рисунками и, наконец, не зная, куда девать свое время, а главное – деньги, количество которых ужасающе увеличивалось, он стал выбирать среди увлечений своей страны и своей эпохи самое изысканное и самое дорогое увлечение. Он полюбил тюльпаны.
Как известно, то была эпоха, когда фламандцы и португальцы, соревнуясь в занятии этого рода цветоводством, дошли буквально до обожествления тюльпана и проделали с этим привезенным с Востока цветком то, чего никогда ни один натуралист не осмеливался сделать с человеческим родом, из опасения вызвать ревность у самого Бога.
Вскоре в целой округе, от Дордрехта до Монса, только и говорили о тюльпанах господина ван Берле. Его гряды, оросительные канавы, его сушильни, его коллекции луковиц приходили осматривать так же, как когда-то знаменитые римские путешественники осматривали галереи и библиотеки Александрии.
Ван Берле начал с того, что истратил весь свой годовой доход на составление коллекции, затем, для улучшения ее, он сделал почин своим новеньким флоринам, – и его труд увенчался блестящим успехом. Он вывел пять разных видов тюльпанов, которым дал названия «Жанна» – имя своей матери, «Берле» – фамилию своего отца, «Корнель» – имя своего крестного отца; остальных названий мы не помним, но любители, без сомнения, найдут их в каталогах того времени.
В начале 1672 года Корнель де Витт приехал в Дордрехт, чтобы провести три месяца в своем старом родовом доме, ибо известно, что не только Корнель был рожден в Дордрехте, но и вся семья де Витт происходила из этого города.
Как раз в это время Корнель стал блистать, по выражению Вильгельма Оранского, полной непопулярностью. Однако же для своих земляков, добродушных жителей города Дордрехта, он еще не был преступником, заслуживающим виселицы, и хотя они и были не очень довольны его слишком резкими антиоранжистскими взглядами, но все же, гордясь его личными достоинствами, устроили ему торжественную встречу.
Поблагодарив сограждан, Корнель пошел посмотреть родной дом и распорядился, чтобы там произвели кое-какой ремонт, прежде чем приедет госпожа де Витт, его жена с детьми.
Затем он направился к дому своего крестника – единственного, по всей вероятности, в Дордрехте человека, который еще не знал о прибытии инспектора плотин в родной город.
Насколько Корнель де Витт вызывал к себе повсюду ненависть, рассеивая зловредные семена, именуемые политическими страстями, настолько ван Берле приобрел всеобщую симпатию, совершенно отказавшись от политики и всецело уйдя в свои тюльпаны.
Ван Берле любили и рабочие его и прислуга, и он даже не представлял себе, что на свете может существовать человек, который желал бы зла другому человеку.
И однако же, пусть это будет сказано к стыду человечества, Корнелиус ван Берле имел, не подозревая этого, врага, куда более яростного, более ожесточенного, более непримиримого, чем самые ожесточенные оранжисты, наиболее враждебно настроенные против Корнеля де Витта и его брата Яна.
Увлекшись тюльпанами, Корнелиус стал тратить на них и свои ежегодные доходы, и флорины отца.
В Дордрехте, стена в стену с ван Берле, жил гражданин по имени Исаак Бокстель, который, как только он достиг вполне сознательного возраста, стал страдать тем же увлечением и при одном только слове «тюльпан» приходил в восторженное состояние.
Бокстель не имел счастья быть богатым, как ван Берле. С большими усилиями, с большим терпением и трудом разбил он при своем доме в Дордрехте сад для культивирования тюльпанов. Он возделал там, согласно всем тюльпановодческим предписаниям, землю и дал грядам ровно столько тепла и прохлады, сколько полагалось по правилам садоводства.
Исаак знал температуру своих парников до одной двадцатой градуса. Он изучил силу давления ветра и устроил такие приспособления, что ветер только слегка колебал стебли его цветов.
Его тюльпаны стали нравиться. Они были красивы и даже изысканны. Многие любители приходили посмотреть на тюльпаны Бокстеля. Наконец Бокстель выпустил в свет новую породу тюльпанов, дав ей свое имя. Этот тюльпан получил широкое распространение – завоевал Францию, попал в Испанию и проник даже в Португалию. Король дон Альфонс VI, изгнанный из Лиссабона и поселившийся на острове Терсейр, где он развлекался разведением тюльпанов, поглядел на вышеназванный «Бокстель» и сказал: «Неплохо».
Когда Корнелиус ван Берле, после всех предыдущих занятий, страстно увлекся тюльпанами, он несколько видоизменил свой дом, который, как мы уже говорили, был расположен рядом с домом Бокстеля. Он надстроил этаж на одном из зданий своей усадьбы, чем лишил сад Бокстеля тепла приблизительно на полградуса и соответственно на полградуса охладил его, не считая того, что отрезал доступ ветра в сад Бокстеля и этим нарушил все расчеты своего соседа.
В конце концов, с точки зрения Бокстеля, это были пустяки. Он считал ван Берле только художником, то есть своего рода безумцем, который пытается, искажая чудеса природы, воспроизвести их на полотне. Сейчас он пристроил над мастерской один этаж, чтобы иметь больше света, – это было его право. Господин ван Берле был художником так же, как господин Бокстель был цветоводом, разводящим тюльпаны. Первому нужно было солнце для его картин, и он отнял полградуса у тюльпанов господина Бокстеля.
Право было на стороне ван Берле. Bene sit[3].
К тому же Бокстель установил, что избыток солнечного света вредит тюльпанам и что этот цветок растет лучше и ярче окрашивается под мягкими лучами утреннего и вечернего солнца, чем под палящим полуденным зноем.
Итак, он был почти благодарен ван Берле за бесплатную постройку заграждения от солнца.
Может быть, это было не совсем так; может быть, Бокстель говорил о своем соседе ван Берле не совсем то, что он о нем думал. Но великие души в тяжелые минуты жизни находят удивительную поддержку в философии.
Но увы, что сталось с этим несчастным Бокстелем, когда он увидел, что окна заново выстроенного этажа украсились луковицами, отростками их, тюльпанами в ящиках с землей, тюльпанами в горшках и, наконец, всем, что характеризует профессию маньяка, разводящего тюльпаны!
Там находились целые пачки этикеток, полки, ящики с отделениями и железные сетки, предназначенные для прикрытия этих ящиков, чтобы обеспечить постоянный доступ свежего воздуха к ним без риска, что туда проникнут мыши, жуки, долгоносики, полевые мыши и крысы, эти любопытные любители тюльпанов по две тысячи франков за луковицу.
Бокстель остолбенел при виде всего этого оснащения, но он не постигал еще размера своего несчастья. Ван Берле знали как любителя всего, что радует взгляд. Он до тонкости изучил природу для своих картин, законченных, как картины Герарда Доу – его учителя и Мириса – его друга. Может быть, он собирался писать картину – комнату садовода, разводящего тюльпаны, для чего и собрал в своей новой мастерской все эти принадлежности?
Однако же хотя Бокстель и убаюкивал себя этой обманчивой идеей, он все же сгорал от пожирающего его любопытства. Как только наступил вечер, он приставил к смежной их владениям стене лестницу и стал разглядывать, что делается у соседа ван Берле. Он убедился, что громадная площадь земли, раньше усеянная различными растениями, была взрыта и разбита на грядки; земля смешана с речным илом – комбинация, самая благоприятная для тюльпанов, и все было окаймлено дерном, чтобы предупредить осыпание земли. Кроме того, Бокстель убедился, что расположение грядок такое, чтобы они согревались восходящим и заходящим солнцем и оберегались от солнца полуденного. Запас воды достаточный, и она тут же, под рукой. Весь участок обращен на юго-запад, словом, соблюдены все условия не только для успеха, но и для усовершенствования дела.
Сомнений больше не было: ван Берле стал разводить тюльпаны.
Бокстель тут же представил себе, как этот ученый человек, с капиталом в четыреста тысяч флоринов и ежегодной рентой в десять тысяч, употребит все свои способности и все свои возможности на выращивание тюльпанов.
Он предвидел в смутном, но близком будущем его успех и заранее почувствовал такие страдания, что его руки разжались, ноги ослабли и он в отчаянии покатился с лестницы вниз.
Итак, значит, не для тюльпанов на картинах, а для настоящих тюльпанов ван Берле отнял у него полградуса тепла. Итак, ван Берле будет иметь превосходное солнечное освещение и, кроме того, обширную комнату для хранения своих луковиц и отростков, светлую, чистую, с хорошей вентиляцией, – роскошь, недоступную для Бокстеля, который был вынужден пожертвовать для этого своей собственной спальней и, чтобы испарения человеческого тела не вредили растениям, заставил себя спать на чердаке.
Итак, стена в стену, дверь в дверь у Бокстеля будет соперник, соревнователь, быть может, победитель. Этот соперник – не какой-нибудь маленький, безвестный садовод, а крестник Корнеля де Витта, человек знаменитый.
Как видно, Бокстель был менее рассудителен, чем индийский царь Пор, который, потерпев поражение от Александра Македонского, утешался тем, что его победитель – великая знаменитость.
Действительно, что будет, если ван Берле откроет когда-нибудь новый вид тюльпанов и назовет его Яном де Виттом, после того как первый вид он назвал Корнелем? Ведь тогда можно будет задохнуться от злобы.
Таким образом, в своем завистливом предвидении Бокстель, как пророк собственного несчастья, угадывал то, что должно произойти.
И вот, сделав это открытие, он провел самую ужасную ночь, какую только можно себе представить.
VI
Ненависть любителя тюльпанов
С этого момента Бокстелем овладела уже не забота, а страх. Когда человек трудится над осуществлением какой-то заветной мысли, это придает усилиям его духа и тела мощь и благородство. Их-то Бокстель и утратил, думая только о вреде, который причинит ему идея соседа.
Ван Берле, как можно было предполагать, применил к делу все свои изумительные природные дарования и добился превосходных результатов, взрастив самые красивые тюльпаны.
Корнелиус успешнее кого бы то ни было в Гаарлеме и Лейдене (городах с самой благоприятной почвой и климатом) достиг большого разнообразия в окраске и в форме тюльпанов и увеличил количество разновидностей.
Он принадлежал к той талантливой и наивной школе, которая с седьмого века взяла своим девизом изречение: «Пренебрегать цветами – значит оскорблять Бога».
Посылка, на которой любители тюльпанов построили в 1653 году следующий силлогизм: «Пренебрегать цветами – значит оскорблять Бога. Тюльпаны прекраснее всех цветов. Поэтому тот, кто пренебрегает тюльпанами, безмерно оскорбляет Бога».
На основании подобного заключения четыре или пять тысяч цветоводов Голландии, Франции и Португалии (мы не говорим уже о цветоводах Цейлона, Индии и Китая) могли бы, при наличии злой воли, поставить весь мир вне закона и объявить раскольниками, еретиками и достойными смерти сотни миллионов людей, равнодушных к тюльпанам. И не следует сомневаться, что Бокстель, хотя и был смертельным врагом ван Берле, стал бы во имя этого действовать с ним рука об руку.
Итак, ван Берле достиг больших успехов, и о нем стали всюду столько говорить, что Бокстель навсегда исчез из списка известных цветоводов Голландии, и представителем Дордрехтского садоводства стал скромный и безобидный ученый Корнелиус. Так из черенка маленькой ветки вырастают прекрасные отростки и от четырехлепесткового бесцветного шиповника ведет свое начало гигантская благоухающая роза. Так иногда корни королевского рода выходили из хижины дровосека или из лачуги рыбака.
Ван Берле, весь ушедший в свои работы по выращиванию и сбору цветов, ван Берле, которого прославляли все садоводства Европы, даже и не подозревал, что рядом с ним живет несчастный развенчанный король, престолом которого он завладел. Он успешно продолжал опыты и в течение двух лет покрыл свои гряды чудеснейшими творениями, равных которым никогда никто не создавал, за исключением разве только Шекспира и Рубенса.
И вот, чтобы получить представление о страдальце, которого Данте забыл поместить в своем «Аде», нужно было только посмотреть на Бокстеля. В то время как ван Берле полол, удобрял и орошал грядки, в то время как он, стоя на коленях на краю грядки, выложенной дерном, занимался обследованием каждой жилки на цветущем тюльпане, раздумывая о том, какие новые видоизменения можно было бы в них внести, какие сочетания цветов можно было бы еще испробовать, – в это время Бокстель, спрятавшись за небольшим кленом, который он посадил у стены и из которого устроил себе как бы ширму, следил воспаленными глазами, с пеной у рта за каждым шагом, за каждым движением своего соседа. И когда тот казался ему радостным, когда он улавливал на его лице улыбку или в глазах проблески счастья, он посылал ему столько проклятий, столько свирепых угроз, что непонятно даже, как это ядовитое дыхание зависти и злобы не проникло в стебли цветов и не внесло туда зачатки разрушения и смерти.
Вскоре – так быстро разрастается зло, овладевшее человеческой душой, – вскоре Бокстель уж не довольствовался тем, что наблюдал только за Корнелиусом. Он хотел видеть также и его цветы; ведь он был в душе художником, и достижения соперника хватали его за живое.
Он купил подзорную трубу, при помощи которой мог следить не хуже самого хозяина за всеми изменениями растения с момента его прорастания, когда на первом году показывается из-под земли бледный росток, и вплоть до момента, когда, по прошествии пяти лет, начинает округляться благородный и изящный бутон, а на нем проступают неопределенные тона будущего цвета и когда затем распускаются лепестки цветка, раскрывая наконец тайное сокровище чашечки.
О, сколько раз несчастный завистник, взобравшись на лестницу, замечал на грядках ван Берле такие тюльпаны, которые ослепляли его своей изумительной красотой и подавляли его своим совершенством!
И тогда, после периода восхищения, которое он не мог побороть в себе, им овладевала лихорадочная зависть, разъедавшая грудь, превращавшая сердце в источник мучительных страданий. Сколько раз во время этих терзаний, описание которых не поддается перу, Бокстеля охватывало искушение спрыгнуть ночью в сад, переломать растения, изгрызть зубами луковицы тюльпанов и даже принести в жертву безграничному гневу самого владельца, если бы он осмелился защищать свои цветы.
Но убить тюльпан – это в глазах настоящего садовода преступление ужасающее.
Убить человека – еще куда ни шло.
Однако же непрерывные, ежедневные достижения ван Берле, которых он добивался как бы инстинктом, довели Бокстеля до такого пароксизма озлобления, что он замышлял забросать палками и камнями гряды тюльпанов своего соседа.
Но он соображал, что на другое утро, при виде этого разрушения, ван Берле произведет дознание и установит, что дом расположен далеко от улицы, что в семнадцатом веке камни и палки не падают больше с неба, как во времена амалекитян, и что виновник преступления, хотя бы он и действовал ночью, будет разоблачен и не только наказан правосудием, но и обесчещен на всю жизнь в глазах всех европейских садоводов. Тогда Бокстель решил прибегнуть к хитрости и применить способ, который не скомпрометировал бы его.
Правда, он долго искал его, но наконец нашел.
Однажды ночью он привязал двух кошек друг к другу за задние лапы бечевкой в десять футов длины и бросил их со стены на середину самой главной гряды, можно сказать, королевской гряды, где находились не только «Корнель де Витт», но также «Брабантец» молочно-белый и пурпурно-красный, «Мраморный» – сероватый, красный и ярко-алый, «Чудо», выведенный в Гаарлеме, а также тюльпан «Коломбин темный» и «Коломбин светлый».
Обезумевшие от падения с высокой стены животные бросились сначала по грядке, пытаясь бежать каждое в свою сторону, пока не натянулась связывающая их бечевка. Но затем, чувствуя невозможность бежать дальше, они заметались с диким мяуканьем во все стороны, ломая своей бечевкой цветы. После пятнадцатиминутной яростной борьбы им наконец удалось разорвать связывающую их бечевку, и они исчезли.
Бокстель, спрятавшись за кленом, ничего не видел в ночной тьме, но по бешеному крику двух кошек он представил себе картину разрушения, сердце его, освобождаясь от желчи, наполнилось радостью.
У Бокстеля было так велико желание убедиться в причиненных им повреждениях, что он оставался до утра, чтобы собственными глазами посмотреть, в какое состояние пришли грядки его соседа после кошачьей драки.
Он окоченел от предрассветного тумана, но не чувствовал холода. Он согревался надеждой на месть. Горе соперника вознаградит его за все страдания. При первых лучах солнца дверь белого дома открылась. Показался ван Берле и направился к грядкам с улыбкой человека, проведшего ночь в своей постели и видевшего приятные сны.
Вдруг он замечает на земле, которая еще накануне была выровнена, как зеркало, борозды и бугры; вдруг он замечает, что симметричные гряды его тюльпанов в полном беспорядке, подобно солдатам батальона, среди которого разорвалась бомба.
Побледнев как полотно, он бросился к грядам.
Бокстель задрожал от радости. Пятнадцать или двадцать тюльпанов, разодранных и помятых, лежали на земле, одни согнутые, другие совсем поломанные и уже увядшие. Из их ран вытекал сок – драгоценная кровь, которую ван Берле согласился бы сохранить ценой своей собственной крови.
О неожиданность, о радость ван Берле! О неизъяснимая боль Бокстеля! Ни один из четырех знаменитых тюльпанов, на которые покушался завистник, не был поврежден. Они гордо поднимали прекрасные головки над трупами своих сотоварищей. Этого было достаточно, чтобы утешить ван Берле. Этого было достаточно, чтобы повергнуть в отчаяние убийцу. Он рвал на себе волосы при виде совершенного им преступления, и совершенного притом напрасно.
Ван Берле, оплакивая постигшее его несчастье, которое, в конце концов, волею судеб оказалось менее значительным, чем оно могло бы быть, не понимал причины случившегося. Он только навел справки и узнал, что ночью слышалось ужасающее мяуканье. Впрочем, он и сам убедился в том, что тут побывали кошки – по следам их когтей, по клочкам шерсти, оставленной ими на поле битвы, шерсти, на которой, так же как и на листьях раздавленного цветка, дрожали равнодушные капли росы. Желая избегнуть в будущем подобного несчастья, он распорядился, чтобы впредь в саду, в сторожке у гряд, ночевал садовник.
Бокстель слышал, как он делал это распоряжение. Он видел, как в тот же день принялись строить сторожку, и довольный, что остался вне подозрений, но возбужденный больше, чем когда-либо, против счастливого цветовода, стал ждать более подходящего случая.
Это происходило приблизительно в то время, когда общество любителей тюльпанов города Гаарлема назначило премию тому, кто вырастит, мы не решаемся сказать сфабрикует, большой черный тюльпан без одного пятнышка, – задача еще не разрешенная и считавшаяся неразрешимой, так как в эту эпоху в природе не существовало даже темно-коричневых тюльпанов.
И все с полным основанием говорили, что учредители конкурса могли бы с тем же успехом назначить премию в два миллиона флоринов вместо ста тысяч, так как все равно добиться разрешения задачи невозможно.
Тем не менее весь мир тюльпановодов переживал величайшее волнение.
Некоторые любители увлеклись этой идеей, хотя и не верили в возможность ее осуществления, но такова уж сила воображения цветоводов: считая заранее свою задачу неразрешимой, они все же только и думали об этом большом черном тюльпане, который считался такой же химерой, как черный лебедь Горация или белый дрозд французских легенд.
Ван Берле был в числе тех цветоводов, которые увлеклись этой идеей; Бокстель был в числе тех, кто подумал, как ее использовать.
Как только эта мысль засела в проницательной и изобретательной голове ван Берле, он сейчас же спокойно принялся за посевы и все необходимые работы, для того чтобы превратить красный цвет тюльпанов, которые он уже культивировал, в коричневый и коричневый в темно-коричневый. На следующий же год ван Берле вывел тюльпаны темно-коричневой окраски, и Бокстель видел их на его грядах, в то время как он сам добился лишь светло-коричневого тона.
Быть может, было бы полезно изложить читателям замечательные теории, которые доказывают, что тюльпаны приобретают окраску под влиянием сил природы; быть может, нам были бы благодарны, если б мы установили, что нет ничего невозможного для цветовода, который благодаря своему таланту и терпению использует тепло солнечных лучей, мягкость воды, соки земли и движение воздуха. Но мы не собираемся писать трактат о тюльпанах вообще, мы решили написать историю одного определенного тюльпана, и этим мы ограничимся, как бы ни соблазняла нас другая тема.
Бокстель, снова побежденный превосходством своего противника, почувствовал полное отвращение к цветоводству и, дойдя почти до состояния безумия, целиком предался наблюдению за работой ван Берле.
Дом его соперника стоял на открытом месте. Освещенный солнцем сад, комнаты с большими окнами, сквозь которые снаружи видны были ящики, шкафы, коробки и этикетки, – подзорная труба улавливала все мельчайшие подробности. У Бокстеля в земле сгнивали луковицы, в ящиках высыхала рассада, на грядах увядали тюльпаны, но он отныне, не жалея ни себя, ни своего зрения, интересовался лишь тем, что делалось у ван Берле. Казалось, он дышал только через стебли его тюльпанов, утолял жажду водой, которой их орошали, и утолял голод мягкой и хорошо измельченной землей, которой сосед посыпал свои драгоценные луковицы. Но однако, наиболее интересная работа производилась не в саду.
Когда часы били час, час ночи, ван Берле поднимался в свою лабораторию, в остекленную комнату, в которую так легко проникала подзорная труба Бокстеля, и там, едва только огни ученого, сменившие дневной свет, освещали окна и стены, Бокстель видел, как работает гениальная изобретательность его соперника.
Он видел, как тот просеивает семена, как поливает их жидкостями, чтобы вызвать в них те или иные изменения. Бокстель видел, как он подогревал некоторые семена, потом смачивал их, потом соединял с другими путем своеобразной, чрезвычайно тщательной и искусной прививки. Он прятал в темном помещении те семена, которые должны были дать черный цвет, выставлял на солнце или на свет лампы те, которые должны были дать красный, ставил под отраженный от воды свет те, из которых должны были вырасти белые тюльпаны.
Эта невинная магия, плод соединившихся друг с другом детских грез и мужественного гения, этот терпеливый, упорный труд, на который Бокстель считал себя неспособным, вся эта жизнь, все эти мысли, все надежды – все улавливалось подзорной трубой завистника.
Странное дело – такой интерес и такая любовь к искусству не погасили все же в Исааке его дикую зависть и жажду мщения. Иногда, направляя на ван Берле свой телескоп, он воображал, что целится в него из мушкета, не дающего промаха, и он искал пальцем собачку, чтобы произвести выстрел и убить ван Берле.
Но однако, пора установить связь этих дней, когда один работал, а другой подглядывал, с приездом Корнеля де Витта, главного инспектора плотин, в свой родной город.
VII
Счастливый человек знакомится с несчастьем
Корнель, покончив с семейными делами, отправился в январе 1672 года к своему крестнику Корнелиусу ван Берле.
Наступал вечер.
Хотя Корнель и не был большим знатоком садоводства, хотя он и не особенно увлекался искусством, все же он осмотрел весь дом, от мастерской до оранжереи, от картин до тюльпанов. Он поблагодарил крестника за то, что тот назвал его именем такой великолепный тюльпан. Он говорил с ним приветливым, благодушным отеческим тоном, и в то время как он рассматривал сокровища ван Берле, у двери счастливого человека с любопытством и даже с почтением стояла толпа.
Весь этот шум возбудил внимание Бокстеля, который закусывал у своего очага.
Он справился, в чем дело, и, выяснив, тотчас же забрался в свою обсерваторию. И несмотря на холод, он примостился там со своей подзорной трубой.
С осени 1671 года эта подзорная труба не приносила ему больше пользы. Зябкие, как истые дети Востока, тюльпаны не выращиваются зимой в земле под открытым небом. Им нужны комнаты, мягкие постели в ящиках и нежное тепло печей. Поэтому зиму Корнелиус проводил в своей лаборатории среди книг и картин. Он очень редко входил в комнату, где хранились луковицы, разве только для того, чтобы согреть ее случайными лучами изредка появлявшегося в небе солнца, которые он заставлял волей-неволей проникать к себе в комнату через стеклянный люк в потолке.
В тот вечер, о котором мы говорим, после осмотра в сопровождении слуг всего дома, Корнель тихо сказал ван Берле:
– Сын мой, удалите слуг и постарайтесь, чтобы мы на некоторое время остались одни.
Корнелиус поклонился в знак согласия. Затем громко произнес:
– Не хотите ли, сударь, теперь осмотреть сушильню для тюльпанов?
Сушильня! Этот pandaemonium[4] цветоводства, это дарохранилище, этот sanctum sanctorum[5] был недоступен непосвященным, как некогда Дельфы.
Никогда слуга не переступал его порога своей дерзкой ногой, как сказал бы великий Расин, процветавший в ту эпоху. Корнелиус позволял проникнуть туда только безобидной метле старой служанки, своей кормилицы, которая с тех пор как Корнелиус посвятил себя выращиванию тюльпанов, не решалась больше класть в рагу луковиц из боязни, как бы не очистить и не поджарить божество своего питомца.
Итак только при одном слове «сушильня» слуги, несшие светильники, почтительно удалились. Корнелиус взял из рук ближайшего из них свечу и повел своего крестного отца в комнату.
Добавим к уже сказанному нами, что сушильней являлась та самая застекленная комната, на которую Бокстель беспрерывно наводил свою подзорную трубу.
Завистник был, конечно, на своем посту. Сперва он увидел, как осветились стены и стекла. Затем появились две тени. Одна из них, большая, величественная, строгая, села за стол, на который Корнелиус поставил светильник. И в ней Бокстель узнал бледное лицо Корнеля де Витта, длинные, на пробор расчесанные волосы, спадавшие ему на плечи.
Главный инспектор плотин, сказав Корнелиусу несколько слов, содержания которых завистник не мог угадать по движению губ, вынул из внутреннего кармана и передал ему тщательно запечатанный белый пакет. По тому, с каким видом Корнелиус взял этот пакет и положил в один из своих шкафов, Бокстель заподозрил, что это были очень важные бумаги.