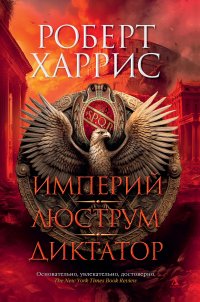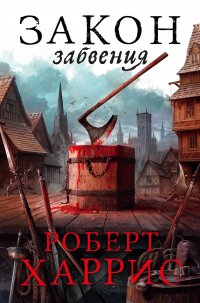Читать онлайн Фатерланд бесплатно
- Все книги автора: Роберт Харрис
Robert Harris
FATHERLAND
Copyright © 1992 by Robert Harris
All rights reserved
Карты выполнены Юлией Каташинской
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Иностранка®
* * *
Напряжение высочайшего уровня… Адреналин в режиме нон-стоп.
The Times
Умнейший автор бестселлеров из тех, кто работает сегодня.
Esquire
Доставляет истинное удовольствие как искусство сюжетопостроения, так и превосходное творение альтернативной истории…
Wordpress.com
И снова Харрису удалось с истинным искусством оживить историю.
The Washington Post
Свою альтернативную историю Харрис создал абсолютно конкретной.
The Guardian
Затягивает… Работа настоящего мастера.
The New York Times
* * *
Роберт Харрис родился в английском городе Ноттингем. Окончил Кембридж, работал журналистом на Би-би-си и политическим редактором газет «The Observer», «The Sunday Times», «The Daily Telegraph».
Как писатель начинал с публицистики, его первый художественный роман «Фатерланд» (1992), написанный в жанре альтернативной истории, стал бестселлером, и по нему был поставлен одноименный фильм.
На сегодняшний день Роберт Харрис – автор более десятка остросюжетных произведений, многие из которых экранизированы (в том числе такими мастерами мирового кино, как Роман Полански, – фильм «Призрак», 2010) и переведены на многие языки мира.
Благодарности
Хочу выразить признательность сотрудникам Библиотеки Винера в Лондоне за помощь, которую они оказывали мне в течение нескольких лет.
Также благодарю Дэвида Розенталя и особенно Робин Сисман, без которых работа над этой книгой вряд ли могла начаться – и уж точно не закончилась бы.
Нужно было грубой силой поставить у власти в Европе сто миллионов самоуверенных немецких хозяев и удержать их господство посредством монополии на техническую культуру и рабского труда вырождающихся, заброшенных, неграмотных кретинов, для того чтобы они могли располагать досугом и носиться по бесконечным автобанам, любоваться туристическими лагерями спортивного общества «Сила через радость», штаб-квартирой партии, военным музеем и планетарием, который фюрер должен был построить в Линце (его новом Гитлерополисе), бегать по местным картинным галереям и есть сдобные булочки с кремом под бесконечные записи «Веселой вдовы». Таким должно было стать немецкое тысячелетнее царство.
Хью Тревор-Ропер.Образ мыслей Адольфа Гитлера
Иногда мне говорят: «Остерегайся! Тебе навяжут двадцать лет партизанской войны!»
Я в восхищении от такой перспективы: Германия будет оставаться в состоянии постоянной боевой готовности.
Адольф Гитлер, 29 августа 1942 года
Часть первая.
Вторник, 14 апреля 1964 года
Клянусь тебе, Адольф Гитлер,
Как фюреру и канцлеру германского рейха,
Быть преданным и смелым.
Клянусь повиноваться до самой смерти
Тебе и вышестоящим лицам,
Которых ты назначишь.
Да поможет мне Бог.
Клятва СС
1
Всю ночь Берлин давили тяжелые тучи, постепенно рассеивающиеся по мере наступления хмурого утра. На западных окраинах города порывы ветра гоняли по озеру Хафель струи дождя.
Небо и вода слились в одну серую пелену, слабо разделенную только темной линией противоположного берега. Ни движения. Ни проблеска света.
Ксавьер Марш, следователь по делам об убийствах берлинской криминальной полиции – крипо, выбрался из своего «фольксвагена» и подставил лицо дождевым струям. Такой дождь всегда доставлял ему удовольствие. Его вкус и запах были ему хорошо знакомы. Этот холодный, пахнувший морем, с терпким привкусом соли дождь принесло с севера, с Балтики. На мгновение Марш перенесся на двадцать лет назад, в рубку подводной лодки, с потушенными огнями уходящей в темноту из Вильгельмсхафена.
Он взглянул на часы. Начало восьмого.
На обочине впереди него стояли еще три автомобиля. Владельцы двух спали за рулем. Из открытого окна третьего – патрульной машины регулярной полиции – орднунгполицай, или орпо, как ее называл каждый немец, – в сыром воздухе было слышно потрескивание радиопомех, перемежаемое врывающейся в эфир словесной скороговоркой. Вращающийся фонарь на крыше машины бросал свет на придорожный лес: синий – черный, синий – черный, синий – черный.
Марш огляделся, ища патрульных орпо, и увидел их у озера под не спасающей от дождя березой. Что-то белело у них под ногами. На валявшемся поблизости бревне сидел молодой человек в черном тренировочном костюме со значком СС на нагрудном кармане. Он сгорбился, упершись локтями в колени, обхватив голову руками, – воплощение безысходного отчаяния.
Марш в последний раз затянулся и щелчком отбросил сигарету. Она, зашипев, потухла на раскисшей дороге.
При его приближении один из полицейских поднял руку:
– Хайль Гитлер!
Не обращая на него внимания, Марш заскользил вниз по грязному берегу, чтобы осмотреть труп.
Это было тело старика – холодное, тучное, лишенное растительности и отвратительно белое. Со стороны оно могло бы показаться брошенной в грязь гипсовой статуей. Выпачканный труп лежал наполовину в воде лицом вверх, широко раскинув руки и откинув голову назад. Один глаз плотно закрыт, другой, злобно прищурившись, глядит в грязное небо.
– Как вас звать, унтервахтмайстер? – не отрывая глаз от тела, спросил Марш, обращаясь к полицейскому.
Тот взял под козырек:
– Ратка, герр штурмбаннфюрер.
Штурмбаннфюрер было эсэсовское звание, равнозначное военному рангу майора, и уставший как собака и промокший до нитки Ратка изо всех сил старался показать уважение к столь высокому чину. Даже не глядя на него, Марш знал, к какому типу служак тот относится: трижды безуспешно обращался с просьбами о переводе в крипо; покорная жена, подарившая фюреру футбольную команду детишек; жалованье двести рейхсмарок в месяц. Живы надеждами.
– Итак, Ратка, – негромко продолжал Марш, – когда его обнаружили?
– Чуть больше часа назад, герр штурмбаннфюрер. Мы заканчивали смену, патрулировали в Николасзее. Приняли вызов. Срочный. Были здесь через пять минут.
– Кто его нашел?
Ратка показал большим пальцем через плечо.
Молодой человек в тренировочном костюме поднялся на ноги. Ему нельзя было дать больше восемнадцати. Коротко подстрижен, так, что сквозь светлые волосы проглядывала розовая кожа. Марш заметил, что он избегает смотреть на тело.
– Фамилия?
– Рядовой СС Герман Йост, герр штурмбаннфюрер. – Он говорил на саксонском наречии, нервно, неуверенно, стараясь угодить. – Из военного училища «Зепп Дитрих» в Шлахтензее. – (Марш знал это заведение: уродливое сооружение из бетона и асфальта, построенное в 1950 году к югу от Хафеля.) – Я часто бегаю здесь по утрам. Было еще темно. Сначала я подумал, что это лебедь, – добавил он, беспомощно разведя руками.
Ратка презрительно фыркнул. Еще бы, курсант школы СС испугался одного-единственного мертвеца! Неудивительно, что войне на Урале не видно конца.
– Видели кого-нибудь еще, Йост? – дружелюбно, по-отечески продолжал расспрашивать Марш.
– Никого, герр штурмбаннфюрер. На площадке для пикников, это полкилометра отсюда, есть телефон. Я позвонил, потом вернулся и стал ждать полицию. На дороге не было ни души.
Марш снова взглянул на покойника. Ну и жирен. Килограммов на сто десять.
– Давайте-ка вытащим его из воды. – Он обернулся к дороге. – Пора будить наших спящих красавцев.
Ратка, переминаясь с ноги на ногу, ухмыльнулся.
Дождь усилился, и другой берег озера совсем исчез из виду. Капли барабанили по листьям деревьев и крышам автомашин. Ливень принес терпкий запах богато удобренной земли и гниющей растительности. Марш не замечал, что его волосы прилипли к голове, по спине текли струйки воды. Он знал: каждое дело, пусть самое будничное вначале, может стать для него интересным.
Ему сорок два года. Стройная фигура, седая голова и холодный взгляд серых, под цвет неба, глаз. Во время войны Министерство пропаганды называло подводников «серыми волками», и в некотором смысле это прозвище очень подходило Маршу – он был упорным сыщиком. Но по своей натуре он не был волком, не бегал в стае, больше полагался на свой мозг, нежели на мускулы. Поэтому скорее его можно было назвать «лисой», что и делали коллеги.
Погода для подводной лодки!
Он распахнул дверцу белой «шкоды». В лицо пахнуло нагретым спертым воздухом из автомобильной печки.
– Доброе утро, Шпидель! – потряс он костлявое плечо полицейского фотографа. – Пора и помокнуть.
Шпидель, вздрогнув, проснулся и сердито уставился на Марша.
Когда он подходил к следующей «шкоде», водитель уже опускал стекло.
– Все в порядке, Марш. Все в порядке, – тоном оскорбленного достоинства пропищал патологоанатом крипо, офицер медицинской службы СС Август Эйслер. – Оставьте свой казарменный юмор тем, кто его ценит.
Они собрались у кромки воды, за исключением доктора Эйслера, который встал в стороне, спрятавшись под допотопным черным зонтом. Шпидель ввернул лампочку вспышки и осторожно поставил правую ногу на ком глины. Выругался, когда набежавшая волна лизнула его ботинок:
– Вот дрянь!
Вспышка на мгновение высветила белые лица, серебряные нити дождя, темный лес. Из ближайших камышей на шум выплыл лебедь и стал ходить кругами в нескольких метрах от них.
– Гнездо стережет, – заметил юный эсэсовец.
– Еще один снимок вот отсюда, – указал Марш. – И отсюда.
Шпидель снова выругался, вытаскивая из грязи промокший ботинок. Дважды сверкнула вспышка.
Марш наклонился и взял тело под мышки. Оно было жестким, словно резина на холоде, и скользким.
– Ну-ка помогите.
Полицейские с обеих сторон ухватили труп за руки, пыхтя, приподняли его и поволокли по грязному берегу на пропитанную водой траву. Разгибаясь, Марш поймал взгляд Йоста.
На старике были спустившиеся до колен голубые плавки. В ледяной воде половые органы съежились – в черных волосах белели крошечные яички.
Левая ступня – до низа икры – отсутствовала.
Так и должно быть, подумал Марш. День будет непростым. Начинаются интересные события.
– Герр доктор, будьте любезны, ваше мнение.
Не скрывая раздражения, Эйслер грациозно шагнул вперед, снимая на ходу перчатку. Не отпуская зонта, тяжело наклонился и ощупал пальцами культю.
– Гребной винт? – спросил Марш. Ему встречались тела, вытащенные из водоемов с оживленным движением – озера Тегелер и реки Шпрее в Берлине, из Альстера в Гамбурге, – которые выглядели так, будто над ними поработали мясники.
– Нет, – Эйслер отнял руку, – давнишняя ампутация. Правда, довольно умелая. – Он с силой нажал кулаком на грудь мертвеца. Изо рта и пузырями из ноздрей хлынула грязная вода. – Трупное окоченение, довольно длительное. Смерть наступила двенадцать часов назад. Возможно, позднее.
Он снова надел перчатку.
Сквозь деревья позади них послышался шум дизеля.
– Санитарная машина, – сказал Ратка. – Не слишком-то торопятся.
Марш подозвал Шпиделя:
– Сделайте еще снимок.
Следователь закурил, глядя на труп. Затем присел на корточки и посмотрел в открытый глаз покойника. Он оставался в таком положении довольно долго. Еще раз сверкнула вспышка фотоаппарата. Лебедь, взмахнув крыльями, приподнялся из воды и повернул к середине озера в поисках пищи.
2
Штаб-квартира крипо расположена на другом конце Берлина, в двадцати пяти минутах езды от Хафеля. Маршу требовались показания Йоста, и он предложил подбросить его до казармы, чтобы тот переоделся, но Йост отказался, ему хотелось поскорее с этим покончить. Поэтому, как только тело погрузили в «санитарку» и отправили в морг, они в маленьком четырехдверном «фольксвагене» Марша принялись кружить по забитым машинами улицам города.
Наступило мрачное утро, какие бывают в Берлине, когда широко известный «берлинский воздух» не столько бодрит, сколько просто пропитан влагой, которая тысячами морозных иголок колет лицо и руки. На Потсдамском шоссе редкие прохожие жались к стенам домов, спасаясь от струй воды из-под колес проходивших мимо машин. Сквозь испещренные дождем стекла они представлялись Маршу слепцами, нащупывающими дорогу.
Во всем этом не было ничего из ряда вон выходящего. Но именно это позднее поразит его больше всего. Все равно что попасть в тяжелую аварию: до нее ничего необычного, потом сам несчастный случай и только после – навсегда изменившийся мир. Ибо то, что из Хафеля выловили тело, было вполне будничным явлением. Такое случалось по крайней мере дважды в месяц – бродяги и разорившиеся бизнесмены, неосторожные ребятишки и безнадежно влюбленные подростки. Несчастные случаи, самоубийства и убийства; отчаяние, глупость, горе.
Телефон зазвонил в квартире Марша на Ансбахерштрассе в четверть седьмого. Звонок его не разбудил. Он лежал в полумраке с открытыми глазами, прислушиваясь к дождю. Последние месяцы он плохо спал.
– Марш? Нам сообщили, что в Хафеле нашли тело. – Это звонил ночной дежурный крипо Краузе. – Съезди взгляни.
Марш ответил, что его это дело не интересует.
– Интересно это тебе или нет, вопрос другой.
– Мне неинтересно, – повторил Марш, – потому что сегодня не мой день. Я дежурил на прошлой и позапрошлой неделе. – И за неделю до того, мог бы он добавить. – Сегодня у меня выходной. Посмотри еще раз в свой список.
На другом конце замолчали, потом Краузе снова взял трубку и неохотно извинился:
– Твое счастье, Марш. Я смотрел график на прошлую неделю. Можешь снова спать. Или… – хихикнул он, – или продолжать свое занятие.
Порыв ветра хлестнул дождем по окну и застучал о раму.
При обнаружении мертвого тела следовали принятому порядку: на место были обязаны немедленно выехать патологоанатом, полицейский фотограф и следователь. Следователи выезжали в порядке очередности, установленной в штаб-квартире крипо на Вердершермаркт.
– А кто дежурит сегодня, ради интереса?
– Макс Йегер.
Йегер. Марш сидел с ним в одном кабинете. Он взглянул на будильник и представил маленький домик в Панкове, где жил Макс с женой и четырьмя дочерьми: по будням он их видел только за завтраком. А Марш разведен и живет один. Он освободил вторую половину дня, чтобы побыть с сыном. Но пока предстояли долгие утренние часы, пустое время. Он подумал, что неплохо для разнообразия чем-нибудь заняться.
– Ладно, не трогай его, – сказал он. – Я все равно не сплю. Беру.
Это было почти два часа назад. Марш взглянул в зеркальце на своего пассажира. С тех пор как они покинули Хафель, Йост не произнес ни слова. Он напряженно сидел на заднем сиденье, глядя на проплывающие мимо серые здания.
У Бранденбургских ворот полицейский на мотоцикле флажком дал ему знак остановиться.
На Паризерплац под старый партийный марш, топая по лужам, кружили оркестранты СА в промокшей коричневой форме. Сквозь закрытые окна «фольксвагена» доносились приглушенные звуки барабанов и труб. У Академии искусств, съежившись под дождем, собралось несколько десятков зевак.
В это время года, проезжая по Берлину, нельзя было не встретить подобных репетиций. Через шесть дней наступит день рождения Адольфа Гитлера – День Фюрера, национальный праздник, – и все оркестры рейха выйдут на парад. Стеклоочистители отмеряли время, словно метрономы.
– Вот самое убедительное свидетельство того, – пробормотал следователь, глядя на толпу, – что при звуках марша немцы теряют голову.
Он повернулся к Йосту. Тот ответил слабой улыбкой.
Мелодия завершилась бряцанием тарелок. Раздались жидкие аплодисменты. Капельмейстер повернулся к публике и поклонился. А за его спиной музыканты кто шагом, кто бегом поспешили к автобусу. Полицейский на мотоцикле подождал, пока не очистится площадь, потом дал короткий свисток. Махнув рукой в белой перчатке, он пропустил их через Бранденбургские ворота.
Впереди открывалась Унтер-ден-Линден. Она утратила свои липы в тридцать шестом – результат официального вандализма в канун берлинских Олимпийских игр. На месте срубленных деревьев гауляйтер города Йозеф Геббельс воздвиг по обе стороны улицы десятиметровые каменные колонны, на каждой из которых, распахнув крылья, взгромоздился партийный орел. Сейчас с их клювов и кончиков крыльев капала вода.
Марш притормозил у светофора на перекрестке у Фридрихштрассе и свернул направо. Две минуты спустя они были на стоянке напротив здания крипо на Вердершермаркт.
Это было уродливое строение – шестиэтажное, массивное, закопченное чудовище времен Вильгельма, стоявшее на южной стороне площади. Последние десять лет Марш бывал здесь практически семь дней в неделю. Как часто жаловалась бывшая жена, он знал это место лучше собственного дома. Внутри здания, сразу же за скрипучей вращающейся дверью и часовыми-эсэсовцами, висела доска, оповещавшая, насколько тревожна ситуация с терроризмом. Четыре цвета по возрастающей обозначали степень опасности: зеленый, синий, черный и красный. Сегодня, как всегда, вывешен красный.
Двое часовых в стеклянной кабине при входе в вестибюль тщательно проверили документы. Марш предъявил удостоверение и расписался за Йоста.
В крипо было оживленнее обычного. В неделю, предшествующую Дню Фюрера, нагрузка на полицию увеличивалась втрое. По мраморному полу стучали каблучками секретарши с коробками личных дел. В воздухе стоял густой запах сырой одежды и мастики для пола. Группки служащих орпо в зеленом и крипо в черном перешептывались о свежих преступлениях. Над их головами с противоположных сторон вестибюля смотрели друг на друга пустыми глазницами бюсты фюрера и руководителя службы безопасности рейха Рейнхарда Гейдриха.
Марш отодвинул металлическую решетку лифта и пропустил внутрь Йоста.
Силы безопасности, которыми руководил Гейдрих, делились на три части. На нижней ступени иерархии находились орпо, или ординарные, обычные полицейские. Они подбирали пьяных, патрулировали автобаны, штрафовали за превышение скорости, производили аресты нарушителей порядка и мелких преступников, тушили пожары, дежурили на вокзалах и в аэропортах, отвечали на срочные вызовы, вылавливали – как сегодня – из воды утопленников.
На вершине – зипо, полиция безопасности. Зипо охватывала гестапо и собственную службу безопасности партии. Их штаб-квартира находилась в мрачном комплексе зданий вокруг Принц-Альбрехтштрассе, в километре к юго-западу от крипо. Они занимались вопросами терроризма, подрывной деятельности, контрразведки и преступлений против государства. У них были уши на каждом заводе, каждой фабрике, в каждой школе, больнице, столовой, в каждом городке, каждой деревушке, на каждой улице. Тело в озере могло иметь отношение к зипо только в том случае, если погибший был террористом или изменником.
И где-то между этими двумя, сливаясь с той и другой, находилась крипо – Пятый департамент Главного управления имперской безопасности. Она занималась расследованием преступлений как таковых – краж, ограблений банков, разбойных нападений, изнасилований и смешанных браков, вплоть до убийств. Утопленники в озерах – кто они такие и как туда попали – относились к ведению крипо.
Лифт остановился на втором этаже. Коридор чем-то напоминал аквариум. Слабый искусственный свет отражался от зеленого линолеума и зеленых стен. Тот же запах мастики для полов, что и в вестибюле, но здесь он еще сдобрен «ароматом» дезинфекции из уборной и затхлым табачным дымом. Вдоль коридора два десятка дверей из матового стекла, некоторые приоткрыты. Кабинеты следователей. Из одного раздавался звук неуверенно стучавшего по машинке пальца, в другом неумолчно звонил телефон.
– Нервный центр неустанной борьбы против преступных врагов национал-социализма, – произнес Марш, цитируя заголовок одного из последних номеров партийной газеты «Фелькишер беобахтер». Он помолчал и, увидев пустой взгляд Йоста, добавил: – Шучу.
– Извините? – не расслышал тот.
– Бог с ним.
Он толкнул дверь и включил свет. Кабинет был чуть больше темного чулана или тюремной камеры, его единственное окошко выходило во двор с потемневшими кирпичными стенами. Одна стена комнаты заставлена полками: обветшавшие тома законов и судебных решений в кожаных переплетах, руководство по криминалистике, словарь, атлас, указатель берлинских улиц, телефонные справочники, папки дел с наклейками: «Браун», «Хундт», «Штарк», «Задек» – бюрократические надгробные надписи, увековечившие память о некоторых давно забытых жертвах. По другую сторону кабинета четыре шкафа с досье. На одном из них похожий на паука цветок. Его два года назад в разгар невысказанной и безответной страсти к Ксавьеру Маршу поставила там немолодая уже секретарша. Теперь он засох. Вот и вся мебель, если не считать еще двух придвинутых к окну деревянных письменных столов. Один принадлежал Маршу, а другой Максу Йегеру.
Марш повесил пальто на крючок у двери. Когда была возможность, он предпочитал не надевать форму, и сегодня, в связи с утренним ливнем, оделся в серые брюки и толстый синий свитер. Он подвинул Йосту стул Йегера:
– Садитесь. Кофе?
– Будьте добры.
В коридоре была кофеварка.
– Получили снимки, как они забавлялись в постели. Можешь представить? Погляди-ка, – услыхал Марш голос Фибеса из ФБЗ, отделения сексуальных преступлений. Тот хвастался своей последней удачей. – Горничная сфотографировала. Смотри, можно разглядеть каждый волосок. Эта девушка станет профессионалом.
Что там могло быть? Марш нажал кнопку кофеварки, и она выбросила пластмассовый стаканчик. Небось, подумал он, офицерская жена и батрак-поляк, присланный из генерал-губернаторства для работы на огороде. Такое уже случалось: сердце женщины, муж которой был на фронте, покорял мечтательный, душевный поляк. Похоже, их застала с поличным и сфотографировала ревностная девица из Союза немецких девушек, стремящаяся угодить властям. По Закону 1935 года о расовой чистоте это считалось сексуальным преступлением.
Он еще раз нажал кнопку кофеварки.
В народном суде состоится слушание дела, которое в назидание другим будет подробно смаковаться в «Дер Штюрмер». Жене дадут два года в Равенсбрюке. Разжалование и бесчестье для мужа. Двадцать пять лет поляку, если повезет. А скорее всего – смертная казнь.
– Трахались! – пробормотал мужской голос, а инспектор Фибес, скользкий тип лет пятидесяти с гаком, от которого десять лет назад с инструктором СС по лыжному спорту сбежала жена, разразился хохотом. Марш со стаканчиками кофе в обеих руках вернулся в кабинет и изо всех сил захлопнул за собой дверь ногой.
Имперская криминальная полиция,
Вердершермаркт, 5/6, Берлин
ЗАЯВЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ
Мои имя и фамилия Герман Фридрих Йост. Родился 23.2.45 года в Дрездене. Я курсант военного училища «Зепп Дитрих» в Берлине. Сегодня в 5:30 утра я начал свою обычную тренировочную пробежку. Я предпочитаю бегать один. Обычно бегу в западном направлении через Грюневальдский лес к Хафелю, потом на север вдоль берега озера до ресторана «Линдвердер» и далее на юг до казарм в Шлахтензее. В трехстах метрах к северу от дороги на Шваненвердер я увидел предмет, лежащий в воде у берега озера. Он оказался телом мужчины. Я побежал по тропинке к находящемуся в полукилометре телефону и сообщил в полицию. Потом вернулся и стал ждать прибытия властей. Все время шел сильный дождь, и я никого не видел.
Я делаю это заявление добровольно в присутствии следователя крипо Ксавьера Марша.
Рядовой СС Г. Ф. Йост8:24, 14.4.64 г.
Марш откинулся на стуле и разглядывал молодого человека, когда тот писал свое заявление. Лицо без резких черт. Розовая и нежная, как у младенца, кожа, прыщавая вокруг рта, белесый пушок над верхней губой. Марш сомневался, бреется ли он.
– Почему вы бегаете в одиночку?
Йост передал бумагу с заявлением:
– Это дает мне возможность думать. Хорошо раз в день побыть одному. В казарме нечасто остаешься один.
– Давно курсантом?
– Три месяца.
– Нравится?
– Да как же! – Йост отвернулся к окну. – Только начал учиться в Геттингенском университете, а тут призвали в армию. Скажем, это был не самый счастливый день в моей жизни.
– Что изучали?
– Литературу.
– Немецкую?
– А какую же еще? – Йост слабо улыбнулся. – Надеюсь вернуться в университет, когда отслужу свои три года. Хочу стать учителем, писателем. Только не солдатом.
Марш возразил:
– Если ты так уж не любишь военных, тогда что тебе делать в СС?
Ответ ему был известен заранее.
– Это все отец. Он с самого начала состоял в отряде личных знаменосцев Адольфа Гитлера. Знаете, что бывает в этих случаях? Я его единственный сын.
– Должно быть, до чертиков не нравится.
Йост пожал плечами:
– Переживу. И мне сказали – разумеется, неофициально, – что на фронт не пошлют. В офицерской школе в Бад-Тольце нужен ассистент, читать курс о вырождении американской литературы. Это похоже на мой предмет. Вырождение. – Он осмелился еще раз улыбнуться. – Может быть, стану специалистом в этой области.
Марш засмеялся и снова взглянул на заявление. В нем что-то было не так, и теперь он это увидел.
– Не сомневаюсь, что станешь. – Он отложил заявление и встал из-за стола. – Желаю успехов в учебе.
– Разрешите идти?
– Конечно.
Йост облегченно поднялся на ноги. Марш взялся за ручку двери:
– Еще один вопрос. – Он повернулся и пристально поглядел в глаза курсанта СС. – Почему ты мне лжешь?
У Йоста дернулась голова.
– Что?..
– Ты утверждаешь, что покинул казарму в пять тридцать. Вызвал полицию в пять минут седьмого. Шваненвердер находится в трех километрах от казарм. Ты в хорошей форме – бегаешь каждый день. Под таким дождем лениться не станешь. Если ты неожиданно не захромал, то должен был прибежать к озеру задолго до шести. Итак, в твоем заявлении не упоминается – сколько это будет? – о двадцати минутах из тридцати пяти. Что ты делал, Йост?
Юноша был потрясен.
– Возможно, я позже вышел из казармы. Или, может быть, сначала сделал пару кругов по беговой дорожке…
– Может быть, может быть… – грустно покачал головой Марш. – Эти факты можно проверить, и я предупреждаю: тебе придется туго, если я докопаюсь до правды и предъявлю ее тебе. Ты гомосексуалист, не так ли?
– Герр штурмбаннфюрер! Ради бога…
Марш положил руки Йосту на плечи:
– Мне наплевать. Возможно, ты каждое утро бегаешь в одиночку, чтобы встретиться в Грюневальде минут на двадцать с каким-нибудь парнем. Это твое дело. Для меня это не преступление. Я интересуюсь исключительно мертвым телом. Ты что-нибудь видел? Что ты все-таки делал?
Йост затряс головой:
– Ничего. Клянусь вам.
Большие светлые глаза наполнились слезами.
– Прекрасно, – отпустил его Марш. – Подожди внизу. Я договорюсь, чтобы тебя отвезли в Шлахтензее. – Он открыл дверь. – Не забывай, что я сказал: лучше, если ты мне скажешь правду сейчас, чем я узнаю ее потом.
Йост колебался, и на миг Маршу показалось, что он что-то скажет, но тот вышел в коридор и зашагал прочь.
Марш позвонил в гараж и вызвал машину. Положил трубку и остановился у окна, глядя сквозь грязное стекло на стену напротив. Потемневший кирпич блестел под пленкой воды, стекавшей с верхних этажей. Не слишком ли он надавил на парня? Возможно. Но бывает, что правду можно добыть только из засады, взять врасплох внезапной атакой. Лгал ли Йост? Разумеется. Но тогда, если он гомосексуалист, он вряд ли мог бы позволить себе не лгать: всякий, кого уличали в «антиобщественном поступке», прямым ходом попадал в трудовой лагерь. Задержанных за гомосексуализм эсэсовцев направляли на Восточный фронт в штрафные батальоны. Мало кто оттуда возвращался.
Марш за последний год встречал десятки молодых людей, подобных Йосту. С каждым днем их становилось все больше. Бунтующих против родителей. Подвергающих сомнению устои государства. Слушающих американские радиостанции. Распространяющих плохо напечатанные экземпляры запрещенных книг – Гюнтера Грасса и Грэма Грина, Джорджа Оруэлла и Дж. Д. Сэлинджера. Они главным образом протестовали против войны с поддерживаемыми американцами советскими партизанами, которая перемалывала людей к востоку от Урала вот уже двадцать лет и которой, казалось, не будет конца.
Он внезапно устыдился своего обращения с Йостом и подумал было спуститься вниз и извиниться. Но потом, как всегда, решил, что его долг перед погибшим важнее всего. Он искупит свое грубое обращение, если установит его личность.
Дежурная часть берлинской криминальной полиции занимает на Вердершермаркт почти весь третий этаж. Марш, перешагивая через ступеньку, поднимался туда. У входа часовой с автоматом потребовал пропуск. Глухой стук электронных замков – и дверь открылась.
В половину задней стены – усеянная лампочками карта Берлина. Созвездие, оранжевое в полумраке, обозначает сто двадцать два городских полицейских участка. Левее вторая карта, еще больше размером, – всего рейха. Красными лампочками отмечены города, достаточно большие, чтобы там создавались собственные отделения крипо. Центр Европы полыхает огнем. Далее к востоку его интенсивность постепенно падает, а за Москвой лишь несколько разрозненных искр, мерцающих в темноте, как огоньки костров. Планетарий преступности.
Дежурный по Берлинскому округу Краузе сидел на возвышении под картами. Он был на телефоне и приветливо помахал рукой подошедшему Маршу. Перед ним за стеклянными перегородками с наушниками и микрофонами сидело около десятка женщин в накрахмаленных белых блузках. Чего только не доводилось им слышать! Из поездки на Восток возвращается домой унтер-офицер танковой дивизии. Поужинав, он достает пистолет и убивает жену и одного за другим троих детей. Потом разбрызгивает по потолку собственные мозги. Сосед в истерике вызывает полицию. Сообщение попадает сюда и, прежде чем поступить этажом ниже, в коридор с потрескавшимся зеленым линолеумом и затхлым табачным запахом, подвергается проверке, оценивается и излагается в сжатом виде.
Позади дежурного офицера секретарь в форме наносила с кислой физиономией данные на доску со сводкой ночных происшествий. Она состояла из четырех колонок: опасные преступления, преступления с применением насилия, происшествия, несчастные случаи со смертельным исходом. Каждая из категорий в свою очередь делилась на четыре раздела: время, источник информации, подробности, принятые меры. Все смерти и увечья за обычную ночь самого большого в мире города с десятимиллионным населением умещались в виде условных знаков на нескольких квадратных метрах белого пластика.
С десяти часов прошлого вечера было десять смертельных случаев. Самое тяжелое происшествие – 1М2Ж4Д – трое взрослых и четверо детей погибли в автомобильной катастрофе в Панкове вскоре после одиннадцати. Меры не принимались – дело можно передать орпо. В Кройцберге при пожаре сгорела семья, у бара в Веддинге поножовщина, в Шпандау до смерти избили женщину. Прерванное утро самого Марша записано последним – 06:07 (О) (означавшее, что сообщение поступило от орпо) 1М Хафель – Марш. Секретарь отступила в сторону и громко щелкнула колпачком ручки.
Краузе закончил телефонный разговор и смотрел с виновато-миролюбивым видом.
– Марш, я уже извинился перед тобой.
– Забудь об этом. Мне нужен список пропавших. Район Берлина. Скажем, за последние сорок восемь часов.
– Нет проблем. – Краузе облегченно вздохнул и повернулся на вращающемся стуле к женщине с кислым выражением лица. – Вы слышали, что просит следователь, Хельга? Проверьте, не поступило ли что-нибудь еще за последний час. – Он снова повернулся к Маршу, глядя на него красными от недосыпания глазами. – По мне, хватило бы и часа. Но любая неприятность вокруг этого места – знаешь, что это значит.
Марш посмотрел на карту Берлина. Большая часть ее покрыта серой паутиной улиц. Но слева два ярких цветных пятна: зеленое пятно Грюневальдского леса и протянувшаяся вдоль него голубая лента Хафеля. В озере в форме человеческого зародыша свернулся остров, связанный с берегом тонкой пуповиной.
Шваненвердер.
– У Геббельса дом все еще там?
Краузе кивнул:
– И у остальных.
Это было одно из наиболее фешенебельных мест в Берлине, по существу, правительственная закрытая территория. С дороги просматривались несколько десятков больших домов. У входа на дамбу – часовой. Прекрасное место для уединения, идеальное с точки зрения безопасности, удобное для частных причалов; и уж совсем не подходящее для того, чтобы обнаружить труп. Труп вынесло на берег менее чем в трехстах метрах от острова.
Краузе заметил:
– Местные орпо называют его «фазаньей тропой».
Марш улыбнулся: на уличном жаргоне «золотыми фазанами» называли партийных вождей.
– Нехорошо слишком долго оставлять мусор у таких дверей.
Вернулась Хельга.
– Лица, объявленные пропавшими с воскресного утра и до сих пор не обнаруженные. – Она вручила Краузе длинный печатный список имен, тот мельком взглянул на него и передал Маршу.
– Вполне достаточно, чтобы загрузить тебя работой. – Он находил это забавным. – Я бы посадил на него твоего приятеля, толстяка Йегера. Помнишь, ведь этим делом нужно было заняться ему?
– Спасибо. Я хотя бы начну.
Краузе покачал головой:
– Ты же работаешь за двоих. Никакого продвижения, и платят хреново. Ты что, чокнутый?
Марш свернул в трубочку список пропавших. Наклонился и легонько постучал ею по груди Краузе.
– Забываешься, приятель, – сказал он. – Работа делает тебя свободным.
Лозунг трудовых лагерей.
Он повернулся и стал пробираться между рядами телефонисток. У себя за спиной он расслышал, как Краузе убеждал Хельгу:
– Вы же понимаете, что я имел в виду? Ничего себе шуточки!
Марш вошел в кабинет как раз в ту минуту, когда Макс Йегер вешал пальто.
– Зави! – распахнув руки, воскликнул Йегер. – Мне уже передали из дежурной части. Ну что я могу тебе сказать?
Он был в форме штурмбаннфюрера СС. На черном мундире еще оставались следы завтрака.
– Отнеси на счет моего старого доброго сердца, – сказал Марш. – И не слишком радуйся. На трупе не было ничего такого, что позволило бы установить его личность, а в Берлине с воскресенья числятся пропавшими сто человек. Чтобы только просмотреть список, понадобится несколько часов. А я обещал после обеда забрать к себе сына, так что тебе придется заняться этим одному.
Он закурил и рассказал о деталях: месте обнаружения тела, отсутствии ступни, подозрениях относительно Йоста. Йегер слушал, бормоча про себя. Это был неповоротливый, неопрятный здоровяк двухметрового роста с неуклюжими руками и ногами. Ему было пятьдесят, почти на десять лет больше, чем Маршу, но они сидели в одном кабинете с 1959 года и нередко работали по одному делу. Сослуживцы на Вердершермаркт за спиной в шутку называли их лисой и медведем. В том, как они, с одной стороны, пререкались, а с другой – выгораживали друг друга, было что-то от старой супружеской пары.
– Вот список пропавших. – Марш сел за стол и развернул список: фамилии, даты рождения, время исчезновения, адреса сообщивших. Йегер наклонился к списку из-за его плеча. Он курил толстые душистые сигары, которыми провонял его мундир. – Если верить доброму доктору Эйслеру, наш покойник скончался вчера где-то после шести часов вечера, так что, возможно, хватились его самое раннее часов в семь-восемь. Может быть, даже ждут, что он объявится нынче утром. Поэтому его может не оказаться в этом списке. Но нам следует рассмотреть две другие возможности, не так ли? Первая: он исчез до того, как погиб. Вторая – и мы по горькому опыту знаем, что такое возможно, – Эйслер напутал со временем наступления смерти.
– Этот малый не годится и в ветеринары, – заметил Йегер.
Марш быстро сосчитал:
– Сто две фамилии. Я бы дал нашему покойнику лет шестьдесят.
– Для верности, скажем, пятьдесят. Никто не сохранит свою лучшую форму, похлебав двенадцать часов водичку.
– Верно. Итак, исключаем из списка всех родившихся после тысяча девятьсот четырнадцатого года. Должна остаться дюжина фамилий. С опознанием совсем легко: не отсутствовала ли ступня у дедушки? – Марш сложил листок, разорвал пополам и передал одну половинку Йегеру.
– Где возле Хафеля есть участки орпо?
– В Николасзее, – начал Макс, – Ваннзее, Кладове, Гатове. В Пихельсдорфе, но это уже слишком далеко к северу.
Следующие полчаса Марш по очереди обзванивал каждый из них, включая Пихельсдорф, интересуясь, не передавали ли в участки одежду и нет ли среди местных бродяг человека, похожего на найденного в озере. Ничего. Он занялся своей частью списка. К половине двенадцатого, исчерпав все возможные фамилии, Марш встал и потянулся.
– Господин Никто.
Йегер кончил звонить десятью минутами раньше и курил, глядя в окно.
– Известный малый, правда? По сравнению с ним даже ты пользуешься чьей-то любовью. – Он вынул изо рта сигару и стал собирать прилипшие к языку крошки табака. – Я поинтересуюсь; в дежурной части, может, будут еще какие-то фамилии. Оставь это мне. Желаю хорошо провести время с Пили.
В уродливой церкви напротив штаб-квартиры крипо только что закончилась утренняя служба. Стоя на другой стороне улицы, Марш наблюдал, как священник в надетом поверх церковного облачения поношенном плаще запирает двери. В Германии власти не одобряли религию. Сколько прихожан, подумал Марш, бросили вызов шпикам гестапо и пришли на службу? Полдюжины? Священник опустил в карман тяжелый железный ключ и обернулся. Увидел смотрящего на него Марша и, пряча глаза, поспешно скрылся, словно его застали в момент незаконной сделки. Марш застегнул шинель и вслед за ним окунулся в скверное берлинское утро.
3
Строительство Триумфальной арки началось в 1946 году, а работы были завершены ко Дню национального пробуждения в 1950 году. Творческий замысел принадлежал самому фюреру, и проект основывался на его собственных набросках, сделанных в годы Борьбы.
Пассажиры туристического автобуса – по крайней мере те, кто понимал, – усваивали эту информацию. Они поднимались со своих мест или наклонялись в проходе, чтобы лучше видеть. Ксавьер Марш, разместившийся в середине автобуса, взял сына на колени. Экскурсовод, женщина средних лет в темно-зеленой форме Имперского министерства туризма, стояла, широко расставив ноги, спиной к ветровому стеклу, и простуженным голосом говорила в микрофон:
– Арка воздвигнута из гранита. Ее объем – два миллиона триста шестьдесят пять тысяч шестьсот восемьдесят пять кубических метров. – Она чихнула. – Парижская Триумфальная арка уместится в ней сорок девять раз.
Махина арки на миг нависла над ними. Затем они внезапно оказались внутри громадного ребристого каменного туннеля длиннее футбольного поля, выше пятнадцатиэтажного здания, со сводчатой, как у собора, кровлей. В предвечерней мгле на восьми полосах движения мелькал свет передних фар и задних огней.
– Высота арки – сто восемнадцать метров. Сто шестьдесят восемь метров в поперечнике и сто девятнадцать в глубину. На внутренних стенах выбиты имена трех миллионов солдат, погибших за фатерланд в войнах тысяча девятьсот четырнадцатого – тысяча девятьсот восемнадцатого и тысяча девятьсот тридцать девятого – тысяча девятьсот сорок шестого годов.
Она снова чихнула. Пассажиры почтительно вытянули шеи, вглядываясь в Список павших. Это была смешанная публика. Группа увешанных фотоаппаратами японцев, американская пара с девочкой возраста Пили, немецкие колонисты из Остланда и с Украины, приехавшие в Берлин на День Фюрера. Когда проезжали Список павших, Марш смотрел в сторону. Где-то там были имена его отца и обоих дедов. Он наблюдал за экскурсоводом. Сочтя, что на нее никто не смотрит, та отвернулась и быстро вытерла рукавом нос. Автобус вновь выехал под моросящий дождь.
– Покидая арку, мы въезжаем на центральную часть проспекта Победы. Проспект был спланирован рейхсминистром Альбертом Шпеером и завершен в тысяча девятьсот пятьдесят седьмом году. Его ширина – сто двадцать три метра и длина пять и шесть десятых километра. Он шире и в два с половиной раза длиннее Елисейских Полей в Париже.
Выше, длиннее, больше, шире, дороже… Даже победив, думал Марш, Германия страдала комплексом неполноценности, свойственным парвеню, выскочке. Все приходилось сравнивать с тем, что есть у иностранцев…
– Открывающийся с этой точки вид к северу вдоль проспекта Победы считается одним из чудес света.
– Одно из чудес света, – прошептал Пили.
И это действительно было чудо, даже в такой день, как сегодня. Перед ними открылся забитый транспортом проспект со вставшими стеной по обеим сторонам творениями Шпеера из стекла и гранита: зданиями министерств, учреждений, крупных магазинов, кинотеатров, жилыми домами. В конце этого потока света, подобно рассекающему волны серому гигантскому кораблю, возвышался Большой зал рейха с куполом, наполовину скрытым низкими облаками.
Колонисты одобрительно переговаривались между собой.
– Словно гора, – сказала женщина, сидевшая позади Марша с мужем и четырьмя мальчиками.
Наверное, они всю зиму мечтали об этой поездке. Брошюра Министерства туризма и мечта побывать в апреле в Берлине, должно быть, согревали их в снежные безлунные ночи в тысяче километров от дома, где-нибудь в Минске или Киеве. Как они сюда попали? Возможно, с туристической группой, организованной обществом «Сила через радость»: два часа лета на «юнкерсе» с остановкой в Варшаве. Или три дня езды в семейном «фольксвагене» по автобану Берлин – Москва.
Пили соскользнул с колен отца и, пошатываясь, прошел вперед, ближе к шоферу. Марш ущипнул себя за переносицу – нервная привычка, приобретенная… когда? Думается, во время службы на подводной лодке, когда винты английских кораблей работали так близко, что сотрясался корпус, и когда никто из экипажа не знал, не будет ли следующая глубинная бомба последней. Его списали с флота в 1948 году по болезни, подозревали туберкулез. Год лечился. Потом, за неимением лучшего, он поступил в звании лейтенанта в маринекюстенполицай, береговую полицию, в Вильгельмсхафене. В том же году он женился на Кларе Эккарт, медсестре, с которой познакомился в туберкулезной клинике. В 1952 году его взяли в гамбургскую крипо. В 1954 году, когда Клара ожидала ребенка, а брак их уже рушился, Марша с повышением перевели в Берлин. Пауль – Пили – родился ровно десять лет и один месяц назад.
Что не получилось? Он не винил Клару. Она не изменилась. Она всегда была сильной женщиной, желавшей от жизни простых вещей: дом, семью, друзей, доброго к себе расположения. После десяти лет на флоте и двенадцати месяцев практически в изоляции он вступил в мир, который едва узнавал. Когда он ходил на работу, смотрел телевизор, обедал с друзьями, даже когда спал с женой, ему порой казалось, что он все еще на борту подводной лодки, плывет под поверхностью повседневной жизни, одинокий, настороженный.
Он забрал Пауля в полдень из дома Клары – одноэтажного домика в невзрачном поселке послевоенной застройки в южном пригороде Лихтенраде. Остановка на улице, два гудка, взгляд на окно, не шевельнулась ли занавеска. Таков заведенный порядок, молчаливо достигнутый пять лет назад после развода, – способ избежать неловких встреч; ритуал, который терпели каждое четвертое воскресенье, если позволяла работа, в соответствии со строгими положениями Имперского закона о браке. Редко когда он встречался с сыном по вторникам, но теперь были школьные каникулы – с 1959 года ребят вместо Пасхи распускали на недельные каникулы в день рождения фюрера.
Дверь отворилась, и появился Пауль, словно стеснительный парнишка, которого против воли вытолкнули играть на сцену. Он был в новенькой форме детской нацистской организации – пимпфов – хрустящей черной рубашке и темно-синих шортах. Сын молча забрался в машину. Марш, смущаясь, прижал его к себе.
– Выглядишь как большой. Как в школе?
– Все в порядке.
– Как мама?
Мальчик пожал плечами.
– Чем бы нам заняться?
Снова неопределенное движение плечами.
Они пообедали в современном заведении со стульями и столами из пластика на Будапештерштрассе, напротив зоопарка: отец и сын. Один заказал пиво и сосиски, второй – яблочный сок и гамбургер. Марш заговорил о пимпфах, и тут личико Пили озарилось радостью. До того, как стать пимпфом, ты был ничем, «не носил формы, не участвовал в собраниях и не ходил в походы». В организацию разрешали вступать с десяти лет и оставаться в ней до четырнадцати, когда ты становился полноправным членом организации гитлеровской молодежи – гитлерюгенда.
– Я был первым в списке принятых!
– Молодец.
– Надо пробежать шестьдесят метров за двенадцать секунд, – рассказывал Пили, – прыгнуть в длину и толкнуть ядро. Потом поход – целых полтора дня. Написать об учении партии. А еще надо знать наизусть «Хорст Вессель».
Маршу даже показалось, что сын вот-вот ее запоет, и он поспешно спросил:
– А где кинжал?
Пили, сосредоточенно наморщив лоб, полез в карман. Как он похож на мать, подумал Марш. Такие же широкие скулы и пухлый рот, такие же серьезные, широко расставленные карие глаза. Пили аккуратно положил перед ним кинжал. Он взял его в руки и вспомнил день, когда получил свой. Когда это было? В тридцать четвертом? Волнение мальчугана, который верит, что его приняли в общество мужчин. Он повернул кинжал другой стороной, и на рукоятке ярко блеснула свастика. Взвесил его на ладони и вернул сыну.
– Горжусь тобой, – сказал он. – Чем займемся? Можно сходить в кино. Или в зоопарк.
– Хочу прокатиться на автобусе.
– Но мы же катались прошлый раз. И до этого.
– Не важно. Хочу на автобусе.
– Большой зал рейха – самое большое здание в мире. Он возвышается больше чем на четверть километра, и в отдельные дни – как, например, сегодня, посмотрите – верхнюю часть его купола не видно. Диаметр самого купола – сто сорок метров, и купол римского собора Святого Петра уместится в нем шестнадцать раз.
Они доехали до начала проспекта Победы и въезжали на Адольф-Гитлерплац. С левой стороны площадь ограничивалась зданием штаба верховного командования вермахта, с правой – новой имперской канцелярией и Дворцом фюрера. Прямо – здание Большого зала. Вблизи он уже не выглядел таким серым, как издалека. Теперь им было видно, о чем говорила экскурсовод: что колонны фасада были из красного гранита, добытого в Швеции, а по бокам располагались золотые изваяния Атласа и Теллуры, несущих на плечах сферы, изображающие Небо и Землю. Само здание было кристально-белым, как свадебный пирог. Тускло-зеленый купол из листовой меди. Пили так и остался впереди.
– В Большом зале проводятся только самые торжественные церемонии Германского рейха. Он вмещает сто восемьдесят тысяч человек. Одно интересное непредвиденное явление: дыхание такого количества людей собирается под куполом и образует облака, которые выпадают в виде легкого дождя. Большой зал – единственное здание в мире, образующее собственный климат…
Марш все это уже слышал. Он глядел в окно, а видел лежащее в грязи тело. Плавки! О чем думал старик, купаясь в понедельник вечером? Берлин вчера еще со второй половины дня затянуло темными тучами. И когда наконец разразилась гроза, дождь стальными прутьями сек по улицам и крышам, заглушая гром. Может быть, самоубийство? Подумать только: забрести в холодное озеро, поплыть в темноте, рассекая воду, к середине, видеть, как над деревьями сверкают молнии, и ждать, когда усталость сделает все остальное…
Пили вернулся на место и возбужденно подпрыгивал на сиденье.
– Папа, а мы фюрера увидим?
Видение исчезло, и Маршу стало стыдно. Опять один из тех снов наяву, о которых, жалуясь, говорила Клара: «Даже когда ты здесь, на самом деле ты не с нами».
Он ответил:
– Вряд ли.
И снова экскурсовод:
– Справа Имперская канцелярия и резиденция фюрера. Длина ее фасада составляет ровно семьсот метров, что на сто метров длиннее фасада дворца Людовика XIV в Версале.
По мере продвижения автобуса здание канцелярии медленно раскручивалось, подобно спящему на краю площади китайскому дракону: мраморные колонны и красная мозаика, бронзовые львы, позолоченные силуэты, готические письмена. Под развевающимся знаменем со свастикой почетный караул из четырех эсэсовцев. Ни одного окна, но на высоте пятого этажа в стену встроен балкон, на котором появлялся фюрер в тех случаях, когда на площади собирались миллион людей. Даже теперь под балконом торчало несколько десятков зевак, глазеющих на плотно закрытые ставни. Бледные от ожидания лица. А вдруг…
Марш взглянул на сына. Пили, не отрываясь, смотрел на балкон, словно распятие, сжимая в кулачке кинжал.
Они вышли из автобуса там же, откуда началась экскурсия, – у Готенландского вокзала. Был уже шестой час. Меркли последние следы естественного света. День с отвращением отделывался от самого себя.
Двери вокзала извергали людей: солдат с вещевыми мешками в сопровождении девушек или жен, иностранных рабочих с картонными чемоданами и перевязанными веревками потрепанными узлами, колонистов, завороженно глазеющих на толпу и яркие огни после двухдневного путешествия из степных далей. Повсюду люди в форме. Темно-синей, зеленой, коричневой, черной, серой, цвета хаки. Похоже на завод после окончания смены. Стук металла и пронзительные свистки, как на заводе, заводские запахи жара и смазки, спертого воздуха и металлических опилок. Со стен кричали восклицательные знаки: «Будь постоянно бдителен!», «Внимание! Немедленно сообщайте о подозрительных свертках!», «Террорист не дремлет!».
Отсюда поезда высотой в дом по четырехметровой колее направлялись к аванпостам империи – в Готенланд (бывший Крым) и Теодерихсхафен (бывший Севастополь), в генеральный комиссариат Таврида и его столицу Мелитополь, в Волынь-Подолию, Житомир, Киев, Николаев, Днепропетровск, Харьков, Ростов, Саратов… Это была конечная станция пути из нового мира. Объявления по местной радиосети о прибытии и отправлении перемежались с увертюрой из «Кориолана». Марш попытался взять Пили за руку, когда они пробирались сквозь толпу, но мальчик вырвался.
Потребовалось четверть часа, чтобы выбраться из подземного гаража, и еще столько же, чтобы покинуть забитые улицы вокруг вокзала. Они ехали молча. Только когда машина уже подъезжала к Лихтенраде, Пили неожиданно выпалил:
– Ты асоциальный, правда?
Такое необычное слово вылетело из уст десятилетнего ребенка и было так тщательно произнесено, что Марш чуть не расхохотался. Асоциальный, нарушающий общественные интересы: один шаг до предателя, если пользоваться партийным лексиконом. Не участвовал в зимней кампании по сбору средств. Не вступал в бесчисленные национал-социалистские ассоциации. В нацистскую лыжную федерацию. В ассоциацию нацистских пеших туристов. В нацистский автомобильный клуб. В нацистское общество служащих криминальной полиции. Однажды в Люстгартене он даже наткнулся на шествие, организованное нацистской лигой обладателей медалей за спасение утопающих.
– Чепуха.
– А дядя Эрих говорит, что правда.
Эрих Хельфферих. Выходит, теперь он уже «дядя» Эрих. Фанатик хуже не придумаешь, освобожденный чиновник берлинской штаб-квартиры партии. Лезущий не в свое дело очкарик, самозваный детский руководитель… Марш впился руками в баранку. Хельфферих начал встречаться с Кларой год назад.
– Он говорит, что ты не приветствуешь как положено фюрера и отпускаешь шутки в адрес партии.
– Откуда он все это знает?
– Он говорит, что в штаб-квартире партии на тебя заведено дело и скоро до тебя доберутся. – мальчик готов был заплакать от стыда. – Я думаю, он прав.
– Пили!
Они подъезжали к дому.
– Ненавижу тебя. – Это было сказано спокойным, ровным голосом. Сын вышел из машины. Марш открыл свою дверь, побежал по дорожке за ним. Он услышал, как в доме залаяла собака.
– Пили! – позвал он еще раз.
Дверь открылась. Там стояла Клара в форме женского нацистского общества. Марш разглядел и маячившую позади нее одетую в коричневое фигуру Хельффериха. Собака, молодая немецкая овчарка, прыгнула на грудь Пили, но тот, растолкав всех, скрылся в доме. Марш хотел пройти за ним, но Клара встала на пути:
– Оставь мальчика в покое. Убирайся. Оставь всех нас в покое.
Она поймала пса за ошейник и оттащила назад. Под его визг дверь захлопнулась.
Позднее, возвращаясь в центр Берлина, Марш продолжал думать о собаке. Единственное живое существо в доме, подумал он, которое не носит формы.
Если бы он не чувствовал себя так скверно, то рассмеялся бы.
4
– Целый день кошке под хвост, – произнес Макс Йегер. Было половина восьмого вечера, и он натягивал шинель у себя на Вердершермаркт. – Ни личных вещей, ни одежды. Просмотрел список пропавших аж до четверга. Никаких результатов. Так что с предполагаемого времени смерти прошло больше суток и ни одна живая душа его не хватилась. Ты уверен, что это не какой-нибудь бродяга?
Марш покачал головой:
– Слишком упитан. И у бродяг не бывает плавок. Как правило.
– И в довершение всего, – Макс последний раз пыхнул сигарой и погасил ее, – мне вечером идти на партийное собрание. Тема: «Немецкая мать – народная воительница на внутреннем фронте».
Как и все следователи крипо, включая Марша, Йегер имел звание штурмбаннфюрера СС. В отличие от Ксавьера, в прошлом году он вступил в партию. Марш не осуждал его: чтобы продвинуться по службе, нужно было состоять в НСДАП.
– И Ханнелоре идет?
– Ханнелоре? Обладательница бронзового Почетного креста «Германская мать»? Конечно идет. – Макс поглядел на часы. – Самое время выпить по кружке пива. Что скажешь?
– Сегодня нет, спасибо. Я спущусь с тобой.
Они попрощались на ступенях здания крипо. Помахав коллеге рукой, Йегер повернул налево, к бару, а Марш двинулся направо – к реке. Он шел быстрым шагом. Дождь перестал, но в воздухе висел серый туман. На черной мостовой мерцал свет довоенных уличных фонарей. Со стороны Шпрее, приглушенный домами, раздавался в тумане низкий звук сирены, предупреждавшей суда об опасности…
Он повернул за угол и пошел вдоль реки, ощущая на лице приятную вечернюю прохладу. Вверх по течению с пыхтением двигалась баржа с единственным фонарем на носу. За кормой кипела темная вода. В остальном царила тишина. Ни машин, ни людей. Город словно растворился в темноте. Он нехотя покинул реку, пересек Шниттельмаркт и направился по Зейдельштрассе. Через несколько минут он входил в берлинский городской морг.
Доктор Эйслер ушел домой. Вполне естественно. «Я люблю тебя, – раздавался женский шепот в безлюдной приемной, – и хочу рожать тебе детей». Смотритель в замызганном белом халате неохотно оторвался от телевизора и проверил удостоверение Марша. Сделал отметку в журнале, взял связку ключей и жестом пригласил посетителя следовать за ним. Позади них раздались звуки музыкальной темы ежедневной «мыльной оперы» имперского телевидения.
Двустворчатые двери вели в коридор, похожий на десятки таких же на Вердершермаркт. Где-то, подумалось Маршу, должен быть имперский директор, ведающий изготовлением зеленого линолеума. Он прошел за смотрителем в лифт. С грохотом захлопнулась металлическая решетка, и они спустились в подвальный этаж.
У входа в хранилище под вывеской «Не курить» они оба, двое профессионалов, закурили – нет, не для того, чтобы уберечься от запаха трупов (помещение заморожено – никакого зловония от разложения), а чтобы нейтрализовать едкие пары дезинфицирующей жидкости.
– Вам нужен старик? Поступивший в начале девятого?
– Верно, – ответил Марш.
Смотритель потянул за большую ручку и распахнул тяжелую дверь. Их встретил поток холодного воздуха. Режущий глаза свет люминесцентных трубок освещал белый кафельный пол, слегка наклоненный от каждой стены к узкому желобу посередине. В стены были встроены тяжелые металлические ящики, похожие на те, в которых хранят карточки картотеки. Смотритель снял с крючка рядом с выключателем дощечку для записей и пошел вдоль ящиков, проверяя номера.
– Вот он.
Он сунул дощечку под мышку и с силой дернул ящик. Тот выдвинулся из стены. Подошедший Марш отогнул белое покрывало.
– Если хотите, можете идти, – сказал он, не оглядываясь. – Когда закончу, позову.
– Не велено. Правила.
– На случай, если я подделаю улики? Будьте любезны, оставайтесь.
При повторном знакомстве покойник не выглядел лучше. Грубое мясистое лицо, маленькие глазки и жесткие складки губ. Череп почти полностью лысый, за исключением случайной пряди седых волос. Острый нос с углублениями по обе стороны переносицы. Должно быть, много лет носил очки. Лицо без особых примет, но на обеих щеках симметричные кровоподтеки. Марш сунул покойнику палец в рот, но обнаружил лишь десны. В какой-то момент обе искусственные челюсти выпали изо рта.
Марш спустил покрывало до самого низа. Широкие плечи, туловище сильного мужчины, только-только начинающего толстеть. Он аккуратно сложил покрывало на несколько сантиметров выше культи. Он всегда уважительно относился к мертвым. Ни один врач, обслуживающий высшее общество на Курфюрстендамм, не обращался со своими клиентами так заботливо, как Ксавьер Марш.
Он подул на руки и залез во внутренний карман пальто. Вынул небольшую жестяную коробочку и две белые карточки. Во рту ощущалась горечь сигареты. Он взялся за кисть трупа (какая холодная!.. это всегда поражало его) и разогнул пальцы. Аккуратно прижал кончик каждого пальца к подушечке с черной краской в жестяной коробочке. Потом поставил коробочку, взял одну из карточек и по одному стал прижимать к ней пальцы. Справившись с левой, он повторил весь процесс с правой рукой старика. Смотритель наблюдал как завороженный. Черные пятна на белых руках смотрелись ужасно.
– Сотрите краску, – приказал Марш.
Штаб-квартира имперской крипо находится на Вердершермаркт, но все полицейское хозяйство – криминалистические лаборатории, архивы, оружейный склад, мастерские, камеры предварительного заключения – расположено в здании берлинского полицайпрезидиума на Александерплац. В эту-то широко протянувшуюся прусскую крепость напротив самой оживленной станции городской железной дороги и направился Марш. Это заняло пятнадцать минут быстрой ходьбы.
– Так чего ты хочешь?
Голос, полный раздражения и скептицизма, принадлежал Отто Котху, заместителю начальника дактилоскопического отдела.
– Вне очереди, – повторил Марш и еще раз затянулся сигаретой. Он хорошо знал Котха. Два года назад они задержали банду вооруженных грабителей, убивших полицейского в Ланквитце. Котх тогда получил повышение. – Знаю, что у тебя невыполненных заявок хватит до столетия фюрера. Знаю, что на тебя наседает зипо со своими террористами и бог знает кем еще. Но сделай это ради меня.
Котх откинулся на стуле. В книжном шкафу позади него Марш разглядел книгу Артура Небе по криминалистике, изданную тридцать лет назад, но до сих пор считающуюся классическим трудом. Небе с 1933 года был руководителем крипо.
– Что там у тебя? – протянул руку Котх.
Марш передал карточки. Котх, взглянув, кивнул.
– Мужчина, – начал Марш. – Лет шестидесяти. Уже день, как мертв.
– Представляю, как он себя чувствует. – Котх снял очки и потер глаза. – Хорошо. Кладу на самый верх.
– Как долго?
– Должны получить ответ к утру. – Котх снова надел очки. – Чего я не пойму, так это откуда ты знаешь, что этот человек, кем бы он ни был, был преступником.
Марш вовсе не знал этого, но не хотел давать Котху предлог увильнуть от обещания.
– Уж поверь мне, – сказал он.
Марш вернулся домой в одиннадцать. Дряхлый лифт не работал. На лестнице, застеленной потертым коричневым ковром, пахло кухней – вареной капустой и подгоревшим мясом. Проходя мимо дверей второго этажа, он услышал, как ссорилась молодая пара, жившая под ним.
– И ты еще можешь так говорить!
– Так ты же ничего не сделала! Ничего!
Хлопнула дверь. Заплакал ребенок. Кто-то в ответ на всю мощь запустил радио. Симфония многоквартирного дома. Когда-то это был фешенебельный дом. Теперь же, как и для многих его обитателей, для него наступили более тяжелые времена. Он поднялся еще на этаж и вошел в квартиру.
В комнатах было холодно, отопление, как обычно, не включено. В квартире пять помещений: жилая комната с хорошим высоким потолком, выходящая окнами на Ансбахерштрассе, спальня с железной койкой, небольшая ванная и совсем крошечная кухня; еще одна комната, которой он не пользовался, была забита вещами, оставшимися от семейной жизни. Марш так и не распаковал их за пять лет. Его дом. Он был больше сорока четырех квадратных метров – стандартного размера «фольксвонунг», «народной квартиры», но не намного.
До Марша здесь проживала вдова генерала люфтваффе. Она жила там с военных лет и довела квартиру до плачевного состояния. В свой второй выходной, ремонтируя спальню, он содрал заплесневевшие обои и обнаружил спрятанную под ними сложенную до очень малых размеров фотографию. Портрет в технике сепии, в размытых коричневых и кремовых тонах, изготовленный в одной из берлинских студий и датированный 1929 годом. Семья на фоне нарисованных деревьев и полей. Темноволосая женщина смотрит на младенца у себя на руках. Муж горделиво выпрямился позади нее, положив руку ей на плечо. Рядом с ним мальчик. С тех пор портрет стоит у него на каминной доске.
Мальчик возраста Пили. Сегодня он был бы ровесником Марша.
Кто были эти люди? Как сложилась судьба ребенка? Он несколько лет задавал себе эти вопросы, но медлил с поиском разгадок – вопросов, занимавших его ум, хватало и на службе. Потом, как раз накануне прошлого Рождества, по непонятной ему самому причине – просто из-за смутного растущего беспокойства, совпавшего с днем его рождения, не более, – он занялся поисками ответа.
В записях домовладельца указывалось, что с 1928 по 1942 год квартира сдавалась некоему Вайссу Якобу. Но на Якоба Вайсса не было полицейского досье. Он не был зарегистрирован в качестве выехавшего, заболевшего или умершего. Запросы в архивы армии, флота и люфтваффе не подтверждали, что он был призван на военную службу. На месте фотостудии была мастерская по прокату телевизоров, архивы студии утеряны. Никто из молодых людей в конторе домовладельца Вайссов не помнил. Они бесследно исчезли. Вайсс – в переводе «белый» – пустое место. К этому времени он в душе знал правду – возможно, знал всегда, – но все же однажды вечером он отправился по квартирам в поисках свидетелей. И хотя он был полицейским, все равно обитатели дома смотрели на него как на сумасшедшего, когда он задавал вопросы. За исключением одной женщины.
– Это были евреи, – ответила старая карга из мансарды, захлопывая дверь перед его носом.
Конечно же. Во время войны все евреи были эвакуированы на Восток. Все об этом знали. Но что стало с ними потом – этот вопрос на людях, да и не только на людях, никто, если он был в здравом рассудке, не задавал, будь он даже штурмбаннфюрером СС.
И с этого времени, как он теперь видел, стали портиться его отношения с Пили; он стал просыпаться до света и добровольно браться за расследование первого попавшегося дела.
Марш несколько минут постоял, не зажигая света и глядя на машины, движущиеся к югу, к Виттенбергплац. Потом прошел в кухню и налил себе изрядную порцию виски. Рядом с раковиной лежал номер «Берлинер тагеблатт» за понедельник. Он прихватил его с собой в комнату.
У Марша была своя привычка читать газеты. Он начинал с конца, где писали правду. Если писали, что лейпцигские футболисты побили кельнских со счетом четыре – ноль, можно было не сомневаться в этом – партия еще не придумала способа переписать по-своему спортивные результаты. Другое дело обзор спортивных новостей: «ДО ТОКИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ВСЕ МЕНЬШЕ ВРЕМЕНИ. ВПЕРВЫЕ ЗА 28 ЛЕТ В НЕЙ МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ США. ГЕРМАНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ СИЛЬНЕЙШИЕ В МИРЕ». Потом реклама: «НЕМЕЦКИЕ СЕМЬИ! ВАС МАНЯТ РАДОСТИ ГОТЕНЛАНДА – РИВЬЕРЫ РЕЙХА!» Французская парфюмерия, итальянские шелка, скандинавские меха, голландские сигары, бельгийский кофе, русская икра, английские телевизоры – разбросанные по страницам плоды из рога изобилия империи. Рождения, браки и смерти: «ТЕББЕ Эрнст и Ингрид – сын для фюрера. ВЕНЦЕЛЬ Ганс, 71 год, истинный национал-социалист – глубоко скорбим».
И одинокие сердца:
«Возраст – пятьдесят лет. Врач, чистый ариец, ветеран битвы под Москвой, имеющий намерение заняться земледелием, желает иметь мужское потомство путем брака со здоровой, целомудренной, молодой, скромной, бережливой женщиной-арийкой, привычной к тяжелому труду: широкие бедра, широкие ступни и отсутствие сережек имеют значение…
Вдовец шестидесяти лет желает снова сочетаться браком с представительницей нордической расы, готовой подарить ему ребенка, с тем чтобы старая фамилия не вымерла по мужской линии».
Полосы, посвященные искусству: кинозвезда Зара Леандер, все еще пользующаяся успехом, в «Женщине Одессы», эпическом повествовании о переселении южных тирольцев, в настоящее время идущем в «Глория Паласте». Статейка музыкального критика с нападками на «вредные негроидные плаксивые завывания» группы молодых англичан из Ливерпуля, выступающей перед немецкой молодежью в переполненных залах Гамбурга. Герберт фон Караян будет дирижировать оркестром, который исполнит специально в честь дня рождения фюрера Девятую симфонию Бетховена – Европейский гимн – в лондонском «Альберт-холле».
Редакционная статья о студенческих антивоенных демонстрациях в Гейдельберге: «ПРЕДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СОКРУШЕНЫ СИЛОЙ!» «Тагеблатт» всегда следовала твердой линии.
Некролог: какой-то старый бонза из Министерства внутренних дел. «Всю жизнь отдал служению рейху…»
Новости рейха: «С ВЕСЕННЕЙ ОТТЕПЕЛЬЮ ВОЗОБНОВИЛИСЬ БОИ НА СИБИРСКОМ ФРОНТЕ! ГЕРМАНСКИЕ ВОЙСКА УНИЧТОЖИЛИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ ГРУППЫ ИВАНА!» В столице рейхскомиссариата Украины Ровно за организацию убийства семьи немецких колонистов казнены пятеро главарей террористов. Помещена фотография новейшей ядерной подводной лодки «Гросс-адмирал Дениц» на новой базе в Тронхейме.
Всемирные известия. В Лондоне объявлено, что король Эдуард и королева Уоллис «в целях дальнейшего укрепления тесных уз уважения и привязанности между народами Великобритании и Германского рейха» в июле посетят рейх с государственным визитом. В Вашингтоне считают, что последняя победа президента Кеннеди на предварительных выборах повысила шансы его избрания на второй срок…
Газета выскользнула из рук заснувшего Марша и свалилась на пол. Через полчаса зазвонил телефон.
– Извини, что разбудил, – начал с сарказмом Котх. – У меня впечатление, что дело считается срочным, или позвонить завтра?
– Нет-нет, – окончательно проснулся Марш.
– Тебе очень понравится. Просто прелесть. – Впервые в жизни Марш услышал, чтобы Котх смеялся. – Надеюсь, ты меня не разыгрываешь? Вы там с Йегером ничего не затеяли?
– Так кто это?
– Сначала немного истории. – Котх смаковал новость и не собирался торопиться. – Нам пришлось копнуть очень глубоко, прежде чем мы нашли отпечатки. Очень глубоко. Но мы отыскали. В лучшем виде. Никакой ошибки. На твоего подопечного есть настоящее личное дело. Он был арестован всего раз в жизни. Нашими коллегами в Мюнхене. Сорок лет назад. Точнее, девятого ноября двадцать третьего года.
Последовало молчание. Прошло пять, шесть, семь секунд.
– Ага! Вижу, что даже ты понимаешь, что означает эта дата.
– «Старый боец». – Марш потянулся за сигаретами. – Как его зовут?
– Верно. Старый товарищ. Арестован вместе с фюрером после «пивного путча». Ты выудил из озера одного из славных зачинателей национал-социалистской революции. – Котх снова засмеялся. – Будь тот, кто его нашел, поумнее, оставил бы его там, где он лежал.
– Как его зовут?
После того как Котх повесил трубку, Марш, нещадно дымя, минут пять метался по комнате. Потом трижды позвонил по телефону. Первый звонок Максу Йегеру. Второй – дежурному офицеру на Вердершермаркт. Третий – еще по одному из берлинских номеров. Заспанный мужской голос ответил, уже когда Марш собирался повесить трубку.
– Руди? Это Ксавьер Марш.
– Зави? Ты что, рехнулся? Уже полночь.
– Не совсем. – Марш ходил взад-вперед по вылинявшему ковру с аппаратом в руке, прижав подбородком трубку. – Мне нужна твоя помощь.
– Ради бога!
– Что ты можешь рассказать мне о человеке по имени Йозеф Булер?
В эту ночь Маршу снился сон. Он снова был под дождем на берегу озера, и там лицом в грязи лежало тело. Он взялся за плечо, дернул изо всех сил, но не смог сдвинуть его с места. Тело было из побелевшего серого свинца. Когда он повернулся, чтобы уйти, мертвец схватил его за ногу и потянул к воде. Он царапал землю, стараясь уцепиться пальцами, но они уходили в мягкую грязь, не за что было удержаться. Хватка трупа была невероятно мощной. И когда они стали погружаться в воду, лицо мертвеца вдруг стало лицом Пили, искаженным яростью, нелепым в своем стыде, пронзительно выкрикивающим: «Ненавижу тебя… Ненавижу тебя… Ненавижу…»
Часть вторая.
Среда, 15 апреля
Detente (фр.)
1. Ослабление (чего-либо туго натянутого), расслабление (мускулов).
2. Ослабление (политической напряженности).
1
Вчерашний дождь казался дурным воспоминанием, следов его на улицах почти не осталось. Солнце, чудесное, благосклонное ко всему солнце прыгало зайчиками и сверкало в витринах магазинов и окнах домов.
В ванной рычали и стонали проржавевшие трубы, из душа лилась струйка холодной воды. Марш брился отцовской опасной бритвой. Сквозь открытое окно ванной до него доносились звуки просыпающегося города: вой и грохот первого трамвая; отдаленный шум машин на Тауентциенштрассе; шаги ранних пешеходов, спешащих к большой станции городской железной дороги на Виттенбергплац; стук поднимаемых жалюзи в булочной напротив. Не было и семи, и не исключалась возможность, что погода еще может испортиться.
Форма – доспехи власти – была разложена в спальне.
Коричневая рубашка с черными кожаными пуговицами. Черный галстук. Черные бриджи. Высокие черные сапоги (густой запах начищенной кожи).
Черный мундир на четыре серебряные пуговицы; на погонах – три параллельные серебристые нити, на левом рукаве – красно-бело-черная повязка со свастикой, на правом – ромб с буквой «К» готическим шрифтом, обозначающей криминальную полицию.
Черный ремень с портупеей. Черная фуражка с серебряной мертвой головой и партийным символом – орлом. Черные кожаные перчатки.
Марш оглядел себя в зеркале: оттуда на него смотрел штурмбаннфюрер СС. Он вынул из туалетного столика служебный пистолет, девятимиллиметровый «парабеллум», проверил его и сунул в кобуру. Потом вышел навстречу утру.
– Не мало?
Рудольф Хальдер лишь улыбнулся в ответ на язвительное замечание Марша и разгрузил свой поднос: сыр, ветчина, салями, три яйца вкрутую, горка черного хлеба, молоко, чашка дымящегося кофе. Он аккуратно поставил тарелки в ряд на белой льняной скатерти.
– Насколько я знаю, завтраки, которыми кормит имперская служба безопасности, обычно не такие щедрые.
Они сидели в ресторане отеля «Принц Фридрих Карл» на Доротеенштрассе, на полпути между штаб-квартирой крипо и зданием имперского архива, где служил Хальдер. Марш часто здесь бывал. «Фридрих Карл» был недорогим пристанищем для туристов и коммерсантов, но завтраками здесь кормили хорошими. Над входом вяло колебался европейский флаг – двенадцать золотых звезд, по числу стран Европейского сообщества, на синем фоне. Марш предполагал, что управляющий, герр Брекер, купил его по случаю и вывесил, чтобы залучить иностранных клиентов. Не похоже, чтобы это возымело действие. Взгляд на более чем скромную клиентуру ресторана и скучающий персонал давал основания полагать, что здесь нет опасности быть подслушанным.
Как обычно, люди старались держаться подальше от формы Марша. Каждые несколько минут, когда к станции «Фридрихштрассе» подъезжал поезд, в здании тряслись стены.
– Это все, что ты берешь? – спросил Хальдер. – Кофе? – Он покачал головой. – Черный кофе, сигареты и виски. Никудышная диета. Если подумать, то я ни разу не видел, чтобы после твоего развода с Кларой ты когда-нибудь как следует поел. – Он разбил одно яйцо и стал очищать его от скорлупы.
Марш подумал: из всех нас меньше всего изменился Хальдер. Под жирком и ослабевшими мышцами, свидетельствующими о том, что он вступил в средний возраст, все еще скрывался долговязый новобранец, который более двадцати лет назад прямо из университета попал на U-174. Он был радистом, плохим радистом, спешно подготовленным и направленным на службу в 1942 году, в период самых больших потерь, когда Дениц подчистил всю Германию, чтобы набрать пополнение. Тогда, как и теперь, он носил очки в проволочной оправе, а жидкие рыжие волосы торчали сзади утиным хвостом. Во время плавания, когда остальные члены команды отращивали бороды, Хальдер отрастил на щеках и подбородке оранжевые пучки волос и стал похож на облинявшего кота. Сам факт, что он попал служить на подводную лодку, был ужасной ошибкой, анекдотом. Руди был неуклюж и неповоротлив, он был создан природой быть ученым, а не подводником. Каждый поход он обливался потом от страха и страдал от морской болезни.
И тем не менее он пользовался популярностью. Экипажи подводных лодок были суеверны, и каким-то образом прошел слух, что Руди Хальдер приносит счастье. Поэтому его лелеяли, покрывали его ошибки, давали возможность лишние полчаса поваляться, вздыхая, на койке. Он стал своего рода талисманом. Когда наступил мир, Хальдер, удивленный тем, что остался жив, возобновил занятия на историческом факультете Берлинского университета. В 1958 году он вошел в группу ученых, работавших в имперском архиве над официальной историей войны. Он прошел полный круг, сгорбившись над бумагами, собирая по частям ту великую стратегию, крошечной испуганной частицей которой когда-то был сам. В 1963-м была опубликована работа «Подводный флот, операции и тактика, 1939–1946 годы». Теперь Хальдер участвовал в работе над третьим томом истории сражений германской армии на Восточном фронте.
– Это все равно что работать на заводах «Фольксваген» в Фаллерслебене, – говорил Хальдер. Он откусил и стал жевать яйцо. – Я делаю колеса, Иекель – дверцы, а Шмидт устанавливает мотор.
– И много еще работы? Надолго?
– О, думаю, на всю жизнь. Средств не жалеют. Каждый выстрел, каждая перестрелка, каждая снежинка, каждый чох. Кто-то даже собирается писать официальную историю официальных историй. Что до меня, лет пять еще поработаю.
– А потом?
Хальдер смахнул с галстука крошки яичной скорлупы:
– Кафедра в небольшом университете где-нибудь на юге. Домик в сельской местности с Ильзой и детишками. Еще пара книг с почтительными отзывами. Мои запросы скромны. Кроме всего прочего, такая работа дает ощущение, что в конечном счете ты смертен. А что касается… – Он вынул из внутреннего кармана листок бумаги. – Прими от имперского архива.
Это была фотокопия страницы из старого партийного справочника. Четыре снимка чиновников в форме, каждый сопровождался краткой биографией – Брюн, Бруннер, Бух и Булер.
Хальдер сказал:
– «Указатель видных деятелей НСДАП». Издание 1951 года.
– Хорошо его знаю.
– Согласись, хорошенькая компания.
Найденный в Хафеле покойник, несомненно, был Булер. Он настороженно и серьезно, поджав губы, глядел на Марша сквозь очки без оправы. Лицо бюрократа, лицо адвоката; лицо, которое можно видеть тысячу раз и быть не в состоянии описать; отчетливое во плоти, неопределенное в памяти; лицо человека-машины.
– Как видишь, – продолжал Хальдер, – столп национал-социалистской респектабельности. Вступил в партию в двадцать втором – это исключительно почетно. Работал поверенным у Ганса Франка, личного адвоката фюрера. Заместитель президента Академии германского права.
– «Государственный секретарь в генерал-губернаторстве, 1939 год, – читал Марш. – Бригадефюрер СС». Бригадефюрер, боже правый. – Он вынул записную книжку и взялся за перо.
– Почетное звание, – пояснил Хальдер с набитым ртом. – Сомневаюсь, стрелял ли он хоть раз в жизни. Это был чисто кабинетный чиновник. Когда в тридцать девятом Франка послали управлять тем, что осталось от Польши, он, должно быть, в качестве главного бюрократа взял с собой своего старого партнера по адвокатским делам Булера. Попробуй-ка ветчины. Очень вкусная.
Марш быстро писал в книжке.
– Сколько времени Булер был на Востоке?
– Полагаю, двенадцать лет. Я просмотрел указатель за тысяча девятьсот пятьдесят второй год. Там на Булера нет данных. Так что пятьдесят первый, должно быть, стал его последним годом.
Марш перестал писать и постучал ручкой о зубы.
– Извини, я тебя на пару минут оставлю.
В вестибюле была телефонная будка. Он позвонил на коммутатор крипо и попросил соединить со своим номером. Голос в трубке проворчал:
– Йегер.
– Слушай, Макс. – Марш повторил ему то, что рассказал Хальдер. – Здесь упоминается жена. – Он поднял листок бумаги поближе к тусклой лампочке в кабине и скосил на него глаза. – Эдит Тулард. Сможешь ее разыскать? Чтобы определенно опознать труп.
– Она умерла.
– Что?
– Умерла больше десяти лет назад. Я проверил в архивах СС – даже обладатели почетных званий должны сообщать о ближайших родственниках. У Булера не было детей, но я нашел следы его сестры. Она вдова, ей семьдесят два года, зовут Элизабет Тринкль. Живет в Фюрстенвальде. – (Марш знал это место: небольшой городок примерно в сорока пяти минутах езды к юго-востоку от Берлина.) – Местная полиция везет ее прямо в морг.
– Встретимся там.
– Еще одна новость. У Булера в Шваненвердере дом.
Это объясняло, почему труп оказался именно там, где был найден.
– Молодец, Макс. – Марш повесил трубку и пошел в ресторан.
Хальдер покончил с завтраком. Когда вернулся Марш, он бросил салфетку и откинулся на стуле.
– Отлично. Теперь я почти смогу вынести предстоящую разборку полутора тысяч донесений и команд по Первой танковой армии Клейста. – Он принялся ковырять в зубах. – Нам надо чаще встречаться. Ильза постоянно спрашивает: «Когда ты приведешь к нам Зави?» – Он наклонился к Маршу. – Слушай, у нас в архиве работает одна женщина – изучает историю Союза немецких девушек в тысяча девятьсот тридцать пятом – тысяча девятьсот пятидесятом годах. Потрясающая! Муж, бедняга, в прошлом году пропал без вести на Восточном фронте. Одним словом: ты и она. Что ты на это скажешь? Скажем, на следующей неделе вы оба у нас.
Марш улыбнулся:
– Ты так добр ко мне.
– Это не ответ.
– Правда. – Он постучал пальцами по фотокопии. – Можно взять?
Хальдер пожал плечами:
– Само собой.
– И последнее.
– Давай.
– Государственный секретарь генерал-губернаторства. Чем он мог конкретно заниматься?
Хальдер развел руками. Кисти были густо покрыты веснушками, из-под манжет выбивались ярко-рыжие клочья волос.
– Они с Франком обладали неограниченной властью. Делали что хотели. В то время главной проблемой, по-видимому, было переселение.
Марш записал в книжке слово «переселение» и обвел его кружком.
– Как это происходило?
– Это что? Семинар? – Хальдер выстроил перед собой треугольник из тарелок – две маленькие слева и одна побольше справа – и сдвинул их вплотную друг к другу. – Все это – Польша до войны. После тридцать девятого западные области, – он постучал по маленьким тарелкам, – были включены в состав Германии. Имперский округ Данциг – Восточная Пруссия и имперский округ Вартеланд. – А это, – он отодвинул большую тарелку, – стало генерал-губернаторством. Осколком государства. Обе западные области были онемечены. Понятно, это не моя сфера, но я видел некоторые цифры. В тысяча девятьсот сороковом году они поставили целью довести плотность населения до ста немцев на квадратный километр. И сумели добиться этого за три года. Неслыханная операция, если учесть, что война все еще продолжалась.
– Скольких людей это коснулось?
– Одного миллиона. Управление СС по проблемам евгеники находило немцев в местах, которые тебе и не снились: в Румынии, Болгарии, Сербии, Хорватии. Если твой череп соответствовал нужным измерениям и ты был из подходящей деревни, тебе просто выдавали билет.
– А Булер?
– Ах да. Чтобы освободить место миллиону немцев в новых имперских округах, им пришлось выселить миллион поляков.
– И они направились в генерал-губернаторство?
Хальдер завертел головой и украдкой оглянулся вокруг, не подслушивает ли кто, – люди называли это «немецким взглядом».
– Им также пришлось заниматься евреями, которых высылали из Германии и западных территорий – Франции, Голландии, Бельгии.
– Евреями?
– Да, да. Только давай потише. – Хальдер говорил так тихо, что Маршу, чтобы расслышать, пришлось наклониться над столом. – Представляешь, какой был хаос. Перенаселение. Голод. Болезни. Можно догадываться, что там и сейчас отхожее место, что бы они ни говорили. Еженедельно газеты публиковали, телевидение и радио передавали обращения Восточного министерства, приглашавшие колонистов в генерал-губернаторство. «Немцы! Требуйте принадлежащее вам по праву рождения! Бесплатная усадьба! Гарантированный доход в первые пять лет!» Рекламные объявления изображали живущих в роскоши счастливых колонистов. Но обратно просачивались сведения и о подлинном положении дел – неплодородная земля, каторжный труд и захудалые городишки, куда немцам приходилось возвращаться по вечерам из страха перед налетами местных партизан. В генерал-губернаторстве было хуже, чем на Украине, хуже, чем в Остланде, даже хуже, чем в Москве.
Подошел официант предложить еще кофе. Марш отказался. Когда тот удалился на недосягаемое для слуха расстояние, Хальдер продолжил все тем же тихим голосом:
– Франк управлял всем из замка Вавель. Должно быть, там размещался и Булер. Мой приятель работает в генерал-губернаторстве в официальных архивах. Боже, он такое рассказывает… Роскошь, очевидно, была невероятная. Что-то из времен Римской империи. Картины, гобелены, сокровища, награбленные у церквей, драгоценности. Взятки деньгами и натурой, если понимаешь, что я имею в виду. – Голубые глаза Хальдера светились, брови плясали.
– И Булер имел к этому отношение?
– Кто знает? Если нет, то он, пожалуй, был единственным, не связанным с этим делом.
– Это, возможно, объясняет, откуда у него дом в Шваненвердере.
Хальдер тихонько присвистнул:
– Вот тебе и ответ. Мы с тобой, друг мой, были не на той войне. Запертые в вонючем металлическом гробу в двух сотнях метров от поверхности воды в Атлантике. А могли бы жить в силезском замке, спать на шелках в компании с парой молоденьких полек.
У Марша еще было что расспросить, но не было времени. Когда они выходили, Хальдер сказал:
– Итак, ты придешь пообедать у меня с коллегой, занимающейся Союзом немецких девушек?
– Я подумаю.
– Может быть, нам удастся уговорить ее носить форму. – Стоя у входа в гостиницу с глубоко засунутыми в карманы руками и в дважды обернутом вокруг шеи длинном шарфе, Хальдер стал еще больше похож на студента. Вдруг он хлопнул себя ладонью по лбу. – Начисто забыл! А ведь собирался сказать тебе. Вот память… На прошлой неделе в архив приходили двое парней из зипо и расспрашивали о тебе.
Марш почувствовал, как с лица исчезла улыбка.
– Гестапо? Что им было нужно?
Ему удалось сохранить легкий, непринужденный тон.
– О, обычный набор. «Как он вел себя во время войны? Придерживается ли он каких-либо твердых политических взглядов? Кто его друзья?..» В чем дело, Зави? Продвижение по службе или что-нибудь еще?
– Должно быть. – Он приказал себе расслабиться. Возможно, всего лишь обычная проверка. Не забыть спросить Макса, не слыхал ли он что-нибудь о новой проверке персонала.
– Ну тогда, если станешь начальником крипо, не забывай старых друзей.
Марш рассмеялся:
– Не забуду. – Они обменялись рукопожатиями. Когда расходились, Марш произнес: – Интересно, были ли у Булера враги?
– Не сомневайся, – ответил Хальдер.
– Кто же тогда они?
Хальдер пожал плечами:
– Для начала тридцать миллионов поляков.
Единственной живой душой на втором этаже здания на Вердершермаркт была уборщица-полька. Когда Марш выходил из лифта, она стояла к нему спиной. Ему был виден только широкий зад, покоящийся на пятках черных резиновых сапог, да красная косынка на волосах, которая качалась в такт ее движениям – она скребла щеткой пол. Она тихо пела про себя на родном языке. Он протиснулся мимо нее и вошел в кабинет. Когда дверь закрылась, Марш услышал, как она запела снова.
Еще не было девяти. Он повесил фуражку у двери и расстегнул пуговицы мундира. На его столе лежал большой коричневый пакет. Он открыл его и вытряхнул содержимое – фотография с места преступления. Глянцевые цветные снимки тела Булера, развалившегося, словно загорая, на берегу озера.
Он снял со шкафа старенькую пишущую машинку и понес к своему столу. Достал из проволочной корзинки два листа неоднократно использованной копирки, два листа тонкой бумаги и один бланк отчета, разложил их по порядку и вставил в машинку. Закурил и несколько минут глядел на засохший цветок.
Потом принялся печатать.
РАПОРТ
Содержание: неопознанное тело (мужчина).
От: штурмбаннфюрера СС К. Марша. 15.4.64 г.
Имею честь доложить о следующем:
1. Вчера в 06:28 мне было приказано присутствовать на изъятии тела из озера Хафель. Тело обнаружил в 06:02 стрелок СС Герман Йост и сообщил в местную полицию (заявление прилагается).
2. Поскольку не было сообщений об исчезновении лиц, соответствующих описанию, я договорился о проверке отпечатков пальцев объекта в архиве.
3. Это дало возможность опознать объект как доктора Йозефа Булера, члена партии, имеющего почетное звание бригадефюрера СС. Объект в 1939–1951 гг. был государственным секретарем в генерал-губернаторстве.
4. Предварительное обследование на месте штурмбаннфюрером СС доктором Августом Эйслером указывает в качестве вероятной причины смерти утопление, а предполагаемое время смерти – вечер или ночь 13 апреля.
5. Объект проживал в Шваненвердере, поблизости от места обнаружения тела.
6. Не было никаких явно вызывающих подозрение обстоятельств.
7. Полное вскрытие будет произведено после официального опознания объекта родственниками.
Марш вынул рапорт из машинки, подписал и, выходя из здания, передал рассыльному.
В морге на Зейдельштрассе на жесткой деревянной скамье сидела выпрямившись пожилая женщина. На ней был коричневый твидовый костюм, коричневая шляпка с уныло торчащим пером, грубые коричневые туфли и серые шерстяные носки. Она смотрела прямо перед собой, сжав лежавшую на коленях сумочку, не обращая внимания на санитаров, полицейских, проходящих по коридору опечаленных родственников. Рядом с ней, сложив на груди руки и вытянув ноги, сидел со скучающим видом Макс Йегер. Он отвел в сторону подошедшего Марша:
– Она здесь десять минут. Почти не разговаривает.
– В шоке?
– Думаю, да.
– Давай закончим с этим делом.
Пожилая женщина не подняла глаз, когда Марш сел рядом на скамью. Он сказал тихо:
– Фрау Тринкль, меня зовут Марш. Я следователь берлинской криминальной полиции. Нам необходимо завершить отчет о смерти вашего брата и нужно, чтобы вы опознали его тело. Потом мы отвезем вас домой. Вам понятно?
Фрау Тринкль повернулась к нему. У нее было худое лицо, тонкий нос (как у брата), тонкие губы. Брошь с камеей застегивала на костлявой шее ворот отделанной оборками темно-красной блузки.
– Вам понятно? – повторил штурмбаннфюрер.
Она глядела на него не тронутыми слезой ясными серыми глазами.
– Вполне.
Речь отрывистая и сухая.
Они прошли через коридор в маленькую без окон приемную. Пол из деревянных плит. Стены выкрашены зеленой клеевой краской. Чтобы оживить мрачное помещение, кто-то налепил туристические плакаты компании немецких имперских железных дорог: вид Большого зала ночью, Музей фюрера в Линце, озеро Штарнбергер в Баварии. С четвертой стены плакат сорвали, оставив на штукатурке оспины, словно следы пуль.
Стук за дверьми возвестил о прибытии тела. Закрытое покрывалом, его ввезли на металлической тележке. Двое служителей в белых халатах поставили ее посередине комнаты – словно стол с закусками, ожидающий гостей. Они покинули комнату, и Йегер закрыл дверь.
– Вы готовы? – спросил Марш.
Она кивнула. Он отвернул покрывало, и фрау Тринкль встала у его плеча. Она наклонилась вперед, и в лицо следователю ударил терпкий запах мятных лепешек, духов и камфары – запах старой женщины. Она долго смотрела на труп, потом открыла рот, словно собираясь что-то сказать, но лишь вздохнула. Закрыла глаза. Марш поймал ее, когда она падала.
– Это он, – произнесла женщина. – Мы не встречались десять лет, он потолстел, я никогда не видела его без очков с тех пор, как он был ребенком. Но это он.
Фрау Тринкль сидела на стуле под плакатом с изображением Линца, низко склонившись, голова между коленями. Шляпка свалилась. На лицо упали жидкие пряди седых волос. Тело Булера увезли.
Открылась дверь. Это вернулся Йегер со стаканом воды, который он насильно вложил в худую руку женщины.
– Выпейте это.
Она помедлила, потом поднесла к губам и отхлебнула.
– Я никогда не падаю в обморок, – сказала она. – Никогда.
Стоя сзади нее, Йегер скорчил рожу.
– Конечно, – поддержал сестру Булера Марш. – Мне нужно задать несколько вопросов. Вам лучше? Остановите меня, если устанете. – Он достал записную книжку. – Почему вы десять лет не виделись с братом?
– После смерти Эдит, его жены, между нами не осталось ничего общего. Во всяком случае, мы никогда не были близки. Даже в детстве. Я на восемь лет старше его.
– Его жена умерла давно?
Она задумалась.
– По-моему, в пятьдесят третьем. Зимой. У нее был рак.
– И с тех пор от него ни единой весточки? А другие братья и сестры были?
– Нет. Нас было двое. Иногда он писал. Две недели назад я получила от него письмо. Он поздравлял меня с днем рождения.
Фрау Тринкль пошарила в сумочке и достала листок почтовой бумаги хорошего качества, плотной, кремового цвета, с вытисненным сверху изображением дома в Шваненвердере. Текст тоже вытиснен каллиграфическим шрифтом, содержание сугубо официальное: «Дорогая сестра! Хайль Гитлер! Шлю поздравления по случаю дня рождения. Горячо надеюсь, что ты, как и я, в добром здравии. Йозеф». Марш сложил и вернул листок. Неудивительно, что никто его не хватился.
– Не упоминал ли он в других письмах о чем-нибудь таком, что бы его беспокоило?
– А что ему было беспокоиться? – брызгая слюной, выкрикнула она. – Во время войны Эдит получила наследство. Деньги у них были. Он жил на широкую ногу, должна вам сказать.
– Детей не было?
– Он был бесплодным, – ответила женщина будничным тоном, словно говоря о цвете волос. – Эдит так переживала. Думаю, что это ее и убило. Она в одиночестве сидела в том огромном доме – это был рак души. Она очень любила музыку, прекрасно играла на рояле. Помню, у них был «Бехштейн». А он… такой холодный, равнодушный.
– Значит, вы были о нем невысокого мнения, – пробормотал в другом конце комнаты Йегер.
– Да, не очень. Мало кому он нравился. – Она обернулась к Маршу. – Я овдовела двадцать четыре года назад. Муж был штурманом в люфтваффе. Его сбили над Францией. Я не осталась в нужде – ни в коей мере. Но пенсия… очень мала, если привыкнешь жить немного лучше. За все это время Йозеф ни разу не предложил мне помочь.
– Что у него с ногой? – снова вмешался Йегер. В его голосе чувствовалась неприязнь. Он явно решил в этом семейном конфликте встать на сторону Булера. – Как это случилось? – Судя по его виду, он считал, что, возможно, она украла эту ногу.
Старая женщина игнорировала его и отвечала Маршу:
– Сам он об этом не говорил, но Эдит мне рассказала. Это случилось в тысяча девятьсот пятьдесят первом году, когда он все еще был в генерал-губернаторстве. Он ехал с охраной из Кракау в Каттовиц [здесь и далее употребляются немецкие названия польских городов: Кракау – Краков, Каттовиц – Катовице, Аушвиц – Освенцим, Литцманнштадт – Лодзь, Позен – Познань, Бреслау – Вроцлав и др.]. Польские партизаны устроили засаду. Эдит говорила, что это была мина. Водителя убило. Йозефу повезло – потерял только ногу. После этого он ушел с государственной службы.
– И, несмотря на это, он плавал? – Марш заглянул в записную книжку. – Знаете, когда мы нашли его, он был в плавках.
Фрау Тринкль ответила скупой улыбкой.
– Брат был фанатиком во всем, герр Марш, будь то политика или здоровье. Он не курил, никогда не притрагивался к спиртному, каждый день физически упражнялся, несмотря на… инвалидность. Так что я ничуть не удивлюсь, если он плавал. – Она поставила стакан и взяла шляпку. – Если можно, я бы хотела вернуться домой.
Марш встал и протянул руку, помогая ей подняться.
– Чем занимался доктор Булер после тысяча девятьсот пятьдесят первого года? Ему было сколько?.. чуть больше пятидесяти?..
– Довольно странно. – Она открыла сумочку и достала зеркальце, посмотрела, прямо ли сидит шляпка, нервными, резкими движениями пальцев заправила выбившиеся пряди. – До войны брат был честолюбив. Работал по восемнадцать часов круглую неделю. Но после Кракау махнул на все рукой. Даже не вернулся к юриспруденции. Более десяти лет после смерти Эдит он просто сидел в своем огромном доме и ничего не делал.
Двумя этажами ниже, в подвальном помещении морга, военврач СС Август Эйслер из отдела ВД2 (патология) криминальной полиции с удовольствием мясника занимался своим привычным делом. Грудная клетка была вскрыта по стандартному образцу: V-образный надрез, разрезы от каждого плеча до подложечной ямки, прямая линия вниз до лобковой кости. Эйслер запустил свои руки глубоко в брюшную полость, зеленые перчатки отливали красным, и выкручивал, резал, вытягивал. Марш и Йегер, прислонившись к стене у открытой двери, курили сигары Макса.
– Видели, что этот человек ел на обед? – спросил Эйслер. – Покажи-ка, Эк.
Ассистент Эйслера вытер руки о фартук и поднял прозрачный пластиковый мешок. На дне находилось небольшое количество чего-то зеленого.
– Салат-латук. Переваривается медленно. Часами держится в кишечнике.
Маршу приходилось работать с Эйслером и раньше. В позапрошлую зиму, когда из-за снегопада остановилось движение на Унтер-ден-Линден и отменили конькобежные соревнования на озере Тегелер, из Шпрее вытащили замерзшего до полусмерти шкипера баржи по имени Кемпф. Он скончался в машине «скорой помощи» по пути в больницу. Несчастный случай или убийство? Решающее значение имело время, когда он упал в воду. Глядя на лед, протянувшийся на два метра от берега, Марш прикинул, что он мог выжить в воде самое большее пятнадцать минут. Эйслер назвал сорок пять, и его мнение перевесило в глазах прокурора. Этого было достаточно, чтобы разрушить алиби второго помощника на барже. И повесить его.
Позднее прокурор, порядочный человек, придерживающийся старых взглядов, пригласил Марша к себе и запер дверь. Потом показал ему «доказательства» Эйслера: копии документов со штампом «Совершенно секретно», помеченные «Дахау, 1942 год». Это был отчет об экспериментах по замораживанию, проводившихся на обреченных на смерть узниках исключительно в рамках департамента генерального военного врача СС. Людей заковывали в наручники и погружали в чаны с ледяной водой, периодически вынимая для измерения температуры, и так до тех пор, пока они не погибали. Там были снимки голов, торчащих между плавающими кусками льда, и диаграммы, иллюстрирующие предполагаемую и фактическую теплоотдачу. Опыты продолжались два года. Наряду с другими их проводил молодой унтерштурмфюрер Август Эйслер. В тот вечер Марш и прокурор пошли в бар в Кройцберге и напились до беспамятства. На другой день никто из них не обмолвился ни словом о том, что было. С тех пор они больше не разговаривали друг с другом.
– Если ты, Марш, думаешь, что я выдвину какую-нибудь фантастическую теорию, не надейся.
– От тебя ничего подобного не ожидаю.
– Я тоже, – засмеялся Йегер.
Эйслер оставил без внимания их веселое настроение.
– Несомненно, это утопление. В легких полно воды, так что, входя в озеро, он дышал.
– Нет ли ран? – спросил Марш. – Кровоподтеков?
– Может быть, ты хочешь подойти и заняться этим делом? Нет? Тогда поверь мне – он утонул. На голове нет ушибов и других повреждений, которые бы свидетельствовали о том, что его били или держали под водой силой.
– Может, сердечный или какой-нибудь другой приступ?
– Возможно, – признал Эйслер. Эк передал ему скальпель. – Этого я не узнаю, пока не закончу полное исследование внутренних органов.
– Сколько времени на это потребуется?
– Сколько надо.
Эйслер встал слева от Булера. Он мягким движением, словно успокаивая головную боль, откинул волосы со лба покойного. Потом низко наклонился и воткнул скальпель в левый висок. Надрезал дугой верхнюю часть лица, как раз под линией волос. Послышался скрип металла о кость. Эк ухмыльнулся, глядя на них. Марш вдохнул полные легкие сигарного дыма.
Эйслер положил скальпель в металлическую чашку и залез пальцем в глубокий надрез. Начал постепенно снимать скальп. Марш отвернулся и зажмурился. Он молился, чтобы никого из тех, кого он любил, кто ему нравился или кого он лишь просто знал, никогда не осквернили кровавым вскрытием.
Йегер спросил:
– Итак, что ты думаешь?
Эйслер взял небольшую круглую ручную пилу. Включил ее. Она завизжала, как бормашина.
Марш последний раз затянулся сигарой:
– Думаю, что нам надо убираться отсюда.
Они вышли в коридор. Позади них в прозекторской было слышно, как менялся звук пилы по мере того, как она вгрызалась в кость.
2
Через полчаса Ксавьер Марш сидел за баранкой служебного «фольксвагена», следуя изгибам проложенного высоко над озером Хафельского шоссе. Иногда вид на озеро закрывали деревья. Потом новый поворот или деревья стоят пореже – и снова видна водная поверхность, бриллиантами искрящаяся под апрельским солнцем. По озеру легко скользили две яхты – два бумажных кораблика, два белых треугольника на голубом фоне.
Он опустил стекло и выставил наружу руку. Теплый ветерок тормошил рукав. По обе стороны дороги ветки деревьев пестрели зеленью поздней весны. Еще месяц, и машины будут следовать сплошным потоком: берлинцы побегут из города походить под парусами или поплавать, повеселиться на пикнике или просто поваляться под солнышком на одном из больших общественных пляжей. Но сегодня воздух пока еще прохладен и еще свежи воспоминания о зиме, так что дорога принадлежит Маршу. Он проехал стоящую как часовой кирпичную Башню кайзера Вильгельма, и дорога стала спускаться вниз, к озеру.
Через десять минут он оказался на месте, где было обнаружено тело. В хорошую погоду здесь все выглядело совсем иначе. Это была стоянка туристов, удобная площадка, известная как «Широкое окно». Там, где вчера была серая однообразная хмарь, сегодня открывалась величественная панорама озера, раскинувшегося на восемь километров до самого Шпандау.
Марш поставил машину и прошел по пути, которым бежал Йост, когда обнаружил тело, – по лесной тропинке, круто вправо и вдоль берега озера. Он проделал этот путь второй раз, потом третий, удовлетворенный вернулся в машину и поехал по низкому мосту в сторону Шваненвердера. Дорогу перегораживал полосатый красно-белый шлагбаум. Из будки появился часовой с винтовкой за спиной и дощечкой для записи в руке.
– Ваше удостоверение, пожалуйста.
Марш протянул в окошко свое удостоверение крипо. Часовой, изучив его, вернул и вытянул руку в приветствии:
– Все в порядке, герр штурмбаннфюрер.
– Каковы здесь правила?
– Останавливаем каждую машину. Проверяем документы и спрашиваем, к кому едут. Если возникают подозрения, звоним в дом и справляемся, ждут ли. Иногда обыскиваем машину. Это зависит от того, дома ли рейхсминистр.
– Ведете список приезжих?
– Так точно, герр штурмбаннфюрер.
– Будьте добры, посмотрите, были ли в понедельник вечером гости у доктора Йозефа Булера.
Часовой поправил за спиной винтовку и вернулся в будку. Марш видел, как он листал страницы журнала. Вернувшись, покачал головой:
– Весь день у доктора Булера никого не было.
– А сам он покидал остров?
– Мы не ведем запись постоянных жителей, герр штурмбаннфюрер, только гостей. И не проверяем уезжающих, только прибывающих.
– Хорошо.
Марш поверх часового посмотрел на озеро. Низко над водой с криком летали стаи чаек. У пристани пришвартовано несколько яхт.
– А как насчет берега? Он как-нибудь охраняется?
Часовой кивнул:
– Постоянно патрулирует речная полиция. Но в большинстве домов имеется столько сирен и собак, что хватит для охраны «кацет». Мы только отгоняем зевак.
«Кацет» удобнее выговорить, чем «концлагерь».
Вдали послышался звук мощных моторов. Часовой повернулся в сторону острова и посмотрел на дорогу.
– Минутку, пожалуйста.
Из-за поворота на большой скорости появился серый «БМВ» с включенными фарами, за ним длинный черный «мерседес», затем еще один «БМВ». Часовой шагнул назад, нажал кнопку. Шлагбаум поднялся. Часовой отдал честь. Когда колонна мчалась мимо, Марш мельком увидел пассажиров «мерседеса» – красивую молодую женщину с короткими светлыми волосами, возможно актрису или манекенщицу, и рядом с ней узнаваемый сразу острый профиль смотревшего прямо перед собой худого и морщинистого старика. Машины с ревом помчались в сторону города.
– Он всегда так быстро ездит? – спросил Марш.
Часовой со значением посмотрел на него:
– Рейхсминистр проводил предварительный отбор. К обеду возвращается фрау Геббельс.
– А, все ясно. – Марш повернул ключ зажигания, и «фольксваген» ожил. – Слыхали, доктор Булер скончался?
– Никак нет, – равнодушно ответил часовой. – Когда?
– В понедельник вечером. Его вынесло на берег в нескольких сотнях метров отсюда.
– Я слышал, что нашли тело.
– Что он был за человек?
– Я его почти не видел. Он нечасто выходил из дома. И гостей не принимал. Никогда не разговаривал. Вообще-то, многие здесь кончают таким образом.
– Который его дом?
– Его нельзя не узнать. На восточной стороне острова. Две высокие башни. Один из самых больших домов.
– Благодарю.
Въезжая на дамбу, Марш посмотрел в зеркальце. Часовой несколько секунд постоял, глядя ему вслед, потом снова поправил винтовку, повернулся и медленно направился в будку.
Шваненвердер был невелик, меньше километра в длину и полкилометра в ширину, односторонняя дорога петлей вилась по часовой стрелке. Чтобы добраться до владений Булера, Маршу пришлось проехать вокруг острова. Он ехал осторожно, приостанавливаясь каждый раз, как видел дом с левой стороны.
Место было названо по имени знаменитых колоний лебедей, которые обитали в южной части Хафеля. Оно стало модным в конце прошлого столетия. Большинство зданий сохранилось с того времени: огромные виллы с крутыми крышами и каменными фасадами во французском стиле в окружении длинных аллей, лужаек, скрытые от любопытных глаз высокими заборами и деревьями. На обочине не к месту торчала часть разрушенного дворца Тюильри – колонна и фрагмент арки, доставленные из Парижа давно умершим дельцом времен Вильгельма. Нигде никакого движения. Иногда сквозь решетки ворот попадались на глаза сторожевые псы, а один раз он увидел сгребающего листья садовника. Владельцы были либо в городе на работе, либо в отъезде, либо лежали во прахе.
Марш знал некоторых из них: партийные бонзы; магнат автомобильной промышленности, разжиревший на рабском труде; директор «Вертхайма», большого универсального магазина на Потсдамерплац, конфискованного у владельцев-евреев более тридцати лет назад; хозяин военных заводов; глава объединения, занимающегося строительством больших автобанов, ведущих вглубь восточных территорий. Он удивлялся, как Булеру удалось попасть в такую состоятельную компанию, но потом вспомнил замечание Хальдера: роскошь, словно в Римской империи.
– КП-семнадцать, говорит КХК. КП-семнадцать, ответьте, пожалуйста, – настойчиво обращался женский голос. Марш поднял трубку расположенного под щитком радиотелефона.
– Я КП-семнадцать. Продолжайте.
– КП-семнадцать, соединяю вас со штурмбаннфюрером Йегером.
Он находился у ворот виллы Булера. Сквозь металлические узоры Маршу были видны изгиб желтой дорожки и высокие башни, точно такие, как описал часовой.
– Ты напрашивался на неприятности, – пророкотал голос Йегера, – и мы их получили.
– Что у тебя?
– Не успел я вернуться, как явились двое наших почтенных коллег из гестапо. «Ввиду видного положения, которое занимал в НСДАП партайгеноссе Булер, бла-бла-бла, решено, что дело имеет отношение к безопасности страны».
Марш стукнул рукой по рулевому колесу:
– Вот дерьмо!
– «Все документы должны быть немедленно переданы в службу безопасности, расследующие дело офицеры должны доложить, в каком состоянии находится следствие, расследование силами крипо прекратить немедленно».
– Когда это было?
– Прямо сейчас. Они сидят в нашем кабинете.
– Ты им сказал, где я?
– Конечно нет. Я оставил их с чем есть и сказал, что попробую тебя разыскать. И пришел прямо в дежурку. – Йегер понизил голос. Марш представил, как он повернулся спиной к телефонистке. – Слушай, Зави, я не советую тебе лезть на рожон. Поверь, они настроены вполне серьезно. С минуты на минуту Шваненвердер будет кишеть гестаповцами.
Марш глядел на дом. Там было абсолютно тихо и безлюдно. Наплевать на гестапо.
И он решился.
– Мне тебя не слышно, Макс, – прокричал он. – Извини. Связь прерывается. Я ничего не понял из того, что ты сказал. Прошу сообщить, что связь не в порядке. Отбой. – И выключил приемник.
Не доезжая метров пятидесяти до дома, Марш увидел справа от дороги проселок, ведущий в заросшую лесом середину острова. Он дал задний ход, быстро проскочил на проселок и заглушил мотор. Потом побежал к воротам усадьбы Булера. Времени было в обрез.
Ворота были заперты. Этого следовало ожидать. Сам засов представлял собой прочный металлический брусок в полутора метрах над землей. Он встал на него носком сапога. По верху ворот, как раз у него над головой, в тридцати сантиметрах друг от друга торчали железные шипы. Ухватившись за них обеими руками, он подтянулся и закинул левую ногу. Рискованное дело. Некоторое время он сидел верхом на воротах, переводя дыхание. Потом спрыгнул на засыпанную гравием дорожку с внутренней стороны.
Дом был огромный, причем странной конструкции. Три его этажа завершались крутой шиферной крышей. Слева возвышались две каменные башни, о которых говорил часовой. Они примыкали к основному зданию. Во всю длину второго этажа протянулся балкон с каменной балюстрадой. Балкон поддерживали колонны. Позади них, наполовину спрятанный в тени, находился главный вход. Марш направился туда. Обе стороны дорожки обильно заросли неухоженными буками и елями. Бордюры запущены. Не убранные с зимы сухие листья перекатывались по газону.
Он прошел между колоннами. Первая неожиданность: дверь не заперта.
Марш остановился в прихожей и огляделся. Справа – дубовая лестница, слева – две двери, прямо – мрачный коридор, который, как он догадывался, вел на кухню.
Он подергал первую дверь. Она открывалась в обшитую деревянными панелями столовую. Длинный стол и двенадцать стульев с высокими резными спинками. Холод и затхлый запах запустения.
Следующая дверь вела в гостиную. Он продолжал откладывать в памяти детали. Ковры на натертом деревянном полу. Тяжелая мебель, обтянутая дорогой парчой. На стенах гобелены, тоже неплохие, насколько Марш разбирался. У окна рояль, на нем две большие фотографии. Марш повернул одну к свету, слабо пробивавшемуся сквозь пыльные освинцованные стекла. Тяжелая серебряная рамка с орнаментом из свастик. На фотографии Булер и его жена в день свадьбы, спускающиеся по ступеням. По обе стороны почетный караул штурмовиков, осеняющих счастливую пару дубовыми ветками. Булер тоже в форме штурмовика. Его жена с вплетенными в волосы цветами, пользуясь излюбленным выражением Макса Йегера, страшна, как корзина лягушек. На лицах ни улыбки.
Марш взял другую фотографию и тут же почувствовал, как похолодело в желудке. Снова Булер, на этот раз слегка наклонившись вперед и подобострастно пожимая руку другому человеку. Предмет его глубокого почтения стоял вполоборота к фотоаппарату, словно в момент рукопожатия кто-то стоявший позади фотографа отвлек его внимание. На снимке надпись. Чтобы разглядеть неразборчивый почерк, Маршу пришлось соскрести пальцем грязь со стекла. «Партайгеноссе Булеру, – прочел он. – От Адольфа Гитлера. 17 мая 1945 года».
Внезапно Марш услышал шум, словно кто-то стучал ногой в дверь. Затем повизгивание и вой. Он поставил снимок на место и вернулся в прихожую. Звуки раздавались в глубине дома.
Он вынул пистолет и прокрался вдоль коридора. Как он и предполагал, тот вел на кухню. Звуки повторились. Вроде бы испуганный плач и шаги. К тому же отвратительно пахло.
В конце кухни была еще одна дверь. Он крепко сжал ручку и рывком распахнул дверь. Мимо с шумом пронесся с широко раскрытыми от ужаса глазами пес в наморднике. Он мелькнул в коридоре, прихожей и выскочил через открытую дверь во двор. Пол кладовки был густо покрыт издающими вонь фекалиями, мочой и продуктами, которые пес сдернул с полок, но был не в состоянии съесть.
После такого Маршу хотелось бы задержаться на несколько минут и прийти в себя. Но времени не было. Он убрал «парабеллум» и быстро осмотрел кухню. В раковине несколько сальных тарелок. На столе недопитая бутылка водки, рядом пустой стакан. Дверь в подвал заперта; он решил ее не ломать. Направился наверх. Спальни, ванные – всюду та же атмосфера поизносившейся роскоши, следы ушедшей в прошлое шикарной жизни. И всюду, заметил он, картины – пейзажи, религиозные аллегории, портреты, покрытые толстым слоем пыли. Дом как следует не убирали месяцами, а то и годами.
На верхнем этаже одной из башен находилась комната, которая, должно быть, служила Булеру кабинетом. Полки учебников по юриспруденции, фолиантов с разбором судебных дел, сборников законодательных актов. У окна, выходящего на лужайку позади дома, большой письменный стол и вращающееся кресло. Длинный диван со сложенными одеялами – видно, на нем частенько спали. И снова фотографии. Булер в судейской мантии. Булер в эсэсовской форме. Булер в группе нацистских «шишек» (среди них Марш без особой уверенности разглядел Ганса Франка), видимо сидящих в первом ряду на концерте. Все фотографии по меньшей мере двадцатилетней давности.
Марш уселся за стол и посмотрел в окно. Лужайка вела к берегу Хафеля. Там был маленький причал с пришвартованной к нему моторкой с каютой, а за ним открытая до противоположного берега панорама озера. Вдали пыхтел паром Кладов-Ваннзее.
Он переключил внимание на письменный стол. Пресс-папье. Тяжелая бронзовая чернильница. Телефон. Он протянул к нему руку.
Телефон зазвонил.
Рука повисла в воздухе. Один звонок. Второй. Третий. Звук казался громче из-за царившей в доме тишины; пыльный воздух вибрировал. Четвертый. Пятый. Он положил пальцы на трубку. Шестой. Седьмой. Поднял ее.
– Булер? – старческий голос, скорее мертвый, чем живой; шепот из другого мира. – Булер? Отвечай же. Кто это?
Марш сказал:
– Друг.
Молчание. Щелчок.
Звонивший дал отбой. Марш положил трубку и стал быстро, наугад открывать ящики стола. Несколько карандашей, немного почтовой бумаги, словарь. Он один за другим до конца выдвигал нижние ящики и шарил рукой.
Ничего.
Нет, кое-что было.
В самой глубине ящика пальцы скользнули по небольшому гладкому предмету. Марш достал его. Маленькая записная книжка в черной кожаной обложке с вытисненными золотом орлом и свастикой. Он веером пролистал ее. Книжка-календарь члена партии на 1964 год. Сунув ее в карман, он поставил на место все ящики.
А пес Булера, скуля, бешено метался вдоль кромки воды, вглядываясь в другой берег Хафеля. Временами он приседал на задние лапы, чтобы через несколько секунд снова начать свой отчаянный бег. Марш теперь видел, что почти весь правый бок собаки покрыт засохшей кровью. Пес не обратил никакого внимания на спускавшегося к озеру Марша.
Каблуки звонко стучали по доскам причала. Сквозь щели между расшатанными досками была видна плещущаяся на мелководье мутная вода. Дойдя до конца причала, он ступил в лодку, закачавшуюся под его весом. На корме скопилось немного дождевой воды, с грязью и листьями, с радужными разводами на поверхности. Вся лодка пропахла горючим. Должно быть, где-то течь. Марш наклонился и подергал дверцу каюты. Она была заперта. Притенив лицо ладонями, он заглянул в иллюминатор, но внутри было слишком темно, чтобы разглядеть что-нибудь.
Он выпрыгнул из лодки и пошел обратно. Дерево причала от непогоды потемнело, за исключением одного места на противоположном от лодки конце. Здесь валялись мелкие оранжевые осколки, был виден мазок белой краски. Наклонясь, чтобы разглядеть эти следы, он увидел близ берега какой-то предмет, тускло мерцающий в воде. Он встал на колени и, держась левой рукой за причал и протянув как можно дальше правую, сумел его достать. Это был ножной протез, розовый и выщербленный, как старинная китайская кукла, с кожаными ремнями и стальными пряжками.
Первым их услышал пес. Он поднял голову, повернулся и затрусил по лужайке к дому. Марш тут же бросил свою находку обратно в воду в побежал следом за раненым животным. Выругав себя за глупость, он обогнул дом и встал в тени башен, так чтобы были видны ворота. Пес, рыча в намордник, бросался на их железные створки. По ту сторону Марш увидел двух человек, разглядывавших дом. Потом появился третий с огромными кусачками, которыми он захватил замок. Через десять секунд замок с треском поддался.
Трое гуськом вошли на участок. Пес отскочил назад. Как и Марш, все они были в черной эсэсовской форме. Один вынул что-то из кармана и направился к псу, вытянув вперед руку, словно предлагая ему угощение. Животное в страхе поджало хвост. Тишину нарушил выстрел, отдавшийся эхом на участке. Над лесом с гвалтом поднялись тучи грачей. Мужчина убрал пистолет в кобуру и махнул рукой одному из спутников. Тот ухватил пса за задние лапы и оттащил в кусты.
Все трое широким шагом направились к дому. Марш спрятался за колонной, медленно передвигаясь вокруг нее, чтобы его не увидели. Он подумал было, что ему нет нужды прятаться. Он мог бы сказать гестаповцам, что проводит обыск, что не получил сообщения Йегера. Но что-то в их поведении, в той небрежной жестокости, с какой они расправились с собакой, насторожило его. Они здесь уже бывали.
Они приблизились, и он смог различить их звания. Два штурмбаннфюрера и обергруппенфюрер – пара майоров и генерал. Какие соображения государственной безопасности потребовали личного участия гестаповского генерала? Обергруппенфюреру было под шестьдесят. Он был сложен как бык, с разбитым лицом бывшего боксера. Марш узнал его – видел по телевидению, на газетных фотографиях.
Кто же он?
Потом вспомнил. Одило Глобоцник. Известный в СС под прозвищем Глобус. Много лет назад он был гауляйтером Вены. Собаку убил Глобус.
– Ты – на первый этаж, – приказал Глобус. – Ты – проверь задние помещения.
Они достали пистолеты и исчезли в доме. Марш подождал с полминуты, затем направился к воротам. Он держался края участка, избегая дорожки, низко согнувшись, пробирался сквозь заросли кустарника. Не доходя пяти метров до ворот, он остановился перевести дух. Внутри их правой опоры находился малозаметный ржавый металлический ящик для почты – там лежал большой коричневый сверток.
Это безумие, подумал он. Полное безумие.
Он не побежал к воротам, зная, что ничто так не привлекает человеческий взгляд, как внезапное движение. Наоборот, он заставил себя не спеша выйти из кустов, словно это было самым естественным делом в мире, вынул сверток из почтового ящика и неторопливо прошел за ворота.
Он ожидал, что сзади раздастся крик или выстрел. Но единственным звуком был шорох деревьев на ветру. Подойдя к машине, он почувствовал, как трясутся его руки.
3
– Почему мы верим в Германию и фюрера?
– Мы верим в Бога, поэтому верим в Германию, которую Он создал в этом мире, и в фюрера, Адольфа Гитлера, которого Он ниспослал нам.
– Кому мы, прежде всего, должны служить?
– Нашему народу и нашему фюреру Адольфу Гитлеру.
– Почему мы повинуемся?
– По внутреннему убеждению, благодаря вере в Германию, фюрера. Движение и СС и преданность делу.
– Хорошо! – одобрительно кивнул преподаватель. – Хорошо. Через тридцать пять минут собираемся на южной спортплощадке. Йост, останьтесь. Остальные свободны!
Коротко подстриженные, в мешковатых светло-серых робах, курсанты СС походили на заключенных. Они шумно покинули класс, гремя стульями и топая сапогами по неструганым доскам пола. Сверху с большого портрета им благосклонно улыбался покойный Генрих Гиммлер. Одиноко стоявший в середине классной комнаты по стойке смирно Йост выглядел покинутым всеми. Некоторые курсанты, выходя, бросали на него любопытные взгляды. Кто же, как не Йост, было написано на их лицах. Йост – странный, нелюдимый, всегда третий лишний. Вечером в казарме его вполне могли снова избить.
Преподаватель кивком указал в конец комнаты:
– К тебе гость.
Оттуда, опершись на радиатор и скрестив руки на груди, на него смотрел Марш.
– Еще раз здравствуй, Йост, – сказал он.
Они пошли по широкому плацу. В одном углу перед группой новобранцев разглагольствовал гауптшарфюрер СС. В другом около сотни юношей в черных тренировочных костюмах под громкие команды послушно разгибались, сгибались, касались руками носков ног. Визит к Йосту напоминал Маршу посещение заключенных в тюрьме. Тот же специфический запах мастики, дезинфекции и кухонного варева. Те же уродливые бетонные здания. Те же высокие стены и патрулирующие часовые. Подобно концлагерю, училище «Зепп Дитрих» было огромным замкнутым учреждением, полностью отгороженным от мира.
– Можно где-нибудь уединиться? – спросил Марш.
Йост смерил его малопочтительным взглядом:
– Здесь никакого уединения. В этом все дело. – Они прошли еще несколько шагов. – Думаю, можно попробовать в казарме. Все сейчас в столовой.
Они повернули, и Йост повел следователя к низкому, выкрашенному в серый цвет зданию. Внутри было мрачно, сильно пахло мужским потом. Не менее сотни коек, стоящих в четыре ряда. Йост правильно угадал – казарма пустовала. Его койка находилась в центре, ближе к задней стене. Марш сел на грубое коричневое одеяло и предложил Йосту сигарету.
– Здесь нельзя.
Марш помахал перед ним пачкой:
– Давай. Скажешь, я приказал.
Йост с благодарностью взял. Он опустился на колени, открыл стоящий рядом с кроватью металлический рундучок и стал искать что-нибудь под пепельницу. Дверца была откинута, Марш видел, что находится внутри: стопка книжек в бумажных переплетах, журналы, фотография в рамке.
– Можно?
Йост пожал плечами:
– Конечно.
Марш взял в руки фото. Семейный снимок, напомнивший ему фотографию Вайссов. Отец в форме эсэсовца. Застенчивая мать в шляпке. Дочка – прелестная девочка со светлыми косами, лет четырнадцати. И сам Йост – с пухлыми щеками, улыбающийся, совсем не похожий на замученное, остриженное наголо существо, стоящее на коленях на каменном полу казармы.
Йост заметил:
– Изменился, верно?
Марш был потрясен и пытался скрыть это.
– Твоя сестра? – спросил он.
– Она еще учится в школе.
– А отец?
– Сейчас у него машиностроительное предприятие в Дрездене. Он был среди первых в России в сорок первом. Отсюда форма.
Марш внимательно вгляделся в суровую фигуру:
– Никак у него Рыцарский крест?
Высшая награда за храбрость.
– О да, – ответил Йост. – Настоящий герой войны. – Он взял фотографию и положил в рундучок. – А ваш отец?
– Он служил на имперском флоте, – сказал Марш. – Был ранен в первую войну. Так по-настоящему и не поправился.
– Сколько вам было, когда он умер?
– Семь.
– Вы о нем вспоминаете?
– Каждый день.
– Вы тоже служили на флоте?
– Почти. На подводной лодке.
Йост медленно покачал головой. Его бледное лицо порозовело.
– Все мы идем по стопам отцов, верно?
– Возможно, большинство. Но не все.
Некоторое время они молча курили. Марш слышал, что на плацу все еще продолжаются занятия физкультурой. «Раз, два, три… Раз, два, три…»
– Эти люди… – произнес Йост и снова задумчиво покачал головой. – У Эриха Кестнера есть стихотворение «Маленький марш». – Закрыв глаза, он продекламировал:
- Вы любите ненавидеть и подходите к миру
- с меркой ненависти.
- Вы в человеке выкармливаете зверя,
- Чтобы зверь этот рос внутри вас!
- Чтобы зверь в человеке пожрал человека.
Марш почувствовал себя неловко, став свидетелем внезапного взрыва чувств в молодом человеке.
– Когда оно написано?
– В тридцать втором.
– Я его не знаю.
– Вы и не могли знать. Оно запрещено.
Последовало молчание. Потом Марш сказал:
– Мы теперь знаем личность обнаруженного вами покойника. Доктор Йозеф Булер. Видный чиновник генерал-губернаторства. Бригадефюрер СС.
– Боже мой, – схватился за голову Йост.
– Как видишь, дело приняло серьезный оборот. Прежде чем встретиться с тобой, я навел справки в караулке у главного входа. У них отмечено, что вчера утром ты, как обычно, покинул казарму в пять тридцать утра. Так что время, указанное в твоем заявлении, – полная бессмыслица.
Йост по-прежнему закрывал лицо ладонями. Между пальцами горела сигарета. Марш наклонился, забрал ее и погасил. Потом встал.
– Смотри, – сказал он. Йост поднял глаза, а Марш побежал на месте. – Это ты вчера, верно? – Марш изобразил, как он устал, стал пыхтеть, смахивать пот со лба. Йост невольно улыбнулся. – Хорошо. – Марш продолжал бег. – В лесу и на тропинке у озера ты на бегу думаешь о какой-нибудь книге или о том, как тебе ужасно плохо живется. Льет дождь, света мало, но вдалеке слева ты что-то замечаешь… – Марш обернулся. Йост напряженно смотрел на него. – …Не знаю что, но только не труп.
– Но…
Марш остановился и направил палец на Йоста:
– Мой совет: не залезай еще глубже в дерьмо. Два часа назад я снова был на месте, где было обнаружено тело, и проверил – ты никак не мог увидеть его с дорожки. – И снова побежал на месте. – Итак, ты что-то видишь, но не останавливаешься. Пробегаешь мимо. Но, будучи добросовестным парнем, ты, пробежав пяток минут, решил, что лучше вернуться и посмотреть еще разок. Вот тогда-то ты и заметил труп. И только тогда вызвал полицию.
Он сжал руки Йоста и поставил его на ноги.
– Беги со мной, – приказал он.
– Не могу…
– Беги!
Йост неохотно зашаркал ногами. Их сапоги стучали по каменным плитам.
– Теперь опиши, что ты видишь. Ты выбегаешь из лесу и бежишь по тропинке вдоль озера…
– Умоляю…
– Говори!
– Я… я вижу… автомашину, – начал Йост, закрыв глаза. – Потом троих людей… Сильный дождь… На них пальто, капюшоны – как монахи… Головы опущены… Поднимаются по склону от озера… Я… Я испугался… Перебежал через дорогу и спрятался в лесу, чтобы меня не увидели…
– Продолжай.
– Они садятся в машину и уезжают… Я жду, потом выхожу из лесу и обнаруживаю тело…
– Что-то ты пропустил.
– Нет, клянусь вам…
– Ты видел лицо. Когда они садились в машину, ты видел лицо.
– Нет…
– Йост, скажи мне, чье это лицо. Ты видел его. Ты его знаешь. Скажи.
– Глобус! – закричал Йост. – Я видел Глобуса!
4
Сверток, который он достал из почтового ящика Булера, лежал нераскрытый рядом с ним на переднем сиденье. Может, бомба, подумал Марш, заводя «фольксваген». В последние месяцы прокатилась волна взрывов таких бомб-свертков, оторвавших руки и головы у полудюжины правительственных чиновников. Этот сверток вполне мог породить заголовок на третьей странице «Тагеблатт»: «Во время загадочного взрыва около казарм погиб следователь».
Он объехал весь Шлахтензее, пока не отыскал магазин деликатесов, где купил буханку черного хлеба, вестфальской ветчины и бутылку шотландского виски. Солнце еще сияло, воздух был чист. Он направился на запад, назад к озерам, собираясь заняться тем, чего не делал много лет: устроить пикник.
После того как в 1934 году Геринга сделали главным егермейстером рейха, была предпринята попытка придать Грюневальду новый облик. Здесь посадили и каштаны, и липы, и буки, и березы, и дубы. Но сердцевиной его, как и тысячу лет назад, когда равнины Европы были покрыты лесами, сердцевиной его по-прежнему оставались унылые холмы, заросшие сосной. Из этих лесов за пять столетий до Рождества Христова вышли воинственные германские племена, и в эти леса победоносные германские племена вновь возвращаются спустя двадцать пять веков, главным образом в автофургонах и легковых машинах с автоприцепами и, как правило, в выходные дни. Немцы были расой лесных обитателей.
Марш остановился, забрал провизию и сверток, обнаруженный в почтовом ящике Булера, и стал осторожно подниматься по крутой тропинке в чащу. Через пять минут он добрался до местечка, откуда открывался прекрасный вид на Хафель и тающие в голубой дымке лесистые склоны. Разогретый воздух был насыщен приятным смолистым ароматом. Над головой прогрохотал подлетающий к берлинскому аэропорту большой реактивный самолет. Когда он исчез из виду, шум затих, и тишину нарушало только птичье пение.
Маршу пока не хотелось открывать сверток. При виде его он испытывал тревогу. Он уселся на большой камень – несомненно, специально для этого оставленный здесь муниципальными властями, – отхлебнул большой глоток виски и стал закусывать.
Об Одило Глобоцнике, Глобусе, Марш знал мало, только понаслышке. За последние тридцать лет его судьба поворачивалась, подобно флюгеру. Уроженец Австрии, строитель по профессии, он в середине тридцатых годов стал партийным руководителем в Каринтии и гауляйтером Вены. Затем был период опалы в связи со спекуляцией валютой, за которым, когда началась война, последовало назначение шефом полиции в генерал-губернаторстве – должно быть, там-то он и узнал Булера, подумал Марш. В конце войны новое понижение по службе и направление, насколько помнится, в Триест. Но со смертью Гиммлера Глобус вернулся в Берлин и теперь занимал в гестапо какое-то не совсем определенное положение, работал непосредственно на Гейдриха.
Это разбитое в драках зверское лицо нельзя было не узнать. Узнал же его Йост, несмотря на дождь и слабый свет. Портрет Глобуса висел в Зале славы училища, а сам Глобус всего несколько недель назад читал трепещущим от благоговейного страха курсантам лекцию о структуре полицейских служб рейха. Неудивительно, что Йост так испугался. Ему бы следовало не называть себя полиции по телефону и смыться до ее прибытия. А еще лучше в его положении было бы совсем не звонить.
Марш доел ветчину. Остатки хлеба раскрошил и разбросал по земле. Два черных дрозда, следивших за ним, пока он ел, опасливо вышли из подроста и стали клевать крошки.
Он достал записную книжку-календарь, найденную в столе Булера. Стандартный выпуск для членов партии, можно купить в любом писчебумажном магазине. Сначала полезные сведения. Фамилии членов партийной иерархии: министров, руководителей комиссариатов, гауляйтеров.
Государственные праздники: 30 января – День национального пробуждения, 21 марта – День Потсдама, 20 апреля – День Фюрера, 1 мая – Национальный праздник немецкого народа…
Карта империи с указанием времени езды по железной дороге: Берлин – Ровно – шестнадцать часов; Берлин – Тифлис – двадцать семь часов; Берлин – Уфа – четверо суток…
Записи в календаре были настолько скудны, что сначала он показался Маршу чистым, пустым. Просмотрел более тщательно. Напротив 7 марта стоял крошечный крестик. На 1 апреля Булер записал: «День рождения сестры». Еще один крестик напротив 9 апреля, 11 апреля пометка: «Штукарт, Лютер. Утро – 10». Наконец, 13 апреля, накануне смерти, Булер нарисовал еще один маленький крест. Вот и все.
Марш переписал даты в свою записную книжку. Открыл новую страницу. Смерть Йозефа Булера. Объяснения. Первое: смерть произошла случайно, гестапо узнало о ней за несколько часов до крипо, и, когда пробегал Йост, Глобус всего лишь осматривал тело. Абсурд.
Очень хорошо. Второе: Булер убит гестапо, и Глобус приводил приговор в исполнение. Опять абсурд. Приказ по операции «Ночь и туман» 1941 года все еще был в силе. Булера могли на вполне законных основаниях тайно умертвить в застенках гестапо, а его собственность была бы спокойно конфискована государством. Кто бы его оплакивал? Или задавал вопросы по поводу его исчезновения?
Итак, третье: Булер убит Глобусом, который, объявив факт его смерти вопросом государственной безопасности и взяв на себя расследование, заметал следы. Но почему крипо позволили впутаться во все это дело? Какие мотивы были у Глобуса? Почему тело Булера оставили на виду?
Марш откинулся на камень и закрыл глаза. Теплое солнышко на лице успокаивало. От виски по всему телу растекалось тепло.
Он спал не более получаса, когда услышал рядом с собой в кустарнике шорох и почувствовал, что кто-то трогает его за рукав. Он моментально проснулся, успев увидеть белый хвостик и задние ноги оленя, стрелой умчавшегося в лес. Сельская идиллия в каких-нибудь десяти километрах от центра рейха! Он встряхнулся и взял сверток.
Толстая коричневая бумага, аккуратно завернутая и облепленная клейкой лентой. Можно сказать, профессионально завернутая и заклеенная. Твердые линии и острые складки, экономное использование материала и труда. Образцовый сверток. Ни один известный Маршу мужчина не мог бы сделать такой сверток – должно быть, женская работа. Дальше знаки почтового отправления. Три швейцарские марки с изображением крошечных желтых цветов на зеленом фоне. Отправлена из Цюриха в 16:00 13 апреля 1964 года. То есть позавчера.
Вспотевшими от напряжения руками он с преувеличенной осторожностью стал разворачивать посылку. Сначала отклеил ленту, а потом медленно, сантиметр за сантиметром, стал расправлять бумагу. Частично развернув сверток, он увидел внутри коробку шоколада.
На крышке – светловолосые девушки в красных клетчатых платьях, танцующие на зеленом лугу вокруг украшенного цветами и лентами «майского дерева». Позади них на фоне ослепительно-синего неба возвышались белые вершины Альп. Черным готическим шрифтом напечатано: «Поздравления с днем рождения нашего любимого фюрера, 1964». Но странно: коробка была слишком тяжела для одного шоколада.
Он вынул перочинный нож и вскрыл целлофановую обертку. Осторожно поставил коробку на пень. Отвернув лицо и вытянув руки, кончиком ножа поднял крышку. Внутри зажужжал какой-то механизм. А потом:
- Любовь невысказанная,
- Верность нерушимая
- Всю жизнь.
- Струны поют
- И говорят:
- «Я люблю тебя».
Эхо в ответ:
- «Скажи, что ты тоже желаешь меня».
- Весь мир живет любовью,
- И я тебя люблю.
Разумеется, только мелодия, без слов, но он хорошо их знал. Стоя в одиночестве на холме в Грюневальдском лесу, Марш слушал, как ящик играл вальс-дуэт из третьего действия «Веселой вдовы».
5
На обратном пути улицы в центре Берлина выглядели необычно тихими. Когда Марш добрался до Вердершермаркт, он узнал причину. В фойе на большой доске объявлений он прочел, что в половине пятого последует правительственное сообщение. Личному составу предлагалось собраться в столовой. Явка обязательна. Он вернулся как раз вовремя.
В Министерстве пропаганды появилась новая идея: лучшее время для важных сообщений – конец рабочего дня. Новость, таким образом, доходила до людей на публике, в товарищеской атмосфере – исключалась возможность для личного скептицизма или пораженчества. Кроме того, все сообщения по радио планировались так, что рабочие уходили домой чуть раньше, скажем без десяти пять вместо пяти, что создавало чувство удовлетворения, подсознательно связывало режим с хорошим настроением. Так было в те дни. В белоснежном Дворце пропаганды на Вильгельмштрассе работало больше психологов, чем журналистов.
Столовая наполнялась личным составом: офицерами, канцелярскими служащими, машинистками, шоферами. Стоя плечом к плечу, они служили живым воплощением национал-социалистского идеала. Четыре телевизионных экрана, по одному в каждом углу, под аккомпанемент музыки Бетховена показывали карту рейха с наложенной на нее свастикой. Время от времени вклинивался возбужденный голос диктора: «Германцы, приготовьтесь к важному сообщению!» В старые времена по радио раздавалась только музыка. И здесь прогресс.
Сколько таких событий запомнил Марш? В тридцать восьмом их вывели из классных комнат, и они услышали, что немецкие войска вступают в Вену и что Австрия вернулась в фатерланд. В актовом зале их небольшой гимназии под взглядами непонимающих учеников рыдал отравленный газами в Первую мировую их директор.
В тридцать девятом они с матерью были дома в Гамбурге. В пятницу, в 11 часов утра, из рейхстага транслировалась речь Гитлера: «Отныне я всего лишь первый солдат германского рейха. Я снова надеваю эту святую и дорогую для меня форму. Не сниму ее до тех пор, пока не наступит победа. Другого исхода я не переживу». Гром аплодисментов. На этот раз горестные рыдания сотрясали его мать. Марш, которому было семнадцать, стыдясь, отворачивался в сторону, ища глазами фотографию отца в блестящей форме немецкого имперского флота, и думал: «Слава богу. Наконец-то война. Может быть, теперь я смогу оправдать твои ожидания».
Следующие несколько заявлений по радио он слушал в море. Победа над Россией весной сорок третьего – торжество стратегического гения фюрера! Летнее наступление вермахта годом раньше отрезало Москву от Кавказа, Красную армию от нефтепромыслов Баку. Сталинская военная машина просто остановилась из-за отсутствия горючего.
Мир с англичанами в сорок четвертом – торжество контрразведывательного таланта фюрера! Марш помнил, как все подводные лодки были отозваны на свои базы на Атлантическом побережье для установки новой шифровальной системы. Вероломные англичане, сказали им, расшифровывали коды фатерланда. После своевременно принятых мер нетрудно было перехватывать британские торговые суда. В конце концов Англию голодом заставили сдаться. Черчилль и его банда поджигателей войны бежали в Канаду.
Мир с американцами в сорок шестом – торжество научного гения фюрера! Когда США одержали победу над Японией с помощью атомной бомбы, фюрер направил ракету «Фау-3», которая разорвалась над Нью-Йорком, продемонстрировав, что в случае американского удара он может нанести ответный удар. После этого война выродилась в кровопролитные стычки с партизанами на окраинах новой германской империи. Возник ядерный тупик, названный дипломатами «холодной войной».
Но заявления по радио делались и в дальнейшем. Когда в пятьдесят первом умер Геринг, до объявления о его смерти весь день играли серьезную музыку. Того же удостоился Гиммлер, погибший в шестьдесят втором, когда взорвался его самолет. Смерти, победы, войны, призывы к жертвам и реваншу, бесконечная тяжелая борьба с красными на уральском фронте с непроизносимыми названиями мест боев и наступлений: Октябрьское, Полуночное, Алапаевск…
Марш следил за лицами окружавших его людей. Вымученный юмор, отрешенность, страх. Люди, у которых на Востоке братья, сыновья и мужья. Они продолжали бросать взгляд на экраны.
«Германцы, приготовьтесь к важному сообщению!»
Что их ожидает на этот раз?
Столовая была заполнена почти до отказа. Марша прижали к колонне. В нескольких метрах от себя он видел Макса Йегера, перебрасывавшегося шутками с полногрудой секретаршей из ФА1 – юридического отдела. Макс через плечо девушки разглядел его и расплылся в ухмылке. Раздался барабанный бой. В помещении установилась тишина. Диктор сказал: «Мы ведем прямую передачу из Берлина, из Министерства иностранных дел».
На телеэкранах заблестел бронзовый барельеф. От нацистского орла, держащего в когтях земной шар, расходились яркие лучи, напоминавшие детский рисунок восходящего солнца. Перед ним стоял человек с густыми черными бровями и тяжелым подбородком – представитель Министерства иностранных дел Дрекслер. Марш подавил смех – можно подумать, что во всей Германии Геббельсу не удалось найти человека, который не был бы похож на закоренелого преступника.
– Дамы и господа, у меня для вас краткое заявление Имперского министерства иностранных дел. – Дрекслер обращался к журналистам, остающимся за камерой. Надев очки, он начал читать:
«В соответствии с давним и обоснованным желанием фюрера и народа Великого германского рейха жить в условиях мира и безопасности со странами мира, после обширных консультаций с нашими союзниками по Европейскому сообществу Имперское министерство иностранных дел от имени фюрера сегодня направило приглашение президенту Соединенных Штатов Америки посетить Великий германский рейх для личных переговоров с целью способствовать лучшему взаимопониманию между двумя нашими народами. Приглашение принято. Нам стало известно, что американская администрация сегодня утром предварительно сообщила: господин Кеннеди намерен встретиться с фюрером в Берлине в сентябре. Хайль Гитлер! Да здравствует Германия!»
Изображение постепенно исчезло, и после барабанного боя зазвучала мелодия национального гимна. Присутствующие в столовой запели. Марш представил мужчин и женщин в этот момент по всей Германии – на верфях, металлургических заводах, в учреждениях и школах грубые голоса сливались с высокими в одном вздымающемся к небесам оглушительном радостном реве: «Германия, Германия превыше всего! Превыше всего на свете!»
Его губы шевелились согласованно с другими, но не издавали ни звука.
– Нам от этого только еще больше долбаной работы, – сказал Йегер. Они вернулись в свой кабинет. Положив ноги на стол, Макс пыхал сигарой. – А ты еще считаешь, что день рождения фюрера – кошмар для службы безопасности! Можешь себе представить, что будет, когда в городе появится еще и Кеннеди?
Марш усмехнулся:
– Думаю, Макс, ты упускаешь из виду исторические масштабы этого события.
– Да положил я на исторические масштабы события! Я думаю о том, что спать мне не дадут. Бомбы уже теперь рвутся, как шутихи на фейерверке. Погляди-ка. – Йегер убрал ноги со стола и стал рыться в куче папок. – Пока ты забавлялся на Хафеле, нам здесь пришлось кое над чем потрудиться. – Он отыскал конверт и вытряхнул содержимое. Это были ЛВП. Личные вещи покойного. Из кучи бумаг он достал два паспорта и передал их Маршу. Один из них принадлежал офицеру СС Паулю Хану, другой – молодой женщине, Магде Фосс. – Хороша, правда? – начал Йегер. – Они только что поженились. Ехали с праздничного приема в Шпандау. Собирались в свадебное путешествие. Он ведет машину. Сворачивают на Навенерштрассе. Их обгоняет грузовик. Из кузова выпрыгивает парень с пистолетом. Наш эсэсовец теряет голову. Дает задний ход. Трах! Въезжает на тротуар, врезается в фонарный столб. Пока он пытается включить первую передачу – бах! – выстрел в голову. С женихом покончено. Крошка Магда выбирается из машины и бежит. Бах! Покончено и с невестой. Конец медового месяца. Конец, твою мать, всего. За одним исключением – родственники и друзья новобрачных за свадебным столом все еще пьют за здоровье молодых, и никто в течение двух часов не удосуживается сообщить гостям о случившемся.
Йегер высморкался в грязный носовой платок. Марш снова взглянул на паспорт девушки. Она прелестна – темноглазая блондинка; в двадцать четыре года лежит убитая в сточной канаве.
– Кто это сделал? – спросил он, возвращая паспорта.
Йегер стал загибать пальцы:
– Поляки. Латыши. Эстонцы. Украинцы. Чехи. Хорваты. Грузины. Красные. Анархисты. Кто знает? Сегодня это может сделать любой. Этот дурачок повесил на доске объявлений у себя в казарме открытое приглашение на прием. Гестапо считает, что уборщица, повар или кто-нибудь еще из обслуги увидел объявление и сообщил кому надо. Большинство подсобных работников в казармах – иностранцы. Сегодня днем всех их забрали. Бедняги.
Он положил паспорта и удостоверения личности обратно в конверт и бросил его в ящик стола.
– Как тебе это нравится?
– Съешь шоколадку. – Марш протянул коробку Йегеру. Тот открыл ее. Кабинет заполнила металлическая мелодия.
– Очень вкусно.
– Что ты знаешь о музыке?
– Что? О «Веселой вдове»? Да это же любимая оперетта фюрера. Моя мать была без ума от нее.
– Моя тоже.
От нее без ума была каждая немецкая мать. «Веселая вдова» Франца Легара. Впервые исполнена в Вене в тысяча девятьсот пятом году. Такая же приторная, как венские булочки с кремом. Легар умер в сорок восьмом. Гитлер послал на похороны личного представителя.
– Что еще можно сказать? – Йегер своей лапищей взял шоколадку и сунул в рот. – Откуда это у тебя? Тайная воздыхательница?
– Вынул из почтового ящика Булера. – Марш откусил конфету и поморщился от слишком сладкого вкуса вишневой начинки. – Подумай, у тебя нет друзей, но кто-то шлет тебе из Швейцарии дорогую коробку шоколада. Никакой записки. Коробка, которая играет любимую мелодию фюрера. Кто мог это сделать? – Он проглотил оставшуюся половину конфеты. – Может быть, отравитель?
– О, черт! – Йегер выплюнул остатки конфеты в руку, достал носовой платок и стал вытирать размазанную по пальцам и губам коричневую слюну. – Иногда я сомневаюсь, в здравом ли ты уме.