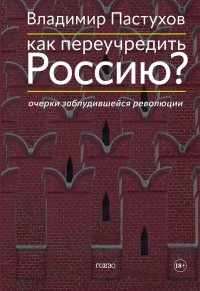
Читать онлайн Как переучредить Россию? Очерки заблудившейся революции бесплатно
- Все книги автора: Владимир Пастухов
Настоящая книга создана иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем, решением Минюста РФ от 05.05.2023 включенным в реестр иностранных агентов.
Научный редактор С. В. Мошкин, доктор политических наук
© Пастухов В., 2023
© Издательство «Гонзо», 2023
Как читать эту книгу
вместо предисловия
Так случилось, что последние сорок лет я писал по-разному об одном и том же – о русской власти. Она с юности гипнотизировала меня, представляясь таинственной силой, способной извлечь из небытия к исторической жизни невообразимые прежде русские цивилизации и всего лишь для того, чтобы через какое-то время отправить их обратно в небытие, сломав им хребет. Я рано понял, что разнообразные русские миры возникают и исчезают в основном по воле русской власти, и решил посвятить свою жизнь (в той ее части, в которой мне было дано ею управлять) исследованию этого мистического явления. За прошедшие годы накопилось довольно много догадок и предположений, которые были разбросаны по нескольким книжкам и многим десяткам статей. Все это уже было однажды стянуто воедино двумя книгами, изданными Дмитрием Ицковичем в «ОГИ»: «Реставрация вместо реформации» и «Революция и конституция». Но время шло, все менялось очень быстро, и мой угол зрения тоже менялся соответственно. В конце концов передо мной встала задача подвести какой-то промежуточный итог и систематизировать этот поток сознания. Написать что-то с чистого листа объемом с том советской энциклопедии мне не по силам, да в этом и нет необходимости. Вместо этого я собрал главное, что было мною сделано, очистил от того, что выглядит с высоты сегодняшнего дня анахронизмом, и выстроил в соответствии с той логикой, которая сейчас представляется наиболее приемлемой. Получилось в итоге довольно стройное и полное изложение моих взглядов на русскую цивилизацию, русскую власть, русскую реакцию и русскую революцию в прошлом, настоящем и будущем. Конечно, многие главы несут следы времени, в которое они писались. Тем интереснее будет читателю сравнить прогнозы с реальностью, в том числе увидеть и оценить мою собственную интеллектуальную и нравственную эволюцию. Я не стесняюсь своих ошибок и не скрываю их – они необходимый момент познания мира. Зато у этой книги есть одно неоспоримое преимущество для нашего быстрого во всех отношениях времени. Ее можно читать с любого места, можно надолго прерывать чтение, чтобы вернуться позже (если захочется). Каждая ее часть самостоятельна и в то же время представляет собою элемент той общей концепции, ради изложения которой все и затевалось.
Затерянный смысл русского мира
введение в контекст
Интересно, что в базовых идеях, которые сегодня легли в основу новой официальной идеологии России, – об особом цивилизационном пути России, о различиях «европейского» и «евразийского» паттернов, об ограниченности и однобокости многих идей европейского либерализма, – я никогда не видел большого греха, а многие из них казались мне вполне разумными альтернативами механистическому и поверхностному западничеству русской интеллигенции, широко распространенному в эпоху раннего посткоммунизма. Я придерживался этих взглядов (может быть, чересчур ретиво) еще тогда, когда многие нынешние адепты новой идеологии находились в плену самых что ни на есть ортодоксальных «западнических» идей, враз ставших господствующими в России на рубеже 80-х и 90-х годов прошлого столетия.
Тогда, на закате советской эпохи, в точке бифуркации очередного «русского мира», собственно, и столкнулись первый раз смысловые позиции, вокруг которых сегодня развернулась идеологическая битва «судного дня». В наиболее схематичном виде схлестнулись два взгляда на Россию: как на «больного человека Европы», которого надо по-быстрому «подлечить», и как на застрявшую в наезженной колее Евразию, которую надо из этой колеи вытащить, чтобы она могла дальше двигаться с ускорением по новой дороге. Мейнстримом была первая смысловая позиция, нашедшая в той или иной степени воплощение в концепции «догоняющего развития», которое так никого и не может догнать. Взгляд на Россию как на «другую Европу», родственную, но неидентичную европейской цивилизацию, был непопулярным и маргинальным, но я придерживался именно его.
Небольшой маргинальный кружок, разделявший эти «еретические» во времена всеобщего упоения «свободой» идеи, выражал озабоченность тем, что непонимание действительного, весьма сложного и неоднозначного культурного паттерна, который лежал в основании русской власти и государственности вообще, может привести к трагическим ошибкам в оценке перспектив, в том числе к тому, что забегание вперед в деле «европеизации» России без учета готовности общества к такому революционному изменению своих культурных оснований приведет к реакции и историческому отскоку далеко назад, в достаточно темное и безрадостное историческое прошлое. С высоты сегодняшнего дня эти опасения видятся не лишенными смысла, хотя справедливости ради должно сказать, что откат такого масштаба мало кто предполагал вообще. И вот это как раз и является пунктом, достойным размышления.
Мы видели риски реакции и предполагали исторический откат назад – любопытно, и когда-нибудь нам зачтется, если будет, кому засчитывать. А вот почему мы не смогли оценить по-настоящему эпический масштаб этого отката, не разглядели в нем цивилизационной катастрофы тогда – стоит разобраться. Думаю, что я и те немногие, кто, оставаясь убежденными сторонниками либеральных ценностей, не разделял тогда, на изгибе 1980-х и 1990-х, упрощенного западнического подхода к преобразованиям в России, слишком увлеклись критикой этого самого западничества и просмотрели потенциал вроде как оказавшихся на обочине истории их оппонентов – наследников славянофилов.
А ведь они были где-то совсем рядом. Дугин – мой сверстник. От Чистых прудов, где вокруг тогдашней редакции «Полиса» кучковались «альтернативные либералы», до Патриарших прудов, где на квартире Мамлеева собирались «альтернативные большевики», было рукой подать, а оказалось, что это дистанция длиной в одну цивилизацию. И они, и мы говорили о русском мире, но что это – каждый понимал по-своему. Для нас русский мир был особым путем в свое Новое время, в модерн и постмодерн, где мы не должны раствориться, но можем занять достойное место среди других. Для них русский мир был не «среди других», а «вместо других», они шли не к модерну, а в архаику, мы хотели с умом раскрыться, они хотели безумно закрыться. С ними нужно было спорить тогда и ставить точку тогда, но никто не считал это важным. Зачем спорить с городскими сумасшедшими, если их и так никто не замечает?
Отзвуки такого отношения сохраняются до сих пор, когда речь заходит об идеологии национал-большевизма: ну, снова вы о юродивых, которые ни на что не влияют, вы лучше нам расскажите про Путина и Кремль. Проблема в том, что это и есть Путин и Кремль в концентрированном виде. Когда-то В. Катаев написал, что Хлебников был эссенцией русской поэзии Серебряного века, в чистом виде его мало кто мог потребить, но в разбавленном виде он вошел во всех, с кем мы ассоциируем этот век. Дугин, Стрелков-Гиркин и прочие последователи национал-большевистской ереси – это эссенция актуальной идеологии и политики Кремля. В чистом виде их могут переварить только в узком кругу одержимых сторонников – в разбавленном виде, в формате «Первый канал», их употребляют десятки миллионов. Просто большинство из потребляющих не в курсе, из какого экзотического материала на самом деле изготовлена эта настойка.
К сожалению, и я, и все остальные, кто задумывался в те годы об альтернативах ортодоксальному западничеству, не очень приглядывались и прислушивались к тому, что, помимо нашего «модернизационного» русского мира, кто-то рядом вынашивает совсем другой русский мир, больше напоминающий антиутопии Стругацких, чем реализуемый на практике социально-политический проект. Спорить надо было тогда, но тогда они казались недостойными споров. К сожалению, не все были столь беспечны. Два десятилетия спустя загнанная в угол посткоммунистическая власть, которую пришедшая в себя элита стала постепенно зажимать в угол, рассмотрела в идеологических отходах 1990-х этот перл, вытащила его со свалки истории, стряхнула с него пыль и сделала инструментом, с помощью которого она произвела полное переформатирование общества и перевод его в посттоталитарный уклад.
Теперь у нас нет другого пути, как преодолевать национал-большевизм во всех его обличьях и политически, и идейно. Естественно, имеется большой соблазн вернуться в исходную точку и снова схватиться за западничество, чтобы с его помощью развенчать утопию «русского мира». Но вряд ли это будет конструктивным подходом. Мы уже были в этой точке тридцать лет тому назад и видели на опыте 1990-х, что так это не работает. Именно провал механистических попыток перенести западный опыт на российскую почву привел нас туда, где мы сейчас находимся. Разумней было бы не отдавать русский мир ни Дугину сотоварищи, ни Кремлю, а побороться за него. Русский мир не ругательство и не утопия, а историческая реальность. Но он может быть очень разным. Его можно развернуть лицом в прошлое, но при желании в нем можно отыскать и вектор, ориентированный в будущее.
Западная Европа, безусловно, была первопроходцем модерна, и это первородство у нее никто не отнимет. Но и другим дорога в модерн и постмодерн не заказана. Если они не могут по тем или иным причинам пройти тем же самым путем, которым прошла Западная Европа, это значит лишь, что они должны искать собственный путь вперед, а не разворачиваться спиной к будущему и начинать рыть траншею по всему периметру. То, что Россия обладает рядом исторических и культурных особенностей по сравнению с Западной и Восточной Европой, вовсе не означает, что она не может из собственных предпосылок развить и гражданское общество, и конституционно-правовое государство. Да, наверное, она не может это сделать по лекалам, изготовленным по уже известным образцам, а вынуждена будет кроить по живому, и это будет и дольше, и сложнее. Но это и возможно, и необходимо.
Книга, которую вам предстоит прочесть, как раз и есть попытка нащупать альтернативный смысл русского мира. Не тот антикапиталистический, военно-коммунистический эрзац, густо припорошенный лошадиными дозами родоплеменной ксенофобии, которым по ночам пугают маленьких детей в приграничных с Россией странах, а развернутый вперед идеал современного и справедливо устроенного общества, которое стремится встроиться в глобальное разделение труда, войдя туда своей собственной отдельной колонной.
Часть I
Очерки посткоммунистической цивилизации
Вообще-то, эта книга о русской цивилизации и ее непростой судьбе, извилистом прошлом, ухабистом настоящем и туманном будущем. Тридцать лет назад, когда писались первые статьи, ставшие впоследствии главами этой книги, сам тезис о том, что Россия – это отдельная цивилизация, был диссидентским. Его приходилось отстаивать в дискуссии с господствующей, в том числе официальной, точкой зрения, что Россия – это обычная Европа, пошедшая неправильной исторической дорогой. Сегодня, наоборот, об особом цивилизационном выборе России вещают чуть ли не из каждого утюга. Возникает естественный соблазн снова стать диссидентом и писать исключительно о европейской идентичности России. Но я не готов отречься от точки зрения, которой придерживался несколько десятилетий, только потому, что усилиями пропаганды понятия «русская цивилизация» и тем более «русский мир» оказались дискредитированы. Впрочем, и само противопоставление кажется мне искусственным, так как Россия – это отдельная цивилизация, хотя и со своими особенностями, однако принадлежащая к европейской семье культур. Просто это другая Европа, которая живет в параллельном мире, где общие для европейских культур закономерности действуют с поправкой на коэффициент адаптации к «местным условиям».
Очерк 1
Культурные классы как движущая сила русской цивилизации
Больше всего русская власть похожа на птицу феникс. Сколько бы ее ни сжигали, она чудесным образом возрождается из пепла, меняя только окрас: с черного с золотом на оглушительно красный, с красного на экзотический триколор. Но по сути это все та же птица. Пережив очередное «превращение», русская власть восстановилась внешне почти во всех своих до боли знакомых исторических деталях. Волей-неволей приходится констатировать преемственность русской политики, т. е. кто полагал, что русскую политическую традицию можно сломать одним напряжением воли, оказались посрамлены.
СССР еще долго будет оставаться точкой отсчета для всех «концептуализаций» российского государства. Его неожиданное политическое рождение в начале XX века и еще более неожиданная политическая смерть в конце этого же века оставили теоретикам русской государственности много вопросов.
Еще недавно доминирующим в общественном сознании посткоммунистической российской элиты был взгляд на советское государство как на историческую аномалию. Сторонники этой точки зрения считают, что коммунистический режим в России был отклонением от «нормального», «общечеловеческого» пути, вызванным как субъективными (точка зрения большинства), так и объективными (мнение меньшинства) причинами.
Я же пытаюсь последовательно отстаивать принципиально отличный от общепринятого взгляд на коммунистический этап в развитии российской государственности, подчеркивая, что российский коммунизм выглядит аномалией лишь в рамках западной культурной традиции. Для России это была исторически логичная фаза ее развития.
Поскольку Россия представляет несколько иной, чем «западный», тип культуры, то распад коммунистической системы означает для нее не столько «возврат к западным ценностям», сколько начало новой фазы эволюции весьма специфической «евразийской» цивилизации.
Я полагаю, что в посткоммунистическом российском обществе западные ценности не могут быть прямо заимствованы и усвоены, но в лучшем случае будут перерабатываться чуждой для них культурной средой в нечто новое и в достаточной степени оригинальное.
Россия – это особый мир. Ее история – это история развития уникальной мировой культуры, отличающейся как от культуры Запада, так и от культуры Востока. Российская культура имеет смешанную природу, соединяя в себе европейское личностное и азиатское общинное начала.
Русская культура изначально возникает как нечто неорганическое (неоднородное) и движется к органичности через длительную эволюцию. Вследствие этого история России является прежде всего историей постоянных культурных трансформаций.
Неорганичность российской культуры проявляла себя во времени как неравномерность исторического развития. Периодические коллапсы культуры имманентны российскому типу развития. Именно в такие моменты происходит переход от одного внутреннего «культурного типа» к другому. Российская революция есть прежде всего культурная революция. Политическую историю Россию формирует борьба не социальных, а культурных классов.
Разрывы постепенности в историческом развитии выражены поэтому в русской истории более рельефно, чем в истории многих других народов. Смена эпох в России выглядит как полный разрыв со своим культурным прошлым. Из революций русские выходят «нерусскими», другим народом. И только позже оказывается, что они, как никто другой, умеют оставаться самими собой.
Именно поэтому центральным пунктом истории российской государственности является раскол. Раскол отнюдь не чисто русское явление. Но только в России государственность возникла не из преодоления раскола, а на его основе. Русское государство – это государство раскольников, нашедших в нем уникальную форму сосуществования.
В истории России можно выделить пять эпох, олицетворяющих собой различные типы культуры: древнекиевский период, время удельных княжеств, Московское царство, Российскую империю и Советскую Россию. Строго говоря, российской истории принадлежат только три последних. Древняя Русь и феодальные княжества под татаро-монгольским господством – предыстория России, когда закладывались предпосылки ее культуры. Собственно российская история как история развития особой цивилизации начинается с возникновением Московского государства.
Как пишет К. Д. Кавелин, на первый взгляд, Московское царство было азиатской монархией в полном смысле слова1. По его мнению, государственный строй был точным слепком с патриархально-общинного уклада, а тип вотчиновладельца – полного господина над своими имениями – лежал в основании власти государя и повторялся на всех уровнях, вплоть до последнего подданного.
Все подчинялось закону общины. Само государство, казалось, было лишь моментом в ее вечном и неизменном движении. Нигде на поверхности общественной жизни индивидуальность не проявляла себя. Государственная власть ничем не выказывала того, что на нее возложена какая-то особая миссия, не обнаруживала своей главной функции – генератора общественного развития.
Тем не менее индивидуальное начало незримо присутствовало в российской истории испокон веков. Было готово к выполнению своей особой миссии и государство. Просто в Московском царстве истинная роль личности и державы были едва видимы под старыми традиционными формами2.
Однако об этом можно судить лишь по косвенным признакам, например, по тому размаху, который приняло движение казачества. Внутри традиционного уклада, а часто и вопреки ему рождалась личность, которой было тесно в общине с ее неподвижными устоями. Она не хотела покорно нести вместе со всеми тяготы коллективного «государственного рабства» и рвалась на простор.
Власть своими действиями сама подспудно усиливала роль личностного начала в государственной и общественной жизни. Государь сам был личностью. Сопротивляясь местничеству, он боролся за собственную эмансипацию от патриархального мира, за право властвовать по своему разумению и воле, а не в соответствии с традициями.
Петровская империя, признанная самой неорганичной эпохой российской истории, обычно противопоставляется Московскому царству как времени единства культуры и народного бытия. Такое противопоставление, по-моему, некорректно. В культурном отношении Московское царство было таким же неорганичным, как и наследовавшая ему империя, но в скрытой (латентной) форме3. Петровская эпоха не породила неорганичность, а лишь актуализировала, сделала явным то, что было заложено с самого начала.
Задолго до Петра I в общественной и государственной жизни Московского царства определилось противостояние двух начал, составляющих основу российской культуры, – личностного и общинного. Просто рано или поздно должен был наступить момент, когда это противостояние проявит себя выпукло как полный разрыв, как противопоставление. Это и случилось в XVII веке, когда власть в России вплотную подошла к необходимости осуществления глубоких реформ.
По словам В. О. Ключевского, в это время внутри России вновь началось великое брожение. Сотни тысяч людей бросали насиженные места, порывали с общиной и уходили на окраины в казаки. Государственное управление деградировало. Традиционные властные институты не действовали в новых условиях. Кризис охватил православие. Сохранялась лишь внешняя религиозность, о чем свидетельствовали резкое падение нравов, повсеместное распространение пьянства и варварства4.
В таких условиях, как ни странно, резко усилилось влияние государства на культурное развитие. Дело не в реформах, затевавшихся властью. Важнее другое: государство, содействуя развитию личностного начала, приступило к последовательному «насаждению» новой культуры. В результате расслоение общества по «культурным типам» намного увеличилось.
В столице России появлялось все больше самостоятельно мыслящих людей, подвергавших сомнению непоколебимость старинных устоев5. Но в провинции все оставалось по-прежнему. Суеверие и идиотизм деревенской жизни господствовали на огромных просторах. И у этой массы были свои пастыри, фанатичные начетчики, истово ненавидящие всякую самостоятельную мысль, всякое не освященное древней традицией слово.
В этот момент отчетливо обозначилась пропасть между двумя культурными типами, выраставшими на российской почве. Все меньше общего оставалось между двумя частями одного народа. В подобных обстоятельствах не могла не возрасти роль государства как единственной силы, способной соединить эти культурные «классы» в одно целое.
В то же время государство, которое должно было соединять культурные классы в единое целое, оказалось поставлено в условия, при которых само было вынуждено постоянно нарушать статус-кво, ускоряя процесс культурного расслоения.
Государство тонуло в этом культурном раздвоении, но продолжало раскачивать лодку. Русские цари прилагали титанические усилия, чтобы заполучить практические знания европейцев. Конечно, при этом они пытались исключить возможность духовного влияния Европы на русских людей. Борис Годунов предпочитал отправлять молодых людей учиться в Европу, стремясь избежать приглашения наставников в Россию. Кстати, почти никто (по свидетельству историков, вообще ни один) из посланных за знаниями не вернулся на родину, поэтому в XVII веке в Московию все-таки пригласили православных киевских и греческих монахов, знавших европейские науки. Этого оказалось достаточно, чтобы процесс пошел с удвоенной силой.
К середине XVII века в России подспудно сформировались два взаимоисключающих культурных типа: «русские индивидуалисты» с самостоятельным мышлением и независимой волей и «русские коллективисты», испытывающие страх перед самостоятельной мыслью и живущие «по традиции». Они расходились между собой дальше и дальше, и в конце концов власть была принуждена делать политический выбор между ними.
Повод не заставил себя ждать. Разгорелся спор в связи с начатой по инициативе верхов работой по исправлению церковных книг. В нем власть поддержала молодых, преимущественно малороссийских богословов. Но «пошел вопль» от старых исправителей книг, оскорбленных обвинениями в их искажении.
С. М. Соловьев пишет, что стоило раздаться кличу: вера в опасности, ее «переменяют», – как слова эти нашли сильный отзыв, тем более что и в других сферах уже началось движение к новому, ранее неизвестные обычаи бросались в глаза, раздражали. Пришли люди, провозгласившие наступление «последних времен» и надобность «стать и помереть за веру». Возникло массовое движение. Явился раскол6.
Раскол – важнейший пункт российской истории. Им заканчивается первый ее цикл. С него же начинается следующий. Раскол – это внешнее проявление гетерогенного, неорганического характера российской культуры. Исподволь протекавшее культурное расслоение превратило государство в единственного гаранта культурной целостности народа. Но оно оставалось при этом и гарантом общественного развития. Власть не только не могла приостановить дальнейшую культурную стратификацию, но и выступала катализатором данного процесса.
В стремлении преодолеть общественный кризис власть вначале широко открыла двери России для европейского опыта, а затем, пытаясь адаптировать его к российским условиям, была вынуждена инициировать «реформу» самого православия. Эти меры чрезвычайно ускорили процесс культурного расслоения и привели общество к окончательному расколу.
Положение власти оказалось незавидным. Она очутилась, если говорить иносказательно, между Сциллой с ее собачьими головами и зевом-водоворотом Харибды, и ощущения у нее (власти) были, думается, сродни Одиссеевым.
С одной стороны государством же востребованные реформаторы желали решительных перемен везде и во всем. Критика распространялась как эпидемия. В рассылаемых по всей стране «обличительных письмах» бичевались казавшиеся незыблемыми вековые устои и нравы. Но власть не хотела, да и не могла двигаться вперед столь быстро, как того требовали сторонники прогресса. B. О. Ключевский пишет, что сам царь Алексей Михайлович был человеком переходного времени. Не чуждый новым веяниям, мягкий, склонный к компромиссам, он в то же время оставался целиком в плену традиций7. Между властью и нетерпеливыми приверженцами перемен все чаще стали возникать трения, и многие из последних не избежали опалы.
С другой стороны стояли защитники старины, «раскольники», яростно выступившие против нововведений. За ними была сила, шли огромные массы людей. Но лозунг этого движения, ярко сформулированный протопопом Аввакумом: «До нас положено, лежи оно так во веки веков», – был совершенно неприемлем с точки зрения государственных интересов России. Потому, по мнению C. М. Соловьева, власть обречена была вести беспощадную борьбу с раскольниками8.
Для понимания исторического момента полезно вспомнить характеристику В. О. Ключевского, данную им тогдашнему государю Алексею Михайловичу: «Царь Алексей Михайлович принял в преобразовательном движении позу, соответствующую такому взгляду на дело: одной ногой он еще крепко упирался в родную православную старину, а другую уже занес было за ее черту, да так и остался в этом нерешительном переходном положении. Он вырос вместе с поколением, которое нужда впервые заставила заботливо и тревожно посматривать на еретический Запад в чаянии найти там средства для выхода из домашних затруднений, не отрекаясь от понятий, привычек и верований благочестивой старины… Люди прежних поколений боялись брать у Запада даже материальные удобства, чтобы ими не повредить нравственного завета отцов и дедов, с которым не хотели расставаться как со святыней; после у нас стали охотно пренебрегать этим заветом, чтобы тем вкуснее были материальные удобства, заимствуемые у Запада. Царь Алексей и его сверстники не менее предков дорожили своей православной стариной; но некоторое время они были уверены, что можно щеголять в немецком кафтане, смотреть на иноземную потеху „комедийное действо“, и при этом сохранить в неприкосновенности те чувства и понятия, какие необходимы, чтобы с набожным страхом помышлять о возможности нарушить пост в крещенский сочельник до звезды»9.
Раскол, на мой взгляд, есть нечто большее, чем историческое явление, обычно обозначаемое данным термином. Это не столько массовое движение второй половины XVII века, сколько сущность нового типа российской культуры, пришедшего на смену культуре Московии. Это была особая, единая, но внутри себя расчлененная надвое культура.
В одном народе как бы сосуществовало два социума, различавшихся между собой условиями жизни, бытом, ментальностью и языком. Иногда кажется, что верхи и низы (условно) российского общества в XVII–XIX веках имели разную историю, – настолько велика была пропасть между ними. На самом деле то были две ветви одной культуры, а сама раздвоенность – определенный способ ее бытия в рамках данного исторического периода.
Раскол должен быть понят как цивилизационное явление. Он был новой фазой в развитии присущего российской культуре противоречия, которое при всей своей уникальности изменялось в соответствии с общими для любого противоречия правилами. Известно, что «на поверхности явлений развивающееся сущностное противоречие до определенного момента выступает в облике разнообразных форм движения, которые носят – как ни парадоксально – непротиворечивый характер»10. Очевидно, что именно в таком скрытом виде противоречие между общинным и личностным началами в российской культуре проявляло себя в эпоху Московского царства. По мере созревания непротиворечивые формы сменяются непосредственным проявлением противоречия в виде антиномии, т. е. конфронтации внешне обособленных противоположностей.
Раскол как раз и свидетельствовал, что развитие противоречия, формирующего природу российской культуры, вступило в эту новую открытую фазу. Борьба двух начал в российской культуре проявилась на поверхности в виде борьбы между собой двух культурных «классов» – «мыслящих» (европеизированных) верхов и «чувствующих» патриархальных (азиатских) низов.
Общество не могло долго оставаться в расколотом состоянии, иначе оно неминуемо погибло бы. Противоречие должно было перейти в следующую фазу, когда движение противоположностей опосредуется каким-либо третьим началом11.
Именно такую роль в отношениях между двумя культурными «классами» общества сыграло «государство нового типа», созданное Петром I (не на пустом месте, конечно, а на платформе, основание которой заложил еще Иван Грозный). Выступив вначале как обыкновенный медиатор, оно постепенно вобрало в себя обе крайности и превратилось в итоге в опосредствование самого себя. В этом, на мой взгляд, разгадка «тайны» Российской империи.
Империя не создала раскол. Она, напротив, его устранила с поверхности общественной жизни. Она сделала уже существующий раскол своим внутренним содержанием.
Начав реформы, власть спровоцировала давно назревавшую культурную революцию. Не Петр, сын царя Алексея, изменил Русь. Напротив, когда он взошел на трон, перед ним уже лежала другая Россия, где господствовала новая, двуликая, как Янус, культура.
Таким образом, задача, стоявшая перед властью, усложнилась. Она должна была не только довершить реформы, направление которых было предопределено историческим развитием последних полутора столетий, но и приспособиться к новой культурной среде, к пронизавшему общество расколу, к культурному противостоянию, разрывавшему народ на части.
К концу XVII века становится заметным, что основное общественное противоречие как бы удваивается. Наряду с выраженным противостоянием двух культурных классов внутри общества отчетливо вырисовывается противоречие между обществом в целом и государством. В этой сложной фигуре взаимоотношений положение государства было довольно замысловатым.
С одной стороны, чем дальше культурные крайности расходились между собой, тем труднее было государству управлять общественными процессами, тем менее эффективной была его деятельность. С другой стороны, чем острее становилась общественная борьба, тем более угрожающе государственная власть возвышалась над ослабленным народом.
Ни один из лагерей не представлял собой сколько-нибудь мощной самостоятельной силы, на которую власть могла бы опереться. С. М. Соловьев замечает по этому поводу с горечью: «Ученые, призванные в Москву для защиты православия научными средствами, разногласят друг с другом…»12 Но и на другом, патриархальном, ортодоксальном берегу не было единства. И здесь С. М. Соловьев вынужден констатировать: «Отвергнувши раз авторитет церковного правительства… раскол… должен был распрыснуться на множество толков по множеству толковников»13. В мире борющихся «партий» одна власть сохранялась как монолит. И чем больше было партий, тем сильнее на этом фоне выглядело государство.
Россия познала силу и бессилие власти – вполне заурядный парадокс политики. Чем менее эффективным было государство, тем более мощным оно становилось в сравнении с обществом. Рано или поздно оно должно было поглотить общество вместе со всеми его противоречиями.
Однако старое государство эпохи Московского царства было не в состоянии сделать это. Оно «разрывалось на части», пытаясь раздельно решить две задачи: сохранить единство общества и стимулировать его развитие. Нужно было реформировать само государство, чтобы совместить обе цели.
Решение именно этой задачи оказалось по плечу энергичному Петру. Для созданного им государства спасение и развитие России – уже не разные задачи, а лишь стороны одного процесса. Такое государство занимает по отношению к обществу активную позицию и почти мгновенно «проглатывает» его, разом огосударствляя все ранее самостоятельные сферы общественной жизни.
Вместе с тем и раскол принимает государственную форму. Противоречие, породившее ранее два непримиримых культурных «класса», стало с того момента свойством государства. Власть окончательно приняла вид обруча, намертво обхватившего общество и не дававшего ему распасться вследствие борьбы враждующих группировок.
С этого момента и так слабая способность общества к единению и вовсе атрофировалась. Так человек, привыкший ходить опираясь на палку, со временем теряет способность без этой палки жить и двигаться. Бремя единства стало злым роком русской власти. Стоило кому-то попытаться оторвать русское государство от общества, как это общество тут же разбрызгивалось на беспомощные, враждующие между собой фрагменты. Русскому обществу с государством всегда плохо, а без государства невозможно. В этом была его историческая трагедия.
Государство стало соединительной тканью общества, опосредствованием всех его внутренних отношений, оно растворило общество в себе и само растворилось в обществе. Это опосредствование было, безусловно, и высшей формой движения, скрытого в русском обществе противоречия, но не оно было его разрешением. Это обнаружилось, когда уже в зрелой империи «противоположности», невидимые до поры до времени, стали сталкиваться, ломая сложившиеся опосредствующие государственные связи14.
Если в допетровскую эпоху раскол был чем-то внешним для власти и усиливавшееся культурное расслоение народа не ослабляло государство непосредственно, то в эпоху империи раскол стал внутренним моментом его жизнедеятельности. Поэтому внешне незаметное, непрекращавшееся углубление раскола непрерывно подтачивало устои державности.
После того как российское общество было поглощено государством, все, что раньше ослабляло общество, стало впрямую истощать власть. С момента наибольшего возвышения государства над обществом началось и его неизбежное разрушение.
Казалось бы, и общество и государство были обречены. Если в основании мы имеем два враждующих между собой культурных класса, то власть неизбежно должна провалиться в зазор между ними либо они должны разорвать ее на части, как сдетонировавшая взрывчатка разрывает бомбу. Но этого не произошло. «Русская система» продемонстрировала никем не предвиденный потенциал устойчивости. Властный обруч оказался настолько сильным, что враждебные элементы культуры длительное время оставались в постоянном соприкосновении друг с другом, как будто сдавленные гигантским прессом.
В пределах империи при продолжающемся углублении раскола начался и встречный ему процесс. Благодаря сдерживающему, опосредствующему влиянию государства отталкивание двух внешне обособленных культур было ограниченным. Накрепко прикованные властью друг к другу, они вынуждены были взаимодействовать между собой. На границе этого взаимодействия, там, где культурные «волны» накатывались друг на друга, зарождалась третья сила – некая синкретическая культура, в которой противоречие между общинным и личностным началами находило не мнимое, временное, а действительное разрешение.
Таким образом, в Российской империи одновременно протекали два разнонаправленных культурных процесса. Углублялся распад общества на два культурных класса. Вместе с тем в постоянном их столкновении возникал третий класс, который был носителем новой культуры.
Но при этом и третья сила, развиваясь, действовала в отношении российской государственности в том же направлении, что и раскол. Она ослабляла власть, подрывала ее устои. Это кажется парадоксальным только на первый взгляд. Ведь государство было не альтернативой расколовшейся культуре, а ее органическим продолжением, опосредствованием заключенного в ней противоречия. Значит, рождавшаяся из раскола новая культура, в которой должно было найти свое разрешение основное цивилизационное противоречие, была враждебна как самому расколу, так и созданной им государственности.
С этого момента российская власть принуждена была вести борьбу на два фронта: и против своих оснований (раскола), и против своих следствий (нового синтетического культурного класса). Будучи очень разными по своей природе, эти две силы действовали на власть в одном направлении: подтачивая ее силы.
Было, однако, и отличие. Раскол разрушал государственность пассивно, ослабляя ее самим фактом своего существования, т. е. неповиновения части общества. Новая культура боролась с властью активно, с самого начала демонстрируя свою агрессивность.
С течением времени она будет в силе взорвать российское государство и вместе с ним уничтожить собственные культурные предпосылки. Но прежде новая культура должна была получить адекватное социальное, идеологическое и политическое воплощение. На это ушло более полутора веков.
В первые десятилетия империи не могло быть и речи о том, что рядом с властью в обществе образуется какаянибудь иная социальная, политическая или духовная сила. Кроме всего прочего, поначалу власть вбирала в себя почти весь образованный класс российского общества, и потому иногда казалось, что они тождественны между собой15.
Некоторое время власть была не только единственным политическим, но и единственным духовным центром общества. Такое положение сохранялось, пока социальная база власти была очень узка. Желая укрепить стабильность режима, государство стремилось к расширению своей опоры, поэтому к началу XIX века произошло «отделение дворянства от государства» и власть выступила представителем обоих культурных классов общества: «просвещенных верхов» и «темных низов». Именно на данной стадии развития государство окончательно превратилось из посредника между двумя внешне обособленными культурами в опосредствование самого себя.
По мере расширения социальной базы власть утрачивала свое монопольное право быть лучом просвещения в темном царстве: «образованный класс» стал шире, чем государство. И почти сразу же возникло, если так можно выразиться, диссидентство. Его представляли, естественно, выходцы из аристократических слоев. Это был еще не новый культурный класс, но уже его предтеча.
Происходило нечто вроде удвоения идеологии. Наряду с официальными появились и неофициальные взгляды на народ, политику, экономику, а также опальные идеологи: Новиков, Щербатов, Радищев. В результате торжество окончательного становления империи при Николае I было омрачено восстанием декабристов.
После прямого столкновения между государством и аристократической оппозицией развитие перешло в новую стадию. Началось непосредственное оформление того специфического культурного класса, который впоследствии был назван российской интеллигенцией.
Пока формирование интеллигенции происходило в недрах европеизированного, образованного, а главное – властвовавшего культурного класса, основным для нее был вопрос об отношении к своей противоположности – народу, представленному большей частью патриархальным крестьянством. На этом этапе интеллигенция разделилась по преимуществу на западников и славянофилов, которые выясняли отношения между собой в узком кругу.
Однако социальный состав интеллигенции стремительно менялся. Экономическое развитие России шло полным ходом, что требовало распространения образования уже на весьма значительные массы населения: образованные слои российского общества стали заметно шире просвещенного европеизированного культурного класса.
Существеннейший момент: у выходцев из народной среды образованность сочеталась с патриархальными взглядами и предрассудками. Внутри интеллигенции они сравнительно быстро обособились в отдельную группу разночинцев. Вопрос об отношении к народу был для них менее актуальным и болезненным, чем для старых интеллигентов, происходивших из высших слоев общества, так как разночинцы сохранили непосредственно «народное» мироощущение. Зато у них гораздо сильнее была тяга к практическому переустройству народного быта, господствовавших общественных отношений.
Постепенно противоречие между европеизированным и патриархальным культурными типами в России интериоризировалось как противоречие между различными течениями внутри русской интеллигенции. Прения западников и славянофилов утратили в этот момент свою актуальность. Их сменили разногласия с далеко идущими политическими последствиями: между либералами, представленными главным образом выходцами из дворянско-буржуазной среды, и народниками, преимущественно разночинцами.
Это была качественно иная фаза становления интеллигенции как нового культурного класса. Опять произошло раздвоение единого, произошел раскол. На этот раз раскол в среде интеллигенции. С этого момента эволюция интеллигенции напоминала ускоренную съемку эволюции русского общества. То, что произошло с русским обществом и государством в течение двух столетий, теперь происходило с интеллигенцией в течение нескольких десятилетий.
Я пытался показать, как двумя веками ранее раскол в обществе породил внутреннее раздвоение государства прежде, чем государство оказалось готовым поглотить ослабленное общество. Теперь же раскол в государстве вызвал к жизни раздвоение в среде интеллигенции прежде, чем она созрела для того, чтобы подчинить себе терявшее силы государство. Интеллигенция оказалась эмбрионом новой государственности, выношенным в утробе старой государственности. Естественно поэтому, что социальный онтогенез стал повторением социального филогенеза.
Либерализм и народничество как течения внутри российской интеллигенции были односторонними, причем каждое в своем роде.
Либерализм, родившийся из взаимопреодоления западничества и славянофильства, был одинаково критичен как относительно искусственного европеизма верхов, так и относительно традиционной патриархальности народа. Вместе с тем ему недоставало активного волевого начала, необходимого для свершения практического переворота в общественных отношениях.
Народничество было движением «энергии и воли», но оно совершенно некритично, механистически отвергало культуру верхов и фетишизировало культуру низов.
Дальнейшее историческое развитие требовало, чтобы рационализм и воля соединились в единое целое. За два века до того для восстановления государственного единства понадобился приход к власти нового поколения государственных деятелей. Теперь же, чтобы соединить волю и разум, была нужна новая генерация интеллигенции.
«Новые люди» появились в среде российской интеллигенции в 80-е годы XIX века. На смену романтическому и эмоциональному приходит жесткий и большей частью прагматичный тип личности16.
Идейной же формой, в которой осуществился синтез воли и рационализма, стал русский марксизм. Он имел мало общего со своим прародителем. Просто интеллигенция, к тому часу полностью сложившаяся как особый культурный класс, нуждалась в адекватной ее устремлениям идеологии. Как это уже бывало (и будет еще) в российской истории, соответствующая идеологическая система была импортирована с Запада и приспособлена к «домашним» потребностям. Данный процесс был растянут во времени. Окончательная адаптация европейского марксизма к российским условиям завершилась с появлением большевизма.
Большевизм был наиболее полным, законченным и логически последовательным воплощением нового типа российской культуры – своеобразного и неповторимого синтеза европеизма и патриархальности, индивидуальности и коллективности.
Иными словами, большевизм есть итог развития интеллигенции как особого культурного класса, возникшего на стыке двух основополагающих начал российской культуры. Правда, интеллигентская среда дала жизнь и другим направлениям. Но именно в большевизме присущие российско-интеллигентскому типу черты воплотились в наиболее адекватном, очищенном от исторических случайностей виде.
Большевизм знаменует собой завершение культурного развития интеллигенции. В его рамках происходит политическое оформление этого нового культурного класса в «протогосударственное образование».
То, что Лениным было осторожно названо «партией нового типа», являлось на деле зачатком государственности будущего, зачатком «власти-эмбриона». Следовательно, в недрах старой культуры развивался не просто новый культурный тип. В недрах старого государства рождалось новое. Победа этого нового государства над изжившим себя старым, его переход из политического небытия в бытие означал, как представляется, конец эволюции российской интеллигенции, выполнившей таким образом свою историческую миссию.
«Обрыв» исторического развития в 1917 году, деление истории на российскую и советскую существуют, думается, лишь в воображении многих, а не в действительности. Советская история логически продолжает линию развития цивилизации, идущую через Российскую империю от самого Московского царства.
Попытки обосновать представления о революции как о бессмысленной трагедии – пример «науки отрицания». В истории не существует крупных событий, лишенных целесообразности, а белые пятна есть в ней лишь для тех, кто не хочет или не умеет читать. История создает даже тогда, когда разрушает. Задача социальной науки видится не в критике революции, а в понимании ее на новом уровне знания, уяснении, в чем, собственно, состоит ее исторический смысл.
Октябрьскую революцию действительно трудно объяснить, если смотреть на нее как на обыкновенную социальную революцию, в ходе которой происходит смена одного экономически господствующего класса другим. Дело в том, что ее подготовил и осуществил особый, не экономический, а культурный класс. Только в мифологии большевизма он был передовым отрядом пролетариата. В реальности это был авангард российской интеллигенции.
Победа революции означала прежде всего успех нового культурного типа. Он был рожден старой культурой и одновременно глубоко враждебен ей. Исторический смысл революции состоял именно в том, в чем этот тип разнился с предшествовавшим.
Главной отличительной чертой нового «культурного типа» была его гомогенность, внутреннее единство. В его рамках внешне преодолевался раскол, присущий культуре эпохи империи. Таким образом, историческое значение революции состояло, на мой взгляд, в преодолении раскола, раздвоенности российской культуры, что означало преодоление ее внешней неорганичности.
В возобладавшем культурном типе личностное и общинное начала уже не являлись чем-то раздельным внутри целого. Теперь это были лишь разные стороны, моменты единого целого. Каким бы ужасным ни казался послереволюционный культурный класс в сравнении с классами предшествовавшей эпохи, он имел перед последними одно неоспоримое преимущество – он был органичным.
Большевистская революция естественно вписывается в логику российской истории. Ею завершается важный этап длительного, многовекового процесса трансформации культуры, ее движения от неорганичности к органичности. Эта революция замыкает череду скачкообразных культурных подвижек, которые несколько раз на протяжении истории потрясали общество. После нее начинается совершенно новый цикл развития России, «развертывания» ее уже внешне органичной культуры в нечто новое, ранее неведомое.
Означает ли вышесказанное, что революция была неизбежной? Для ответа нужно провести разграничение между исторически необходимым и исторически случайным.
Исторически необходимым следует признать преодоление раскола. Культурное противостояние к концу XIX века стало главным тормозом общественного развития, что постепенно осознавалось на самых различных уровнях. К примеру, столыпинская программа была прямым конкурентом революционных проектов интеллигенции. Она нацеливалась на решение тех же вопросов, которые впоследствии были разрешены революцией. Реформы Столыпина предполагали постепенное уничтожение пропасти между образованными слоями и патриархальной массой, что, в свою очередь, должно было подготовить то перемирие между властью и умеренными элементами общества, без которого он не видел спасения17. Столыпин, таким образом, также стремился к созданию органичной культуры, но хотел достичь этого поэтапно, эволюционным путем.
Исторически случайным был именно способ, которым одолевался раскол. Как почти всегда, в истории была альтернатива – между стихийно-насильственным и управляемо-правовым устранением культурного противоречия, раздиравшего Россию. Однако вероятность первого и второго вариантов была разной. Требовалось стечение слишком многих «счастливых» обстоятельств, чтобы раскол был снят цивилизованно, под контролем власти. Это было маловероятно и не произошло. Поэтому все стоявшие перед обществом и властью задачи были решены насильственно в ходе революции.
В связи с этим следовало бы различать исторически необходимые и исторически случайные последствия Октябрьской революции.
К исторически необходимым, а значит, неизбежным ее результатам можно отнести само преодоление раскола и установление господства нового культурного типа.
К исторически случайным, т. е. необязательным эффектам, – воздействие, оказанное на общество в целом и на каждую отдельную личность революционным, насильственным способом преодоления раскола.
Состояние российского общества так долго определялось прежде всего тем, как (каким способом) возобладал новый культурный тип, что это мешало осознать, о каком именно культурном типе идет речь.
За представителем новой культуры, возобладавшей в результате революции, прочно закрепилось уничижительное название «гомо советикус». Его подпорченный имидж стал предметом едких насмешек. Однако те, кто сегодня активно бичует нарицательные черты гомо советикуса, как правило, не задаются вопросом, какие из них являются сущностными характеристиками данного культурного типа, а какие были приобретены в результате многолетнего применения по отношению к человеку чудовищного насилия, порожденного революцией.
Если отказаться от мифологизации российской интеллигенции18, то можно обнаружить, что многие из приписываемых гомо советикусу черт вполне соответствуют душевному строю русского интеллигента XIX века. Обращусь за подтверждением сказанного сразу к двум авторитетным суждениям.
Н. И. Бердяев писал: «При поверхностном взгляде кажется, что в России произошел небывалый по радикализму переворот. Но более углубленное и проникновенное познание должно открыть в России революционной образ старой России, духов, давно уже обнаруженных в творчестве наших великих писателей, бесов, давно уже владеющих русскими людьми. Многое старое, давно знакомое является лишь в новом обличье»19. О том же пишет В. Н. Муравьев: «Революция произошла тогда, когда народ пошел за интеллигенцией. Конечно, народ по совершенно независящим от последней причинам должен был куда-то идти. Великое народное движение, во всяком случае, должно было произойти в результате кризиса русской жизни, усугубленного войной. Но путь, по которому пошел народ, был указан ему интеллигенцией»20.
Однако интеллигентское миросозерцание, став народным мировоззрением, т. е. будучи таким образом многократно растиражированным, утратило определенность и остроту, сделалось более сглаженным, аморфным. Во много раз снизился уровень образованности, малозаметной стала одержимость, обостренность воли. И свету явилась та безликая и агрессивно-пассивная посредственность, которая известна сегодня под именем «гомо советикус».
Каким бы существенным ни казалось на поверхности различие между гомо советикусом и российским интеллигентом – это представители одного культурного типа. Для него характерен синтез индивидуального, личностного и коллективного, общинного начал в единое органическое целое.
Гомо советикус исторически является финальным продуктом культуры раскола, в котором она изживает себя. В этом продукте ни общинное, ни индивидуальное начала уже не проявляют себя непосредственно, а интериоризированы новой, уже синтетической, но не ставшей после этого симпатичной личностью. Таким образом, Россия, вслед за Европой, самобытно завершила процесс индивидуализации21.
Но при этом Россия так и не стала Европой. Она встала рядом с Европой. Она вошла в шеренгу культур «победившей индивидуальности», но заняла в этой шеренге последнее место. Потому что индивидуализация в России не сопровождалась персонализацией. «Советский человек» был больше именно индивидом, чем личностью. «Азиатчина» была вытеснена из его сознания в его подсознание.
В гомо советикусе разрядилась энергия более чем двухвекового противостояния верхов и низов, Европы и Азии, образовав внешне однообразную массу посредственных субъектов. На самом деле это очень энергетически насыщенная протоплазма, способная стать питательной средой, «бульоном» для новых культурных подвижек (скачков) в России.
Гомо советикус – это и первый массовый тип личности, рожденный на почве российской культуры. Очень долгое время облик этой личности определялся тем насилием, которое она испытала при появлении на свет. Родовая травма, полученная «советским человеком» при рождении и усиленная тоталитарным воспитанием, обременяла его до самой смерти.
Все в советской эпохе было промежуточным, половинчатым, незаконченным. Сам «советский человек» оказался переходным культурным типом. И в этом был глубокий исторический смысл. Потому что советская культура была преддверием Нового времени России. Она подготовляла почву для будущего, латала какую-то дыру в историческом развитии.
Что это была за дыра? В России практически отсутствовала почва для буржуазных отношений, хотя бы потому, что в ней не было никогда феодальных отношений, из которых выросло третье сословие в Европе. Вот эту прореху и нужно было закрыть. Постфактум советская эпоха должна была решать исторические задачи, которые в рамках западной культуры решались в эпоху феодализма.
Особенность вхождения России в эпоху модерна состоит в том, что российскому Новому времени предшествует особый («эмбриональный») период развития, в рамках которого происходит вызревание элементов культуры модерна.
Советская эпоха – это компенсатор отсутствовавших в России феодальных отношений, подготовивших европейское Новое время. Именно поэтому советскую эпоху можно обозначить – в зависимости от избранной точки отсчета – и как поздний квазифеодализм, и как ранний квазикапитализм.
Тезис о советской культуре как протокультуре Нового времени, на первый взгляд, опровергается явной антибуржуазной направленностью Октябрьского переворота. Но на самом деле в ходе большевистской революции уничтожалась мнимобуржуазная культура одной десятой части общества и создавались условия для будущего (отнесенного на несколько столетий в историческом времени) усвоения буржуазной культуры девятью десятыми общества, находившимися в 1917 году на дофеодальной ступени развития.
Понимание советской культуры в качестве эмбриональной формы российского Нового времени позволяет опровергнуть миф о тоталитаризме как состоянии общества, при котором прекращается (замораживается) всякое развитие.
Только поверхностному наблюдателю советское общество кажется застывшим. На самом деле внутри него происходило весьма интенсивное развитие. Общество действительно было закрытым, но динамические процессы в нем от этого не останавливались.
Если ранний тоталитаризм выглядит как феодализм, впитавший в себя достижения научно-технической революции, то поздний тоталитаризм похож на капитализм, обремененный пережитками феодализма и отсталой технической базой.
Россия еще не взошла в свое Новое время. Поэтому все институты, характерные для европейского Нового времени, находятся в России и других осколках бывшего Советского Союза в эмбриональном состоянии. Ни один процесс, подготовлявший эпоху модерна, не был в России завершен. Здесь так и не произошла полная эмансипация политической власти, государство не приобрело значение всеобщего и, как следствие, не сложилась нация.
Очерк 2
Россия в поисках «нового времени». Неповторяющиеся циклы российской власти
На каждом новом витке исторического развития своей культуры русские были несчастливы по-своему.
Русским всегда было свойственно особенно остро ощущать неповторимость своей исторической судьбы, уникальность своего социального опыта и непохожесть своего государства ни на какие известные человечеству образцы. И в некотором смысле инстинкт их не обманывал: государство, созданное в России, реально ни на что не похоже. Спорить можно о том, нужно ли этим гордиться или об этом сожалеть, но отрицать сам факт сложно, особенно сегодня.
В целом естественно, что государственность, развившаяся в особой культурной среде, выглядит весьма специфично и мало похожа как на европейские, так и тем более на азиатские образцы. А то, что «русская среда» особая, практически не вызывает сомнений. Алогизм русской власти есть лишь следствие алогизма русской культуры.
Русская культура возникла и развилась в условиях, которые, в общем-то, не давали надежд на какой-нибудь мало-мальски значимый цивилизационный успех. Тем более неожиданно было увидеть на этом месте огромную империю, одно время державшую в напряжении полсвета. Неудивительно, что культура, которая смогла плодоносить на столь скудной почве, отличается уникальными характеристиками. Поэтому-то предпосылки развития российской государственности принципиально иные, чем где-либо в Европе или в Азии. В Европе государство развивалось параллельно с развитием общества.
В Азии государство заменяло собой несуществующее общество. В России государство восполняло собой недоразвитое общество.
В Европе государственность, развивающаяся вместе с обществом, проходит путь от государства-класса через сословно-представительное государство к государству-бюрократии в его различных проявлениях и затем к государству-нации.
В России государственность, вырастающая из некоего подобия общества, проходит соответственно путь от государства-вотчины («протогосударства») через земское царство к дворянскому государству и затем к самодержавной империи.
Ни одна из русских ипостасей государственности не имеет полностью соответствующих ей аналогов ни в западной, ни в восточной политической практике.
В основании русской государственности лежит не имеющее аналогов в других культурах явление – русская община. Ее уникальность в том, что она застряла в истории. То, что в других культурах было мимолетным явлением, временным состоянием, в России превратилось в фундаментальное основание русской цивилизации. Недаром в России любят повторять, что не бывает ничего более постоянного, чем временные решения.
Собственно социальные отношения хоть и вырастают из естественных (патриархально-родовых) отношений, но являются в определенной мере их противоположностью и отрицанием. Развитие цивилизации неизбежно связано с вытеснением естественного социальным. Процесс этот в разных культурах может происходить по-разному: как вытеснение, как соединение или, например, как восполнение.
Общепринято считать, что естественные (патриархально-родовые) отношения не вытеснялись в России так быстро и полно социальными отношениями, как в Европе, а еще долгое время продолжали оказывать влияние на характер общественного развития (и, видимо, продолжают оказывать это влияние в той или иной степени до сих пор).
В то же время влияние естественных (патриархально-родовых) отношений не имело в России того определяющего, абсолютного значения для развития культуры, как в Азии, где социальные отношения скорее вписывались в существующие патриархальные устои, чем вытесняли их.
Поэтому в России так и не сложилась стройная система социальных отношений, способная развиваться целиком из собственной основы, хотя патриархальные устои русской жизни и были со временем расшатаны. Свободомыслие в России всегда парадоксальным образом сочеталось с вопиющими пережитками патриархального сознания.
Первоосновой социальности в России выступает не общество, а община. Многие великие исследователи прошлого отмечали ее гипертрофированное влияние на общественную и государственную жизнь в качестве главной особенности российского пути в истории, и, по всей видимости, были правы.
Казалось, это роднит Россию с восточными обществами. Но община в России есть нечто иное, чем, например, на Древнем Востоке, где она тысячелетиями обеспечивала стабильность патриархального уклада жизни. Российская община – это соседская община, одна из разновидностей славянской общины-задруги, промежуточной стадии развития социальных отношений. В зависимости от обстоятельств она обладала большей или меньшей устойчивостью.
Специфика славянского мира вообще и России в частности состоит, видимо, не в самом историческом факте существования соседской общины. Через подобную стадию развития так или иначе проходили как минимум все европейские народы. Славянский мир поразил уникальным долгожительством этой общины, тем, что формирование социальных отношений на достаточно длительное время застряло на данном – переходном по своей сути – этапе.
Славянская община есть своего рода продукт полураспада естественных отношений. Но так же как радиоактивные изотопы различаются между собой периодами полураспада, продукты полураспада естественных родовых отношений отличаются друг от друга временем жизни. Российская община обладала особой устойчивостью. Она постоянно воспроизводила себя в своей странной полупатриархальной, полусоциальной форме, не сдвигаясь в течение веков ни в одну, ни в другую сторону.
Россия – это страна «общественного долгостроя». Общинный уклад в России есть незавершенная система социальных отношений, своего рода протообщество. В нем естественные (традиционные) силы и связи уже не господствуют безраздельно, но при этом чисто социальные механизмы еще не заработали в полную силу.
Развитие протообщества значительно отличается от развития общества. В то же время протообщество далеко отстоит и от общины азиатского типа, где социальные отношения исподволь вписываются в естественные отношения, унаследованные от предков, вместо того чтобы вытеснять их.
В Европе протообщество оказалось историческим мигом в развитии социальности. Социальные отношения между членами соседской общины достаточно быстро разложили и вытеснили традиционные, естественные отношения. Довольно рано на историческую арену здесь выступила семья как самостоятельная общественная ячейка, что привело к возникновению частной собственности, а затем и государства.
Однако этот описанный Ф. Энгельсом алгоритм есть исключительно путь формирования европейского общества и государства. В России все выглядело иначе.
Нередко Россию воспринимают как азиатское общество. Но и в этом случае при ближайшем рассмотрении очевидны весьма существенные различия. В Азии община все время остается естественным образованием, частью природы. В России она полуестественное-полусоциальное образование. Это как бы несложившееся общество, предвестник более развитых социальных отношений.
В российской общине социальные и естественные отношения между ее членами сосуществуют на равных, конкурируя между собой, вместо того чтобы дополнять друг друга, как это происходит в азиатской общине. Именно в специфической половинчатости отношений внутри русской общины кроется глубинная причина русского раскола.
В общинной России не могло сложиться единого общества, как и не мог появиться полностью эмансипированный индивид, зато было бесчисленное количество маленьких социальных островков, тяготевших к сплочению и не успевавших сложиться в органичное целое.
Внутри российской общины человек был уже в достаточной степени социализирован, обладал частично автономной «индивидуальной» волей и в то же время находился под гнетом традиции. Социальное и естественное начала парадоксальным образом всегда уживались в русской душе, ведя вечную борьбу между собой, но никогда не одерживая окончательной победы.
Восточная община совершенно неподвижна и напоминает инертный газ. А в России община – это скорее радиоактивный изотоп. Общественная жизнь здесь напоминала беспрерывный поток альфа-распадов, социальных микровзрывов, во время которых община из своего ядра частицами исторгает автономных индивидов.
Устойчивость общины в России – это фасад, за которым интенсивно развивался процесс индивидуализации общественной жизни, что сближает ее с европейским институтом общины. Однако, в отличие от Европы, он здесь никогда не был последовательным. Покончив с предысторией, российское государство появляется на свет божий как Московское царство. Его первой исторической формой было «вотчинное государство». Русское «вотчинное государство» есть своего рода протогосударство, которое возникает из протообщества, т. е. сообщества русских общин.
Историческая роль русской общины является притчей во языцех. Считается, что среди прочего устойчивость общинных отношений и одновременно их половинчатость и противоречивость оказали решающее воздействие на становление российской государственности. На общинной почве в России возник феномен вечного государства-подростка, который и состарившись не может повзрослеть.
Вотчинное государство – это еще и не государство вовсе, а лишь его эмбрион. Оно застряло где-то между былинной (героической) эпохой и государством-классом. Впрочем, каждая государственность проходила в своем развитии «эмбриональный период», когда закладывался ее фундамент. Но не каждое государство проделало всю дальнейшую эволюцию, оставаясь в позе эмбриона.
«Недоношенность» стала для российской государственности естественной формой бытия. Русское государство за свою более чем тысячелетнюю историю так и не разорвало пуповину, связывающую его с архаичным обществом. Эта слитность, внутренняя недифференцированность общества и государства в России в той или иной степени сохранилась и по сей день. Следствием этого, по всей видимости, является и такое хорошо известное свойство русской власти, как ее неотделимость от собственности.
Вотчинное протогосударство не обладало той самостоятельностью по отношению к обществу, которая была присуща европейскому государству-классу. Но оно и не было лишь оболочкой архаичного общества, каким было азиатское государство. По крайней мере, в России всегда был хотя бы один свободный человек – государь. Его личная эмансипация от традиционных отношений стала предвестником грядущей эмансипации всей России.
В России государственность возникает как особое общественно-государственное образование. Поэтому я определил бы протогосударство как стабилизацию одной из промежуточных форм становления государства, уже обособившегося от общества, но еще не противопоставившего себя ему.
Логично было бы предположить, что появившееся в России государство-полуфабрикат должно было стремиться как можно скорее дойти до стадии готового продукта. Протогосударство сначала превратилось бы в «нормальное» государство-класс (по европейскому стандарту), а затем прошло бы свершенный ранее Европой путь. Однако на самом деле этот государственный полуфабрикат начинает самостоятельную историческую эволюцию, прокладывая собственный маршрут к современному государству. Его путь, в силу действия массы объективных и субъективных факторов, оказался, как известно нам сейчас, гораздо труднее европейского: государство российское буквально продиралось наверх к своей высшей форме сквозь заросли исторических обстоятельств.
В этом самостоятельном, но асинхронно параллельном Европе историческом развитии и заключена тайна российской государственности. Ее эволюция проходит через те же ступени, что и эволюция европейской государственности. Однако в том, как именно проявляла себя сущность государства на каждой из этих ступеней, каждый раз обнаруживала себя недозрелость соответствующих форм российского общества.
Специфическое движение России к современному государству – это путь развития изначально ослабленного ребенка, которому долгие годы предстоит догонять сверстников, прежде чем они уравняются в силах, способностях и возможностях, став взрослыми (к тому же это не всегда случается).
Вместе с тем в предпосылках развития нашей государственности заключено и его основное противоречие, определившее как судьбу российского государства, так и его облик. Это противоречие между не преодоленным до конца архаичным единством государства и общества и постоянно усиливающимся обособлением их друг от друга.
Уникальность ситуации в том, что российское государство в процессе эволюции все дальше и дальше отдаляется от общества, подобно европейскому, оставаясь при этом тождественным обществу – подобно азиатскому.
В период расцвета Московского царства вотчинное государство преобразуется в государство земское. В нем власть государя осуществляется с участием земского собора и боярской думы. Но главное, что отличает земское государство, – это достаточно развитая военная и гражданская бюрократия (приказы, стрельцы и т. д.), которая, однако, еще не оформилась до конца в какой-то особый класс и находится под контролем вотчинной земельной аристократии. Расцвет этого государства приходится на время правления Ивана III.
Место земского государства в линейке сменяющих друг друга государственных форм российской власти как бы соответствует месту между государством-классом и сословно-представительной монархией в эволюционной цепочке форм европейской государственности. При этом оно напоминает сразу и Европу и Азию, не являясь тем не менее ни тем ни другим.
Внешне российское государство, конечно, выглядело как восточная деспотия. Я уже ссылался на К. Д. Кавелина, который писал: «Внутренний быт России представлял собою округленное и законченное целое. Московское государство было азиатской монархией в полном смысле слова»22. Это было царство, в котором государь был полным хозяином страны. Но при более детальном рассмотрении это сходство оказывается весьма поверхностным.
Что же такое восточная деспотия? Досконально ответить на этот вопрос невозможно и сегодня. Гегель, в частности, полагал, что «принципом восточного мира является субстанциональность нравственного начала». Он писал: «Это первое преодоление произвола, который утопает в этой субстанциональности. Нравственные определения выражены как законы, но так, что субъективная воля подчинена законам как внешней силе, что нет ничего внутреннего, нет ни убеждений, ни совести, ни формальной свободы, и поэтому законы соблюдаются лишь внешним образом и существуют лишь как право принуждения… В общем государственное устройство представляет собой теократию, и царство Божие также является и мирским царством, как и мирское царство не менее того является божественным»23.
Мы часто говорим о России как о европейской по форме и азиатской по сути стране. Но в такой же степени к ней применимо и противоположное определение – азиатская по форме и европейская по сути и исторической точке отсчета. Все зависит от угла зрения. Достаточно бегло взглянуть на русскую историю XV–XVI веков под этим углом зрения, чтобы стало ясно, какой глубокий разлом отделяет Россию от восточного мира. Везде мы находим признаки существования нравственной оценки, субъективной воли с присущими ей убеждениями, совестью и формальной свободой. Российская государственность была сформирована преимущественно в рамках христианской парадигмы, пусть и искаженной азиатскими предрассудками.
Земское государство только снаружи кажется устойчивым и неподвижным. На самом деле это спящий вулкан человеческих страстей. Оно никогда, ни при каких обстоятельствах не могло бы просуществовать тысячелетиями в неизменной форме наподобие древних восточных деспотий даже без всякого внешнего вмешательства. Маховик нравственных исканий и связанного с ними индивидуального освоения исторического опыта был давно запущен. Поэтому «трест» был обречен рано или поздно лопнуть от внутреннего напряжения.
Внутренний вектор эволюции земского государства был задан поступательным развертыванием индивидуализации в русском обществе, формированием самосознания отдельного человека, накоплением во всех сферах общественной жизни автономных элементов, привносивших в политическую жизнь все больше субъективности. Однако индивидуализация в общественной жизни России – процесс заведомо непростой.
Во-первых, индивидуализация одновременно формировалась в двух плоскостях (уровнях).
Поскольку российское общество так никогда и не сложилось как целостная система и представляло собой совокупность огромного количества достаточно замкнутых общин, процесс индивидуализации шел как на уровне отдельной общины (микросоциум), так и на уровне всей их совокупности в целом (макросоциум).
Во-вторых, индивидуализация в России носила дискретный характер.
Процесс индивидуализации не был плавным и равномерным, как в Европе. Время от времени происходили своеобразные «залповые» выбросы «индивидуальной энергии». На протяжении всей истории России можно легко обнаружить чередование периодов интенсивного и замедленного роста «субъективного элемента».
В-третьих, общество стремилось вытеснить продукты индивидуализации за свои пределы.
Независимые агенты не столько накапливались внутри русского общества, видоизменяя его, сколько выталкивались из него вовне, где они образовывали свое «параллельное общество». (Эта черта сохранилась в некоторой извращенной форме до сих пор, в виде эмиграции наиболее активного контингента из страны и оседания его в Европе.) В то время как в Европе индивидуализация и персонализация социальной жизни приводили к ослаблению традиций, в России традиционные структуры, изгоняя из себя индивидуалистов, замыкались в себе, консервировались и становились еще более агрессивными.
В-четвертых, процесс индивидуализации был односторонним. Его итогом был полуфабрикат. Русский человек, которому предстояло стать строительным материалом для новой эпохи, отличался редкостной односторонностью. Перерезав пуповину, связывающую его с архаичным обществом, он так и не стал полноценной личностью. Активные элементы вылетали из общинного уклада русской жизни, как снаряд из пушки, быстро и жадно усваивая негативное отношение к традиционному обществу с его сковывающими индивидуальную волю условностями, но не развивая в себе никаких навыков саморегуляции и самоорганизации.
Когда внутри русского общества скопилось слишком большое количество изгнанных, т. е. независимо (хотя и односторонне) мыслящих людей, земское государство оказалось неспособным управлять их бешеной энергией. Оно по инерции продолжало выталкивать их из себя, но при этом они никуда на самом деле не девались, оставаясь частью русского общества. Это подспудно подготовляло кризис земского государства.
Вот как описывает этот процесс С. М. Соловьев: «Широкие степи… стали привольем казаков, – людей, не хотевших в поте лица есть хлеб свой, – людей, которым по их природе, по обилию физических сил было тесно на городской и сельской улице»24. Достаточно было власти проявить малейшую слабость, чтобы «вольные люди» сотрясли государство до основания.
До поры до времени это растущее напряжение не бросалось в глаза. Более того, власть приспособилась использовать казаков в своих интересах. Но со времен Ивана Грозного субъективное начало в русской истории заявляет о себе во весь голос. Революция, которую произвел Иван Грозный, – одна из важнейших точек бифуркации в российской истории. Итогом его бурной деятельности стало приобретение русской властью двух «сквозных» свойств, переживших века. Во-первых, он заложил основы «номенклатуры», стал превращать бюрократию в особый привилегированный орден, обладающий рентными правами. Во-вторых, он разделил власть на «внешнюю» (институциональную) и «внутреннюю» (внеинституциональную). И то и другое родилось в огне опричнины. Тем самым Иван Грозный взорвал фундамент «земской государственности», хотя окончательно ее здание рухнуло уже после его смерти25.
Искусственная стабильность, достигавшаяся путем удаления «антигосударственных» (чересчур независимых) элементов из центра на периферию, не могла быть вечной. Как справедливо отмечает С. М. Соловьев: «Образовалась противоположность между земским человеком, который трудился, и казаком, который гулял, противоположность, которая необходимо должна была вызвать столкновение, борьбу. Эта борьба разыгралась в высшей степени в начале XVII века в так называемое Смутное время, когда казаки из степей своих под знаменами самозванцев явились в государственные области и страшно опустошили их, – они явились для земских людей свирепее поляков и немцев»26.
Одним из очевидных следствий реформ Ивана Грозного стало окончательное оформление дворянства – русской бюрократии – как еще одного особого земледельческого класса, конкурирующего с родовой земельной аристократией (при этом не имеет значения, что дворянство формировалось преимущественно за счет этой же самой старой аристократии).
В условиях, когда критически выросли масса и мощь казачества (тех самых независимых элементов, которые уже покинули традиционное общество), конфликт между дворянством и старой вотчинной аристократией сыграл роль детонатора Смутного времени – одного из самых тяжелых в истории России политических кризисов.
Россия вошла в Смуту земским, а вышла из нее дворянским государством. Гражданская война если и не привела к исчезновению старой аристократии и казачества, то навсегда подорвала силы как первой, так и второго. Проиграли в этой войне все, но меньше всех проиграло государство. Шаг за шагом русское государство становилось государством дворян, т. е. государством самодовлеющей и самодостаточной бюрократии (каким, как иногда кажется, остается и до сих пор).
В XVII веке в России стремительно произошли взлет и падение дворянского государства. Расположившись между двумя великими революциями (Ивана Грозного и Петра Великого), оно стало соединительной тканью между Московским царством и Российской империей. Роль и значение дворянского государства как особой формы в эволюции российской государственности до сих пор до конца не прояснены.
Видимость в России, как нигде, обманчива. Вот и дворянство, «белая кость», имеет мало общего на самом деле с европейской аристократией, но зато имеет много общего с европейской бюрократией. Русское дворянство – это бюрократия, возведенная в ранг аристократии, своего рода «вторичная аристократия» (отсюда, кстати, и «вторичное крепостничество»). Дворянское государство – это своего рода редукция обратно к государству-классу, потому что в России бюрократия превращается в особое привилегированное сословие, да еще и наделенное правом владеть землей и крестьянами. Но одновременно это и движение вперед к бюрократическому государству, в котором власть осуществляется профессиональным сословием управленцев. Ибо дворянство – это служивое сословие: кто не служит, тот и не ест27.
Русское дворянство возникло в недрах земского государства, а само дворянское государство стало логичной ступенью в эволюции форм российской государственности. Но просуществовало оно очень недолго, быстро уступив место самодержавной империи. Дворянское государство затерялось между Царством и Империей, как что-то несущественное. Тем не менее оно было очень важным историческим звеном, без которого невозможно понять логику развития российской государственности в целом. Кстати, то же можно сказать и о «советской государственности»28.
Дворянское государство было бюрократическим компромиссом между консерватизмом патриархальной общины и необузданностью новоиспеченной индивидуальности. Оно возникло в ответ на вызов со стороны новой культуры, подспудно вызревшей в недрах сонного царства.
С одной стороны, в России зарождалась индивидуалистическая культура. Имела она, правда, односторонний и деформированный характер. Русские люди вместо полноценного самосознания обладали смутным ощущением потребности в таковом. Чтобы прикрыть «наготу» разума, они были вынуждены примерять на себя чужое самосознание. Источник заимствования как тогда, так и теперь был один – Европа (искать самосознание в Азии – пустое занятие). Европеизм был долгое время исторически неизбежной и единственно возможной формой существования русского индивидуального сознания. На протяжении многих веков «европеизм», зависимость от европейской культуры были его навязчивой идеей.
С другой стороны, в России в это время буквально на глазах стала ослабевать «основа русской цивилизации» – община. Она постепенно теряла значение хранительницы традиций и носительницы нравственного начала. С выходом из нее наиболее активных элементов (прежде всего за счет «исхода» в казаки) общину покидала энергия жизни. Однако община не растворилась в историческом небытии, как в Европе, а продолжила свое консервативное существование по инерции. Община в это время была уже не столько социальным феноменом, сколько социальным призраком, формой, утратившей свое содержание.
Последующие века породили колоссальный миф об устойчивости и благотворной силе русской общины как уникального явления мировой истории. Почти вся русская историософия строилась либо на поддержке этого мифа, либо на его оспаривании. В связи с этим с сожалением следует констатировать не только то, что в русской общине не было ничего уникального, кроме того, что ее распад растянулся на многие столетия (почти все развитые европейские народы проскакивали эту стадию в своем развитии, только быстрее), но и то, что в самой России эта «уникальная социальная ячейка» довольно быстро исчерпала свой потенциал.
Уже в XVI веке русское общество столкнулось со сложнейшей дилеммой: естественный регулятор общественной жизни (в виде общины) уже не работал, а социальный регулятор, в основе которого лежит развитое самосознание индивида, еще не работал. Образовался своеобразный культурный вакуум. Традиционная культура уже не могла обеспечивать полноценное развитие русского общества, потому что лишилась напрочь своей «энергетики», а зарождающаяся индивидуалистическая культура еще не была способна это сделать в силу своей однобокости и иррациональности.
Вакуум в таком случае заполняется третьей силой. Этой третьей силой в России было государство. Поэтому реакцией на возникшую угрозу культурного раскола стало поглощение русским государством общины, а вместе с ней и всего общества. Государство быстро нашло применение ослабевшей общине. Оно приспособило эту утратившую содержание, но существующую по инерции форму для своих нужд. Поземельная община незаметно вырождалась в административную. «Государству невозможно иметь дело непосредственно с каждым из податных людей в отдельности, – писал Кавелин, – и оно поручает это общинам, возлагает на них надзор за каждым из своих членов»29.
Постепенно община из основы традиционного общества превращалась в первичную ячейку воссоздаваемого российского государства, в его главный финансово-административный орган. (Именно это превращение лежит в основе так называемого вторичного крепостничества. Таким огосударствлением объясняется и вся последующая уникальная живучесть русской общины.) Таким образом, архаика была не устранена, а заложена в фундамент новой государственности. Видимо, как и в живой природе, в процессе эволюции социум приспосабливает под свои нужды тот материал, который наиболее доступен, который находится под рукой. В России под рукой эволюции русской государственности находились обломки соседской общины, стремительно терявшей свое былое значение. Их и использовали в качестве строительного материала истории.
Таким образом, в этот период незаметно произошла трансформация общественно-государственного образования, каким было земское государство, в государственно-общественное образование, каким стало дворянское государство. Вместе с тем была подготовлена и курьезная перемена во внешнем облике русской государственности: то, что казалось азиатским снаружи и европейским внутри, стало казаться европейским снаружи и азиатским внутри.
Поглотив общину, государство получило наконец в свое распоряжение то, чего ему так долго не хватало для развития, – ресурс, позволявший выделиться в качестве самостоятельного слоя профессиональному государственному аппарату, т. е. бюрократии. Раздача земель стала натуральной формой выплаты жалованья гражданским и военным чиновникам в государстве, вечно ощущавшем нехватку наличности. Как и в Европе, появление в России бюрократии знаменовало собой качественный скачок в государственном строительстве. Но российская бюрократия оказалась явлением весьма специфическим.
В Европе бюрократия появилась как нечто самостоятельное, «рядом стоящее» с государством-классом. Европейская бюрократия – это просто особый класс общества. Со всеми складывавшимися внутри общества корпорациями она (бюрократия) находилась в одинаковых отношениях. В России бюрократия – это особый класс, которому были приданы черты обычного класса. Дворянская бюрократия возникает в превращенной форме новой земельной аристократии, т. е., будучи по своей сути особым общественным классом, находившимся в специфическом положении относительно всех других сословий и общества в целом, дворянство-бюрократия на поверхности явлений выступало как обыкновенный землевладельческий класс, часть земельной аристократии. Но аристократизм российского дворянства был ложен, он лишь до времени затемнял его бюрократическую природу30.
Поначалу поглощение государством общины и использование последней как ресурсной основы для существования дворянской бюрократии вроде бы укрепили государственность и позволили ему без лишнего шума выйти из катастрофического кризиса Смутного времени. Государство не только не потерялось среди других корпораций, но очень быстро превратилось чуть ли не в единственную реально существующую в России корпорацию.
Это, однако, продолжалось недолго. Стабильность оказалась иллюзорной, потому что противоречия, бывшие до этого чем-то внешним для государства, теперь стали частью его внутренней жизни. Государство поглотило общество со всеми его проблемами, и очень скоро эти проблемы стали его собственными, государственными проблемами. Социальные конфликты стали теперь реализовываться как конфликты между бюрократическими партиями внутри власти. Все это привело к резкому ослаблению, казалось бы, только что преодолевшего все трудности раскола государства. Не успев по-настоящему состояться, дворянское государство быстро пришло к своему финалу.
Государство-бюрократия в Европе нашло воплощение в абсолютистской монархии. Это было сильное, претендующее на полный контроль над обществом полицейское государство с мощным бюрократическим аппаратом. В России, напротив, государство-бюрократия в своей первоначальной форме дворянского государства было очень слабым, неспособным не то что контролировать общество, но даже выстроить собственную внутреннюю «вертикаль власти». Его институты были разболтаны, аппарат власти громоздок и неэффективен, в целом система управления была невнятна и запутана. Поэтому данный период в развитии русской государственности был недооценен и зачастую не рассматривался как какой-то особый этап, занявший промежуток между первой и второй Смутами.
Таким образом, не успело дворянское государство стабилизироваться после испытаний Смутного времени, как выяснилось, что оно уже исчерпало себя. Культурные перемены в обществе происходили быстрее, чем государственные формы успевали к ним приспособиться. Из Смутного времени русские вышли людьми иной формации. Только что сформировавшееся государство-бюрократия уже не могло осуществлять свои функции в этой новой для него культурной среде.
В Европе в целом в эпоху кризиса абсолютизма можно было наблюдать сходную картину. Новая, индивидуалистическая по своей природе буржуазная среда отторгла – через революцию – старый абсолютизм с его самодовлеющей бюрократией и на его месте создала новое государство, в котором та же бюрократия была уже поставлена под контроль общества. Таким образом, бюрократия старого времени была заменена бюрократией Нового времени.
В России же вместо индивидуалистической буржуазной культуры в эпоху, предшествовавшую петровским преобразованиям, возникла некая полуиндивидуалистическая (промежуточная) культура, которую С. М. Соловьев образно обрисовал следующим образом: «Два обстоятельства вредно действовали на гражданское развитие древнего русского человека: отсутствие образования, выпускавшее его ребенком к общественной деятельности, и продолжительная родовая опека, державшая его в положении несовершеннолетнего, опека, необходимая, впрочем, потому, что, во-первых, он был действительно несовершеннолетний, а во-вторых, потому, что общество не могло дать ему нравственной опеки. Но легко понять, что продолжительная опека делала его прежде всего робким перед всякою силой, что, впрочем, нисколько не исключало детского своеволия и самодурства»31.
Русский человек конца XVII века был натурой сколь необузданной, столь и несамостоятельной. Его самосознание находилось в зачаточной стадии оформления. Вырвавшись из тисков традиции, он продолжал нуждаться в нравственной опеке. Однако он уже не мог получить ее ни в семье, ни в общине. Не могло быть и речи о том, чтобы такого рода «полуфабрикат» взял на себя исполнение столь сложной миссии, как организация контроля над бюрократией. Он сам нуждался в опеке, поэтому в России процессы стали разворачиваться в противоположном с Европой направлении.
Попечительство над «подростковым обществом» взялось обеспечить государство. Но старое дворянское государство не было способно ни на какой патернализм. Дворяне были не столько «классом в себе», сколько «классом для себя», и это мешало им стать «классом для других». Чтобы выполнять патерналистские функции, государство само нуждалось в преобразовании, которое и не заставило себя ждать.
Таким образом, противоречие, обнаружившееся в российском обществе на рубеже XVII–XVIII веков, принципиально отличалось от противоречия, обнаружившегося несколько ранее в Европе. Там сильное, всепроникающее государство-бюрократия вошло в противоречие с развитой, самостоятельной и стремящейся к свободе личностью. Здесь же слабое, малоподвижное, опутанное предрассудками государство оказалось неспособным взять на себя функции нравственной опеки над полуразвитым, зависимым и нуждавшимся в попечительстве индивидом. Если в Европе кризис государства проявился в избытке силы бюрократии, то в России обнаружился ее дефицит32.
Соответственно различались между собой и способы разрешения противоречия. В Европе бюрократический монстр рухнул непосредственно под натиском общественного движения. В России источником преобразования стал монарх, опиравшийся на отдельные наиболее продвинутые слои дворянства-бюрократии. Русский самодержец стал неким консолидированным представителем общества в делах государства. Он был един в двух лицах: собственно как государь, как реальная историческая фигура, и как воплощение идеи народного правления, как носитель народного суверенитета. В этой двойственности и заключена тайна, мистика российского самодержавия. В нем фигура правителя становится сублимацией идеи власти как таковой. В целом можно сказать, что русское самодержавие – это своеобразная «представительная демократия», в которой у народа есть один-единственный представитель – царь.
Таким образом, идея власти оказалась в России оторвана от самой власти, мистифицирована и отождествлена с фигурой верховного правителя. Тем самым власти в России было придано то религиозное значение, которое со временем в Европе получило право. Благодаря этой конструкции Россия и вышла из кризиса, сумев соединить «слабое со слабым» в сильное – в империю нового типа. Если в Европе революция снизу стремилась подчинить бюрократию обществу, то в России революция сверху должна была подчинить ее царю, объективировавшемуся как самостоятельный центр силы. Царь в России превращался, таким образом, в некий суррогат нации, ее опосредствование.
Получалось, что Россия разом сделала в эволюции своей государственности гигантский скачок: созданная Петром I самодержавная империя была не чем иным, как превращенной формой европейского государства-бюрократии Нового времени, но сама Россия до этого времени – в смысле развития общества – еще не доросла.
Российское самодержавие было внутренне противоречивым. Прогресс и просвещение поляризовали общество, вновь обнажив двойственность российской культуры. На одном полюсе обнаружился переизбыток ничем не скованной, в том числе и ответственностью, индивидуальной энергии: в большом количестве появились люди, которым было тесно в рамках устоявшегося уклада жизни. На другом полюсе прочно обосновалась усыхающая община с ее обитателями, успевшая исторгнуть почти всех сколько-нибудь энергичных членов и превратившая пассивность и безынициативность в доминирующий (и, видимо, единственно приемлемый для себя) психологический тип. Депрессия была ее реактивным состоянием, следствием травмы от «агрессии со стороны личности». Именно это, думается, столетия спустя помешало реализации планов П. Столыпина. Из общины уже нечего было извлекать к тому времени, все давно само утекло.
Таким образом, к концу XVII века в России сложилась двойственная, активно-пассивная, агрессивно-послушная, т. е. существующая «между анархическим бунтом и рабской привычкой» культура. С изнанки эта гетерогенная культура выглядела как смешение европейских и традиционалистских начал. На деле в ней не было ни истинного европеизма, ни подлинного традиционализма. И то и другое было мимикрией, двумя превращенными формами (ликами) единой на самом деле культуры.
В этой культурной среде государство восполняло недостаток личной энергии у одних и обуздывало ее избыток у других. Это была воистину отцовская, патерналистская задача. Таким манером российскому самодержавию удалось соединить в себе черты и государства Людовика, и государства Наполеона, не являясь в действительности ни тем ни другим. В идее самодержавия странным образом слились тезисы об абсолютности и о неограниченности прерогатив самодержца, о служении и об ответственности власти перед народом.
Революция в Европе уничтожила старую бюрократию, чтобы поставить на ее место новую. В ходе «революции наоборот» в России Петр I реорганизовал старую бюрократию, т. е. дворянство, заставив ее выполнять новые задачи.
Двойственность, свойственная российскому дворянству (как бюрократическому классу и как землевладельческому классу), нашла концентрированное воплощение и в созданной Петром империи. Самодержавная Россия, будучи по своей природе государством-бюрократией Нового времени, выступала в превращенной форме государства-класса, государства средневековой земельной аристократии. Это странное сочетание свойств обусловило как силу, так и слабость Российской империи.
Оформление вполне современной бюрократии в особый привилегированный класс придавало самодержавному государству уникальную устойчивость и обеспечивало его способность длительное время возвышаться над обществом, выполняя «попечительские» (полицейские – по А. С. Лаппо-Данилевскому) функции в масштабах, немыслимых для европейского государства-бюрократии33. Российская империя предвосхитила будущие тоталитарные режимы XX века. Скрещивание, казалось бы, несовместимых принципов в основании самодержавной государственности привело к рождению вполне жизнеспособного государственного организма. Но, будучи сильным, как мул, это государство оказалось, подобно мулу, бесплодным – в историческом, разумеется, смысле.
В отличие от европейского государства-бюрократии, преобразованного буржуазной революцией, российское самодержавие не поддавалось рационализации. Оно лишь заимствовало некоторые рационалистические идеи, которые могли бы в отдельных случаях повысить эффективность исполнения им своих непростых функций, но в целом оно оставалось иррациональным феноменом. Следовательно, оно не могло логично и плавно, без революционных скачков, перейти на более высокую ступень развития и стать государством-нацией.
Поскольку бюрократия в России так никогда и не оформилась окончательно в чистом виде в качестве особого класса, а выступала в превращенной форме землевладельческого класса, постольку противоречие между бюрократией и обществом не могло приобрести в рамках самодержавной империи всеобщего характера. Это противоречие между бюрократией и обществом также выступает здесь в превращенной форме частного, классового противоречия между дворянством как землевладельческим классом и другими социальными классами.
Рационализация буржуазного государства-бюрократии и превращение его в государство-нацию осуществляется посредством конституционализма. Элементы конституционализма (т. е. рационализации государственной жизни) появляются со временем и в России. Но российский конституционализм оказался нацелен не столько на овладение государством, сколько на его отрицание. И это вполне объяснимо, поскольку государство продолжало оставаться частной корпорацией.
Но самое главное состоит в том, что развитие конституционных идей одной частью российского общества не подкреплялось стремлением к самоограничению индивидуального произвола на основе признания права в другой его части, составлявшей подавляющее большинство населения. Возникла парадоксальная ситуация, когда каждый шаг вперед в рационализации российской государственности, являвшийся следствием непрерывного и все возраставшего давления со стороны более продвинутого активного меньшинства, приводил к усилению энтропии, нарастанию произвола со стороны пассивного большинства.
Самодержавие, в течение двух веков бывшее гарантом стабильности, оказалось запрограммировано на самоуничтожение еще где-то в середине XIX века. До этого момента развитие Европы и России шло непересекающимися, параллельными курсами.
В Европе государство-класс превратилось в сословно-представительную монархию, которая, в свою очередь, трансформировалась в бюрократический абсолютизм, замененный революцией на государство-бюрократию Нового времени, ставшее со временем государством-нацией.
В России на этом же историческом отрезке времени княжеская вотчина была заменена земским царством, из которого развилось дворянское бюрократическое государство, поглощенное в конце концов самодержавной империей.
Но на этом рубеже евклидова политическая геометрия заканчивается и начинается геометрия Лобачевского. В марте 1848 года Тютчев пишет в одном из писем Вяземскому: «Очень большое неудобство нашего положения заключается в том, что мы принуждены называть Европой то, что никогда не должно бы иметь другого имени, кроме своего собственного: Цивилизация. Вот в чем кроется для нас источник бесконечных заблуждений и неизбежных недоразумений. Вот что искажает наши понятия… Впрочем, я все более и более убеждаюсь, что все, что могло сделать и могло дать нам мирное подражание Европе, – все это мы уже получили. Правда, это очень немного. Это не разбило лед, а лишь прикрыло его слоем мха, который довольно хорошо имитирует растительность»34.
Мирное, «естественное» преобразование самодержавия в государство-нацию было невозможно, поскольку в России так и не возникло государство-бюрократия в чистом виде. Это и стало непреодолимым препятствием на пути дальнейшей эволюции российской государственности.
Между самодержавием и современным государством-нацией должно было появиться еще одно дополнительное звено, некое промежуточное государственное образование, не имеющее аналогов в европейском опыте (поскольку там в нем не было никакой потребности).
Исторической миссией этой промежуточной государственности, этого буфера между империей и государством-нацией было становление бюрократии как особого класса, находящегося в особых отношениях со всеми другими классами общества, не прикрывающего себя никакими ложными статусами. Противоположность между бюрократией и обществом из частной проблемы должна была стать всеобщей проблемой, создав тем самым предпосылки для той самой рационализации (иначе называемой конституционализмом), которая превращает просто бюрократическое государство в государство-нацию.
Эта особая форма государственности возникла на обломках Российской империи в результате коллапса самодержавия, потерявшего свою механическую устойчивость из-за присущих последнему внутренних противоречий. Несмотря на свое идеологическое оформление, «коммунистическое (советское) государство» являлось необходимым и логически оправданным звеном в эволюции российской государственности.
Сегодня, когда коммунистическое государство в России окончательно стало историей и надо оценивать то новое, что возникло на его месте, исследователи разделились на пессимистов и оптимистов весьма оригинальным образом. Оптимисты говорят о рождении российского государства, а пессимисты – о смерти российской государственности.
Первые начинают исторический отсчет времени с августа 1991 года. Вторые заканчивают его октябрем 1917 года. Между октябрем 1917 года и августом 1991 года лежит нечто, т. е. коммунистическое, или советское, государство, одинаково неприятное как оптимистам, так и пессимистам (одним – как жутковатое предисловие, другим – как омерзительное заключение).
В действительности российское государство не начинается августом 1991 года, а российская государственность не заканчивается октябрем 1917 года. Российское государство есть итог развития российской государственности. Коммунистическое, или советское, государство – необходимое звено в этом процессе. Корни российского государства запрятаны глубоко в имперской и доимперской эпохах, и сегодняшнее государство – это крона, выросшая из Московского царства и Петровской империи. Так называемое тоталитарное государство было всего лишь стволом, связывавшим корни и крону.
Очерк 3
Советская реформация. Скрытая динамика тоталитаризма
Быстрота освоения россиянами в 1990-е годы палитры современных идеологий поражает воображение. Люди, которым еще недавно был доступен лишь язык коммунизма, заговорили едва ли не на всех известных идеологических наречиях. Нет такой идеологии, которая не заявила бы сегодня о себе в России. Вслушиваясь в этот многоголосый хор, теоретики и практики посткоммунизма прилагают титанические усилия, чтобы по окрошке из идей определить, в какую эпоху они живут и действуют. Это бесполезное занятие. Идеологии отражают происходящее в обществе, а не наоборот. Это положение не становится автоматически ошибочным лишь потому, что аналогичной точки зрения придерживался не очень почитаемый ныне в России Карл Маркс, поэтому разговор об идеологиях – это всегда разговор об эпохе, в которой мы живем.
Отправными точками анализа могут быть два вполне очевидных положения. Первое касается исторической поры появления идеологии, как известно, существовавшей не всегда. Идеология знаменует собой начало Нового времени. Второе относится к функциям идеологии, возникающей как элемент властеотношений в логической связи с кардинальным изменением роли государства.
До Нового времени роль государства в жизни человека и общества была достаточно ограниченной, оно было корпоративным, «частным» институтом, а всеобщее значение имела только религия. Единство средневекового общества есть единство религиозное.
Новое время меняет соотношение между религией и властью, так как происходит одновременно эмансипация государства и «разгосударствление» религии. При этом государство не просто освобождается от религиозного влияния. Оно перестает быть «частной корпорацией» и становится всеобщим. Религия же не просто отделяется от государства, а теряет всеобщность, превращаясь в частное дело граждан.
Единство общества Нового времени есть государственное единство. Государство Нового времени наносит поражение религии. Но одновременно оно обретает собственную «внутреннюю религию», свою душу – идеологию, что закрепляет его всеобщность.
Формы всеобщего исторически изменчивы. Единство племени держалось на традиции. Единство народа имеет религиозную основу. Нация объединена посредством государства.
Уже в примитивном обществе в зачаточном состоянии можно найти элементы религии и государственности, а когда на месте племени появляется народ, традиции не исчезают, но лишь теряют значение всеобщности. С движением времени всеобщий характер обретает религия, затем государство; религии же вместе с традициями с этого момента отводится в жизни общества частная роль.
Возникновение идеологии, таким образом, знаменует момент образования нации. Нациогенез поэтому есть сущность любой идеологии, а не только национализма. Последнее замечание кажется парадоксальным лишь потому, что в российской научной традиции представления о нации и национализме остаются неопределенными, противоречивыми.
Для И. А. Ильина и его последователей, к примеру, нация есть всё; она – самая глубокая сущность и основа основ. «Проблема истинного национализма разрешима только в связи с духовным пониманием Родины, – пишет он, – ибо национализм есть любовь к духу своего народа, и притом именно к его духовному своеобразию»35. Антитеза была сформулирована П. А. Сорокиным – нация как социальная реальность не существует: «В процессе анализа национальность, казавшаяся нам чем-то цельным, какой-то могучей силой, каким-то отчеканенным социальным слитком, эта национальность распалась на элементы и исчезла. Вывод гласит: национальности как единого социального элемента нет, как нет и специально национальной связи. То, что обозначается этим словом, есть просто результат нерасчлененности и неглубокого понимания дела»36.
Справедливы, однако, оба подхода. Просто в рамках первого из них нация рассматривается как род, а в рамках второго – как вид. Как род нация действительна; как вид, т. е. «особое» объединение, – мнимая величина.
Государство Нового времени, выступая в качестве всеобщего, есть отрицание общества, его противополагание. Оно противопоставляется обществу как воображаемая общность – действительной. В рамках этого противопоставления общество Нового времени предстает в качестве гражданского или реального, действительного общества.
В свою очередь, нация противополагается государству Нового времени (мнимой общности) в качестве действительной общности «второго порядка». Нация – это отрицание отрицания общества Нового времени и потому – синтез гражданского общества и политического государства. Но она действительна только как род, как некое высшее, виртуальное единство гражданского общества и государства. Именно в данном смысле был прав Ильин.
Нация, однако, не сразу предстает в своей законченной форме. Она развивается, последовательно проходя стадии «в себе», «для себя», «для других».
Сначала нация проявляет себя как антифеодальное движение; это еще стадия небытия, своего рода отрицательное существование. Затем она предстает в своей непосредственной форме – как нация-государство, некое нерасчлененное единство, новая историческая общность. Это стадия бытия, на которой нация наиболее зримо являет себя социальной реальностью, хотя ее сущность еще скрыта. Наконец, на третьей стадии нация как бы перестает быть непосредственной реальностью и раскрывается в качестве дихотомии гражданского общества и государства. Эта стадия инобытия и является истинным существованием нации, ибо ее родовая субстанция открыто проявляет себя.
В то же время на последней стадии нация обнаруживает присущее ей внутреннее сущностное противоречие как противоречие между гражданским обществом и государством. Вначале оно проявляется в форме различия; затем гражданское общество и государство уже противопоставляются друг другу, и в итоге нация воспринимается лишь в качестве их опосредования.
Так появляется ложный образ нации не как высшего единства гражданского общества и государства, а как существующего рядом с ними «третьего», которое тем не менее есть нечто большее, чем гражданское общество и государство сами по себе.
В этом смысле прав Сорокин, отрицающий реальность нации как вида, действительность неких особых, бытующих вне гражданского общества и государства национальных отношений.
Таким образом, по-разному может быть истолкован национализм. Во-первых, поскольку возникновение идеологии – обязательное условие, или момент, конституирования нации, постольку национализм есть родовая сущность любой идеологии независимо от ее конкретного содержания. Во-вторых, национализм – это и одна из идеологий, которая нацелена на конституирование нации в качестве особого (ложного) политического субъекта, поглощающего гражданское общество и государство. В последнем случае национализм есть движение за создание фантомного «национального государства».
Рассмотрение национализма во втором смысле не относится к задачам настоящего очерка, хотя предложенная интерпретация проблем наций и национализма позволяет, думается, увидеть, что так называемое национальное государство – идеологический фантом, не имеющий действительной почвы. Но первое положение подсказывает возможные ответы на вопрос о развитии идеологии.
Идеология проходит те же стадии, что и нация. Рождается она в отрицательной форме, как критика религии, сначала скрытого квазирелигиозного, а позднее открыто атеистического характера. Затем идеология выступает как откровенная апология нации-государства; это недолгий век идеологий «наполеонов» и «бисмарков». Зато в развитой идеологии национализм продолжает существовать уже только в «снятом» виде. Он растворен в либерализме, настаивающем на разделении гражданского общества и государства, разумеется, в рамках их высшего единства, признаваемого как нечто само собой разумеющееся.
В развитой идеологии, которой является либерализм, просто нет необходимости подчеркивать каждый раз, что гражданское общество и государство есть лишь две стороны одной медали – нации. Но каждый раз, когда по тем или иным причинам либеральная идеология оказывается в кризисе, вопрос о нации и национализме всплывает на поверхность.
От того, как идет формирование нации, всецело зависит и становление идеологии. В ней находят концентрированное выражение все особенности нациогенеза. В то же время появление идеологии гораздо более рациональный процесс, чем рождение религии, ибо идеологии складываются в обществах, где господствует критическое сознание. Потому идеология отражает прежде всего взгляды того специфического общественного класса, который в эпоху Нового времени является основным носителем критического сознания. Функция этого класса по отношению к идеологии двойственна: он выступает и как основной потребитель, и как основной производитель идеологии. Назовем его условно – идеологический класс.
В процессе формирования нации происходит эволюция этого класса. Выступая первоначально как среда, сформировавшаяся вокруг экономически господствующего класса, он постепенно конституируется как самостоятельный субъект, как «средний класс». Только сформировавшийся средний класс производит идеологию в ее развитой и законченной форме.
В Европе элементы Нового времени созрели в недрах средневекового феодализма. В ходе буржуазных революций вполне уже жизнеспособные нации сбрасывали устаревшую политическую оболочку. Россия же вступает в эпоху Нового времени долго и мучительно, прокладывая к нему особенный путь.
В России феодализма, феодальной культуры в европейском понимании не было. В то время, когда Европа вступала в эпоху модерна, Россия представляла собой неорганическое смешение патриархальной культуры с вкраплениями заимствований из культуры Нового времени. Эту взвесь долгое время выдерживали в имперской дубовой бочке, пока наконец под напором революций начала XX века эта бочка не треснула и из нее не вылилось нечто, по природе своей оказавшееся протокультурой Нового времени.
И вот в этой-то весьма питательной, но малоприятной на вкус и запах культурной среде, которая сформировалась как итог русских революций начала XX века, должны были «подрасти» те элементы, которые в Европе формировались еще в эпоху Возрождения.
Таким образом, особенность вхождения России в эпоху модерна состоит в том, что российскому Новому времени предшествовал особый (эмбриональный) период развития, в рамках которого происходило вызревание элементов модерновой культуры. Это компенсировало отсутствие феодальных отношений, подготовивших европейское Новое время. Именно поэтому советскую эпоху можно, думается, обозначить – в зависимости от избранной точки отсчета – и как поздний квазифеодализм, и как ранний квазикапитализм.
Тезис о советской культуре как протокультуре Нового времени, своего рода ее эмбриональной форме опровергает миф о тоталитаризме как о состоянии общества, при котором прекращается (замораживается) всякое развитие. На поверхности советское общество казалось застывшим, но внутри него происходило весьма интенсивное развитие. Общество действительно было закрытым, но динамические процессы в нем от этого не останавливались.
Если мерить историческое время по европейской шкале, то Россия до сих пор еще не взошла в свое Новое время. Поэтому все институты, характерные для европейского Нового времени, находятся в России и других осколках бывшего Советского Союза в эмбриональном состоянии. Ни один процесс, подготовлявший эпоху модерна, не был в России завершен. Здесь так и не произошла полная эмансипация политической власти, государство не приобрело значение всеобщего и, как следствие, не сложилась нация.
Вместо нации возникло специфическое образование, получившее название «новой исторической общности – советского народа», которая была не чем иным, как преднацией. С одной стороны, это было единство, в основании которого формально лежала государственная связь, что приближало данную общность к уровню нации. С другой – реально эта общность держалась благодаря распространению «коммунистической религии» и определялась как некое «идеологическое и психологическое единство» советских людей. Стоило рухнуть коммунизму, и советский народ перестал существовать.
Здесь мы подходим к очень важному обстоятельству. Следовало бы признать, что поскольку в России / Советском Союзе нация так и не сформировалась, в ней никогда не существовало идеологии в ее строго научном понимании. В рамках описанной выше предмодерновой культуры сформировалась своеобразная протоидеология, своего рода промежуточная форма между религией и идеологией, – большевизм.
Большевизм почти всегда примитивно отождествляется с коммунизмом. На самом деле это разные вещи. Коммунизм – случайный и несущественный признак большевизма, который вполне мог быть и антикоммунистическим и вообще некоммунистическим. Главное в большевизме то, что он представляет собой внутренне противоречивый сплав европеизма с российским традиционализмом.
По форме большевизм выстроен вполне рационалистически – как «критическое» учение, что сближает его с идеологией. Но по сути он совершенно иррационален, поэтому вряд ли чем отличается от религии. Большевизм не столько цель, сколько метод ее достижения, крайне субъективное стремление к преобразованию действительности и воплощению в ней некой абстрактной истины. Рациональные идеи трансформируются им в иррациональные планы, программы, концепции и т. д. Большевизм исходит из необходимости стимулировать общественное развитие в нужном направлении и поэтому всегда ориентирован на лозунг, «скачок», шоковую терапию или нечто подобное.
Оборотной стороной всех большевистских начинаний является насилие над историческим процессом. Понимаемый в таком ракурсе большевизм более всего близок ранним, зачаточным формам идеологии века европейской Реформации, когда последняя носит еще квазирелигиозный характер. Тогда возник и новый тип сектанта-праведника, чья политическая задача состоит в радикальном разрушении унаследованного светского и религиозного порядка и в столь же фундаментальном возведении заново общества.
Если абстрагироваться от Бога и не обращать внимания на религиозную терминологию – перед нами якобинец или революционный коммунист. И по аналогии с сектами кальвинистского типа, боровшимися в XVI–XVII веках за политическое господство над значительной частью Европы, в конечном счете большевизм выступал как превращенная форма русского православного мессианства, стремившегося экспортировать под прикрытием коммунизма и интернационализма русскую идею.
Связь большевизма с Марксовым коммунизмом диалектически противоречива. С одной стороны, то, что большевизм окончательно сформировался, приняв оболочку марксизма, есть историческая случайность. С другой – нельзя не увидеть в этом и определенной закономерности.
Неорганичная культура России, приближавшейся к порогу Нового времени, не могла воспринять ценности эпохи модерна в их положительной форме. Марксизм, являясь наиболее полным и систематизированным отрицательным выражением идеологии Нового времени, был наиболее удобной формой восприятия европеизма. Русский коммунизм в этом смысле – негативное усвоение идеологии Нового времени и (параллельно) предпосылка и условие будущего позитивного усвоения.
Таким образом, большевизм можно понимать как предварительную стадию в развитии идеологии современной России, своего рода промежуточное образование между религией и идеологией. Если в Европе идеология вырастала из религии как ее критика, то в России идеология должна вырастать из большевизма – как критика большевизма.
Было бы ошибочным и слишком поверхностным видеть смысл перестройки лишь в разрушении коммунизма. Перестройку вообще нельзя рассматривать как самостоятельную фазу исторического процесса. Это отнесенный во времени на несколько десятилетий действительный итог Октябрьского переворота.
По сути, Россия, начав преобразования в середине 80-х годов прошлого века, совершила завершающий рывок к своему Новому времени. В течение нескольких десятилетий в рамках советской протокультуры вызревали отношения и институты модерна. Когда же этот эмбриональный период развития закончился, новые отношения обнаружили себя и начали активно уничтожать более ненужную промежуточную оболочку.
Я предложил бы рассматривать идущие в России с 1985 года идеологические процессы в описанном выше контексте. Думается, что критика коммунизма – лишь поверхностный слой гораздо более глубокого и сложного движения. Россия мучительно преодолевает не коммунизм, а большевизм. И вместе с тем она совершает переход от предыдеологии к идеологии. А это все значит, что Россия вплотную подошла к задаче формирования нации, которая должна заменить наконец империю как единственную до сих знакомую России форму государственности. От того, как Россия справится с этой задачей, зависит ее будущее.
Критика большевизма неслучайно начинается с критики коммунизма, его внешней формы выражения. Вместе с тоталитаризмом большевизм проделал длительную и непростую эволюцию. Чем старше он становился, тем больше слабела связь между смешанными в его содержании элементами европеизма и традиционализма, тем очевиднее проявлялась их взаимная противоречивость.
Внешне это выражалось в усиливающейся рационализации коммунизма. Ведь первоначально его русская версия была алогичным набором квазирелигиозных догм, мало рассчитанных на критическое осмысление. Но постепенно росла его претензия быть научной доктриной. Постоянная рациональная систематизация большевизма привела к тому, что его европейские, рациональные черты становились более рельефными и, напротив, его традиционалистская («православная») начинка – все менее заметной.
В результате возникло противоречие между формой и содержанием большевизма. Сегодня об этом не принято вспоминать, но в позднетоталитарный период происходило очевидное отторжение коммунизма от большевизма. В самом деле, трудно представить более противоестественную оболочку для революционного большевизма, чем бюрократический коммунизм времен Брежнева. Таким образом, коммунизм в пору позднего (вырождавшегося в авторитаризм) тоталитаризма перестает быть адекватной формой выражения большевизма. Более того, в своем рационализированном виде он становится фактором сдерживания большевистского фундаментализма.
К середине 1980-х годов в форму коммунизма облекался уже не большевизм, а нечто иное. В это время в советском обществе зарождаются и укрепляются опосредованно буржуазные отношения. Соответственно, и коммунизм мимикрировал в опосредованную форму выражения либеральной идеологии.
Либеральное перерождение коммунизма происходило поэтапно. Вначале рационализация коммунизма потребовала нового подхода к критике либерализма; вместо огульного отрицания он подвергался подобию рационального анализа. Такая критика незаметно стала формой массового усвоения либеральных ценностей. Вскоре это усвоение приобрело более откровенный характер: в коммунистическую доктрину по-русски встраивались квазилиберальные идеи, такие как «социалистический рынок», «социалистическая законность», «права человека при социализме» и т. д.
По сути, шло заимствование элементов чуждой идеологии, сопровождаемое обязательной оговоркой, что в рамках социализма эти идеи имеют совершенно иное звучание. На определенном этапе количество таких заимствований привело к рождению нового качества, и Россия получила своеобразный вариант коммунистического либерализма. Андропов уже вплотную подходит к идее реорганизации отношений собственности, в научной литературе начинает обсуждаться тезис о «социалистическом правовом государстве».
Однако коммунистический либерализм был противоречием в себе самом. Либеральные идеи вырастали в нем из отрицания либерализма. Настал момент, когда дальнейшее усвоение чуждых ценностей без опровержения основополагающих постулатов коммунизма сделалось невозможным. Новое содержание не умещалось в старую коммунистическую форму, и потому опосредованный либерализм вроде бы должен был превратиться в непосредственный.
Необходимо видеть всю сложность идеологической ситуации середины 1980-х годов. В то время коммунизм был и фактором, сдерживающим проявления большевизма, и фактором, препятствующим дальнейшему развитию либерализма. Поэтому накладывающиеся друг на друга процессы крушения коммунизма и распространения либерализма неизбежно должны были привести к рецессии большевизма.
Идеология «демократического» движения второй половины 1980-х годов была двойственной – либеральной по форме, большевистской по сути. Когда закончилась «эра Горбачева», выяснилось, что коммунистический либерализм уступил место либеральному большевизму.
Либеральный большевизм конца XX века является детищем советской интеллигенции в такой же мере, в какой коммунистический большевизм начала века был порождением российской интеллигенции.
Поколение советской интеллигенции, вышедшее из шинели XX съезда, в течение трех последних десятилетий жизни советской империи было совестью народа и хранителем культурной традиции. Но параллельно интеллигенция была носителем большевистской традиции даже тогда, когда номенклатура уже окончательно распрощалась с большевизмом. Либерализм был воспринят основной интеллигентской массой столь же иррационально и догматически, как в свое время марксизм.
Однако при определенном внешнем сходстве либеральный большевизм (как упадочная, декадентская форма, запрограммированная на самораспад) существенно отличается от изначального коммунистического большевизма ленинской гвардии, который был явлением восходящим. Большевизм шестидесятников – явление нисходящее.
Корни старого большевизма были скрыты глубоко в массовой культуре той эпохи; он вырастал из общества и постоянно подпитывался им. Корни нового большевизма – в тоталитарной власти, десятилетиями вскармливавшей его. Разрушение этой власти лишает его энергии, заставляя существовать по инерции, пока продолжает свое бытие советская интеллигенция.
Либеральный большевизм наших дней может быть рассмотрен и как ложный либерализм. Явление это для России не новое. В основе возникновения ложного либерализма в конце XIX – начале XX века лежало неравномерное распространение в обществе элементов заимствованной культуры европейского Нового времени. Тогда общество было расколото на два культурных класса – на небольшую европейски образованную элиту, отличавшуюся достаточной интеллектуальной самостоятельностью, и на противостоявшую ей во всех смыслах огромную патриархальную массу, всецело находившуюся под культурным влиянием восточного коллективизма.
Сознание элиты индивидуализировалось стремительно, и на рубеже веков свобода личности воспринималась ею уже как значимая ценность, требующая особой защиты. Именно в этой среде сложились условия для появления либеральных идей. В массах же, где господствовало коллективистское сознание, личность, напротив, представляла собой какую-либо ценность лишь постольку, поскольку была частью коллектива. Индивидуальная свобода расценивалась отрицательно – как фактор, разрушающий традиции и освященный веками порядок.
На переломе прошлого и нашего веков настроение подавляющей части российского общества было скорее агрессивно-антилиберальным. Это и предопределило две специфические формы существования русского либерализма того времени.
Во-первых, в отличие от европейского, отечественный либерализм был не массовой общественной идеологией, а узкоэлитарным, не связанным с демократизмом течением. Настоящим русским либералам приходилось опасаться не столько деспотического государства, сколько самого народа, в своем огромном большинстве рассматривавшего индивидуальную свободу как зло. Поэтому во имя защиты действительной свободы русский либерализм был вынужден оставаться антидемократическим или в лучшем случае недемократическим.
Во-вторых, в России уже тогда преобладали ложные (превращенные) формы и версии либерализма. Представители этих идейных групп заимствовали европейские либеральные постулаты формально и некритически, не понимая или не думая, что парламент, разделение властей, всеобщие выборы и тому подобные идеи и институты ценны не сами по себе, а лишь постольку, поскольку являются средствами защиты индивидуальной свободы.
Для этой формы либерализма (в отличие от первого) были характерны радикальность и абсолютность демократических требований. Он существовал вне конкретного пространства и времени, поскольку для тогдашней России его лозунги были действительно по большей части неприемлемы, ибо вели не к укреплению, а к уничтожению зачатков свободы.
К концу XX века реальная основа для развития истинного либерализма в России, судя по всему, так и не появилась. Либеральные идеи заимствуются из Европы, уже в чем-то изживающей свой модерн. Они, однако, распространяются не столько благодаря усвоению массами соответствующих ценностей, сколько благодаря ослаблению тоталитарных скреп (с учетом всех авторитарных издержек современное русское общество намного свободнее, чем при коммунизме).
Такой либерализм мало похож на оригинал, который был следствием уже произошедших в Европе общественных изменений, когда тип активной, самостоятельной личности стал массовым. В России либерализм по-прежнему остается странным образом средством для совершения общественного переворота, итогом которого должно стать рождение его собственных предпосылок.
Существует, правда, разница между ложным либерализмом начала и конца XX столетия. В начале века самостоятельная личность как массовый тип вообще отсутствовала. В конце века такой тип личности принципиально уже сложился, но он погружен в летаргию после долгого тоталитарного шока.
Тем не менее рано или поздно пробуждение должно состояться. Поэтому если ложный либерализм начала века канул в Лету, не оставив после себя заметных следов, то сходный феномен конца века может помочь проложить в Россию дорогу действительному либерализму, сыграв хотя бы роль его катализатора.
В Европе образование особого «среднего класса» свидетельствовало о том, что формирование идеологии вошло в завершающую фазу. Европейский средний класс – это носитель идеологии. В коммунистической России прототипом этого среднего класса выступала, разумеется, советская интеллигенция37. Ее развитие завершилось только в позднетоталитарный период, в 1960-е и 1970-е годы. Выполняя в советском обществе функции, аналогичные роли европейского среднего класса, интеллигенция очень сильно от него отличалась. Средний класс на Западе изначально формировался как самодеятельное образование, приспособленное к существованию в свободной, конкурентной экономике. Его ядро до сих пор составляют лица свободных профессий; их можно рассматривать как простых товаропроизводителей, занимающихся интеллектуальными видами деятельности, которая оплачивается господствующим классом (даже тогда, когда они находятся в непосредственных трудовых отношениях с государством).
Буржуазия – главный работодатель для среднего класса, поэтому последний заинтересован в том, чтобы между ним и буржуазией стоял арбитр в лице государства. Отсюда вполне естественное стремление среднего класса выделить государство из гражданского общества, сделать его равноудаленным от всех социальных групп. Именно такая позиция среднего класса в европейском обществе эпохи модерна превращает его в главного носителя базовых либеральных ценностей и национальной идеи в ее наиболее развитом виде как публичных истин.
Положение интеллигенции в России совершенно иное. Все отношения в обществе еще с досоветских времен опосредованы государством, которое после 1917 года выступает для интеллигенции и единственным работодателем. Советская интеллигенция изначально сложилась как класс, материально и духовно зависимый от государства. Такая несамостоятельность создала у основной массы интеллигентов своего рода комплекс неполноценности, который с лихвой компенсируется присутствием особой, часто иррациональной агрессивности в отношении к государству, воспринимающемуся как безусловное зло.
Таким образом, если представитель европейского среднего класса – самодеятельный «ремесленник-интеллектуал», то советско-российский интеллигент – это, если воспользоваться формулой Ильфа и Петрова, «пролетарий умственного труда». Отношение к государству у такого пролетария двойственно. С одной стороны, скрытые, присутствующие на уровне подсознания закомплексованность и тяготение к политической сфере, с другой – «компенсирующее», демонстративно открытое отторжение власти.
