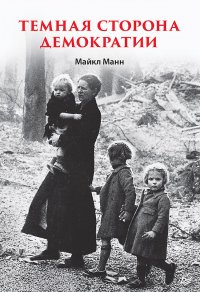Читать онлайн Фашисты бесплатно
- Все книги автора: Майкл Манн
«“Фашисты” М. Манна – книга по всем меркам впечатляющая. В ней профессионально и беспристрастно анализируется широкий круг эмпирических данных <…> Главную тему Манн раскрывает в оригинальном ключе и на основе достаточного количества документов. Здесь проявились многие козыри Манна как социолога. Он прекрасно раскрывает религиозный и региональный аспекты изучаемой проблемы и, предлагая свой, весьма впечатляющий, вариант ее решения, тщательно взвешивает преимущества наиболее значимых, с его точки зрения, альтернативных вариантов».
New Left Review
«Манн в очередной раз представил образцовый профессиональный труд по сопоставительной исторической социологии. Книга написана прекрасным языком, содержит в избытке социологический и исторический материал, представляя собой важную работу для всех, кто занимается сопоставительными исследованиями фашизма и другими проблемами за пределами этой научной области. Чтение этой важной и многомерной книги покажется увлекательным и полезным в равной мере политологам, политическим социологам, проводящим сопоставительные исследования, историкам, изучающим историю Европы XX века».
Modernism/Modernity
«…книга, в высшей степени достойная рекомендации ученым и студентам. В ней перекинут мостик между историей и социологией, и в фокусе внимания исследователя проблемы фашизма вновь оказываются национализм, этатизм и насилие. Увлекательная и понятная читателю, книга была бы полезна историкам, социологам и политологам».
Nations and Nationalism
«М. Манн подарил научному миру прекрасную работу по фашизму и его последователям и одновременно выступил с критикой традиционных подходов к теме, чем дал пищу для размышлений. И сама теория, и то, с какой смелостью она излагается, стимулируют дискуссию вокруг этой работы, способной стать в своей сфере едва ли не культовой».
Patterns of Prejudice
Предисловие
Вначале я намеревался ограничиться одной главой в третьем томе моей обширной работы «Источники социальной власти». Но третий том пока не написан[1], а тема фашизма безраздельно владеет моим вниманием вот уже целых семь лет. Свою «фашистскую главу» я собирался написать первой, потому что мне выпал счастливый шанс целый год проработать в одном мадридском институте, располагавшем богатым собранием источников о борьбе между демократией и авторитаризмом в период между двумя мировыми войнами. Неудивительно, что глава о фашизме выросла в целую книгу. С дрогнувшим сердцем я осознал (читатели понимают, как непросто годами работать над столь зловещей темой), что книга разрастается в нечто большее. Поскольку деяния фашистов и их пособников привели к массовому уничтожению людей, я был вынужден заняться огромным пластом материалов, посвященных «окончательному решению еврейского вопроса». Вскоре я понял, что два собрания источников – собственно о фашистах и об их злодеяниях – не во всем пересекаются. Фашизм и массовые убийства, совершенные во время Второй мировой войны, рассматриваются в двух отдельных массивах научной и популярной литературы, где сталкиваются различные теории, противоречивые данные, разные подходы. Накопленная информация о нацизме никак не сопоставляется с весьма схожими кровавыми чистками, неизменно происходившими на протяжении всего Нового времени – от Америки XVII века до Советского Союза 1920–1950-х, от геноцида в Руанде и Бурунди до гражданской войны в Югославии на исходе XX века.
Три главных проявления удручающе жестокого человеческого поведения: фашизм, холокост и в обобщенном смысле этнические и политические чистки – понятия родственные. Их объединяют три признака, наиболее недвусмысленно проявившие себя в фашизме: органический национализм, радикальный этатизм[2] и парамилитаризм. Это триединство следует изучать комплексно. Но, будучи по натуре эмпириком, я решил углубиться в подробности. Это произвело на свет книгу объемом в тысячу страниц, которую вряд ли кто-то прочитает до конца и вряд ли кто-то опубликует.
Поэтому я решил разделить свое исследование на две части. В этом томе речь пойдет о фашистах, главным образом об их приходе к власти в Европе после Первой мировой войны. Следующий том, «Темная сторона демократии: объяснение этнических чисток», посвящен всем проявлениям этнических и политических чисток Нового времени – от колониальных времен, армянской резни и геноцида, совершенного нацистами, до нынешних дней[3]. Несовершенство расчленения одной темы на два тома заключается в том, что «карьера» самых омерзительных фашистов, особенно нацистов, их пособников и наследников оказалась разнесенной по двум разным книгам. Их приход к власти описан в этом томе, их страшные дела – в другом. Преимущество такого разграничения в том, что фашисты предстают не сами по себе, а в соседстве с теми, с кем их объединяет внешнее сходство: колониальной милицией в Америке, карательными отрядами в Турции 1915 г., камбоджийской «Ангкой», «Интерахамве» хуту в Руанде, «Тиграми Аркана» в Югославии и другими. В народной памяти, в памяти жертв и ненавистников карателей все они остались «фашистами» – термин не вполне точный, но лучше любого другого выражающий ненависть и отвращение к убийцам – беспощадным мужчинам и женщинам с искаженным сознанием, творившим зло во имя примитивного органического национализма и/или радикального этатизма (а это родовые черты собственно фашизма). Ученые отказываются от такого расширенного толкования понятия «фашист». Убрав эмоции, они атрибутируют его вполне определенной и жестко структурированной идеологической доктрине. Поскольку я тоже считаю себя немного ученым, я разделяю подход моих коллег: терминология должна быть исчерпывающе точной. Но страшные дела похожи друг на друга как две капли воды, схожа и идеология убийц. В этой книге я изучаю фашистов в рамках классической интерпретации этого понятия, в следующем томе слово «фашисты» предстает скорее как имя нарицательное, которое дал народ преступным исполнителям кровавых этнических чисток.
Готовя эту книгу, я почерпнул много полезного из советов и критических замечаний моих коллег. Я выражаю особую благодарность Айвану Беренду (Ivan Berend), Рональду Фрейзеру (Ronald Fraser), Бернту Хагтвету (Bernt Hagtvet), Джону Холлу (John Hall), Яну Кершоу (Ian Kershaw), Стенли Пейну (Stanley Payne) и Дилану Рили (Dylan Riley). Я многим обязан также Институту Хуана Марча в Мадриде (Instituto Juan March in Madrid), который предоставил мне все условия для исследований, и Социологическому отделению Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, где я чувствовал себя как дома.
Глава 1
Социология фашистских движений
О фашистах всерьез
В этой книге я хочу объяснить, что такое фашизм, поняв самих фашистов: что это были за люди, откуда они взялись, каковы были их мотивации, как они пришли к власти. Мое внимание занимает именно эпоха зарождения и подъема фашистских движений, а не фашизм как уже устоявшийся режим. Мне интересна «приливная волна» фашизма, затопившая такие европейские страны, как Австрия, Германия, Италия, Венгрия, Румыния и Испания. Мы сможем хоть что-то сказать об отдельных фашистах и их деяниях лишь тогда, когда поймем, что объединило их в определенные политические организации. Кроме того, мы должны понять фашистские движения в широком контексте межвоенной Европы и господствовавших в ней стремлений к укреплению государственности и большей сплоченности нации. Ибо фашизм – не случайное отклонение и представляет не только исторический интерес. Фашизм – это, хотим мы того или нет, могущественная движущая сила Нового времени. Сейчас, в начале XXI века, у нас есть семь причин относиться к фашистам со всей серьезностью.
1. Фашизм – вовсе не тупиковая ветвь развития современного общества. В ХХ веке он был одной из ведущих политических доктрин всемирно-исторического значения. И вполне вероятно, что тот же фашизм, хоть, скорее всего, и под другим именем, сможет сыграть весомую роль и в XXI веке. Фашизм – это отличительная черта Современности[4].
2. Фашизм как движение не существует в отрыве от других современных общественно-политических движений. Фашисты лишь усерднее других молятся на главную икону наших дней: национальное государство со всеми его идеологиями и патологиями. Можно благодарить судьбу за то, что сейчас в мире по большей части господствуют умеренные национальные государства, карательные функции которых сведены к минимуму, а национализм, в сущности, безвреден. Государственная бюрократия раздражает нас, но не ужасает – положа руку на сердце, признаем, что современное государство все-таки служит интересам народа. Национализм, как правило, выглядит «одомашненным» и неопасным. Пусть французы гордятся своей несравненной культурой, пусть американцы считают себя самым свободным народом на земле, пусть японцы восхищаются своей уникальной расовой гомогенностью – все эти весьма сомнительные утверждения утешают их самих, вызывают иронические ухмылки у других народов, но едва ли кому-то вредят.
Фашизм представляет собой иной уровень национал-этатизма. Переход на этот уровень совершается сразу в отношении и нации, и государства. Если говорить о нации, то стремление к демократии переплетается с понятием «целостного» или «органического» народа. Власть должна принадлежать народу, кто бы спорил; но сам народ при этом рассматривается как единый и неделимый, а значит, начинает беспощадно освобождаться от чужеродных этнических вкраплений и политических оппонентов (подробнее об этом см. следующую книгу, «Темная сторона демократии», гл. 1). Если же говорить о государстве, то в начале ХХ века мы стали свидетелями расцвета могущественных государств – «носителей морального проекта», способных к стремительному экономическому, социальному и идейному развитию[5]. В определенных условиях это приводило к формированию сильной авторитарной государственности. Смычка современного национализма и этатизма ставила демократию с ног на голову, авторитарный режим начинал «зачистку» меньшинств и всех несогласных с генеральной линией. Фашизм, переходя на следующий уровень, добавлял к этой картине «низовой» и «радикальный» парамилитаризм. Эта могучая сила могла смести снизу любую оппозицию нации-государству, не щадя ни себя, ни других. Такое открытое прославление насилия стало возможным благодаря современной демократизации войны, превращению ее в войну между двумя «армиями граждан». Таким образом, фашизм представляет собой радикальную парамилитарную версию национального государства (собственное определение фашизма я дам в этой главе чуть позже). Это было самое крайнее выражение господствующей политической идеологии нашей эпохи.
3. Прислушаемся к постулатам фашистской доктрины, воспримем их с предельной серьезностью. Не стоит отмахиваться от них, называя безумными, противоречивыми или бессодержательными. В наше время серьезный подход к фашизму распространяется все шире. Штернхелл (Sternhell, 1986: x) пишет, что фашизм имеет «целостную доктрину, не более уязвимую с точки зрения логики, чем учения многих других политических движений». Мосс (Mosse, 1999: x) считает: «лишь… увидев фашизм изнутри, сможем мы в полной мере оценить его привлекательность и силу». Фашисты предлагали вполне возможные решения современных общественных проблем – и именно благодаря этому получали поддержку избирателей и восторженную преданность своих сторонников. Разумеется, как и большинство политических активистов, фашисты были разными и не чурались популизма. Культ вождя и власти делал их оппортунистами. Ради власти лидеры фашизма готовы были почти на все – в том числе и на отказ от своих изначальных ценностей. И все же большинство фашистов, ведущих и ведомых, обладали определенными принципами. Это не были чудаки, «ненормальные», садисты или психопаты или же люди с мешаниной плохо понятых догм и лозунгов в голове (по крайней мере – не больше, чем все мы). Фашизм был движением высоких идеалов: он сумел убедить значительную часть двух молодых поколений в том, что несет с собой более гармоничный общественный порядок. Чтобы понять фашизм, я рассматриваю всерьез его ценности: таков мой метод. Вот почему каждую главу, посвященную рассмотрению того или иного конкретного случая, я начинаю с изложения местного фашистского учения, а затем стараюсь понять, во что могли верить местные рядовые фашисты.
4. Мы должны серьезно разобраться с социальной базой поддержки фашистских движений и понять, каких именно людей привлекал фашизм. Не многие фашисты были маргиналами или антисоциальными личностями. Не многие принадлежали к тем классам или социальным группам, что могли бы использовать фашизм как прикрытие для своих узких материальных интересов. Существовала некая социальная база, в которой фашистские идеи и ценности находили наибольший отклик. Рассмотрение этого вопроса, пожалуй, составляет самую новаторскую часть моей книги: и здесь я исхожу из той же методологии – принимаю фашистские ценности всерьез. Дело в том, что эта социальная база была тесно связана с главной священной иконой фашизма – национальным государством. Поняв, кто и почему так любил национальное государство, мы сможем определить, какие люди рискуют соблазниться фашизмом.
5. Стоит серьезно отнестись и к самим фашистским движениям. Они были иерархичны, но в то же время поддерживали чувство товарищества, воплощали и принцип вождизма, и низовое взаимодействие: то и другое укрепляло связь с ними, особенно у одиноких молодых людей, для которых движение начинало составлять почти всю их жизнь. Необходимо оценить по достоинству и парамилитаризм фашистских организаций – ведь именно принцип «народного насилия» привел их к успеху. Фашистские движения испытывали двоякий соблазн. С одной стороны, им хотелось все более радикально и жестоко использовать силу; с другой – наслаждаться плодами тайных сговоров с традиционными элитами. Эти разнонаправленные стремления могли вести как к ужесточению фашизма (как в Германии), так и к его смягчению (как в Италии, по крайней мере, до конца 1930-х). Конкретные фашисты, делающие в своих движениях карьеру, могли двинуться как по одному, так и по другому пути. Нам стоит проследить фашистов в действии: как они применяли насилие, как лавировали, как строили карьеры.
6. Радикальных фашистов следует принимать всерьез в куда более зловещем смысле – как людей, закончивших свой путь бесчеловечными преступлениями. Мы не должны искать им оправданий; но должны попытаться их понять.
Способность творить зло – неотъемлемая часть человеческой натуры, как и способность совершать зло ради благих (как нам кажется) целей. Фашисты были особенно склонны к самообману. Но на то, что совершали они, способны и другие – и нам необходимо знать больше об обстоятельствах, в которых это становится возможным. Хоть мы и предпочитаем представлять историю и социологию в виде сказки со счастливым концом, реальный опыт человечества в эту розовую картину никак не укладывается. Двадцатый век видел страшное зло: и не как случайность или возрождение первобытных инстинктов – нет, как сознательное, упорядоченное, вполне современное поведение. Понять фашизм – значит понять, как во имя, казалось бы, высоких идеалов современности люди творили зло, которому нет оправдания. Впрочем, худшие проявления фашизма я оставлю для своей следующей книги.
7. Мы должны серьезно отнестись к возможности возрождения фашизма. Поняв, какие условия породили фашизм, мы поймем также, может ли фашизм вернуться и как этого избежать. Некоторые предпосылки возникновения фашизма живы и по сей день. Органический национализм и парамилитарные движения, приверженность этническим и политическим чисткам и сейчас привлекают тысячи людей во всем мире, толкая их к якобы «идеалистическим», а на деле кровавым и бесчеловечным действиям против соседей и политических оппонентов, именуемых «врагами». Быть может, это ужасает; но не стоит отмахиваться от этого, списывая на «возвращение первобытных инстинктов». Этнические и политические чистки – главный вклад Европы в историю Нового времени, а парамилитарное насилие – отличительная черта ХХ века. Это приметы современности: так их и надо понимать. Нам повезло, что этатизм (третий важнейший элемент фашизма, после органического национализма и парамилитаризма) сегодня вышел из моды, поскольку оба великих этатистских проекта, фашизм и коммунизм, потерпели крах. Современные режимы, склонные к чисткам, заигрывают с авторитаризмом и парамилитарным насилием, однако именуют себя демократическими; а слова «фашист» и «коммунист» в наше время почти обессмыслились и превратились в ругательства. Но подождем, пока неолиберализм, якобы способный обойтись вовсе без государства, причинит миру столько же вреда, – и, быть может, эта неприязнь к сильному государству померкнет. Радикальные этатистские ценности снова сольются с радикальным парамилитарным национализмом в движениях, напоминающих фашизм, – если мы только не извлечем урока из истории, о которой я рассказываю в этой книге. Едва ли новые движения станут называть себя фашистскими: слово это сейчас слишком одиозно. Однако суть фашизма жива и сейчас.
В исследовании фашизма существуют две школы. Более идеалистическая националистическая школа, о которой мы поговорим первой, сосредоточена на фашистской идеологии и доктрине, а более материалистическая классовая школа, о которой поговорим второй, – на классовой базе фашизма и его соотношении с капитализмом. Споры между ними представляют собой, по сути, еще один извод вечного спора между идеализмом и материализмом в общественных науках. В сущности, эти две школы обсуждают разные уровни одного и того же феномена – убеждения vs. социальная база/функции, и потому часто дополняют друг друга. Однако приемлемая общая теория фашизма пока отсутствует. Такую теорию необходимо выстроить на основе обоих подходов, заимствуя у каждого что-то полезное и добавляя то, чем оба пренебрегают.
Я предпочитаю не потчевать читателей ударной дозой социологической теории. Однако собственный мой подход основывается на более общей модели человеческих обществ, выходящей за рамки дуализма «идеализм/материализм». В более ранней своей работе я выделяю четыре источника социальной власти в человеческом обществе: идеологический, экономический, военный, политический[6]. Классовые теории фашизма выдвигают на первое место в своих объяснениях экономическую власть, националистические теории – идеологическую. Однако для объяснения значительных исторических и общественных событий необходимо учитывать все четыре источника социальной власти. Чтобы достичь своих целей, общественные движения в той или иной степени захватывают контроль над системами создания и распространения смыслов (идеологическая власть), средствами производства материальных благ и обмена благами (экономическая), организованным физическим насилием (военная) и централизованными или территориальными институтами общественного управления (политическая). Чтобы объяснить фашизм, необходим учет всех четырех факторов. Массовый фашизм стал ответом на послевоенные кризисы – идеологический, экономический, военный, политический. Фашисты предлагали выход из всех этих кризисов. Фашистские организации сочетали в себе серьезные идеологические инновации (так называемую «пропаганду»), стремление к победе на выборах и парамилитарное насилие. В попытках достичь власти и удержать власть фашистские лидеры стремились также нейтрализовать существующие экономические, военные, политические и идеологические (особенно церковные) элиты. Таким образом, любое объяснение фашизма должно принимать в расчет все четыре источника социальной власти, как и показывают эмпирические главы этой книги, посвященные конкретным случаям. В последней главе я изложу свои выводы: общее объяснение фашизма.
Путь к определению фашизма
Очевидно, вначале стоит договориться о терминах, хоть это и непростая задача. Некоторые ученые вообще отказываются говорить о фашизме как родовом понятии, полагая, что «истинный» фашизм можно было найти только у него на родине, в Италии. Я, как и многие другие, с этим не согласен. Однако и я не стану начинать с родового определения, которое можно было бы применять к разным временам и странам. Для начала я предложу эвристическую модель, подходящую для Европы в период между двумя мировыми войнами, и лишь в последней главе подниму вопрос о том, существуют ли фашистские движения в иных местах и в более близкие к нам времена.
Для начала разберемся с общим определением фашизма, опираясь на взгляды его ведущих интеллектуалов, в основном на комментарии Штернхелла (Sternhell, 1976; 1986; 1994) и Моссе (Mosse, 1999), а также на компиляцию фашистских первоисточников, собранных Гриффином (Griffin, 1995). Большинство теоретиков фашизма изначально были левыми, не-материалистами, принимающими органический национализм. В 1898 г. француз Барре назвал созданный им сплав «социальным национализмом»; итальянец Коррадини поменял эти слова местами и ввел термин «национальный социализм», который и прижился, хотя под «социализмом» Коррадини имел в виду синдикализм. «Синдикализм и национализм вместе – вот учение, воплощающее в себе солидарность», – подчеркивал он. Классовый конфликт и секторальные интересы можно гармонизировать с помощью синдикалистских (профсоюзных) организаций, координируемых «корпоративным государством». Таким образом, национальный социализм строится в границах нации, а классовая борьба превращается в борьбу между народами. «Буржуазные» нации (такие как Великобритания или Франция) эксплуатируют нации «пролетарские» (такие как Италия). Пролетарская нация должна сопротивляться угнетению экономическими средствами, опираясь на «священную миссию империализма». Идеи, хорошо знакомые ХХ веку: все, кроме последней фразы, здесь очень напоминает современный нам социализм третьего мира.
Будучи левыми, но не материалистами, эти теоретики восхваляли «сопротивление», «волю», «движение», «коллективное действие», «массы» и диалектику «прогресса» через «борьбу», «силу» и «насилие». Эти ницшеанские ценности и делали фашизм радикальным. Фашисты готовы были безжалостно подавлять противников – силой, если потребуется, не входя в переговоры и не идя на компромисс. На практике это означало создание не только партий, но и парамилитарных движений. Будучи коллективистами, они презирали «аморальный индивидуализм» рыночного либерализма и «буржуазную демократию», пренебрегающую интересами «живых общин» и «нации как органического целого». Нация была для них едина и неделима: своего рода живое существо, понимаемое как целостное и органическое. Быть немцем, итальянцем или французом, утверждали фашисты, – это нечто намного большее, чем жить на определенной территории: это опыт, который не дано пережить чужаку, это первичное, внерациональное ощущение единства. Мосс подчеркивает, что немецкое понимание нации отличается от южноевропейского: в нем играет роль не только культура, но и расовая теория. Опираясь на социал-дарвинизм, на антисемитизм, на различные расовые теории XIX века, оно порождает Volk — этнокультурное единство, растворяющее в себе все внутренние конфликты, однако и более высокими стенами огражденное от прочих народов.
Тем не менее у нации есть и моральная, и рациональная структура. Основываясь на Руссо и Дюркгейме, теоретики говорили, что соперничающие институты – рынки, партии, социальные классы, выборы – морали не создают. Мораль должна исходить из общины, из нации. Француз Берт так негодовал против либерализма: «Общество доведено до той грани, где все оно превращается в рынок, в Броуново движение свободно покупающих и продающих атомов, при соприкосновении с которым растворяется все остальное… пылинки отдельных людей, запертые в узких границах своих сознаний и банковских сейфов». Панунцио и Боттаи вслед за Дюркгеймом восхваляли добродетели «гражданского общества», видя в добровольных общественных объединениях фундамент свободы. Однако эти объединения должны быть интегрированы в общее корпоративное государство, представляющее интересы нации как целого. Без этой связи между государством и общественными объединениями, говорили они, государство останется «пустым», с «дефицитом социального содержания», что и происходит с либеральными государствами (Riley, 2002: гл. 1). Фашистское государство, напротив, должно быть корпоративным и социальным, прочными узами скрепленным с обществом. Все это тоже звучит очень современно. С тем же успехом Берт и Панунцио могли бы написать это сто лет спустя, в порядке критики неолиберализма.
Критиковали фашистские интеллектуалы и левых, попавших в ловушку пассивного буржуазного материализма. Их революционные претензии, говорили они, не в силах спорить с превосходящей мощью современной войны между целыми народами. Нации, а не классы – вот истинные массы современности. Классовая борьба между капиталистом и рабочим, настаивали фашисты, вовсе не корень зла. Настоящая борьба идет между «тружениками всех классов», «продуктивными классами» – и паразитическими «врагами», под которыми, как правило, понимались финансисты, иностранные или еврейские капиталисты. Свою миссию фашисты видели в том, чтобы защищать тружеников всех классов. Француз Валуа писал: «Национализм + социализм = фашизм», англичанин Мосли говорил: «Если ты любишь свою страну – ты националист; если любишь свой народ – ты социалист». В начале ХХ века, в «эпоху масс», эти идеи были очень привлекательны: фашисты обещали преодолеть классовую борьбу, грозившую разорвать ткань общества. В сущности, более умеренные версии таких обещаний приняла на вооружение большая часть успешных политических движений ХХ века.
Представлять нацию должно корпоративистское, синдикалистское государство. Лишь оно сможет преодолеть упадок нравов и классовую борьбу буржуазного общества, предложив «общий план» – этатистский третий путь между социализмом и капитализмом. Итальянец Джентиле, впоследствии ставший фашистом, писал, что фашизм разрешает «парадокс свободы и власти. Власть государства абсолютна». С ним соглашался Муссолини: «Все в Государстве, ничего против Государства, ничего вне Государства». «Нас ждет тоталитарное государство во имя целостности родины», – провозглашал испанец Хосе Антонио Примо де Ривера. Бельгиец Анри де Ман приветствовал «авторитарную демократию». «Фашистская революция» создаст «тотального человека в тотальном обществе – без конфликтов, без прострации, без анархии», – писал француз Деа.
Но это в будущем. А сейчас ради самореализации нация должна бороться со своими врагами. Борьбу возглавит парамилитарная элита. Более радикальные фашисты оправдывали «нравственно допустимое убийство». Они утверждали, что парамилитарное насилие «очистит» и «возродит» сначала элиту, которая его совершает, а затем и всю нацию. Валуа выразил эту мысль брутально:
«Буржуа щелкает на счетах и подводит баланс:
– Два плюс три равняется…
– Нулю! – говорит Варвар и проламывает ему череп».
Варвар-фашист для Валуа был нравственно прав, поскольку представлял именно органическое единство нации, из которого исходят все моральные ценности. Разумеется, для этих интеллектуалов, обитавших в том же пост-ницшеанском мире, что породил философию жизни, сюрреализм и дадаизм, все это были в значительной степени литературные метафоры. Но позже для фашистов «с улицы» эти метафоры станут руководством к действию.
О’Салливан (O’Sullivan, 1983: 33–69) замечает, что фашисты ненавидели «ограниченную природу» либеральной демократии, ее несовершенную, непрямую, представительскую форму правления. Либеральная демократия смиряется с конфликтами интересов, прокуренными залами заседаний, сделками «ты мне, я тебе», нечистоплотными и беспринципными компромиссами. Принятие несовершенства и компромиссов – в этом суть демократии, и либеральной, и социальной. Потенциальные «враги» здесь превращаются просто в «оппонентов», с которыми можно и договориться. Либеральная и социальная демократии не признают абсолютной истины, монополии на добродетель. Они антигероичны. Работая над этими двумя книгами, я научился не ждать от наших демократических политиков чрезмерной принципиальности. Нам нужна их беспринципность, их грязные сделки. Но фашисты были слеплены из другого теста. Политику они воспринимали как ничем не ограниченное средство достижения нравственных абсолютов. Говоря словами Макса Вебера, это было ценностно-рациональное поведение, ориентированное на достижение абсолютных ценностей, а не инструментальных интересов.
Это предполагает серьезную эмоциональную вовлеченность. Фашизм видел себя как крестовый поход. Зло фашисты не считали универсальным свойством человеческой природы. Как и некоторые марксисты, они верили, что зло воплощено в некоторых общественных институтах, а значит, его можно уничтожить. Органическая нация, очищенная от «врагов», вполне может достичь совершенства. Как отмечает О’Салливан, крайним примером таких воззрений был лидер румынских фашистов Кодряну. Свой «Легион Михаила Архангела» он рассматривал как нравственную силу: «Все [прочие] политические организации… верят, что страна гибнет от недостатка хороших программ: поэтому они придумывают себе очередную дурацкую программу и начинают под нее вербовать сторонников». На самом деле, продолжает Кодряну, все совсем не так: «Страна гибнет от недостатка людей, а не программ». «Нам нужны люди, новые люди». С новыми людьми Легион освободит Румынию от «сил зла». Это будут «герои», «самые чистые души, какие может представить наш разум; самые гордые, высокие, прямые, могучие, мудрые, отважные, неутомимые, каких способна породить наша раса». Они будут сражаться с «врагами», загрязняющими нацию (Codreanu, 1990: 219–221). В борьбе добра со злом, верил Кодряну, насилие вполне оправданно.
Однако очевидно: чтобы понять фашизм, нельзя ограничиваться интеллектуалами. Как идеи, приведенные выше, побуждали миллионы европейцев к действиям? Какие жизненные условия открыли дорогу столь необычайным чувствам и убеждениям? Штернхелл склонен считать, что фашизм сформировался до Первой мировой войны, ему не интересен вызванный войной переход от пламенной риторики отдельных ораторов к массовому движению. Однако ценности и эмоции позднейших рядовых фашистов исследовать нелегко. Большинство из них мало рассказывали о своих взглядах. А если и рассказывали, часто лгали (ибо были под судом и им грозила смерть). В своих эмпирических главах я постарался собрать все свидетельства, какими мы располагаем.
Кроме того, Штернхелл в своем исследовании явно предубежден в пользу ранних итальянских, испанских и французских интеллектуалов, а немцами откровенно пренебрегает. Мосс и другие пишут, что фашизм – не то же, что нацизм. Они полагают, что нацистов, как расистов и антисемитов, больше занимал народ, Volk, и в меньшей степени государство, а модель утопического государства у них вовсе отсутствовала. Нацию представляло не государство, а нацистское движение, а персонифицировалась она в фюрере. Среди южноевропейских фашистов, напротив, расистов и антисемитов было немного, и они много говорили о своем идеале государства, корпоративистском и синдикалистском. Нацизм был volkisch (народным), фашизм – этатистским (Mosse, 1964, 1966, 1999; Bracher, 1973: 605–609; Nolte, 1965, etc). И только у нацистов, продолжают они, расизм привел к геноциду. Следовательно, нацизм – не фашизм.
Хоть некоторое зерно истины в этом и есть, я принадлежу к тем, кто считает нацистов именно фашистами и видит необходимость в использовании слова «фашизм» в качестве общего понятия. Сами Гитлер и Муссолини считали, что принадлежат к одному движению. Фашизм – итальянское слово, и нацисты, будучи немецкими националистами, не хотели его заимствовать (как и некоторые испанские авторы, которых все называют фашистами). Однако, как мы увидим далее, эти движения разделяли одни базовые ценности, одну социальную базу, создавали очень схожие движения. В нацизме на первом месте стоял национализм, в итальянском фашизме – этатизм. Но это лишь вариации одной темы.
Кроме того, стремление развести в разные стороны немецкий нацизм и итальянский фашизм несправедливо ограничивает тему этими двумя странами. Фашизм был распространен куда шире и запустил множество политических процессов, особенно в правом политическом крыле. Я сосредоточусь на пяти примерах массовых фашистских движений: в Италии, Германии, Австрии, Венгрии и Румынии. Каждое из них уникально, но у всех есть общие черты. Это родственные явления; главная разница между ними – в их способности или неспособности захватить и удержать власть. Достичь власти и установить фашистские режимы, пусть и ненадолго, сумели лишь первые три. Связано это главным образом с тем, что в разных странах фашизм зарождался и развивался в разное время – и, следовательно, политические соперники его, особенно на правом фланге, применяли против него различные методы. В сущности, на примерах Австрии, Венгрии и Румынии мы можем рассмотреть диалектику взаимоотношений между фашизмом и более консервативными формами авторитаризма, диалектику, которая поможет нам лучше понять природу фашизма в целом. Под конец я перейду к Испании – стране, в которой, как и в некоторых других, собственно фашистов было немного, но хватало их попутчиков, и где более консервативным националистам и этатистам удалось удержать своих союзников-фашистов в узде. В следующей своей книге я рассмотрю множество профашистских движений в других странах – Словакии, Хорватии, Украине, Литве и так далее, – принимавших некую смесь немецкого нацизма и итальянского фашизма ради собственных целей[7].
Дихотомии здесь не было: был диапазон фашистских движений и практик – так же как в случае с консерватизмом, социализмом или либерализмом.
Однако, в отличие от социализма (у которого есть марксизм), у фашизма нет систематической теории. Авторы, которых я цитировал выше, говорят самые разные вещи в рамках одного довольно расплывчатого Weltanschauung (мировоззрения) – множества взглядов, собранных вместе, из которых разные фашистские движения черпали разное. Определить суть фашизма пытаются многие. Нольте (Nolte, 1965) определял «фашистский минимум» как три «анти-»: антимарксизм, антилиберализм, антиконсерватизм – плюс две характеристики движения, вождизм и милитаризованная партия, направленные к одной цели – тоталитаризму. Из этого не вполне понятно, чего же хотели фашисты, а акцент на «анти-» несправедливо представляет их в виде реакционного, антимодернистского движения.
Ведущим сравнительным историком фашизма считается сейчас Стенли Пейн. По его мнению, ядро фашизма заключает в себе три «анти-» Нольте, а также целый список других терминов: национализм, авторитарный этатизм, корпоративизм и синдикализм, империализм, идеализм, волюнтаризм, романтизм, мистицизм, милитаризм и насилие. Вот так список! Дальше Пейн сужает его до трех категорий: стиль, противостояние и программа – хотя это скорее абстрактные, чем сущностные свойства. А заканчивает тем, что фашизм – это «самая революционная форма национализма», основанная на философском идеализме и морально обоснованном насилии (Payne, 1980: 7; 1995: 7–14). Заключение звучит довольно расплывчато, и, когда Пейн пытается выделить типы фашизма, оказывается, что фашизм классифицируется по национальностям (немецкий, итальянский, испанский, румынский, венгерский, а также целый набор «недоразвитых» фашизмов в других странах), что, казалось бы, наполовину уничтожает общую теоретическую базу.
Хуан Линц – ведущий социолог фашизма. Его определение еще пространнее:
Гипернационалистическое, часто пан-националистическое, антипарламентарное, антилиберальное, антикоммунистическое, популистское, а посему антипролетарское, частично антикапиталистическое и антибуржуазное, антиклерикальное или по меньшей мере не-клерикальное движение; ставит целью национальную социальную интеграцию посредством единой партии и корпоративного представительства (не всегда в равной мере); с отличительной стилистикой и риторикой, с опорой на активистские кадры, способные на насильственные акции в сочетании с электоральной борьбой, с целью установления тоталитарной власти путем сочетания законных и насильственных тактик.
Он также одобрительно цитирует Рамиро Ледесма Рамоса, видного испанского фашиста, который определял фашизм чуть короче и в более чеканных формулировках:
Глубокая национальная идея. Оппозиция демократическим буржуазным институтам, либеральному парламентаризму. Срывание масок с истинных феодальных властей современного общества. Национальная экономика и народная экономика против международного финансового и монополистического капитализма. Дух власти, дисциплины и насилия. Отрицание антинационального и противоречащего природе человека классово-пролетарского решения очевидных проблем и несправедливостей капиталистической системы (Linz, 1976: 12–15).
Эти авторы ярко излагают фашистский Weltanschauung и предполагают, что в основе его лежит гипернационализм. Однако родовому определению необходима большая точность и лапидарность.
Современные ученые стремятся восполнить этот пробел. Итуэлл дает лапидарное определение. Фашизм, говорит он, «стремится имитировать национальное возрождение, основываясь на целостно-национальном радикальном третьем пути». Он добавляет, что на практике фашизм склонен уделять стилю, особенно действию и харизматическому лидеру, больше внимания, чем проработанной программе, и тяготеет к «манихейской демонизации врагов» (Eatwell, 2001: 33; 1995: 11; 1996). Далее он расширяет это определение, разрабатывая четыре ключевые характеристики: национализм, целостность (то есть коллективизм), радикализм и «третий путь». Третий путь лежит между левым и правым, трудом и капиталом, и берет у обоих все лучшее. Это означает, что у фашизма есть практические предложения для современного общества, и, следовательно, он – не антимодернистское движение, а альтернативный взгляд на современность. Определение Итуэлла ближе всего к моему собственному, которое я привожу ниже.
Гриффин полагает, что родовое определение должно быть более сосредоточено на ценностях. В этом отношении он следует за Штернхеллом и Моссом. Он видит в фашизме «мифическое ядро» популистского ультранационализма, вдохновленное идеей возрождения нации, расы или культуры и устремленное к созданию «нового человека». Фашизм – это «палингенетический миф» популистского ультранационализма, представляющий нацию возрождающейся, как феникс, из пепла старого, упадочного общественного порядка. Это «особый род современной политики, ищущей бескомпромиссных революционных преобразований в политической и социальной культуре того или иного национального или этнического сообщества… Классический фашизм черпает вдохновение и энергию в ключевом мифе о том, что век упадка и разложения непременно должен смениться золотым веком возрождения и омоложения в постлиберальном новом порядке». Гриффин согласен с Итуэллом в том, что фашизм – альтернативный путь модернизации. По его мнению, он представляет «консенсусный» взгляд на фашизм: противостоят ему только материалисты, которых Гриффин высмеивает. Он открывает «первичность культуры» в фашизме. Называет Гриффин фашизм и «политической религией» (Griffin, 1991: 44; 2001: 48; 2002: 24).
Однако таким идеализмом, как у Гриффина, гордиться не стоит. В нем заключена серьезная ошибка. Как может миф породить внутреннюю сплоченность или стать движущей силой? Сам по себе миф не способен ничего двигать или объединять – ведь идеи не парят в пустоте. Без организации и власти идеи не стоят и ломаного гроша. Но к понятию власти Гриффин даже не обращается. Такому определению недостает обычного здравого смысла. Несомненно, фашисты должны были предлагать нечто более практичное, чем мифическое возрождение нации. Кто бы за это проголосовал? Хоть у фашизма и была иррационалистическая сторона, в целом он был достаточно трезв, предлагал и экономические программы, и политические стратегии (Eatwell, 2001). Он был определенно «от мира сего», а сакральным, религиозным измерением человеческой жизни не интересовался, хоть и готов был использовать его в своих целях.
Впрочем, идеализм заметен во всех этих определениях. Первенство в них отдается фашистским идеям. Национализм выглядит бестелесным, отторгнутым от своего основного носителя в реальном мире – национального государства. Сплоченная нация и сильное государство, то и другое вместе – этого желали все фашисты. Гриффин, кроме всего прочего, обеляет фашизм, умалчивая о характерном для него жестоком насилии и парамилитаризме; и даже Итуэлл замечает, что фашизм прибегает к насилию лишь «иногда» (Линц, Нольте, Пейн не пренебрегают значением насилия для фашизма).
Чтобы исправить эти упущения, однако, нет нужды прибегать к традиционной материалистической альтернативе идеализму, вписывая фашизм в теорию капитализма и классов. Нужно определить фашизм в его собственной системе координат, однако к ценностям добавить программы, действия и организации. Фашизм был не просто множеством людей с определенными убеждениями. Фашисты оказали огромное влияние на мир именно благодаря своим коллективным действиям и организационным формам. Фашисты были преданы элитизму, иерархии, товариществу, популизму и насилию, заключенным в достаточно свободные, парамилитарные формы этатизма. Если фашизм состоит лишь в палингенетических мифах о возрождении – в чем его вред и опасность? Будь фашизм только крайним национализмом – он был бы ксенофобией, и только. Но, принимая парамилитаризм, фашисты подталкивают друг друга к экстремальным действиям, уничтожают своих противников и убеждают множество зрителей, что смогут наконец принести в современное общество порядок. Затем их авторитарное государство требует от народа полного повиновения, уничтожает оппозицию и совершает массовые убийства. Следовательно, наше определение фашизма должно включить в себя как его ключевые ценности, так и ключевые организационные формы.
Определение фашизма
Я определяю фашизм, исходя из его ключевых ценностей, действий и организаций. Если говорить очень кратко, фашизм – это попытка создать трансцендентное национальное государство, при помощи парамилитаризма проведя народ через чистки. В этом определении содержится пять ключевых терминов, требующих дальнейшего объяснения. Кроме того, в каждом из них имеются внутренние противоречия.
Национализм. Все признают, что фашисты были глубоко преданы идее «органической», «целостной» нации и что это включало в себя необычно серьезное внимание к «врагам нации», как за границей, так и (особенно) дома. Фашисты не склонны были терпеть этническое и культурное разнообразие – оно, в их понимании, подрывало органическое единство нации. Агрессия против врагов, якобы угрожающих этому единству, – вот изначальный источник радикализма фашистов. Расово окрашенный национализм оказался еще более радикальным, поскольку расовая принадлежность – характеристика врожденная. С ней мы рождаемся, и только смерть, естественная или насильственная, может ее у нас отнять. Поэтому расовый национализм нацистов оказался сильнее одержим «чистотой» и совершил куда больше преступлений, чем итальянский культурный национализм, в целом позволявший присоединяться к нации тем, кто демонстрировал правильные ценности и правильное поведение.
Понятие «возрождения», которое Гриффин считает ключевой характеристикой фашизма, я бы отнес к национализму в целом: оно свойственно и многим умеренным национализмам – например, ирландскому, литовскому или зимбабвийскому. Поскольку нации, в сущности, возникли в Новое время (за одним или двумя исключениями), но националисты притязают на древность своих народов – этот парадокс они разрешают при помощи представления о возрождении древнего народа, ныне приспособившегося к современности[8].
Миф о преемственности возводит народ ко временам Верховных Королей, Великого Княжества Литовского, Великого Зимбабве – но никто не ждет, что они возродятся в наше время.
Этатизм. Включает в себя и цель, и организационную форму. Фашисты поклонялись государственной власти. Грегор (Gregor 1979) подчеркивает, что именно авторитарное корпоративное государство, по их представлениям, должно было разрешить кризисы, вызвать общественное, нравственное и экономическое развитие. Поскольку государство представляет нацию, которая мыслится как органическая по своему существу, государство должно быть авторитарным – воплощающим в себе единую сплоченную волю, которую выражает партийная элита, преданная принципу вождизма. Ученые обычно подчеркивают «тоталитарные» черты фашистских идеалов и государств: Берли (Burleigh, 2000) и Грегор (Gregor, 2000) говорят об этом и сейчас. Другие соглашаются, что целью фашистов было «полное преображение» общества, однако выдвигают на первый план отступления от этой цели. Фашистский идеал государства представляется им бессмысленным или противоречивым, поскольку содержит в себе одновременно партийные, корпоративистские и синдикалистские элементы, и они подчеркивают, что в реальности фашистские государства были на удивление слабыми. Они обращают внимание на подковерную борьбу и политические торги при режиме Муссолини (Lyttleton, 1987), на «многовластие» и даже «хаос» нацистского режима (Broszat, 1981; Kershaw, 2000). Поэтому они не спешат наклеивать на фашизм ярлык тоталитарности. Для фашистских режимов, как и для коммунистических, характерна диалектика между «движением» и «бюрократией», «перманентной революцией» и «тоталитаризмом» (Mann, 1997). Можно отметить и противоречие между более организованным синдикализмом/корпоративизмом в итальянском стиле и склонностью к поликратической, более гибкой диктатуре, характерной для нацистов. И при всех режимах стремление к единому бюрократическому государству подрывалось партийным и парамилитарным активизмом, а также сделками соперничающих элит. Фашизм был более тоталитарным в своих целях, чем в актуальных проявлениях.
Трансцендентность. Фашисты отвергали консервативное представление, что существующий общественный порядок в целом гармоничен. Отвергали они и либеральные и социал-демократические представления, что конфликт групп интересов – нормальное свойство общества. Отвергали они и левую мысль о том, что гармонии можно достичь, ниспровергнув капитализм. Фашисты вели свою генеалогию и от правых, и от левых, и от центристов, опирались на поддержку представителей всех классов (Weber, 1976: 503). Они нападали и на капитал, и на труд, и на либерально-демократические институты, обостряющие их борьбу. Фашистский национал-этатизм должен был «превзойти» общественную борьбу: сперва обрушить репрессии на все конфликтующие стороны и «проломить им черепа», а затем инкорпорировать классы и другие группы интересов в корпоративистские институты государства. Термин «третий путь», предлагаемый Итуэллом, для такого революционного преображения общества звучит слишком мягко; его вполне мог бы принять какой-нибудь центристский политик вроде Тони Блэра. Речь определенно не о компромиссе и не о том, чтобы отовсюду взять лучшее (как утверждает Итуэлл). Речь о создании «нового человека».
Фашизм отчасти был (как говорят материалисты) ответом на кризис капитализма, однако предлагал для него революционное и, как казалось, вполне достижимое решение. Ниже мы увидим, что основную социальную базу поддержки фашистов можно понять, лишь если принять их стремление к преображению всерьез: в этом они действительно были совершенно искренни. Это была самая привлекательная часть фашистской идеологии – она предлагала практичный, вполне возможный путь изменения общества к лучшему. Преображение общества стало центральным элементом избирательной программы фашистов. В предыдущей своей книге я показывал, что идеологии сильнее всего тогда, когда предлагают трансцендентные, однако достижимые в реальности проекты «нового мира», когда сочетают рациональное с внерациональным.
Однако трансцендентность – самое изменчивое и проблематичное из пяти ключевых понятий, определяющих фашизм. Достигнута она так и не была. На практике большинство фашистских режимов держались за существующий порядок и за капитализм. В отличие от социалистов, фашистам недоставало критики капитализма в целом, поскольку недоставало интереса к капитализму и классам. Центр их притяжения составляли нация и государство, а не класс. Одно это вовлекало их в конфликт преимущественно с левыми, а не с правыми, поскольку именно марксисты и анархисты, а не консерваторы, обычно привержены интернационализму. Однако фашисты, в отличие от политически левых и правых, к классам относились прагматично – по крайней мере, пока не видели в них врагов нации. Они нападали не на капитализм как таковой, а на определенные виды извлечения прибыли, как правило, на финансистов, иностранных или еврейских капиталистов. В Румынии и Венгрии, где эти типы капиталистов преобладали, это придавало фашизму отчетливо пролетарскую окраску. В других местах фашистские движения были прокапиталистическими. Приближаясь к власти, фашисты сталкивались с особой проблемой. Хоть они, как авторитаристы, верящие в управленческие технологии, и надеялись подчинить капиталистов собственным целям, но сталкивались с тем, что самим им определенно не хватает технократических навыков для управления производством. Им приходилось договариваться с капиталистами. Более того: в Германии и особенно в Италии фашистские перевороты получили поддержку высшего класса. Муссолини, придя к власти, не пытался разорвать свои связи с правящим классом. Иным был Гитлер: просуществуй его режим дольше, сомневаюсь, что экономика рейха осталась бы капиталистической.
Однако и за то короткое время, что было им отпущено, фашисты далеко ушли от своего первоначального замысла «превзойти» классовую борьбу. Это «предательство» подчеркивают классовые интерпретаторы фашизма и другие исследователи, сомневающиеся в искренности или последовательности фашистских ценностей (например, Paxton, 1994, 1996). Однако нельзя сказать, что фашисты просто пошли на предательство и на том успокоились. Во всех фашистских движениях имелся разрыв между радикалами и оппортунистами – часть общей противоречивой динамики этих движений. Особенно ярко проявился он у нацистов. Эта динамика смещала акценты в поставленных транцендентных целях, но не уничтожала их вовсе. Фашизм ставил своей целью «превзойти» классовую и этническую рознь, но с классовым врагом-капиталистом пока приходится идти на компромисс – что ж, займемся врагами этническими. Такое смещение акцентов привело к тому, что фашистские режимы стали более кровавыми – не только в Германии, но в конечном счете и в Италии, как я покажу в своей следующей книге.
Чистки. Поскольку оппоненты воспринимаются как враги, их необходимо уничтожить и очистить от них нацию. Здесь фашистская агрессия проявлялась в действии. Тяжело видеть, что практика этнических чисток возрождается кое-где и в наше время, хотя политические чистки, начиная с конца ХХ века, стараются не афишировать. Органические националисты, как правило, считают, что с этническими врагами справиться труднее, поскольку политическую идентичность легче изменить. Так, можно репрессировать, даже убивать коммунистов; но, если они покаются, большинство из них будет принято в нацию. Поэтому политические чистки зачастую начинаются очень жестоко, но, как только враг сдается, – смягчаются и заканчиваются «примирением». Но жесткость этнических чисток со временем только нарастает, так как враг считается неспособным к ассимиляции. Как правило, фашисты практиковали сразу и этнические, и политические чистки, хотя и в разной степени. Даже для нацистов образ врага представал в некоем смешанном политико-этническом облачении, как ненавистный «жидобольшевик». Такие движения, как итальянский фашизм и испанский национализм, определяли своих врагов преимущественно через политическую терминологию. В результате немецкие нацисты, более склонные к этническому пониманию врагов, пролили больше крови, чем итальянские фашисты.
Парамилитаризм — и ключевая ценность, и ключевая организационная форма фашизма. Считался «народным», возникающим снизу; но в то же время был и элитистским – парамилитарные формирования рассматривались как авангард нации. Брукер (Brooker, 1991) рассматривает дух товарищества как основную характеристику фашистских движений; да и сами они рассматривали свое боевое братство как горнило, в котором выковывается новая нация и новый человек. Насилие – краеугольный камень фашистского радикализма. Убийствами фашисты опрокидывали все легальные формы деятельности. «Разбивая головы», они на практике стирали грани между классами. Элитизм и иерархия боевых отрядов должны были стать отличительной чертой и будущего авторитарного государства. Фашистское движение никогда не было всего лишь партией. В сущности, итальянские фашисты много лет существовали именно в форме парамилитарных отрядов. Фашизм всегда носил форму, маршировал, был вооружен и опасен – и стремился радикально дестабилизировать существующий общественный порядок.
От многих военных и монархических диктатур мира фашизм отличает именно этот низовой и насильственный характер парамилитаризма. Он приносил популярность как в широких народных массах, так и среди элит. Фашисты всегда изображали свое насилие как «успешную оборону»: истинное насилие, мол, исходит от врагов, но фашисты вступают с ними в бой и побеждают. Верили им не все, но многие: и это увеличивало их популярность, их рейтинги на выборах, привлекательность для элит. Таким образом, парамилитаризм предлагал особый подход и к выборной демократии, и к существующим элитам, хотя и то и другое фашисты на деле презирали. Парамилитаризм не следует рассматривать в отдельности, не учитывая его тесной связки с двумя другими основными источниками власти фашистов: избирательной борьбой и сговором с элитами. Именно парамилитаризм – способ организовать и сплотить самих фашистов, устрашить и привести к повиновению врагов, получить поддержку или уважение зрителей – позволял фашистам добиться куда большего, чем можно было бы ожидать, исходя только из их численности. Парамилитаризм был насилием, но включал в себя далеко не только насилие. Разумеется, его никогда не хватило бы для того, чтобы организовать настоящий переворот и бросить вызов государственной армии. Парамилитарные отряды не были равнозначны военной силе. Чтобы заговор оказался успешен, фашистам требовалось не победить военных в бою, а перетянуть их на свою сторону.
Это сочетание свойств, несомненно, делает фашистов революционным движением, хоть и не в традиционном лево-правом смысле. Недостаточно назвать их, как некоторые, «революционерами справа» и на этом успокоиться. Это сочетание означает также, что движение может быть в большей или в меньшей степени фашистским. Генезис каждого фашистского движения (хотя, несомненно, каждое из них уникально) можно разложить в пятимерной проекции – но, признаюсь, это превосходит мои аналитические способности. Не готов я и проводить сравнительный анализ фашистских и коммунистических движений по этим пяти параметрам – хотя, очевидно, между ними есть и сходства, и различия. И те и другие представляли альтернативные взгляды на современность; и те и другие потерпели поражение.
Привлекательность фашизма: классовая теория
Кого же привлекали эти ключевые характеристики? Что за люди становились фашистами и чего они стремились этим достигнуть? Странным образом – поскольку эти движения отрицали важность классов – на этот вопрос отвечают в основном сторонники классовой теории. Они рассматривают фашизм как продукт классовой борьбы и экономического кризиса, а основное его достижение видят в том, что он разрешил этот кризис, подавив рабочий класс. Поэтому другие классы общества его и поддержали. Существуют два варианта этой теории: одна видит в фашизме порождение среднего или нижнего среднего класса, другая – союзника или орудие класса капиталистического. Рентон (Renton, 2000) называет их соответственно «правой» и «левой» марксистскими теориями. Марксисты поняли, как важно для фашизма насилие и парамилитаризм. Отто Бауэр писал, что фашизм – это «диктатура вооруженной банды». Однако марксисты склонны не принимать в расчет убеждения фашистов, сводя их лишь к предполагаемой социально-экономической базе. Им несложно разглядеть в фашизме единый универсальный тип. Поскольку классы и капитализм – универсальные черты современного общества, универсалистский потенциал должен быть и у фашизма. Однако другие универсальные социальные структуры, в начале ХХ века также распространенные повсюду, несомненно, должны были оставить свой отпечаток на фашизме – как я уже показал на примерах национального государства и призывной армии.
Всякому, кто пишет о среднем классе, для начала необходимо освоиться с избытком ярлыков, наклеиваемых на тех, кто занимает в классовой иерархии срединное место. На разных языках их именуют по-разному. Одни причисляют всех, кто не относится ни к пролетариям, ни к высшему классу, к «мелкой буржуазии». Так принято в итальянском и испанском языках; примерно то же широкое значение имеет немецкое Mittelstand («среднее состояние»). Однако в английском языке термин «мелкая буржуазия» не особенно принят. Те, кто его употребляет, имеют в виду лишь разновидность этой срединной страты – ремесленников, мелких лавочников, мелких торговцев, словом, независимых собственников, которые трудятся сами, возможно, с участием семьи, но крайне редко нанимают наемных рабочих. Эту группу я называю «классической мелкой буржуазией». Немцы часто называют ее, вместе с государственными служащими, «старым» Mittelstand. Часто и ошибочно считается, что именно классическая мелкая буржуазия была склонна к фашизму; однако она одна никак не смогла бы наполнить собою такое массовое движение. Таким образом, большинство «среднеклассовых» или «мелкобуржуазных» теорий фашизма понимают эти термины в широком смысле, видят в фашизме движение, опиравшееся одновременно на «средний класс» и «нижний средний класс» (в обычном английском значении этих слов). Я буду называть это сочетание просто «средним классом», дабы противопоставить его двум другим сборным классам: рабочему и высшему. Разумеется, эти термины ни в коей мере не точны; однако, поскольку в эмпирических главах этой книги я буду подробно рассматривать классификацию по занятости – и покажу, что ни одно определение классов не слишком-то помогает понять фашизм, – более точные определения классов нам в этой книге не понадобятся.
Уже в 1923 г. Сальваторелли доказывал, что фашизм – независимое движение недовольных представителей среднего класса, а лидер Коминтерна Карл Радек именовал фашизм «мелкобуржуазным социализмом». Такие интерпретации широко распространились после Второй мировой войны, когда горы исследований, казалось, подтверждали, что фашисты выходили в основном не из элитарных, но и не из пролетарских групп, а в основном из нижнего среднего класса (напр., Lipset, 1963: гл. 5; Bracher, 1973: 145; Kater, 1983: 236; Stachura, 1983b: 28). Традиционное объяснение этому давалось в экономической сфере:
Недуги, кризис, поразивший капиталистическое общество… [ударили по тем, кто] был выбит из колеи социальными и экономическими неурядицами, чье социальное положение было под угрозой, кто потерял работу и статус и утратил веру в будущее. Это был нижний средний класс, а еще точнее – его наиболее уязвимая часть: ремесленники, частные мелкие торговцы, мелкие фермеры, мелкое чиновничество и белые воротнички низшего звена (Carsten, 1980: 232–233).
Теоретики такого рода признают, что некоторые фашисты были антикапиталистами, но в еще большей степени – антисоциалистами. При фашизме капитализм должен был быть взят под контроль, а социализм уничтожен. Ибо – говорят они – угрозы «снизу» средний класс страшился больше, чем угрозы «сверху».
Иногда теория среднего класса является и в еще более обобщенной форме. Фашизм понимается как поражение всего «общества среднего класса», созданного либерализмом и капитализмом (Eley, 1986: гл. 9–10). Трудно понять, что это значит. Никакое общество, никакую эпоху невозможно определить в терминах лишь одного класса. И ни либерализм, ни капитализм вовсе не потерпели поражение. Некоторые авторы расширяют эту теорию, припрягая к среднему классу другие, более маргинальные группы. Карстен (Carsten, 1976) подводит итоги традиции, восходящей к 1920-м, к Тольятти, Таски, Фромму, Райху и Нольте: ядром фашистского движения они считали студентов, отставных военных, безработных интеллектуалов, деклассированных и люмпен-пролетариат – вместе с мелкими торговцами, ремесленниками и «белыми воротничками». Смесь очень пестрая, скорее отражающая неприязнь автора к фашистам, чем какой-либо общий принцип, лежащий в основе такого группирования. Карстен полагает, что столь разнородные люди становились фашистами, поскольку все они переживали опыт экономических и статусных лишений. Цеткин, Тальхаймер, Левенталь, Зауэр и Джермани считали, что фашизм притягивает униженных, неудачников, маргиналов, людей без корней. «Истинное сообщество банкротов!» – клеймил их Левенталь. Всегда, когда эти авторы пишут, что какая-то профессиональная группа (будь то студенты, военные, адвокаты или конструкторы) особенно склонна к фашизму, – они связывают это с экономическими лишениями, безработицей или снижением заработка. Любопытно, что большинство психологических теорий фашизма также основаны на понятии среднего класса. Франкфуртская школа переосмысливает фрейдизм так, что «репрессии», «авторитарная личность», «статусная уязвимость» и «иррациональность» оказываются явлениями буржуазными по сути своей, связанными с упадком буржуазной семьи. Однако ни одна из этих психологических теорий фашизма не имеет достаточных эмпирических подтверждений (Payne, 1995: 454). Даже если какие-то из этих групп и были предрасположены к фашизму, то едва ли по классовым причинам. Бывшие офицеры становились фашистами скорее из-за военного склада ума и характера, студенты – в силу возраста и идеологического климата, царившего в университетах. Социальная идентичность человека всегда сложна и не ограничивается классом, к которому он принадлежит.
В сущности, ни одна из теорий, увязывающих фашизм со средним классом, не выдержала проверку временем. Да, фашизм зародился в недрах среднего класса – как и большинство политических движений. Но, едва он превратился в массовое политическое движение, его привязка к среднему классу, как будет показано в главах 3 и 8, сошла на нет. Большинство членов крупных фашистских движений не были ни членами среднего класса, ни экономически обездоленными[9]. После 1930 г. ни сами нацисты, ни те, кто за них голосовал, в основном не принадлежали ни к буржуазии, ни к мелкой буржуазии. Они черпали свою поддержку из всех классов.
Итальянских фашистов часто называют буржуа, хотя данные по этому вопросу скудны. Однако рядовые фашисты в Венгрии и Румынии были скорее пролетариями (Berend, 1998: 342–343). Пейн в своем обзоре подробно пишет обо всем этом, однако старается спасти хоть что-то из теории среднего класса. Он заключает: «радикализм среднего класса» остается «одной из важнейших черт фашизма, однако для того чтобы выработать общую теорию, этого недостаточно» (Payne, 1995: 445). Заключение вполне разумное, но что оно нам дает? Если фашистами становились люди из всех классов – маловероятно, чтобы классовое сознание или классовая борьба помогли нам что-то понять в фашизме.
Вторая классовая теория видит в фашистах союзников или орудия капиталистического класса. Капитализму начала ХХ века, в его «империалистической», «монополистской» или «кризисной» фазе, требовалось авторитарное государство, чтобы защититься от восставшего пролетариата. Такая теория наделяет фашизм бонапартистской «относительной автономией» от капитализма, однако полагает, что в конечном счете фашизм был подотчетен капиталу. Так, Пуланзас определял фашизм как «исключительно капиталистическое государство», функционально необходимое во время кризиса, чтобы защитить капиталистический класс от пролетариата (Poulantzas, 1974: 11). Капитализму угрожали два кризиса один за другим: подъем революционного социализма в 1918 г. и далее (вызвавший захват власти в Италии) и массовая безработица и давление на государственный бюджет во время Великой депрессии (вызвавшие захват власти Гитлером). Некоторые пишут, что капиталисты принимали фашизм быстро и с энтузиазмом, но большинство исследователей говорит о медленном, неохотном и недоверчивом сближении.
Теория эта отчасти утратила свою популярность вместе с общим упадком марксизма. Однако ее принимает Хобсбаум, говоря: «Перед лицом неразрешимых экономических проблем и/или растущей революционности рабочего класса буржуазия вынуждена была возвратиться к силовым методам и принудительным мерам, иначе говоря, к чему-то вроде фашизма» (Hobsbawm, 1994: 136).
Даже если не замечать опасно функционального выражения «была вынуждена» – беглый взгляд на пять основных фашистских стран открывает нам большое разнообразие в ответах на вопрос, до какой степени капиталисты этих стран могли видеть в пролетариате опасную для себя угрозу. Если они боялись несуществующей угрозы снизу – это предмет скорее психологического, чем социологического анализа. Психология – не моя специальность, однако и я порой задаюсь вопросом, почему имущие классы так остро реагируют на относительно незначительную угрозу снизу. Ответ я постараюсь дать в последней главе. Говоря эмпирически, степень поддержки фашистских движений со стороны капитала остается вопросом спорным – она сильно менялась от страны к стране. Как и с теорией среднего класса, картину порой смазывает «наложение» поддержки близких капиталу социальных групп, связанных со «старыми режимами» предшествующего периода: королей, аристократов, высшего чиновничества, армейского командования, церкви, интеллектуалов. Как правило, эти люди владели и значительной собственностью; однако их симпатии к фашизму могли исходить из военных, религиозных или «старорежимных», а не капиталистических ценностей и потребностей. Теоретики капиталистического класса рассматривают как аргумент в свою пользу то, что фашистские лидеры, придя к власти, как правило, отказывались от притязаний «превзойти» классовую борьбу. Если фашистское движение в самом деле неизменно заканчивало такой «политической проституцией», то социальный бэкграунд рядовых фашистов особого значения не имеет: фашизм – в самом деле лишь прислужник или марионетка капитализма. Да, бывало и так; но чаще бывало иначе. В целом капиталистическая теория фашизма, как и теория среднего класса, объясняет кое-что в фашизме – но далеко не все.
Иные стремятся совместить эти две классовые теории. Рентон (Renton, 2000: 101) говорит: хотя по своему происхождению фашизм – это «социализм среднего класса», в конечном счете это реакционное антирабочее движение, поддерживающее капитализм. Китчен также считает, что социальную базу фашизма составлял средний класс, однако задача его была по сути капиталистической. По его словам, «фашистские партии представляли собой мелкобуржуазные организации», ибо представители мелкой буржуазии «составляли в них подавляющее большинство». Однако от них требовалось действовать «в тесном союзе с капиталистической элитой» (Kitchen, 1976: 59, 65). Такой двоякий подход отчасти отражает динамику фашистских движений – напряжение между радикальными рядовыми фашистами, выходцами из мелкой буржуазии, и их более консервативными и оппортунистическими лидерами. Конфликты таких радикалов, как Грегор Штрассер и рядовые СА с более консервативнооппортунистическими Гитлером и Герингом, или между провинциальными фашистскими главарями (известными под наименованием «ras») и Муссолини, в которых лидеры побеждают радикалов, часто рассматриваются с этой точки зрения. Бесспорно, и здесь есть зерно истины.
Однако, обращая внимание лишь на социальную базу и объективные функции, большинство классовых теоретиков упускает из виду убеждения самих фашистов. Они рассматривают фашизм извне, с точки зрения для самих фашистов, отвергавших все классовые теории как «материализм», бессмысленной. Для фашистов было важно другое. В начале главы 3 я расскажу о классовой теории итальянского фашизма (по Сальваторелли), а затем приведу рассказ самого Бенито Муссолини о его пути к фашизму. Мы увидим, что говорят они как будто совсем о разных вещах. Быть может, теоретикам лучше знать, чего хотел Муссолини на самом деле или зачем он искажал истину (а он, разумеется, в своей «исповеди» не вполне искренен). И все же контраст приводит в замешательство, особенно социолога. Большинство социологов согласны с утверждением: «Если люди верят в Х как в реальность, то по своим последствиям Х будет реальностью». Фашисты верили, что стремятся к определенным целям, во имя этих целей совершали определенные действия; это реальность, от которой нельзя просто отмахнуться.
Наконец, с классовым интересом есть еще одна проблема: ведущая мотивация фашистов. Фашисты были эмоционально вовлечены в задачу очищения нации от врагов: во имя этой задачи они позволяли себе безжалостное насилие и совершали самое ужасное зло. Как правило, это насилие и зло не окупалось материально. Фашисты были агрессивны себе во вред – особенно в своей одержимости войной. О способностях и возможностях «нового человека» они были самого необоснованно высокого мнения. И, хотя в некоторых их преступлениях против евреев и других врагов заметен и корыстный интерес (повсеместно распространенные грабежи), геноцид – совсем иное дело. В материальном плане он приносил Германии только ущерб (и как армейские генералы, так и высшие чины СС, занимавшиеся экономическим планированием, прекрасно это понимали). Присущее фашистам сочетание моральности, агрессии и кровопролития не вписывается в теории материального интереса. Фашисты подчинялись не только рациональному целеполаганию, но и своим ценностям. И именно их ценности победили разум и, в конце концов, погубили своих носителей.
Интерпретация фашизма с националистической точки зрения ущербна по другой причине. В отличие от классовой теории, она не способна исследовать социальную базу фашизма. Теоретики такого рода сосредоточиваются на идеологии, забывая о социальной базе. Впрочем, порой они заимствуют и классовые интерпретации. Любопытно, что такие ценности, как расизм, национализм и милитаризм, они называют «буржуазными» или «мелкобуржуазными» (Mosse, 1964, 1966; Carsten, 1980: 232). Я не в силах понять, с какой стати приписывать эти ценности исключительно среднему классу. Многие ученые явно недолюбливают мелкую буржуазию. Быть может, это сословие раздражает их, поскольку они сами из него вышли? Даже некоторые не-классовые теоретики никак не могут расстаться с идеей классов. Книги с подзаголовками, обещающими показать «социальное лицо» нацистов и их сторонников, на 90 % состоят из рассуждений о классах и профессиях (напр., Kater, 1983; Manstein, 1988), как будто наше социальное лицо на 90 % определяется тем, где мы работаем и к какому классу принадлежим!
Пейн (Payne, 1995) предлагает наиболее детальный обзор социальных корней фашистов. Их классовый бэкграунд он исследует очень подробно. Более кратко останавливается на других социальных характеристиках, таких как молодость, маскулинность, преобладание отслуживших в армии, высшее образование, религия и (иногда) место проживания. Однако только данные по классам он стремится связать с общей теорией фашизма. Все остальное он рассматривает как второстепенные детали и не стремится объяснить. Линц (Linz, 1976) ранее предпринял великолепный анализ биографий фашистов: профессия, род деятельности, место проживания, религия, возраст, пол и так далее. Однако странным образом (он ведь прекрасный социолог) никаких общих закономерностей в этом многообразии идентичностей не отыскал. Хоть эти ученые и видят в фашизме крайний национализм, они не пытаются определить социальную базу национализма. Между идеологией и социальной базой у них зияющая брешь. Мы можем заполнить ее, признав, что, помимо классовой составляющей, поддержка фашизма исходила от людей, поддерживающих национальное государство и парамилитаризм. В классовых теориях содержится значительная доля истины. Фашизм многое заимствовал из классовых идеологий и организаций, был одержим угрозой большевизма и чувствителен к классовым интересам. Китчен прав: нам необходимо понять социальную базу и функции фашизма. Однако «социальное» нельзя уравнивать с «классовым». Рассмотрим вкратце общественные условия, в которых развивался фашизм.
Общественный резонанс фашизма
Общественные условия, в которых возник и развивался фашизм, можно разбить на пять основных категорий. Начну с самой общей.
Макропериод: межвоенные кризисы европейской современности
Массовое движение, называющее себя фашизмом, возникло и набрало силу в Европе в период между двумя мировыми войнами. Изучая это явление, я буду привязывать его к месту и времени – к «европейской эпохе», по выражению Итуэлла (Eatwell, 2001), хотя, быть может, отголоски фашизма были слышны и на других континентах. Европа в этот период переживала четыре серьезных кризиса: последствия опустошительной мировой (но, по сути, в основном европейской) войны – войны между массовыми призывными армиями; ожесточенная классовая борьба, усиленная Великой депрессией; политический кризис, вызванный ускоренным переходом многих стран к демократии и национальному государству; культурное ощущение кризиса и упадка цивилизации. Сам фашизм признавал эти кризисы, громогласно обещая разрешить все четыре. К тому же все четыре кризиса сыграли важную роль в ослаблении способности элит управлять по-старому.
Это не противоречит тому, что в разных странах фашизм возникал по разным причинам: здесь из-за поражения в войне, там из-за Великой депрессии. Но сильнее всего фашизм становился там, где сочетались все четыре. Вопрос здесь в степени: до какой степени тот или иной кризис – экономический, военный, политический и идеологический – вносил свой вклад в появление и развитие фашизма? Подробнее мы поговорим об этом в главе 2. По всей видимости, эти четыре кризиса стали необходимыми предпосылками фашизма. Без них фашизма бы не было. Однако, как видно, ни одного из них по отдельности не было достаточно. Большинство стран справились с кризисом, не превращаясь в органические национальные государства – не говоря уж о фашизме. Это выводит нас на второй уровень анализа, а именно к вопросу: в каких местах возник фашизм?
Макрогеография: половина Европы
В межвоенный период, как показано далее, на карте 2.1 (с. 64), почти во всей Центральной, Южной и Восточной Европе правили достаточно схожие авторитарные правые режимы; фашизм представлял собой одну из их разновидностей. На северо-западе континента сторонниками подобных режимов были лишь незначительные меньшинства. Профашистские движения имелись и в наиболее экономически развитых странах на других континентах – в Японии, Южной Африке, Боливии, Бразилии и Аргентине. Европейский фашизм получал здесь определенный резонанс, хотя до какой степени – вопрос спорный (Payne, 1995: гл. 10; Larsen, 2001). На мой взгляд, ни в одной из этих неевропейских стран нельзя найти сочетания всех предпосылок появления фашизма, перечисленных выше. В Японии, например, имелся чрезвычайно сильный национал-этатизм, создавший, пожалуй, самую проработанную в мире квазифашистскую экономическую теорию (Gao, 1997: гл. 2–3). Однако Японии недоставало парамилитаризма, массового движения снизу (сравнение Японии с Европой см.: Brooker, 1991). В том, что принято называть японским «фашизмом», господствовал милитаризм, а не парамилитаризм. Аргентина и Бразилия, напротив, порождали массовые популистские движения авторитарного типа, с этатистскими и радикальными тенденциями, однако им не хватало националистических чисток. В течение всего межвоенного периода мы встречаем теоретиков, которые читали Барре, Муссолини, Гитлера и так далее, а затем старались приспособить их идеи к местным условиям, создавая своего рода квазифашистские учения. Так, в Индии Голваркар перенял расовые теории Гитлера и использовал их в своей концепции чистого индуистского теократического государства. Сложим эти теории с парамилитарными отрядами индуистской праворадикальной организации «Раштрия сваямсевак сангх» – и получим нечто очень близкое к нацизму (Jaffrelot, 1996). Однако движение это в 1930-х было мизерным, как и почти все профашистские партии и ополчения той эпохи. Лишь одним континентом – Европой – фашизм овладел почти полностью.
Почему же в одной половине Европы победил авторитарный этатизм, а в другой – либеральная демократия? Очевидно, проблема не в каком-то общем кризисе, вроде Великой депрессии или недостатков либерализма: такой кризис сказался бы на всей Европе, а не на ее половине. Основная разница была в поведении консервативного, «старорежимного» политического крыла и класса собственников. Да, именно здесь классовый вопрос сыграл важнейшую, хоть и довольно странную роль. На половине континента правящие классы обратились к более жестким режимам, надеясь с их помощью защититься от двух тесно связанных угроз – народных восстаний и своих оппонентов, левых политиков. Однако рациональным такое поведение назвать нельзя. Они значительно преувеличивали эти угрозы и отказывались от тех более безопасных мер противостояния им, что приняли их коллеги на северо-западе Европы. Их реакция была несоразмерной: можно сказать, что они слишком рано и слишком резко схватились за оружие. Объяснить эту загадку – нерациональное, по всей видимости, поведение целого класса – одна из главнейших задач моей книги. Это объяснение необходимо нам, чтобы понять макрорегиональную обстановку авторитарного национал-этатизма, в которой процветал фашизм. Но это не объясняет нам самого появления фашизма: ведь он стал массовым движением лишь в нескольких странах – и произошло это вовсе не по воле правящих классов.
География: пять фашистских стран
Почему именно у итальянцев, немцев, австрийцев, венгров и румын фашизм получил массовую популярность, какой не имел в соседних странах? Верно, что в нескольких регионах других стран – в Судетах, Словакии, на Украине, в Хорватии – впоследствии возникли довольно многочисленные квазифашистские движения. Их я рассматриваю в следующей своей книге. Однако в других странах и регионах фашистов было совсем немного. Нельзя сказать, как говорят часто, что фашизм имел успех лишь в более развитых странах или в великих державах центра, востока и юга Европы. Этот аргумент связан с чрезмерной сосредоточенностью на Германии и Италии. Венгрия и Румыния великими державами вовсе не были, это были скорее отсталые страны – и что же? Некоторые авторы уверяют, что именно отсталость и породила в них фашизм (Berend, 1998). Однако фашизм – как и социализм – был привлекателен для очень и очень многих, а значит, дело тут не в развитой или отсталой экономике. Чтобы понять, что произошло, нам необходимо найти между этими странами нечто общее – и это будет явно не уровень развития. Но и это само по себе не даст удовлетворительного ответа. Ведь и в этих странах фашистами становились далеко не все – скорее уж меньшинство населения. Кто были эти люди и почему они стали фашистами?
География: социальная база фашизма
Какие же социальные группы в этих странах больше всего привлекал фашизм? На многих страницах, на протяжении нескольких глав, я исследую социальное происхождение фашистских лидеров, боевиков, партийцев, попутчиков, заговорщиков и избирателей – сравнивая их (там, где это возможно) с аналогичными представителями других политических движений. Кто они были: мужчины, женщины, какого возраста, военные, штатские, горожане, сельские жители, верующие, атеисты, богатые, бедные; где родились, чем занимались, к какому классу принадлежали? С благодарностью я проштудировал работы ученых из многих стран, стремясь собрать богатейшую из ныне существующих базу данных по фашистам. В этих данных можно различить три социальные базы, наиболее чутко воспринявшие перечисленные мною ранее ценности фашистов; именно на их основе и возникали фашистские движения. Разумеется, социальные базы фашистов не возникали мгновенно и в готовом виде. Фашистам необходимо было их «открывать», а затем работать над ними – организовывать, убеждать, подкупать, принуждать. Одним фашистам это удавалось лучше, другим хуже. Некоторые фашисты неверно определяли свою социальную базу, другие натыкались на нее почти случайно (так нацисты наткнулись на немецкий протестантизм). Фашистские движения были разнородны, так что и социальные базы их несколько различались. Но среди всех этих случайностей и вариаций мы можем различить три общие модели массовой поддержки. Эта поддержка исходила от миллионов людей, голосовавших за фашистов, и тысяч вступавших в фашистские организации. И то и другое – важнейшие, хоть и очень разнородные факторы успеха фашистов. Для своих нынешних целей, однако, я объединяю эти два вида поддержки в один.
Сторонники парамилитаризма. Во всех странах фашизм поддерживали последовательно два молодых поколения, повзрослевших между Первой мировой войной и концом 1930-х. Их юности и идеализму импонировали ценности фашизма, преподносившиеся как современные и в то же время нравственные. Особенно легко распространялись фашистские идеи через два института социализации молодых людей: среднее и высшее образование, внушавшее идеи морального прогресса, – и армию, воспитывавшую в молодежи милитаризм. Фашизм апеллировал в первую очередь к молодым мужчинам – поэтому в нем ярко проявлялся дух «мачизма», поощряющий браваду и не вполне контролируемое насилие; в мирное время милитаризм его легко превращался в парамилитаризм. Характер фашизма определяли молодые мужчины, социализировавшиеся в институтах, где оправдание насилия и даже убийства было самым обычным делом. Однако схожесть ценностей милитаризма и парамилитаризма всегда давала фашизму возможность обращаться к самим вооруженным силам: не настолько, чтобы поднять их на мятеж, но настолько, чтобы внушить военным такую симпатию к себе, которая в решительный момент сможет парализовать армию.
Желающие покончить с классовой борьбой. Нигде фашизм не был ни исключительно буржуазным, ни исключительно мелкобуржуазным. Да, в Италии и, пожалуй, в Австрии у него чувствовались определенные классовые симпатии. Но в Германии после 1930 г. (если мы причисляем к нацистской партии отряды СА и СС) подобных симпатий не было. Фашистские перевороты в этих странах поддержали и высшие классы. В то же время румынские и венгерские фашисты особой поддержкой высших классов не пользовались, а сторонников себе вербовали скорее из пролетарских, чем из буржуазных кругов. Таким образом, классовый состав фашистского движения сложен и в разных странах заметно различается. Более устойчивые тенденции связаны с занятостью. По-видимому, чаще фашисты приходили оттуда, где не велась организованная борьба между трудом и капиталом. Реже это были городские, фабричные и заводские рабочие (исключение составляют Будапешт и Бухарест, где рабочие традиционно поддерживали «сильное государство»). Как правило, это не предприниматели, мелкие или крупные, и не управленческий слой. Однако нельзя назвать фашистов и маргиналами, людьми без корней. В межвоенный период их социальное положение было более или менее стабильно. Но со своей несколько отстраненной точки зрения они взирали на классовую борьбу с отвращением – и рады были отдать голоса за движение, обещающее положить ей конец. Разумеется, в большинстве случаев конца так и не случилось; и многие авторы отмечают напряжение между более радикальными рядовыми фашистами и более оппортунистическими лидерами, готовыми пойти на сговор с элитами. Так же и капиталисты, и представители «старого порядка» в разной мере готовы были идти на компромисс с этой новой для них идеологией. Однако, если мы принимаем убеждения фашистов всерьез, из этого следует, что фашизм был привлекателен именно для тех, кто глядел на классовую борьбу извне, восклицая: «Чума на оба ваши дома!»
Сторонники сильного национального государства. Бэкграунд фашистов выглядит неоднородным. Часто встречается военный опыт, высшее образование, работа на государство или военная служба, определенное географическое происхождение или религиозные симпатии. Для многих наблюдателей это подтверждает, что фашизм – движение «лоскутное» (таков самый распространенный взгляд на нацизм, как мы увидим в главе 4). Однако у всех этих пестрых атрибутов есть нечто общее: фашисты – «соль» нации и государства. Некоторые «национально-государственные» локации одинаковы во всех странах: прежде всего, это военные и ветераны, но также и госслужащие, учителя и работники физического труда в государственном секторе. Почти во всех странах, где фашизм был распространен массово, доля именно этих людей в фашистских движениях непропорционально высока. Другие характеристики варьируются от страны к стране. Так, индустриализацию столиц и их пригородов в Венгрии и особенно в Румынии проводило государство – поэтому здесь рабочие, даже трудившиеся на частных предприятиях, отличались более этатистскими взглядами. Религия важна почти везде – и почти везде поддерживает национал-этатизм (кроме Италии, где религия транснациональна). Евангелическая церковь в Германии 1925–1935 гг., православные верующие и духовенство в Румынии, католики в «австрофашизме» – все они поддержали фашизм, поскольку религия для них была тесно связана с чаемым национальным государством. В Германии роль религии менялась по мере преображения самого нацизма: среди исполнителей геноцида, в отличие от ранних избирателей нацистов, мы видим непропорционально большое число бывших католиков (этот феномен я продемонстрирую и объясню в своей следующей книге). В некоторых странах фашисты происходили в основном из исторического центра народа или государства; но чаще это были уроженцы «угрожаемых» приграничных территорий или беженцы с «утраченных земель». Далее мы убедимся, что все они были именно сторонниками сильного национального государства.
Очевидно, не все фашисты были выходцами из этих трех групп и не все представители этих групп были фашистами. Ценности и характер фашистов также не оставались неизменными. Простодушные избиратели, которые, подумав минут десять, голосовали за фашистов, ничем не напоминали элиту, годами выстраивавшую с фашистами отношения и заключавшую сделки. И ни те ни другие не были похожи на активных членов движения или боевиков, отдававших движению большую часть своего времени, энергии, а порой и рисковавших ради него жизнью. Кем же были они, эти активные фашисты?
Микроуровень: фашистские движения
Вступая в движение, фашист еще не был фашистом в полном смысле слова. Войти в движение можно было, даже если представляешь его себе довольно смутно: поддерживаешь несколько лозунгов, симпатизируешь харизматичному фюреру или дуче или просто идешь туда за компанию с друзьями. Большинство фашистов присоединялись к движению в юности – неженатыми, неопытными, с очень небольшим опытом взрослой общественной жизни. Фашистские партии и боевые отряды становились для них мощными средствами социализации. Эти движения дарили своим адептам гордое чувство исключительности и власти, строгую иерархию, культ великого вождя. Приказы надо было исполнять неукоснительно, дисциплине подчиняться безоговорочно. Прежде всего каждый должен был вносить свою лепту в общее дело. Так рождалось теплое чувство товарищества. Если движение запрещали, оно уходило в подполье, и общая тайна и опасность сплачивали его участников. Многие активисты теряли работу, попадали в тюрьму, бежали из страны. Это пугало и отталкивало слабых и робких – но лишь сильнее сплачивало оставшихся.
Так же действовал и парамилитаризм. В некоторых фашистских движениях (раннем итальянском или румынском) боевые отряды и были движением; в других (как у нацистов) они существовали наряду с партийными институтами. Боевики не щадили времени и сил, подчинялись жесткой дисциплине, но получали право на ограниченное групповое насилие. От них много требовали, но само это давление доставляло им радость. Физические лишения и опасности, суровые наказания, острое чувство товарищества, очень активная коллективная социальная жизнь – все это создавало для них своего рода «клетку», тотальный институт, по выражению Гофмана. Разумеется, кого-то это не устраивало; многие уходили. Но те, кто оставался, приобретали в этих боевых отрядах опыт фашистской социализации. Например, с 1934 по 1938 г. правительство преследовало австрийских нацистов. Многие бежали в Германию, вступили в СС или в Австрийский легион и превратились в тесно сплоченное сообщество: вместе работали, вместе пили в нацистских пивных, вместе спали в нацистских казармах[10]. Из этих «социальных клеток» фашистские лидеры и рекрутировали надежных, закаленных бойцов для выполнения особенно жестоких задач.
К насилию они были готовы. Для многих, причастившихся фашизму в юности, единственным известным взрослым образом жизни осталась война. Первое («фронтовое») поколение фашистов почти все побывало на фронтах Первой мировой; второе («домашнее») поколение во время войны еще училось в школе, хотя многие рвались в бой и исполнили свою мечту позднее, в парамилитарных отрядах, совершавших вылазки и налеты по всей Европе в первые послевоенные годы. Третье поколение фашистских рекрутов о войне знало уже лишь по рассказам старших – зато с восторгом отдавалось стихии уличного насилия. Старшие члены движения, уже прошедшие школу «насилия без войны», стали их наставниками. Более того: успешное и безнаказанное насилие вызывает у тех, кто его совершает, своего рода катарсис, чувство очищения и освобождения. Они выходят за рамки привычной морали, нарушают закон, проходят точку невозврата: все это усиливает коллективное ощущение, что они – элита, особые люди, над которыми обычные правила поведения не властны. Для этих молодых людей эффект насилия подкреплялся еще двумя отличительными свойствами их «банд»: мачистскими представлениями о мужественности, среди которых способность к насилию играла не последнюю роль, и обильными возлияниями, снимавшими все тормоза и запреты. Трудно представить себе фашистских боевиков без потасовок в пивных. Благодаря всему этому, прибегнув к насилию один раз, легче было обращаться к нему снова и снова.
Карьера в фашистском движении приносила материальную и статусную выгоду. По мере того как движение крепло и разрасталось, перед его участниками открывались новые горизонты власти, обогащения, социального роста. Однако карьера фашиста требовала не только умения приспосабливаться. Большинство в фашистских элитах составляли «закаленные» бойцы. Надежные и образованные становились «офицерами» фашизма, не столь образованные – «унтер-офицерами». На большинстве уровней «закаленные» фашисты превращались в элиту, отдающую приказы, способную социализировать новичков и обучить их «нормальному» фашистскому поведению. Фашистские движения шли по разным траекториям. Небольшие организации в северо-западной Европе зачастую возникали и быстро исчезали, не оставляя особого следа. Получив по зубам в первой массовой драке, многие благоразумно решали, что лучше им держаться в стороне. Но в пяти основных фашистских странах невозможно понять успех горстки в несколько тысяч фашистов, при равнодушии или неприязни миллионов, если не учитывать их чрезвычайно активную и жестокую гражданскую позицию.
Краткий обзор этой книги
Концептуальная рамка, очерченная выше, помогает нам понять, кем были фашисты. Дальше я расскажу о социальных кризисах и ответах на эти кризисы со стороны элит, о тысячах людей, присоединившихся к фашистским движениям, и миллионах тех, кто их поддержал. В следующей главе я рассматриваю межвоенные кризисы на макроуровне: почему половина Европы приняла фашизм, а другая половина встретила его враждебно? Думаю, ответ на этот вопрос мне известен; поэтому нет нужды рассматривать различия между враждебными фашизму странами северо-западной Европы. Вместо этого следующие семь глав я посвящаю другой половине континента – и пытаюсь объяснить, почему в одних странах восторжествовал фашизм, в других – иные авторитарные правые движения. Исходя из этого вопроса я выбрал для исследования шесть стран. В Италии, Германии (которой отведено две главы) и Австрии фашизм возобладал и пришел к власти без посторонней помощи. Еще в двух – Венгрии и Румынии – фашисты играли на равных в смертельной игре с другими авторитарными течениями. Наконец, последняя страна, Испания, где борьба между демократами и сторонниками авторитаризма проходила наиболее жестко, покажет нам, что происходило, когда авторитаризм оттеснял фашизм в тень. По методологии моя работа представляет собой почти исключительно вторичный анализ исследований, предпринятых другими учеными, у коих я в огромном долгу и безмерно им благодарен. Анализ фашизма в разных странах позволит мне сформулировать более общее объяснение возникновения фашистских движений и их прихода к власти: этому и будет посвящена заключительная глава.
Глава 2
Объяснение межвоенного подъема авторитаризма и фашизма
Введение: формирование сильных национальных государств
Чтобы объяснить фашизм, необходимо рассмотреть его в историческом контексте. На протяжении трех десятилетий он был лишь одним из вариантов более широкого политического идеала – авторитарного национального государства. А оно, в свою очередь, было лишь одной из версий господствующего политического идеала современности – сильного национального государства. Фашизм получил распространение только в Европе, где был встроен в единый географический блок авторитарных режимов. Поскольку другие европейские страны оставались либерально-демократическими, можно говорить о «двух Европах». Кроме того, период взрывного роста фашизма отмечен экономическим, военным, политическим и идеологическим кризисами. Итак, в этой главе мы обсудим формирование и подъем в Европе сильных национальных государств на фоне этих четырех кризисов.
Сила государства имеет два измерения: инфраструктурное и деспотическое (Mann, 1988). Эффективная инфраструктурная власть – это возможность государства проводить политику через инфрастуктуры, пронизывающие его территории. Инфраструктурно сильное государство может быть как демократическим, так и авторитарным. Демократические США обладают более сильной инфраструктурой, чем авторитарный СССР. Этот тип власти – власть «через» людей, а не «над» людьми. Но деспотическая власть дает государственным элитам возможность принимать решения вопреки воле своих граждан или подданных. Практически у всех современных государств инфраструктурная власть выше, чем у их исторических предшественников, а многие из них обладают и значительной деспотической властью. Сочетание значительного объема той и другой власти характерно для авторитарных государств ХХ века, которые я здесь и попытаюсь объяснить. Как возникало такое сочетание? Вот ответ: его породила чрезмерная приверженность к обычным политическим идеалам современности.
К началу ХХ века в Европе уже имелись суверенные национальные государства. Иначе говоря, каждое из этих государств претендовало на суверенную власть над определенными территориями, получая свою легитимность от «народа» или «нации», на этих территориях обитающей (хотя многие из них, разумеется, оставались мультиэтничными). Однако национальные государства молоды. Разумеется, уже с XVI—XVII веков монархи во внешней политике претендовали на суверенную власть, возникали «дворянские нации», а в религиозных войнах выковывались «нации духа». Но основная часть населения влилась в «нацию» совсем недавно. Вплоть до XVIII века государство, в сущности, делало очень немногое. Оно вело переговоры и локальные войны с соседними государствами, вершило суд и расправу на высшем уровне. Формально регулировало внешнюю торговлю и владело монополиями, которые, как правило, сдавало в аренду частным лицам. Некоторые государства контролировали цену на зерно, чтобы предотвратить голодные бунты. Только опираясь на устойчивую и послушную церковь, государство могло проникнуть в жизнь общества за пределами столицы и собственно королевских земель. Однако в XVIII веке государства монополизировали право на военное насилие и начали бурно развиваться. Около 1700 г. государство присваивало приблизительно 5 % ВВП в мирное время и 10 % во время войны. В 1760-е гг. этот уровень вырос до 15 % и 25 %. В 1810-е гг. – до 25 % и 35 % соответственно, а 5 % населения стали военнообязанными. Эти цифры (Mann, 1993, гл. 11) схожи с данными в период двух мировых войн и с высочайшими современными ставками налогообложения – в Израиле и в Северной Корее. Это сравнение позволяет нам понять размах изменений, произошедших в XVIII веке. Почти незаметное ранее, государство явило себя подданным в полный рост: сборщики налогов и армейские вербовщики вошли в каждый дом. Подданные очнулись от прежнего политического безразличия и начали требовать себе представительских прав. Так родилось членство в нации, гражданство – первый из политических идеалов современности.
Однако даже в XIX веке немногие видели в государстве путь к достижению важных общественных целей. Свобода обычно воспринималась как свобода от государства, а не благодаря ему. Лишь якобинцы эпохи Великой Французской революции сумели сформулировать представление о сильном государстве и активном гражданском участии как социальном и моральном идеале. Якобинцы потерпели поражение, но государство пошло окольным путем и начало укрепляться за счет развития индустриального капитализма. Государство оплачивало строительство дорог и каналов, брало на себя попечение о бедняках. Во Франции государство участвовало в общественных проектах в большей степени, чем в Великобритании или США, а в Германии протекционистская теория Фридриха Листа стала ответом на вызов, брошенный свободным рынком. К концу XIX века возникли новые экономические теории, требовавшие большего вмешательства государства. К этому времени государство строило железные дороги, занималось массовым образованием, здравоохранением, появились и первые социальные программы. Все это означало рост инфраструктурной власти. Народ охотно принимал эти блага, но не слишком охотно платил налоги, все больше людей начинали интересоваться народным представительством и правами граждан – словом, стремились сократить деспотическую власть государства.
Такая активность государства привела и еще к одному непреднамеренному результату – к возникновению консолидированных сетей общественного взаимодействия, «гражданских обществ», ограниченных государственными территориями. Отсюда родилось и чувство национальной общности: не столько идеология национализма, сколько понимание, что каждый из нас живет среди себе подобных, в одном обществе, под властью одного государства. В этот же период рос и укреплялся и откровенный национализм. В странах северо-западной Европы и в европейских колониях, где впервые утвердилась «власть народа», под «народом» поначалу понимались исключительно мужчины-собственники: за ними – дворянами, купцами, фабрикантами, ремесленниками и так далее – признавались различные интересы. Это сословие граждан в полном смысле слова было внутренне стратифицировано и существовало «поверх» низших классов, обладавших лишь некоторыми, далеко не всеми гражданскими правами. Народ или нация противопоставляли себя реакционным старым режимам, однако сами были далеко не однородны – и не обязательно враждебны другим нациям.
Однако в XIX веке выкристаллизовался и иной, более агрессивный национализм (Mommsen, 1990). До некоторой степени его можно объяснить тем, что представительское правительство начало восприниматься как власть всего народа, сообща владеющего свойствами и добродетелями, необходимыми гражданину. Особенно распространилось это представление на востоке Европы, где царили многонациональные династические империи: Османская империя, империи Габсбургов и Романовых. Конфликты между имперской властью и местными жителями под влиянием демократических требований претворились здесь в конфликты между предполагаемыми этническими/национальными общинами. Местные элиты, лишенные привилегий, требовали представительских прав для себя, но, сталкиваясь с давлением снизу, старались мобилизовать «весь» народ против имперской этничности и ее местных этнических клиентел. Так сбывались слова Коррадини о пролетарской нации, восстающей против своих угнетателей. Хорваты или словенцы ненавидели турецкое или сербское господство; румыны терпеть не могли венгров; словаки косо смотрели на чехов; и все они вместе проклинали господствующих немцев, русских или турок. Имперские нации – немцы, русские, турки (а впоследствии и венгры) отвечали им собственным контрнационализмом. Евреи, этот рассеянный по земле народ, повсеместно воспринимавшийся как угроза нации, встречали неприязнь со всех сторон. Однако антисемитизм был тесно увязан с другими националистическими конфликтами: чешским антисемитизмом двигали антинемецкие чувства, словацким – антимадьярские, а мадьярский и австрийский антисемитизм питался мечтами об имперском возрождении. Во всех случаях евреев ненавидели, ибо видели в них союзников национального врага. Национализм, поначалу идеалистический внутренний союз против феодальных правителей, быстро становился агрессивным и внутри, и снаружи, направленным против других наций.
Так возник органический идеал, в противоположность либеральному идеалу стратифицированного национального государства (или «этнический национализм» в противоположность «гражданскому»). Рассмотрим Австрию (Schmidt-Hartmann, 1988). В 1882-м трое молодых австрийских политиков разработали «Линцевскую программу» – теоретическую основу будущей Немецкой народной партии. Программа сочетала в себе немецкий национализм, всеобщее избирательное право и прогрессивное социальное законодательство. Она отвергала и либерализм, и капитализм свободного рынка, и марксистский социализм. Трое политиков заявили: в то время как либерализм отстаивает порядок вещей, в котором конфликт интересов возведен в абсолют, они предпочитают защищать «сущность» демократии. Легитимность власти, продолжали они, основана на единстве народа, на «общем благе», на «национальном интересе». Партия так и не появилась на свет. Троица раскололась, и каждый занялся созданием собственной партии. Виктор Адлер стал лидером социал-демократов, Карл Люгер – христианских социалистов, а Георг фон Шенерер – основателем будущей Всегерманской партии: трех массовых политических организаций межвоенной Австрии, породивших широкие народные движения, два из которых были фашистскими (подробнее об этом в главе 6).
Эти три молодых австрийца отстаивали органическую концепцию народа и государства. Народ, говорили они, един и неделим, целостен, внутренне неразделен. Поэтому государство не должно основываться на институционализации конфликта противоборствующих интересов. Единое национальное движение должно представлять весь народ – и преодолевать конфликты интересов между социальными группами внутри народа. Классовые конфликты, профессиональные интересы необходимо не примирять, а превосходить. Звучит красиво – но у этого прекрасного идеала есть своя темная сторона (намного подробнее мы обсудим ее в следующем томе). В любом государстве найдутся меньшинства со своими отличительными культурными особенностями. У некоторых из них есть культурные связи с тем или иным иностранным государством, где их этничность доминирует, которое они считают своей родиной. Органические националисты смотрят на таких людей с подозрением. Им представляется, что лояльность представителей меньшинств неполна, а значит, они не могут быть полноправными членами нации. Так органические националисты приходят к вере в существование: 1) общего национального характера, души или духа, отличного от духа других народов; 2) исключительного права государства на выражение этого духа нации; и 3) права исключать меньшинства с иными национальными характерами, которые только ослабляют нацию.
Все это знакомая нам история «двойного подъема» наций и современных государств – история, к описанию которой и я приложил руку (см. Mann, 1986, 1993: гл. 10–11). Однако укрепление внутренних национальных связей шло одновременно с развитием транснациональных межгосударственных отношений – индустриального капитализма и таких сопутствующих ему идеологий, как либерализм и социализм, а также с расширением культурных связей, подпитываемых представлением о европейской/христианской/ «белой» коллективной идентичности. Собственность повсюду оставалась преимущественно частной. Ни одно государство практически не вмешивалось в экономику, за исключением протекционистских тарифов на импорт, развития коммуникаций (особенно железных дорог) и регулирования банковской деятельности. В европейской глубинке потихоньку складывалось понятие государственных фондов развития, однако до 1914 г. эти фонды особой роли не играли. Таким образом, даже в период бурного развития национального государства экономика, по большей части, оставалась вне сферы его влияния. Большего от государства почти никто не ожидал.
Не ожидали большего и политики. До 1914 г. левые в большинстве своем были сторонниками децентрализованной демократии, а к государству относились амбивалентно. На крайне левом фланге остатки якобинства уступили место глубокому недоверию ко всем существующим государствам и поддерживающему их национализму. Социалистическая идеология признавала лишь транснациональные классы (хотя на практике случалось по-разному). Красноречивое молчание Маркса о государстве после революции, его бойкие заявления о том, что государство «отомрет», а национальности у рабочего класса нет вовсе, – яркий пример тогдашнего равнодушия левых к новой проблематике национального государства. Марксисты надеялись воспользоваться государством для изменения формы собственности, а затем от него отказаться. Анархо-синдикалисты считали, что вопрос государства для левых безопаснее вообще обходить стороной. В сущности, левые хотели, чтобы государство боролось с бедностью и вводило бесплатное образование. Однако довоенные социальные реформы проводили, как правило, не социалисты, а «буржуазные» леволибералы, в государстве чувствовавшие себя как дома. Так что увеличения мощи государства в целях экономического, культурного и нравственного развития желали не марксисты или левые синдикалисты, а немецкие «социалисты на [профессорской] кафедре», британские «новые либералы», французские республиканские радикалы, русское либеральное земство. Но для всех них увеличение роли государства было неотделимо от роста демократии. Деспотические функции государства они стремились сократить.
Иначе обстояло дело на правом фланге, в крайних националистических движениях, возникших еще до 1914 г. Они требовали от старых режимов национальной мобилизации для победы над разрушительными силами либерализма и социализма. Штернхелл подчеркивает: многие фашистские идеи имели хождение и до 1914 г. Однако, хоть они и увлекали некоторых интеллектуалов, массовости им недоставало; массовое движение изначально принадлежало левым партиям, успех которых затем удалось скопировать некоторым националистам. Старые режимы и церкви, контролирующие большинство государств, и в них – большинство избирателей, на массовую мобилизацию смотрели с подозрением. Народ безмолвствовал; от его имени говорили элиты. Как подчеркивает Эли (Eley, 1980), правые националистические группы влияния в Германии начинали тревожить местных консерваторов и дестабилизировать немецкую внешнюю политику, однако роль их во внутренней политике была куда скромнее. Самое массовое националистическое движение сложилось, быть может, в Австрии (Schorske, 1981: гл. 3). Хотя функции государства расширялись, большинство консерваторов вряд ли видели в государстве нечто большее, чем способ поддержания порядка и присоединения новых территорий. Правые, как и левые, не видели в государстве «носителя нравственного проекта» (по звучному определению Переса-Диаса). Националисты начинали преследовать меньшинства, раздавались голоса с требованием увеличить инфраструктурную власть государства. Деспотизм и авторитаризм воспринимались как характеристики «старых режимов», которые неизбежно отомрут с наступлением нового века. Немногие в 1914 г. могли бы предвидеть не только наступление фашизма, но и появление новых авторитарных государств.
Если бы Европе удалось сохранить мир, безусловно, расширение функций государства и его инфраструктурной власти продолжалось бы. Индустриальный капитализм по-прежнему нуждался бы в помощи государства. Получение избирательных прав рабочими и женщинами усилило бы социальную политику. В любом случае, сложился бы умеренный национал-этатизм, на полупериферии дополненный официальными идеологиями «догоняющего развития». Но вмешалась Великая Война. Она милитаризировала национальное государство и предложила экономическую модель того, как государственное планирование и активное вмешательство государства поможет достичь экономического успеха. Она предложила парамилитаристскую модель коллективного общественного действия, ослабила традиционный консерватизм, уничтожила главных соперников национального государства – многонациональные империи, усилила агрессивный национализм, направленный против «врагов». С приходом к власти в 1916 г. Ллойд-Джорджа, Клемансо и Людендорфа стало ясно, что новая война будет тотальной – не войной дворянских старых режимов, а схваткой целых народов, отмобилизованных войной и военной экономикой. Промышленники, профсоюзные лидеры, гражданские чиновники, генералы, политики стали винтиками одной государственной машины. В России, Австро-Венгрии и Италии это свершилось не слишком эффективно, и вина за это была возложена на мощь старых режимов (а также «непатриотическую» позицию местных социалистов). Даже невоюющие страны Северной Европы из-за блокады и подводной войны вынуждены были обратиться к жесткому государственному регулированию (в том числе к вводу продовольственных карточек – самому красноречивому примеру вмешательства государства в экономику). В Европе лишь нейтральные Испания и Португалия продолжали жить как прежде, сохраняя старые режимы и слабую государственность. Во всех остальных странах свободный рынок и частное предпринимательство были подчинены общенациональным целям. Так родился современный этатизм, а с ним и современный национализм.
После войны мобилизационные структуры военного времени были демонтированы, но инфраструктурно мощное государство осталось нетронутым. Было расширено избирательное право, ожидалось, что правительства возьмут на себя борьбу с послевоенной безработицей и жилищным кризисом. К политическому гражданству добавилось гражданство социальное. Среди технократов, в том числе экономистов, набирали популярность амбициозные идеи социального переустройства и экономического развития. На левом фланге социалисты возобладали над анархо-синдикалистами (за исключением нейтральной Испании) и начали рассматривать и революцию, и реформы как действия государства. Довоенные представления о развитии демократии в обход государства теперь казались бессмысленными. В России война, а затем Гражданская война превратила большевиков в ярых государственников. В других местах либерализм мутировал в социал-демократию, исповедовавшую умеренный этатизм.
Но наиболее драматически развивались события на правом фланге. Правые, в основном под этатистскими лозунгами, пришли к власти в половине стран послевоенной Европы. Возвышение их стало полной неожиданностью – ведь мирные соглашения 1918 г. заключали либералы. Президент Вудро Вильсон провозглашал пришествие «мировой демократической революции». Версальские миротворцы расчленили Австро-Венгрию и отчасти Российскую и Османскую империи на дюжину предположительно демократических государств. Правили в них, как и встарь, титульные народы, однако права меньшинств гарантировались в конституциях. Некоторые либералы и социалисты надеялись даже, что вскоре этому примеру последует и остальной мир – колонии и зависимые государства. Казалось, воцарился новый мировой порядок – эпоха умеренных демократических национальных государств.
На первый взгляд так оно и было. Окончилась послевоенная смута, и Европа устремилась по пути прогресса. К концу 1920-х из всех двадцати восьми европейских государств лишь в одном не было конституции, узаконивающей парламентские выборы, партийную конкуренцию и гарантии для меньшинств. Правда, не везде избирательное право распространялось на женщин (а также на многих мужчин), исполнительная власть часто вступала в конфликт с законодательной, политическая практика нередко шла вразрез с конституционными нормами. Но либеральная демократия оставалась идеалом – и, казалось, уже стояла на пороге. Даже единственное исключение, Советский Союз, позиционировал себя как более демократическую, истинно демократическую страну. Перспективы умеренного национализма были не столь радужными. Миллионы беженцев – национальных меньшинств возвращались на родину под давлением своих бывших государств (об этом я расскажу в следующем томе).
Но прежде всего все великие державы искренне верили, что XX век пройдет под флагом либеральной демократии.
К концу ХХ века в Европе, как и на Западе в целом, либеральная демократия действительно победила. Северо-запад Европы уже много десятилетий остается твердо либеральным или социал-демократическим, как и политические институты (вначале – только для белых) в основных бывших колониях. Последний из авторитарных режимов юга Европы пал в 1975 г. Коммунистические режимы востока рухнули в 1989–1991 гг. К концу тысячелетия все европейские страны стали формально многопартийными демократиями, хотя в некоторых посткоммунистических странах легитимность правительства вызывает сомнения, а межэтнические противоречия порой выходят на поверхность. И все же Югославия для большинства европейцев выглядит чем-то чуждым и исключительным. Демократию оказалось трудно экспортировать в другие части света, однако на Западе она главенствует.
Но между 1920 и 1945 гг. либеральная демократия отступала и несла тяжелые потери в боях с авторитаризмом. К 1938 г. в пятнадцати из двадцати семи парламентских стран Европы правили диктаторские режимы: большинство из них выступали от имени единой органической нации и притесняли меньшинства. На карте 2.1 обозначены годы переворотов и захвата власти. На других континентах четыре бывшие британские колонии с большинством белого населения – США, Канада, Австралия и Новая Зеландия – обладали демократией только для белых (лишь в Новой Зеландии у большинства аборигенов имелись представительские права; в Южной Африке и в Родезии установились безупречные демократии, но только для белых). Две крупнейшие азиатские страны, Китай и Япония, подпали под власть авторитарных правительств; в Латинской Америке относительно демократическими оставались лишь Уругвай, Колумбия и Коста-Рика, в остальных же странах форма правления была неустойчивой. Таким образом, в межвоенный период в Европе сформировалось два приблизительно равных по силам глобальных блока, либерально-демократический и органически-авторитарный. Оба стремились к большей инфраструктурной власти государства, но лишь последний увеличивал и деспотическую власть. Дело окончилось тотальной войной между ними. Как объяснить эту межвоенную победу авторитаризма в половине (но не во всех) более или менее развитых стран Европы и мира? Ответ на этот предварительный вопрос необходим нам для того, чтобы ответить на следующий: как возник фашизм? Первые ключи к ответу дает нам карта Европы.
Карта 2.1. Две Европы между мировыми войнами
География: две Европы
На карте 2.1 – политической карте межвоенной Европы – мы отчетливо видим два субконтинента, «две Европы»: одну – либерально-демократическую, вторую – авторитарную. Эти две Европы различаются и географически: одна занимает северо-запад материка, вторая – центр, юг и восток. Кроме Чехословакии (лишь незначительно ограничивавшей в правах немецкое и словацкое меньшинства), к либерально-демократическому блоку относились одиннадцать стран северо-запада: Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия, Ирландия, Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Швейцария и Франция. Почти все остальные либеральные демократии в мире представляли собой бывшие британские колонии. Таким образом, либерально-демократический блок включал в себя три социогеографические зоны: «север», «англосаксов» и «нижние земли»[11], связанные между собой морской торговлей и схожими политическими и идеологическими особенностями. Во всех этих зонах еще до 1900 г. утвердилось конституционное правление. Англосаксонский мир говорил по-английски; северные страны (кроме Финляндии) общались на понятных друг другу языках одной языковой группы; и на всем этом пространстве, кроме Франции, Бельгии и Чехословакии, элиты легко могли разговаривать друг с другом на английском языке.
Все эти регионы, кроме Ирландии, были весьма деполитизированы. Десять из шестнадцати были в основном протестантскими. В Бельгии, Чехословакии, Франции и Ирландии большинство было католиками, в Нидерландах и Швейцарии две религии сосуществовали на равных. В блок входили все европейские страны протестантского большинства, кроме Германии, Эстонии и Латвии; а кроме того, все протестантские страны, в которых за предыдущее столетие резко ослабла связь между церковью и государством. В Нидерландах и Швейцарии католическая церковь также была отделена от государства, а Бельгия, Чехословакия и Франция были достаточно секулярными католическими странами (чешская церковь вошла в конфликт с Ватиканом). Как видим, северо-запад объединяла не только идея либерально-демократического национального государства; его географическая связанность обеспечивала беспрепятственную циркуляцию общих идеологий. Далее мы увидим, что эта культурная солидарность оказалась весьма весомым фактором.
Большая часть органически-авторитарной «семьи» также представляла собой единый географический блок, хоть и разделенный на два исторически различных социокультурных сегмента: «романо-средиземноморский» и «славянский/восточно- и центрально-европейский». Их языки сильно разнились, общего экономического пространства не было. Однако эти страны (кроме большей части Германии, Эстонии и Латвии) сохранили свои исконные христианские церкви: в этот блок входило большинство католических стран и все православные страны в Европе. Кроме того, в этот блок входили все европейские страны, не считая Ирландии, где церковь сохраняла сильные связи с государством. Это культурное родство в одних случаях и культурный антагонизм в другом во многом определили специфику развития авторитаризма и фашизма на этих территориях.
По «линии соприкосновения» двух Европ мы можем определить и «зону разлома», обозначенную на карте. В основном она проходит по границе между Францией и Германией. Эти две страны могли склониться на ту или другую сторону. Франция могла стать авторитарной страной, Германия вполне могла сохранить парламентскую систему, ведь борьба между демократическими и авторитарными силами шла в обеих странах на протяжении десятилетий. Основные довоенные теоретики протофашизма (Моррас, Баррес, Сорель) были французами, и именно в довоенной Франции имелись сильнейшие на всем северо-западе радикальные партии справа и слева. По мере укрепления нацизма в Германии нарастала растерянность и раскол в рядах французских консерваторов. Все громче звучали голоса фашистов. Если бы в 1940 г. во Франции (естественно, не оккупированной) были проведены выборы, полуфашистская Французская социальная партия (PSF) вполне могла бы получить больше 100 мест в парламенте, полагает Суси (Soucy, 1991). Позднее в стране пользовался немалой поддержкой коллаборационистский режим Виши. И наоборот: Веймарская республика была весьма демократична и при других обстоятельствах могла бы и уцелеть. Исход политической борьбы во Франции и Германии можно объяснить и географическими факторами: политическая «сердцевина» каждой из этих стран находилась ближе к противоположному географическому блоку. Париж и окружающая его провинция Иль-де-Франс находятся на севере, наиболее экономически развитые районы Франции – на северо-западе. Франция была интегрирована и в северо-западную британско-нидерландскую рыночную/демократическую/протестантскую зону, а не только в более авторитарный католический юг. И напротив, сердце Германии лежало в Берлине и Пруссии, на востоке страны. Немецкая история часто предстает как безостановочная экспансия авторитарной Пруссии на более либеральный юго-запад и на северные торговые порты.