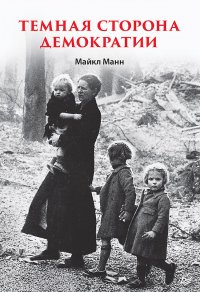
Читать онлайн Темная сторона демократии бесплатно
- Все книги автора: Майкл Манн
Идеи Майкла Манна потрясают своей значимостью, и вся эта книга – блестящая, убедительная, провокационная – полна ими. Начиная уже с заглавия – «Темная сторона демократии», – она перевернет наше представление о добре и зле в истории человечества, прольет свет настоящего на события давно минувших дней. Манн сочетает глубокую проницательность и умение делать безупречно логичные выводы. На каждой странице читатель найдет, чем восхититься, о чем поспорить и над чем подумать. Эту книгу будут обсуждать еще не один год, но чем больше будет сломано копий, тем больше вопросов у нас останется.
Бен Кирман, Йельский университет
Один из наиболее видных политологов нашего времени обратился к изучению самой темной страницы политической жизни: кровопролитным этническим конфликтам. Великолепно написанная книга Манна представляет собой актуальную, смелую – кто же захочет поверить, что, например, этнические чистки прикрываются демократией? – и бесспорно убедительную работу. Горькая пилюля, но принять ее необходимо.
Дуг Мак-Адам, Стэнфордский университет
Новая книга Манна удивляет полнотой охвата и смелостью доводов. Ее главный тезис – что этнические чистки идут рука об руку с религией спасения и современной демократией – бросает вызов широко распространенному мнению, будто жестокость объясняется обострением давно тлевшей национальной ненависти или циничными манипуляциями властей предержащих. Глубокое исследование, изложенное живым языком, на сегодня эта книга одна из лучших в своей области.
Бет А. Симмонс, Гарвардский университет
Извращения демократии: Майкл Манн и его теория этнических чисток
В превращении злодеяний в предмет ученых штудий есть нечто сомнительное. Под исследовательской лупой кровавые зверства утрачивают свою инфернальную энергию, становясь всего лишь объектом в ряду прочих объектов анализа. Вдумаемся, что означало появление академической дисциплины под названием «исследования геноцида». Нечто запредельно иррациональное сделалось этапом развития научной рациональности.
Социолог, берущийся за изучение подобных «предметов», рискует попасть в моральную и эпистемологическую ловушку, описанную в свое время Зигмунтом Бауманом. Объясняя геноцид, социальные ученые невольно его стерилизуют, выхолащивают его беспокойное для нашей совести содержание. «Все это случилось “там” – в другое время и в другой стране. Чем больше “виноваты они”, тем в большей безопасности “мы” – остальные, тем меньше нам приходится защищать свою безопасность. Когда распределение вины приравнивается к выяснению причин, чистота и здравомыслие образа жизни, которым мы так гордимся, не вызывают никаких сомнений»[1].
Автор книги, русский перевод которой читатель держит в руках, знает о неудобствах, о которых предупреждал знаменитый социолог. Майкл Манн пускается в свое теоретическое предприятие, опираясь на колоссальный пласт научной литературы (отчасти способствующей «рационализации» иррационального). Но за его плечами не только тонны ученых сочинений. За его плечами новый печальный опыт массового уничтожения людьми друг друга, накопившийся за четверть века после публикации эпохального труда Баумана.
Нашу презентацию книги Майкла Манна мы построим следующим образом. После краткой справки об авторе мы поговорим об академическом контексте, в котором вышла его работа, затем перейдем к ее концептуальным особенностям и аналитическим достижениям (и, возможно, упущениям), после чего затронем моральные и правовые аспекты поднятой им проблематики.
Контекст
На момент написания этой книги Майкл Манн – британский социолог, живущий в Америке, составил себе научную репутацию двумя томами фундаментального исследования об «Истоках социальной власти» и целым рядом публикаций, к которым его коллеги по академическому цеху продолжают обращаться на протяжении десятков лет[2].
Труд Манна в определенной степени продолжает традицию, заложенную так называемыми genocide studies (исследованиями геноцида) – междисциплинарным направлением, объединяющим усилия историков, социальных антропологов и этнографов, политологов, социальных психологов, юристов и социологов[3]. Однако Манн не стал ограничивать свой предмет геноцидом. Возможно, потому, что он намерен исследовать этнически мотивированное насилие в самых разных его формах (хотя очевидно, что предмет его интереса образуют именно «кровавые этнические чистки», то есть нечто очень близкое геноциду). Понятие «этническая чистка» не случайно отсутствует в юридическом языке. Оно не может быть сколько-нибудь строго определено. В его объем входят и насильственная ассимиляция, и принуждение к эмиграции, и «обмен населением» между странами (по образцу тех, что произошли между Грецией и Турцией по окончании Первой мировой войны). Такие процессы, как правило, либо не связаны с физическим насилием, либо связаны с ним в минимальной степени. Далее следуют депортации, которые опять-таки могут проходить и в относительно мягких формах, и осуществляться предельно жестоким образом – так, что высылка людей из мест их проживания ведет к их массовой гибели от голода, холода и болезней. И наконец, апогей этнических чисток, их, так сказать, высшая стадия – массовые кровопролития (от избирательных убийств с целью устрашения до организованного уничтожения целой этнической группы, включая детей и престарелых). Не используя слова «геноцид», Манн получает возможность обойти неизбежные трудности терминологического свойства. Коль скоро этот термин вошел в международное право, квалификация того или иного деяния как геноцида – процедура крайне ответственная и очень кропотливая (и, как мы знаем из работы международных трибуналов по военным преступлениям, не свободная от обвинений в политизации)[4].
Вместе с тем от внимания читателей не скроется то обстоятельство, что предмет аналитического интереса Манна выходит за пределы этнически мотивированного насилия. Его взор прикован к феномену куда более широкому. Это массовое насилие как таковое, будь то сталинский ГУЛАГ, геноцид, учиненный красными кхмерами в Камбодже, или многомиллионные жертвы в Китае эпохи правления Мао – отчасти напрямую связанные с уничтожением тех, кто считался классовым врагом, отчасти ставшие непреднамеренным следствием революционных экспериментов. (Главы, посвященные большевизму, маоизму и режиму Пол Пота, явно выбиваются из канвы повествования, которое, как следует из названия, посвящено этническим чисткам. Но об этом ниже.)
При всей амбициозности и оригинальности исследовательской заявки Манна его книга вполне органично вписывается в контекст существующих разработок на таких полях, как уже упомянутые genocide studies, а также теория конфликта и социология насилия[5].
Как бы то ни было, гигантский объем проведенной Манном работы не может не впечатлять. Едва ли найдется профессиональный отклик на его книгу, в котором коллеги не отмечали бы почти невероятную эрудицию автора[6]. По способности оперировать информацией, касающейся столь разных географических и исторических областей, Манн, пожалуй, не знает себе равных среди ныне здравствующих макросоциологов (здесь впору вспомнить недавно ушедшего из жизни Чарльза Тилли).
Концепция
Когда-то Современность отождествляли с просвещением и прогрессом. После холокоста стало окончательно ясно, что это иллюзия. Современность несет с собой проявления бесчеловечности, которые в досовременных обществах были немыслимы. На сегодня этот тезис не только бесспорен, но и тривиален[7]. Манн идет дальше, увязывая геноцид не просто с модерном, а с сопровождающей модерн формой политического устройства – демократией. Он утверждает, что кровавые этнические чистки, включая геноцид, имеют отношение к сути того, что называется демократией.
Рассмотрим, какие доводы он приводит в пользу этого утверждения.
Они носят преимущественно исторический характер (недаром наш автор позиционирует себя как исторический социолог). Что касается аргументов собственно теоретического свойства, то они подчинены историческому изложению, вплетены в его ткань так, чтобы читатель сам сделал нужные выводы. Манн редко заходит на территорию теоретический социологии, политической теории и политической философии, ограничиваясь общими отсылками к классикам – в частности, к знаменитому пассажу из «Демократии в Америке» Алексиса де Токвиля о «тирании большинства». Из современных авторов Манн видит своего единомышленника в Андреасе Виммере, несколькими годами ранее выпустившем книгу «Националистическое исключение и этнический конфликт: тень современности»[8].
Теоретические аргументы Манна вряд ли можно счесть убедительными. Во-первых, они не всегда безукоризненны с чисто логической точки зрения. В самом деле, как следует понимать высказывание «феномен кровавых чисток современен – потому, что он представляет собой темную сторону демократии»?[9] Современность феномена этнических чисток, их принадлежность к модерну – более или менее очевидный факт[10]. Но где очевидность того, что этот факт вытекает из демократии? Если между демократией и этническими чистками существует связь, носит ли она каузальный характер? Во-вторых, бросается в глаза, что значение понятия «демократия» на страницах книги остается размытым. Автор – похоже, намеренно – не проводит различия между демократией как идеалом общественного устройства (идеалом равенства) и демократией как формой правления. Одно дело – горизонт общественных ожиданий, и совсем другое дело – институциализированное государственное устройство. Манипулирование этой многозначностью «демократии» и дает Манну возможность вбросить в академическое поле столь цепляющий внимание тезис.
Обратимся, однако, к историческим аргументам автора. Первые примеры этнических чисток дают поселенческие общества Северной Америки и Австралии. То, что сделали европейские переселенцы в XVII–XVIII столетиях с коренным населением этих территорий, было, по сути, геноцидом или действиями на грани геноцида. Между тем несомненно, что общества, осуществившие геноцид, были устроены демократически. Массовое этническое насилие в посткоммунистической Югославии развернулось тогда, когда у народов – прежде угнетенных авторитаризмом – появилось право голоса. За этническими чистками 1990-х стояли демократически избранные правительства республик, возникших на развалинах СФРЮ.
На этом, правда, историческая очевидность тезиса о связи этнических чисток с демократией едва ли не исчерпывается. Ведь бˆольшая часть этнических чисток – как анализируемых в книге Манна, так и упоминаемых им вскользь – проведена отнюдь не демократическими режимами. Ни Османская Турция, ни царская Россия (изгнание черкесов после Кавказской войны и еврейские погромы), ни кайзеровская Германия (геноцид народа гереро в Западной Африке), ни нацистский Третий рейх, ни его пособники в Восточной Европе, ни Руанда накануне 1994 г. демократиями не были.
Манну это, разумеется, известно. Отдает он отчет и в том, что коммунистические режимы в СССР, Китае и Камбодже также нельзя назвать демократиями. Тем не менее он считает нужным отметить, что массовым уничтожениям во всех случаях предшествовало демократическое движение. Младотурки начинали с веры в возможность полиэтнической республики, основанной на принципах веротерпимости; большевики искренне считали, что власть, которую они захватили в 1917 г., есть выражение воли народа; китайские коммунисты в конце 1940-х и красные кхмеры в Камбодже в начале 1970-х опирались на революционный подъем масс, а значит – на демократическое движение. Последовавшие затем кампании массового террора были результатом краха революционных проектов, неудачей процесса демократизации. Отсюда и вытекает вывод Манна: «чистки» (впрочем, по классовому, а не по этническому признаку) в сталинской России, маоистском Китае и полпотовской Камбодже, равно как и геноцид армян в Турции 1915 г., связаны с демократией хотя бы потому, что представляли собой ее извращение.
Но здесь мы упираемся в принципиально важный пункт: речь идет не о демократии, а о демократизации; не об имплицитном свойстве данной формы правления, а о провале усилий эту форму установить.
За исключением случая с европейскими колонистами (или, скажем прямо, колонизаторами) в Северной Америке и Австралии, все рассматриваемые Манном истории – это истории о несостоявшемся демократическом государстве[11], о неудаче попыток установить политико-правовой порядок, основанный на принципе народного представительства и народного волеизъявления.
Поэтому эффектная сентенция Манна о том, что «демократия убила Югославию», не попадает в цель. Югославию убила не демократия, а нечто совсем иное. Ее убил хаос, воцарившийся в результате коллапса авторитарного режима. На развалинах федерации, созданной Тито и утратившей привлекательность для граждан в 1980-е, возникло несколько центров силы (подчеркнем, не только политической, но и военной), вступивших в борьбу за контроль над территорией. В условиях хаоса можно вести речь лишь о беспощадной борьбе за власть, об устрашении и циничных манипуляциях, но никак не о демократической власти. Короче говоря – об анархии и популизме, а не о демократии.
Теория и эмпирия
Источник этнически мотивированного насилия Манн усматривает в перетолковании «демоса» в «этнос». Если народ понимается не как гражданско-политическое сообщество, а как органическое целое, то отсюда необходимым образом вытекает подозрительное отношение к тем группам, которые этому органическому целому не принадлежат. Если наш народ – это своего рода коллективная личность, то соседний народ, с которым мы находимся в напряженных отношениях, – это другая коллективная личность, наделяемая самыми несимпатичными чертами.
Разумеется, идеи сами по себе недостаточны для того, чтобы случилось массовое насилие и тем более кровопролитие. Но идеи радикального этнонационализма служат приглашением к социальному исключению тех, кого считают этнически чуждыми, почвой, на которой произрастают семена отчуждения и ненависти. В ситуации же, если конфликт произошел и вступил в насильственную фазу, эти идеи становятся легитиматором любых злодеяний.
Итак, идеологическим условием этнических чисток является этнический национализм вообще и так называемый «органический национализм» в частности[12]. Здесь, однако, возникает следующая трудность и концептуального, и аналитического свойства: а как быть с коммунистическими режимами, идеологией которых был интернационализм[13]? Это затруднение Манн пытается снять следующим образом. Он вводит расширенную интерпретацию органической общности. Это уже не этническая группа (то есть совокупность людей, объединенных общей историей и культурой), а класс. Народ выступает в результате не как «этнос», а как «пролетариат».
Таким образом, извращение демократии может происходить двумя путями. Первый – через органический национализм (который подменяет демос этносом); второй – через подмену народа как демоса народом как братством трудящихся (из которого изначально исключены все «эксплуататорские классы»). В обоих случаях имеет место органицистская редукция содержания общности, именуемой «народом». Если народ – это не совокупность граждан, а сообщество происхождения, то все, кто по своему происхождению являются чужими, подлежат исключению. А отсюда совсем недалеко и до истребления. Применительно к первым десятилетиям советской власти это сначала «лишенцы» (люди, пораженные в правах на основании принадлежности к неправильному классу), затем «кулаки», затем «контрреволюционные элементы», судьбой которых был в лучшем случае срок в ГУЛАГе[14].
И все же добавление трех коммунистических режимов к исследованию «этнических чисток» не кажется обоснованным. Что ни говори, а сталинский, маоистский и полпотовский террор – это не этнические чистки. Это классовые чистки.
Читатель, дошедший до соответствующих глав книги Манна, вряд ли избавится от впечатления о размытости объекта исследования. Пожалуй, у автора был шанс добиться хотя бы относительной четкости аналитических рамок: обращаясь к истории большевистского, маоистского и полпотовского режимов, сфокусироваться на этнической составляющей творимых ими преступлений. Например, на депортациях этнических меньшинств в сталинском Советском Союзе, на жестоком, унесшем почти десятую часть населения, подавлении сопротивления тибетцев в маоистском Китае и т. д. Однако Манн не захотел ограничиться собственно «этническими чистками» – его взор прикован к советскому Большому террору и к китайским «большому скачку» и «культурной революции» как таковым. Короче говоря, Манн обращается к масштабным «классицидам» в контексте, предполагающем фокусировку на «этноциде».
Манн предлагает схему, объясняющую происхождение и динамику феномена этнических чисток «как таковых», независимо от того, где и когда они случились. Для того чтобы кровавое насилие на этнической почве произошло, необходимо следующее. Это наличие двух этнических групп (иногда, как в случае с Боснией, – трех), оспаривающих суверенитет на определенной территории; сопротивление более слабой стороны и иллюзия более сильной стороны относительно возможности успешно подавить это сопротивление; распад государства и радикализация правящих групп, опасающихся утраты власти; наличие внешнего игрока, потенциально или фактически поддерживающего более слабую сторону (Россия для армян в Турции, Сербия для сербов в Хорватии и Боснии, Бурунди для тутси в Руанде). Важным фактором сползания в кровавую этническую бойню является также нестабильная внешнеполитическая ситуация. Кризис государства вкупе с наличием по соседству держав, способных использовать внутриполитическую нестабильность в своих целях, – вот принципиальные условия эскалации насилия[15].
Правда, эмпирический материал, с которым работает Манн, столь богат, что не умещается в схему, требуя от автора постоянных уточнений и оговорок. Чего стоит хотя бы случай холокоста: здесь нет ни двух групп, оспаривающих суверенитет, ни ситуации распада государства (напротив, мощная государственная машина выступает организатором геноцида). Сплошным набором исключений из изложенных тезисов оказываются Индия и Индонезия – не случайно автор называет их «нетипичными случаями».
Элиты vs массы
Когда в начале 1990-х разразилась война в Югославии, реакцией западной прессы – а также, в определенной мере, аналитики – были рассуждения о «неизжитом варварстве» и «атавистических инстинктах». Манн категорически отвергает подобный подход. Попытка увязать этническое насилие со степенью «цивилизованности» ведет к стигматизации целых народов как недостаточно цивилизованных. Сегодняшние разговоры о примитивных народах есть не что иное, как отзвук популярных в XIX столетии мыслей о «неисторических народах» (вспомним, кстати, с какой охотой это выражение употреблял не только Гегель, но и Энгельс). Народы вообще не делятся на «цивилизованные» (и потому застрахованные от жестокостей гражданских войн) и «нецивилизованные». От соскальзывания в пучину кровавого насилия не застрахован никто. (Разве что можно говорить о механизмах перевода конфликтов в институциональное русло, которые удалось создать в Западной Европе и Северной Америке в течение второй половины XX столетия; но, прежде чем эти механизмы появились, было пролито много крови).
Вместе с тем Манн не принимает объяснений этнических чисток (и, шире, теорий конфликта), чрезмерно фокусирующихся на элитах. В таких теориях акты кровавого насилия предстают как результат манипуляций власть имущих, навязывающих простым людям чуждые им модели поведения.
Уйти от крайностей теории элит, с одной стороны, и от спекуляций о «национальном характере», с другой, Манну позволяет аналитическое вычленение конкретных агентов насилия. Таких агентов три: (а) радикализированные элиты; (б) парамилитарные формирования; (в) слои населения, активно поддерживающие лозунги радикального этнического национализма[16]. Кроме того, в определенных обстоятельствах появляется и такой агент насилия, как «обычные люди». Это никогда не большинство населения, но определенная его часть, которая подключается к «чисткам» в качестве мародеров, насильников и т. д., зная, что в обстановке хаоса это почти наверняка не грозит наказанием.
Отдельного разбора заслуживают и криминальные элементы – как правило, образующие на первых порах костяк «незаконных вооруженных формирований». Однако преувеличивать роль уголовников в этнических чистках не следует. Это, во-первых, некорректно с эмпирической точки зрения; имеющиеся данные не подтверждают тезиса, будто профессиональные преступники, намеренно выпущенные из тюрем, составляют до трех четвертей исполнителей кровавых чисток. Во-вторых, это неверно теоретически: переносить центр тяжести на уголовников означает не видеть всего объема проблемы, а именно относительно широкой поддержки радикального этнонационализма и вытекающих из него практик. За этими идеями стоит далеко не все общество – общество идеологически и социально-психологически раскалывается. Но все же за ними стоит достаточно значительная его часть, что позволяет говорить о «народной поддержке» политики «очищения» территории государства от «чужеродных элементов».
Кто виноват?
Перспектива социальной науки предполагает максимально возможную дистанцию ученого от исследуемого объекта. Свое «объяснение» кровавых этнических чисток Майкл Манн строит из позиции наблюдателя, запрещающего себе выказывать эмоции. Тем не менее моральное измерение проблемы не остается за скобками. Коль скоро мы констатируем, что деяния, о которых идет речь, представляют собой нарушение базовых нравственных законов, мы не можем не задаваться вопросом об ответственности за эти деяния[17].
Первый вопрос морального свойства, который неявно напрашивается в ходе исследования Манна, – это вопрос о субъекте действий, известных как кровавые этнические чистки. Кто совершает геноцид?
Ответ Манна однозначен: таким субъектом является не «народ» (турецкий, немецкий, сербский, хорватский, боснийский, хуту и т. д.), а конкретные индивиды и группы людей. Обычно их число не так уж велико, как может показаться. Счет палачей – самозваных или назначенных – идет на тысячи или десятки тысяч, что в процентном отношении составляет сравнительно небольшую долю от общества в целом. Убийство невинных, а особенно детей – занятие столь отвратительное, что обычный человек, даже находящийся в экстремальной ситуации, пытается его избежать.
«Отдав приказ на первый расстрел, майор Трапп впал в нерешительность и неожиданно разрешил отказаться от экзекуции тем, кто не хочет убивать. Из строя вышли только 12 человек. Они были переведены в другую часть и не получили никакого взыскания. Расстрелы множились, множились и сомнения».
«… перед каждой акцией исчезало 10–20 % личного состава, кто-то официально, а кто-то и самовольно. Кто-то прятался за спины своих, кто-то стрелял мимо. Некоторые оправдывались, ссылаясь на этику, другие признавались в своих симпатиях к социализму, третьи говорили, что не хотят связывать свою карьеру с полицией, но большинство объясняли свое поведение физическим отвращением к убийству, слабостью, разболтанными нервами. Но немногие подали рапорты о переводе».
«Многие ни морально, ни физически не могли свыкнуться со своей страшной работой. Когда психологический кокон, созданный идеологией, дисциплиной, товариществом, карьерой, все же лопался, помогал алкоголь. Он притуплял чувства и погружал в забытье».
В приведенных цитатах речь идет о нацистском Третьем рейхе. Моральный выбор существовал даже в условиях тотальной идеологической индоктринации.
Итак, геноцид осуществляет меньшинство. Поведение большинства позволяет охарактеризовать одно емкое слово: конформизм. Из опасений за карьеру, а иногда и за жизнь, львиная доля тех, кого называют обывателями, в любой стране и в любое время предпочитают отсидеться в стороне. Иногда они сочувствуют жертвам и даже им помогают, но, коль скоро такая помощь начинает грозить выживанию, снова начинают вести себя «как все».
Впрочем, всегда существует и еще одно меньшинство. Это люди, которые не поддаются националистическому угару и находят в себе силы на моральный поступок. Это те, кто помогает объектам чисток, рискуя собственной жизнью.
Второй вопрос морального – вернее, морально-психологического – свойства, который не может не задать себе исследователь кровавого этнического насилия, связан с «психотипом» исполнителей. Кем были люди, которые непосредственно участвовали в массовых убийствах (в расстрельных командах, в клиниках, проводивших эвтаназию, в концлагерях, отправлявших узников в газовые камеры, в бандформированиях, вырезавших целые деревни)? В распоряжении автора был довольно большой материал, хотя и недостаточный для однозначных и окончательных выводов. Лучше всего изучены случаи бывшей Югославии и нацистской Германии (Манн даже имел возможность работать с биографиями преступников, осужденных соответственно МТБЮ и Нюрнбергским трибуналом). Проведенные Манном разыскания – как на основе вторичной литературы, так и на основе первоисточников – не преподнесли ничего неожиданного по сравнению с тем, что мы знаем от Ханны Арендт[18]. Чудовищные злодеяния совершают обычные люди, находящиеся в необычных обстоятельствах.
Изучение биографий нацистских преступников привело Манна к следующей типологии. Это люди идеи, люди карьеры и конформисты. Первые убивали из фанатичной веры в химеру «этнической чистоты». Вторые делали это из циничного расчета – из надежды как можно выше подняться по социальной лестнице. Третьи пассивно приняли выпавшую участь, заглушая муки совести алкоголем. Они платили за свой выбор депрессией и психическими расстройствами; некоторые из них впоследствии покончили с собой. И среди «идейных», и среди «карьеристов» встречался своего рода подтип исполнителей, которые вершили расправы с удовольствием. Это откровенные садисты. Однако их, как правило, сторонилось собственное окружение.
Похожие типы можно выделить и на основании анализа биографий боевиков, действовавших в бывшей Югославии, и на основании – куда более скудных – сведений о вдохновителях и исполнителях геноцида в Турции 1915 г. и в Руанде 1994 г. Но, как показывает Манн, выделенные типажи редко встречаются в чистом виде. В реальной жизни происходит весьма причудливое переплетение различных мотивов (причем число их много больше трех).
Наконец, еще один вопрос, помещающий нас в моральную область, – вопрос о вдохновителях кровавых этнических чисток (кстати, термин perpetrators, используемый в оригинале, означает не только исполнителей преступления, но и его вдохновителей). Такими вдохновителями выступают, помимо политиков[19], интеллектуалы – писатели, поэты, драматурги, психоаналитики, режиссеры и т. д., участвующие в производстве идеологии органического национализма. Вбрасывая в массы смертоносные идеи «чистоты нации», они, как правило, не грезят о реках крови, которые эту чистоту обеспечат. То, что начинает происходить за стенами кабинетов, является непреднамеренным следствием романтически-почвеннических мечтаний.
«Зубной врач Бабич, психиатры Рашкович и Караджич, профессор биологии Плавшич не собирались убивать людей. Они просто надеялись, что угрожающая риторика поможет объединить своих и устрашить чужих».
Что делать?
После Нюрнбергского трибунала прогрессивная мировая общественность была серьезно озабочена вопросом: что нужно сделать для того, чтобы это не повторилось? На волне этой озабоченности – и решительного never more из уст влиятельных политиков – возникли нормы международного права, включившие в свой состав такие прежде неизвестные юриспруденции категории, как «преступления против человечности» и «геноцид».
Однако само понятие права приобретает смысл только при условии, что существует инстанция, способная применить санкции в случае его нарушения. Здесь и кроется неудобство: если национальное право располагает подобной инстанцией (ею выступает само национальное государство с его судебной системой), то у международного права такой инстанции нет. Его нормы поэтому на практике часто оказываются лишь декларациями – до тех пор, пока некие крупные политические игроки не продавят через ООН создание специального – обычно временного – органа. Этот орган, будь то миротворческие силы в зоне конфликта, призванные остановить массовое кровопролитие, или международный трибунал, собираемый (обычно с большим опозданием) с целью осудить наиболее очевидных виновников, редко бывают эффективными. Масштабное истребление людей успевает произойти прежде, чем в том или ином месте разместятся «голубые каски»; преступники же в большинстве случаев уходят от ответственности.
Проблема, как видно, упирается в коллизию универсальных норм и партикулярных интересов. Носителями первых выступает абстрактное мировое сообщество, носителями вторых – конкретные нации-государства. Победителями из этой коллизии чаще выходят последние. (Симптоматично, что ни США, ни Китай, ни Россия не признают юрисдикции Международного уголовного суда.) Вот почему, несмотря на все международные правовые документы, принятые после 1945 г., случились сначала Югославия, потом Руанда и Бурунди, не говоря уже о целой череде этнических чисток и геноцидов от Либерии до Восточного Тимора.
Итак, эффективному международному вмешательству, позволяющему остановить раскрутку маховика насилия, мешают национальные эгоизмы. Манн не проходит мимо того скандального обстоятельства, что геноцид в Руанде не был прекращен в том числе потому, что резолюция Совбеза ООН о вводе миротворческого контингента была заблокирована Соединенными Штатами. Означает ли это, что мир ни на шаг не продвинулся по сравнению со временами, когда у зачинщиков массовых истреблений людей были полностью развязаны руки?
Наш автор не определился с ответом на данный вопрос. С одной стороны, рассуждая из перспективы универсализма (и разделяющего универсальные ценности «мирового сообщества»), он обращает внимание на сдвиги, внушающие оптимизм. Да, сегодняшние механизмы противодействия преступлениям геноцида вызывают множество нареканий, однако невозможно отрицать, что эти механизмы созданы. Подстрекатели и исполнители геноцида больше не могут быть так же уверены в своей безопасности, как это было до середины XX века. Пусть большинству из них и удается спрятаться от ответственности, но у родственников жертв все же есть надежда, что меч Фемиды когда-нибудь настигнет хотя бы самых одиозных преступников. Да, государство, присвоившее себе функции мирового жандарма (США), само далеко не безгрешно, но лучше плохой жандарм, чем никакого[20]. Да, институты ООН постоянно пробуксовывают, но они худо-бедно работают.
С другой стороны, будучи трезвым аналитиком, Манн прекрасно осознает, что в самом сегодняшнем мироустройстве заложены глубочайшие диспропорции, в силу которых глобальный Юг живет в изоляции от глобального Севера. На Юге нет тех механизмов институционализации конфликта, которые удалось выработать на Севере. А потому многие страны мировой периферии балансируют на грани провала в очередную «черную дыру этнонационализма» и, добавим, религиозного фундаментализма. Обычным результатом таких провалов становится геноцид. Но дело, конечно, не просто в институтах и в дееспособности или недееспособности государств мировой периферии. Дело в структурных параметрах современной мировой системы. И до тех пор, пока эти параметры не изменены, международное право, по большому счету, бессильно.
Книга Манна на российской почве
Несомненно, что публикация компендиума Манна на русском языке – значимое событие для российского академического сообщества. Хотелось бы, однако, надеяться, что эта книга дойдет до более широкой аудитории. Это поспособствует оздоровлению атмосферы в отечественных публичных дебатах. Дело не только и не столько в характерном для них градусе агрессии (в последнее время просто зашкаливающем). Дело прежде всего в некоей нечувствительности к несправедливости, творимой по отношению к тем, кто не считается «своими». Если жертвы несправедливости не «мы», а «они», то несправедливость вообще перестает восприниматься как таковая. Мало того, если виновники неправедных деяний некоторым образом «наши», то эти деяния едва ли не становятся праведными. Их факт либо упорно отрицают, либо, если это невозможно, релятивизируют, указывая на то, что у противной стороны тоже рыльце в пушку. Как если бы преступления, совершаемые «ими», автоматически оправдывали преступления, совершаемые «нами».
Корни этой моральной невменяемости (равно как и правового нигилизма, на которое в свое время указывал один обитатель российского политического олимпа) уходят в эпоху большевизма. Сначала ленинский цинизм, позволявший объявлять черное белым – и наоборот, в зависимости от конъюнктуры, затем сталинский принцип коллективной вины. Человек, обронивший афоризм «сын за отца не отвечает», рутинным образом обрекал на чудовищные страдания и на смерть сотни тысяч ни в чем не виновных людей – как возмездие за вину их соплеменников. Казалось бы, очевидно: принцип коллективной ответственности абсолютно несовместим с базовыми нормами права и морали. Однако это совсем не очевидно немалому числу наших сограждан, считающих, что Сталин поступал правильно и что все свидетельства о преступлениях большевиков сфабрикованы врагами России с целью ее опорочить.
В этой связи достоинство труда Манна (и его потенциальная способность достучаться до нравственно оглохшей аудитории) заключается в равноудаленности автора от исследуемых материй. Сербы в его экспозиции в той же мере ответственны за преступления гражданской войны, что хорваты и боснийцы. Американцы в свое время провели столь масштабное уничтожение коренного населения континента, что на них могли равняться нацисты (Манн даже позволяет себе сопоставление речей американских губернаторов XIX в. с речами Гитлера – причем не в пользу первых). То обстоятельство, что армяне стали жертвами геноцида 1915 г., не отменяет их вовлеченности в кровавые погромы в отношении турок в предшествовавшие десятилетия. Равным образом холокост не дает евреям индульгенции на, мягко говоря, сомнительные акции по отношению к палестинцам (израильскую политику на оккупированных территориях Манн без обиняков приравнивает к этническим чисткам).
Есть, правда, в книге Манна пассажи, которые насторожат русского читателя. Они касаются Чечни. Я никоим образом не собираюсь заниматься той самой легитимацией «своих», о недопустимости которой только что шла речь. Я лишь хочу обратить внимание на два момента. Во-первых, эту историю Манн знает крайне поверхностно, что влечет за собой множество неточностей в ее изложении. Во-вторых, что гораздо более важно: в своем обращении с российским материалом Манн, к сожалению, следует клише, сложившимся в англосаксонской литературе со времен советологии. Эти клише провоцируют взгляд на современную Россию как на последнюю «мини-империю» и, соответственно, как на политическую аномалию. Нормой же, согласно данному подходу, является «национальное государство», либо моноэтническое, либо добившееся высокой степени этнической однородности за счет ассимиляции меньшинств. В такой оптике (а) любые полиэтничные государственные образования предстают как реликт, который рано или поздно отправится на свалку истории, и (б) любые социальные и/или политические напряжения и конфликты с этнической окраской кажутся проявлениями конфликта между «господствующим этносом» и этническими меньшинствами. Сепаратистские устремления со стороны элитных кругов внутри этих меньшинств выглядят в результате не иначе как естественное желание «угнетенных» покинуть «тюрьму народов». Манн не сумел или не захотел переосмыслить подобные стереотипы, что и повлекло за собой некоторую аберрацию его взгляда на чеченский вопрос.
Пожелать приятного чтения, учитывая непомерные эмоциональные издержки, которых требует усвоение этой книги, было бы ерничеством. Пожелаем читателю силы духа, уберегающей от циничного равнодушия, впасть в которое немудрено под грузом столь рутинно повторяющейся череды зверств. И еще раз выразим надежду на продуктивную общественную дискуссию.
Владимир С. Малахов, профессор, директор Центра теоретической и прикладной политологии РАНХиГС
Предисловие к русскому изданию
Я рад представить вниманию русского читателя свою книгу «Темная сторона демократии», которая, надеюсь, прольет свет на весьма мрачную тему. Изначально я и не думал посвящать ей отдельную книгу. Необходимость этого я понял в процессе написания другой работы, «Фашисты», рассказывающей о том, как набирали силу фашистские движения в период между двумя мировыми войнами. Тогда я решил продолжить исследование и изучить, как именно вели себя фашисты (и прежде всего нацисты) после прихода к власти. Зная, что никто еще не собирал воедино все биографии преступников, повинных в геноциде евреев, поляков и других народов, я разыскал и проанализировал огромное количество биографий нацистов; этот анализ лег в основу глав 8 и 9 настоящей книги. Однако тогда я понял, что нацисты были не единственными, кто виновен в кровавых этнических чистках Современности, и что к тому же их пример вовсе не самый типичный (поскольку евреи не представляли угрозы для немецкого общества и не требовали основания собственного государства, в отличие от некоторых других народов). Я начал исследовать другие примеры кровавых чисток; результатом этого стала книга, которую вы держите в руках.
Теория, лежащая в основе сравнительного и исторического социологического описания этнических чисток, изложена в главе 1, и нет необходимости пересказывать ее здесь. Однако замечу, что это кумулятивная модель: этнические чистки становятся тем вероятнее, чем больше разнообразных процессов, им способствующих, происходит в обществе. Эти процессы я перечислил в той же главе. Одним из основных таких процессов, предваряющих кровопролитие, является извращение демократии. Демократия – это власть народа, но в большинстве языков под этим словом могут подразумеваться два разных понятия. Известное нам слово «демократия» происходит от греческого слова демос, но под «демократией» понимали и власть народа в ином значении – этноса, этнической группы. Таким образом, власть народа может означать также и власть определенной этнической, языковой или религиозной группы над другими группами. В этой книге описано множество движений, утверждающих, что именно их этническая (религиозная, языковая) группа – «истинный» народ страны и что сами они воплощают «дух» народа. Так власть «истинного народа» – турок ли, сербов или хуту – становится извращением демократии. В социалистическом варианте этой же модели объявляется превосходство одного класса, как это было в Советском Союзе, при режиме Мао в Китае и (особенно) красных кхмеров в Камбодже, другие же классы подлежат уничтожению.
Здесь я бы хотел пояснить название, которое дал книге, чтобы избежать недопонимания. Я не утверждаю, что ответственность за кровавые этнические чистки лежит на давно сложившихся демократиях (за исключением многочисленных случаев колониальных чисток, когда представление о белых как об «истинном народе» оправдывало изничтожение других «рас». Примеры этого разбираются в главе 4). Начиная с главы 5 заголовок книги относится к демократизирующимся обществам в определенных условиях: когда две-три этнические, религиозные или языковые группы одновременно заявляют о своих (вроде бы разумных) правах на создание «собственного» государства на части или всей территории государства уже существующего. При этом более слабая сторона может получать поддержку из-за границы (в противном случае ей достанется роль граждан второго сорта, хотя до массовой резни дело и не дойдет). Такова предложенная мною модель.
К счастью для человечества, кровавые чистки не так уж распространены; намного чаще встречается обыкновенная дискриминация. Поэтому примеров чисток, которые мы можем рассматривать, не так много. К столь небольшому числу примеров количественный анализ неприменим. В связи с этим я постарался использовать при рассмотрении конкретных примеров метод «насыщенного описания» и особое внимание уделил предпосылкам, которые в итоге могут приводить к чисткам. Разумеется, я осознаю, что все разбираемые примеры отличаются друг от друга и в разной степени соответствуют предложенной мною модели. Но я предлагаю не универсальные социальные законы, а шаблоны, повторяющиеся в указанных случаях с определенными поправками. Тем не менее моя модель, как мне кажется, наилучшим образом объясняет и существующие в наши дни этнические чистки, и их крайнюю форму – геноцид.
Работу над «Темной стороной демократии» я закончил в 2004 г. Логично спросить, подтвердили ли последующие события мою теорию или же заставили меня изменить взгляды. Мой ответ однозначен: они подтверждают все, что я написал. Рассмотрим, к примеру, следующие три случая, ни один из которых пока не перерос в полномасштабную чистку, не говоря уже о геноциде, но в которых прослеживается явный рост этнической, религиозной, языковой или региональной напряженности. Ни в коем случае нельзя говорить о том, что демократизация стала единственной их причиной, однако и она сыграла не последнюю роль.
Начнем с Ирака. Как я и предупреждал в своей книге «Разобщенная империя», вышедшей одновременно с американским вторжением в Ирак в 2003 г., проведенные по инициативе США свободные выборы в Ираке превратились в голосование «за своих». Демос свелся к этносу. Ирак населяют три основных сообщества: шииты, сунниты и курды. Между ними были напряженные отношения еще при Саддаме Хусейне, но в целом, не считая отдельных возмущений, авторитарному диктатору удавалось держать их в узде, хотя он и отдавал явное предпочтение суннитам.
Но в 2005 г. проводимые под эгидой американцев выборы вылились в голосование сообществ, в котором противоречия между группами оказались важнее политической жизни. Шииты и курды оказались в большинстве, а сунниты в основном бойкотировали голосование. Около 90 % избирателей отдали голоса партиям, представляющим их общину. Статистика не сильно изменилась и на следующих выборах, даже несмотря на то, что сунниты приняли в них участие. В действительности шииты и сегодня составляют большинство в иракском правительстве, а курды доминируют в своем региональном правительстве. И те и другие претендуют на то, чтобы считаться «истинным народом»; сунниты с этим не согласны и ведут внутреннюю гражданскую войну. Опасность сложившейся ситуации отражается в возникновении и быстром распространении в суннитских областях Исламского государства. Все противоборствующие стороны получают сегодня значительную поддержку извне, что делает возможным продолжение их вооруженной борьбы. Это уже вылилось в несколько случаев избирательной резни и вызвало массовые потоки беженцев: меньшинства бегут на территории, подконтрольные их сообществам. Трудно сказать, было ли при Саддаме лучше, чем сейчас, но процесс демократизации провалился, поскольку он политизировал этнические и религиозные противоречия.
Второй пример намного ближе к России – это Украина. Признаки существования «двух Украин» были заметны уже давно: преимущественно украиноязычные запад и центр страны и преимущественно русскоязычные восток и юго-восток. Авторитарный советский режим в значительной степени подавлял трения между ними, а коммунистическая партия, после Второй мировой войны представленная во всех регионах, отрицала особенности этнической идентичности. Развал Советского Союза породил надежду на становление демократии. И действительно, с тех пор на Украине проводились вполне свободные (пусть и часто коррумпированные) выборы, на которых были представлены всевозможные партии. И все же эти выборы во многом напоминали регионально-языковые плебисциты, что еще больше политизировало и обостряло давние противоречия. Поскольку два блока пользовались примерно равной поддержкой, большинство выборов носили закрытый характер. Проигравшая сторона отказывалась признавать итоги голосований, объявляла их результатом предвыборных манипуляций и коррупции. В 2012 г. победу на парламентских выборах одержала пророссийская «Партия регионов», однако и прозападные праворадикальные партии получили немалые проценты. Так начался регионально-языковой конфликт.
В 2013 г. прозападные протестующие вышли на улицы, возмущенные внезапным отказом правительства от переговоров с Евросоюзом об ассоциации Украины с ЕС. На следующий год протесты переросли в гражданскую войну, прозападные группы захватили контроль над Киевом, а лидеры восточных регионов потребовали определенной степени автономии для их областей. В этой войне Киев получал ощутимую поддержку со стороны США и Европы, но когда стало казаться, что восток потерпит поражение в борьбе за автономию, Россия оказала ему военную поддержку.
В данном случае нельзя сказать, что борьба идет между двумя соперничающими сообществами, заявляющими права на одно государство. Восточные области борются всего лишь за автономию в составе Украины, в то время как Киев воспринимает это как угрозу целостности страны, которая может привести к требованию полной независимости в качестве самостоятельного государства. Восток воспринимает и автономию, и независимость как то, что остановит гражданскую войну, однако это приведет к созданию двух моноэтнических режимов и возможному притеснению меньшинств. Очевидно, что в данном случае такие демократические институты, как выборы и многопартийность, послужили усугублению языкового и регионального конфликта, приведшего к вооруженному противостоянию и большому числу жертв.
Третий пример – молодое государство Южный Судан, появившееся на свет в 2011 г. и терзаемое немедленно разгоревшимся конфликтом между племенами нуэр и динка, каждое из которых объявило себя «истинным» народом Южного Судана, единственно имеющим право на власть. Ряд местных выборов прошел в 2010–2011 гг. Большинство избирателей голосовали за кандидатов того же племени, что и они сами, и это только накаляло ситуацию. На 2015 г. были назначены государственные выборы, но они так и не были проведены. Этническая фракционность в правящей партии «Народное освобождение Судана» обострилась до предела в 2013 г., когда президент Салва Киир, принадлежащий к самой крупной народности в стране, динка, составляющей около 40 % населения, отправил в отставку своего заместителя Риека Мачара, представителя второй по величине народности, нуэр, включающей около 20 % суданцев. Огромное число племенных, клановых и родовых групп сплотились вокруг каждого из них, расколов общество на два лагеря: динка и нуэр. Моментально разразилась гражданская война, и обе стороны запятнали себя кровавыми этническими чистками. Тысячи были убиты, но намного больше людей стали беженцами и были вынуждены переселиться на территории, контролируемые их этническими группами. Поскольку численность групп примерно равна, геноцид маловероятен. Иностранная помощь приходит в виде закупок оружия: боевые вертолеты покупаются на Украине для правительственных сил динка, а ракетные установки и прочее противовоздушное вооружение закупается повстанцами нуэр. Кажется, ни одна из сторон не стремится к компромиссу.
Приведенные три примера характеризуют опасности демократизации в разделенных нациях. Стоит двум враждебным сообществам объявить о создании собственных государств, как демократизация превращается в угрозу их политизированным этническим, религиозным или языковым различиям, имеющим региональную основу. Я не утверждаю, что к кровавым чисткам приводит только это. Массовые убийства в Сирии – это во многом пример частичного распада авторитарного режима на фоне разделенного народа, однако здесь никакие демократические процессы еще возникнуть не успели. Тем не менее в моей книге нет недостатка примеров кровавых этнических чисток. По счастью, ни один из описанных выше случаев еще не перешел в геноцид. И хотя меня терзают сомнения, я все-таки надеюсь, что чем глубже мы понимаем предыдущие случаи кровавых чисток, тем лучше будем готовы предотвратить их в будущем.
Майкл Манн. Лос-Анджелес, 29 февраля 2016 г.
Предисловие к первому английскому изданию
Поскольку в своих прежних исследованиях я не обращал специального внимания на экстремальные формы человеческого поведения, мне не приходилось особенно много думать о добре и зле. Подобно большинству из нас, я считал их категориями совершенно отдельными – как друг от друга, так и от обыденной жизни. После занятий проблемой этнических чисток я уже не столь в этом уверен. Несмотря на то что я не стремлюсь размыть моральную границу между добром и злом, должен признать, что в реальном мире они взаимосвязаны. Зло не приходит из сферы, внеположной нашей цивилизации, из сферы, которую хочется назвать «примитивной». Зло порождается самой цивилизацией.
Бросим взгляд на высказывания трех видных исторических деятелей. Мы привыкли думать о президенте Томасе Джефферсоне как о воплощении просвещенного разума. И в самом деле, он заявлял, что «варварство» американских индейцев «оправдывает их истребление» во имя развития цивилизации. Столетие спустя президент Теодор Рузвельт – достойный современный человек – согласился с этим, сказав, что для индейцев «истребление было в конечном счете столь же благотворно, как и неизбежно». Еще через сорок лет третий лидер заявил: «Путь величия состоит в том, что нужно переступать через мертвые тела, чтобы создавать новую жизнь». Эти слова принадлежат шефу СС Генриху Гиммлеру, который справедливо считается воплощением зла. Тем не менее сам Гиммлер и его коллега Адольф Гитлер говорили, что идут по следам американцев. Как я попытаюсь доказать в этой книге, кровавые этнические чистки[21] представляют собой центральную проблему нашей цивилизации, нашей Современности[22], наших концепций прогресса и наших попыток установить демократию. Это наша темная сторона. Как мы увидим, исполнители этнических чисток не появляются в нашей среде как особая категория злодеев. Их создают главные конфликты Современности, вызывающие неожиданную эскалацию и фрустрацию, которые постоянно ставят людей перед необходимостью морального выбора. Некоторые люди подчас выбирают путь, прекрасно зная, к каким ужасным последствиям он приведет. Мы можем их обличать, но не менее важно понимать, почему они на это пошли. Что же до всех остальных (включая меня), то мы можем вздохнуть с облегчением, поскольку нам не приходится сталкиваться с подобными дилеммами – ведь многие из нас в этом случае оказались бы не на высоте. Тезис, на котором основана эта книга, состоит в том, что кровавые этнические чистки порождаются нашей цивилизацией и осуществляются людьми, большинство из которых похожи на нас.
Я обязан многим, кто помогал мне осуществить это исследование. В основном книга представляет собой вторичный анализ, основанный на фактологической работе, проведенной другими авторами. Моя работа посвящена самому мрачному аспекту этой страшной темы, поскольку сосредоточена на тех, кто осуществлял геноцид, а не на тех, кто героически сопротивлялся ему или даже достойно принял мученический венец. Многие из них могут вызвать лишь восхищение. Я говорю о душевной силе выживших, свидетельствующих о пережитых ими ужасах, очевидцев, подробно описавших то, что они видели, составителей независимых отчетов и инициаторов судебных расследований, а также ученых, посвятивших свою жизнь и работу осмыслению произошедшего.
В последние годы я получил немалую поддержку от Сойеровских семинаров по массовому насилию (Sawyer Seminars on Mass Violence), которые проходят в Центре продвинутых исследований в области наук о поведении (Center for Advanced Study in the Behavioral Sciences) в Пало Альто, Калифорния. Я благодарен Норману Неймарку (Norman Naimark), Рону Сьюни (Ron Suny), Стивену Стедмену (Stephen Steadman) и Бобу Зайонцу (Bob Zajonc), моим соорганизаторам, Дагу Мак-Адаму (Doug McAdam), директору Центра, а также всем студентам и приглашенным лекторам семинара. Все они внесли интеллектуальный вклад в создание этой книги.
Особую благодарность я испытываю к Хильмару Кейзеру (Hilmar Kaiser), чьи блестящие и эмоциональные работы, посвященные армянскому геноциду, послужили для меня источником вдохновения. Я благодарю также Реймона Кеворкяна (Raymond Kévorkian) за его любезное согласие предоставить мне свою важную неопубликованную рукопись[23] и Эдуль Бозкурт (Ödul Bozkurt) за ее переводы с турецкого. За помощь в работе над тематикой, связанной с нацистскими геноцидами, я благодарю Яна Кершо (Ian Kershaw) и Майкла Берлея (Michael Burleigh) за авторитетные указания по поводу проведения исследования, Кристофера Браунинга (Christopher Browning) и Джорджа Браудера (George Browder) за критические замечания по поводу раннего варианта рукописи, Мартина Таханя (Martin Tahany) за переводы с немецкого и Питера Стаматова (Peter Stamatov) за переводы с венгерского. Марк Луфер (Mark Lupher) высказал полезные критические замечания по поводу раннего варианта главы о чистках в коммунистическом мире. Александра Милицевич (Aleksandra Milicevic) часто исправляла мои ошибки, связанные с недостаточным знанием ситуации на Балканах, и я имел честь обсуждать со Скоттом Стросом (Scott Straus) его замечательное исследование по Руанде. Патриция Ахмед (Patricia Ahmed) помогала мне в сборе материалов по Индии и Индонезии. Я благодарен также Дэвиду Лейтину (David Laitin) за решительную и полезную критику основных положений моей работы, хотя и опасаюсь, что мои поправки так и не удовлетворили его. Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе предоставил мне щедрые фонды на исследование и талантливых студентов в помощь (здесь я упомянул четырех из них). Как всегда, Джон Холл (John Hall) оказывал мне общую интеллектуальную поддержку, тогда как Ники и Луиза Харт (Nicky and Louise Hart), а также Гарет и Лора Манн (Gareth and Laura Mann) помогли мне сохранить душевное равновесие во время занятий этой тяжелой темой.
Лос-Анджелес, декабрь 2003 г.
Глава 1. Общие положения
Батиша Ходжа, семидесяти четырех лет, сидела на кухне со своим мужем Изетом, семидесяти семи лет, и грелась у печки. Они слышали взрывы, но не понимали, что сербские войска уже вошли в город. Внезапно дверь распахнулась, в кухню ворвалось пять-шесть солдат, которые начали спрашивать: «Где ваши дети?»
По словам Батиши, они начали бить Изета «так сильно, что он упал на пол». Они били его ногами, требовали денег и информацию о том, где находятся сыновья пожилой пары. Они убили Изета, когда он лежал на полу и смотрел на них. «Они трижды выстрелили ему в грудь», – вспоминает Батиша. В присутствии умирающего мужа солдаты сняли с ее пальца обручальное кольцо.
«Я до сих пор чувствую боль», – говорит Батиша. Они стреляли в воздух и в конце концов пинками выгнали на улицу Батишу и десятилетнего мальчика, проживавшего с ними.
«Я даже не успела выйти из ворот, когда они все подожгли…» Тело ее мужа было охвачено пламенем. В этот момент она была парализована. Она стояла на улице под дождем без дома, без мужа, не имея ничего за душой, кроме одежды, которая была на ней. Кончилось дело тем, что мимо проехал трактор с незнакомыми людьми, которые втащили ее в машину. Дочь Батиши впоследствии нашла ее в лагере беженцев на севере Албании.
Нежно глядя на совместную фотографию с Изетом, Батиша бормочет: «Никто не понимает, что мы видели и что пережили. Только Бог знает»[24].
Вот так кровавая этническая чистка обрушилась на одно из семейств в деревне Беланица, что в Косово, в последний год ХХ века. Исполнителями были сербы, прибегавшие к убийствам и нанесению увечий, чтобы запугать местных албанцев и заставить их бежать. После этого страну могли занять сербы, как они говорили, «по историческому праву». Сейчас в Косово ситуация изменилась с точностью до наоборот. Начиная с 1999 г. албанцы изгоняют сербов. Косово сейчас очищено, но не от албанцев, а практически от всего сербского населения.
Измените название народов и стран, и такой инцидент мог бы произойти в течение нескольких веков практически везде на земном шаре – в Австралии, Индонезии, Индии, России, Германии, Ирландии, Соединенных Штатах, Бразилии. Этнические чистки – одно из главных зол Современности. Мы знаем теперь, что холокост евреев, хоть и уникальный в ряде отношений, не представляет ничего уникального как случай геноцида. К счастью, геноцид случается редко, но более «мягкие» и все-таки кровавые чистки происходят значительно чаще.
Эта книга предлагает объяснение подобных злодеяний. Для ясности я изложу его здесь вкратце, в форме восьми тезисов общего характера. Они следуют по порядку от наиболее общего к частному, от большого к малому, постепенно дополняя и развивая общую картину. Я надеюсь, что мне удастся обосновать их по ходу книги, подробно рассматривая худшие случаи чисток – те, при которых происходили массовые убийства.
Мой первый тезис относится к исторической эпохе, в которую кровавые чистки стали распространенным явлением. Кровавые чистки есть феномен современный, представляющий собой темную сторону демократии. Я хочу с самого начала пояснить, что не считаю их обычным спутником демократического способа правления. Лишь малое число демократических режимов запятнало себя кровавыми чистками. Я вовсе не отрицаю демократический идеал – напротив, я его поддерживаю. Однако демократия всегда предполагала возможность тирании большинства над меньшинствами, и эта возможность оборачивается зловещими последствиями в некоторых разновидностях полиэтнических обществ.
Этот тезис делится на две части – часть, относящуюся к Современности, и часть, относящуюся к демократии. Этнические чистки являются неотъемлемым признаком Современности. Хотя они были известны и в предшествующей истории (и, видимо, имели распространение среди крошечных групп, преобладавших в доисторические времена), именно в Новое время они стали более частыми и разрушительными. В ХХ в. в этнических конфликтах погибло более 70 миллионов человек – цифра, на фоне которой человеческие потери предыдущих столетий кажутся ничтожными. Кроме того, войны, которые ведутся конвенциональным оружием, во все большей степени делают своей мишенью целые народы. Если в Первую мировую войну доля гражданских лиц среди погибших не достигала 10 %, то во Вторую мировую войну она превысила половину, а в войнах 90-х гг. XX в. составляла более 80 %. Войны между государствами больше не являются основной причиной насильственной смерти; на смену им приходят гражданские войны, в большинстве случаев носящие этнический характер. В таких войнах погибло примерно 20 миллионов человек, хотя более точные цифры указать затруднительно (приблизительные оценки даны в: Chesterman, 2001: 2; Fearon & Laitin, 2003; Gurr, 1993, 2000; Harff, 2003; Markusen & Kopf, 1995: 27–34).
Когда я пишу эти строки (2003 г.), этнические и религиозные конфликты продолжают тлеть в Северной Ирландии, Стране Басков, на Кипре, в Боснии, Косово, Македонии, Алжире, Турции, Израиле, Ираке, Чечне, Азербайджане, Афганистане, Пакистане, Индии, Шри-Ланке, Кашмире, Бирме, на Тибете, в китайском Синьцзяне, на островах Фиджи, на Южных Филиппинах, на ряде островов Индонезии, в Боливии, Перу, Мексике, Судане, Сомали, Сенегале, Уганде, Сьерра-Леоне, Либерии, Нигерии, Конго, Руанде и Бурунди. Более чем в половине случаев имеет место серьезное кровопролитие. Когда вы читаете эти строки, один из этнических кризисов, вероятно, взрывается насилием на вашем телеэкране или на газетной странице, тогда как другие взрывы не вызывают достаточного интереса у журналистов. В XX в. хватало ужасов. Видимо, XXI в. будет еще хуже.
Травма 11 сентября 2001 г. и вызванная ею «война с террором» довели факт кровавых этнических и религиозных конфликтов до сознания всего мира. Особенно сильным был шок в процветающих странах Севера, которые в течение последнего полувека были защищены от подобных ударов. Ни террористический акт 11 сентября, ни ответные удару по Афганистану и Ираку не имели своей целью этническую чистку, но они сразу же вписались в контекст этнорелигиозных конфликтов, чреватых чистками, – между израильтянами и палестницами, суннитами и шиитами, иракцами и курдами, русскими и чеченцами, мусульманами и индусами в Кашмире, а также между различными афганскими племенами. Эти конфликты подчиняют себе даже международную политику великих держав.
Таким образом, к несчастью для нас, кровавые этнические чистки не являются чем-то «примитивным» или чуждым нам. Они плоть от плоти нашей цивилизации. Большинство справедливо связывает их с ростом национализма в мире. Однако национализм становится очень опасным, только когда он политизирован и когда он представляет собой извращение свойственного Современности стремления построить демократию в рамках нации-государства. Демократия означает власть народа. Но в эпоху Современности слово «народ» относится одновременно к двум вещам. Первая – то, что греки обозначали словом демос, то есть обычный народ, население, массы. Таким образом, демократия – это власть обычного народа, власть масс. Однако в нашей цивилизации слово «народ» обозначает также нацию или, если пользоваться другим греческим термином, этнос, этническую группу – людей, объединенных общей культурой и ощущением общего наследия и отличающихся от других людей. Однако если народ правит в своем национальном государстве и если народ определяется при этом в этнических терминах, то этническое единство может приобретать большее значение, чем гражданское многообразие, без которого невозможна демократия. Если такой народ находится у власти, то что произойдет с людьми, принадлежащими к другим этническим группам? Ответы часто бывали неприятными – особенно если одна из этнических групп образует большинство, потому что тогда ее «демократическая» власть становится также тиранической. Как показывает Виммер (Wimmer, 2002), в эпоху Современности общество структурировано по этническому и националистическому принципу, ибо такие институты, как гражданство, демократия и социальная защита, увязаны с исключением на этнической и национальной почве. Я готов признать, что некоторые другие элементы современной реальности играют подчиненную роль в процессах, приводящих к чисткам. Мы увидим, что каста профессиональных военных в некоторых странах подвергается соблазну ведения войн на уничтожение врага, а такие идеологии Современности, как фашизм и коммунизм, в одинаковой степени отличаются беспощадностью. Однако за всем этим стоит представление, что враг, которого нужно уничтожить, – это целый народ.
Для ясности я разобью первый тезис на несколько подпунктов.
1а. Кровавые этнические чистки представляют собой фактор риска в эпоху демократии, потому что в ситуации полиэтничности идеал народной власти привел к переплетению демоса и доминирующего этноса, создавая органические концепции нации и государства, которые поощряли чистки по отношению к меньшинствам. В более поздние времена социалистический идеал демократии также оказался извращен, когда понятие демоса было переплетено с понятием пролетариата, рабочего класса, создавая давление, направленное на уничтожение других классов. Здесь в самых общих чертах намечены пути, на которых демократические идеалы приводят к кровавым чисткам.
1б. В колониях Нового времени демократические режимы, созданные поселенцами, часто оказывались намного более жестокими, чем более авторитарные колониальные правительства. Чем больше поселенцы контролировали колониальные учреждения, тем более кровавыми становились чистки. Это будет показано в главе 4. Здесь яснее всего видна связь между демократическими режимами и массовыми убийствами.
1в. Государства, где процессы демократизации только начались, в большей степени способны на кровавые этнические чистки, чем стабильные авторитарные режимы (об этом пишет также: Chua, 2004). Когда в полиэтническом окружении авторитарный режим ослабевает, демос и этнос, скорее всего, переплетаются. В отличие от этого, стабильные авторитарные режимы стремятся править по принципу «разделяй и властвуй». Это заставляет их стремиться уравновесить требования различных групп, включая этнические группы. Некоторые режимы, отличающиеся высокой степенью авторитарности, представляют собой исключение. Они мобилизуют большинство против «враждебных меньшинств», опираясь на массовую партию власти. Нацистский режим и коммунистические режимы, которые обсуждаются в главах 7–11, представляли собой диктатуры, а не демократии, хотя они возникли в контексте кажущейся демократизации, которую они впоследствии использовали в своих целях. Они мобилизовали народ в качестве этноса или пролетариата и представляют собой частичное исключение из этого подпункта.
1 г. Стабильные демократии представляют меньший риск кровавых чисток, чем авторитарные режимы или режимы, находящиеся в процессе демократизации. В условиях стабильной демократии гарантированы не только выборы и власть большинства, но и конституционные гарантии для меньшинств. Но прошлое этих стран не было столь похвальным. В большинстве случаев проводились этнические чистки, достаточные для того, чтобы создать гражданский коллектив, носящий в целом моноэтнический характер. В прошлом чистки и демократизация шли рука об руку. Либеральные демократии вырастали на субстрате этнических чисток, хотя за пределами колоний это принимало формы не массовых убийств, а организованного принуждения.
1д. Режимы, в настоящее время осуществляющие кровавые чистки, никогда не являются демократическими, так как это было бы противоречием в терминах. Приведенные выше подпункты, таким образом, относятся к ранним фазам эскалации этнического конфликта. Безусловно, по мере эскалации соответствующие режимы становятся все менее демократическими. Темная сторона демократии, таким образом, представляет собой извращение либеральных или социалистических идеалов демократии, происходящее с течением времени.
Принимая во внимание эти сложные отношения, мы не сможем в современном мире найти простой формулы, связывающей демократию и этнические чистки, как это подтверждают Фирон и Лейтин (Fearon & Laitin, 2003) в своем количественном исследовании недавних гражданских войн, носящих в большинстве случаев этнический характер. Но я не занимаюсь статическим сравнительным анализом. Мой анализ является историческим и динамическим: кровавые чистки перемещались по миру по мере его модернизации и демократизации. В прошлом они происходили главным образом среди европейцев, которые изобрели демократическое национальное государство. Страны, населенные европейцами, в настоящее время вполне демократичны, но в большинстве своем они также подвергались этническим чисткам (см. подпункт 1 г). Сейчас эпицентр чисток передвинулся в южную часть мира. Покуда человечество не примет меры, этнические чистки будут расширяться – до тех пор, пока миром не станут управлять демократии (надо надеяться, не прошедшие этнических чисток). Впоследствии станет легче. Но если мы хотим избавиться от этого явления быстрее, нам придется взглянуть в лицо темной стороне демократии.
Враждебность на этнической почве возникает там, где этническая принадлежность вытесняет классовую в качестве основной формы социальной стратификации. При этом чувства, близкие к классовой ненависти, направляются в русло этнического национализма. Этнические чистки в прошлом были редкостью, потому что большинство обществ в истории делилось на классы. В этих обществах доминировала аристократия или какие-то другие разновидности олигархии. Эти правящие классы редко имели с простым народом общую культуру или этническую идентичность. По существу, доминирующие группы презирали народ, практически не считая его за людей. Народ стратифицировался по классовому признаку – класс вытеснял этническую принадлежность.
Даже в первых обществах современного типа доминировала классовая политика. Либеральные государства, основанные на принципе представительства, возникли как форма достижения компромисса в классовом конфликте, давая враждующим группам ощущение принадлежности к единым народу и нации. В этих государствах допускалось определенное этническое многообразие. Но там, где в борьбу за демократию включается целый народ, борющийся с властью, воспринимаемой как чужая, возникает чувство этнической принадлежности, часто вбирающей в себя эмоции классового характера. Народ воспринимает себя как «пролетарскую» нацию, добивающуюся базовых демократических прав в борьбе с империалистическими нациями, составляющими высшие классы общества и претендующими на то, что они несут цивилизацию своим отсталым народам. В настоящее время борьба палестинцев, безусловно, носит «пролетарскую» окраску, причем враг определяется как эксплуататорский, колониальный Израиль, за которым стоит американский империализм. При этом израильтяне и американцы утверждают, что защищают цивилизацию от примитивных террористов. Подобной аргументацией в прежние времена пользовались враждующие классы.
Этнические различия переплетаются с другими социальными различиями – в первую очередь классовыми, региональными и гендерными. Этнонационализм набирает особую силу там, где его подпитывают другие виды эксплуатации. Самым серьезным недостатком недавних работ, посвященных этническому национализму, является почти полное игнорирование классовых отношений (см.: Brubaker, 1996; Hutchinson, 1994; Smith, 2001). Другие авторы ошибочно считают класс материальной категорией, а этническую принадлежность – эмоциональной (Connor, 1994: 144–164; Horowitz, 1985: 105–135). Они делают ошибку, подобную той, которую допускали авторы прежних поколений, считавшие главным классовый конфликт и игнорировавшие этническую принадлежность. В наше время верно обратное, и это относится не только к авторам из академической среды. Наши средства массовой информации широко освещают этнические конфликты, в значительной степени игнорируя классовую борьбу. Тем не менее эти два типа конфликтов подпитывают друг друга. Палестинцы, даяки, хуту и прочие верят, что подвергаются материальной эксплуатации. Большевики и маоисты полагали, что нацию эксплуатируют классы помещиков и кулаков. Игнорирование этнической и классовой принадлежности одинаково ошибочно. Иногда может доминировать та или другая форма конфликта, но она будет поглощать другую. То же самое можно сказать об эмоциях, связанных с гендерной и региональной принадлежностью.
Безусловно, кровавые чистки не происходят между соперничающими этническими группами, которые отделены друг от друга, но пользуются равенством. Одних только различий недостаточно, чтобы создать такой конфликт. Проблемы создает не противостояние христиан мусульманам, а ситуации, в которых мусульмане чувствуют, что их угнетают христиане (или наоборот). Если бы Южная Африка действительно осуществляла свою программу апартеида – раздельного развития рас, пользующихся равенством, – африканцы бы не восстали. Они восстали, поскольку апартеид был прикрытием для расовой эксплуатации африканцев белыми. Для развития серьезного этнического конфликта одна этническая группа должна рассматриваться как эксплуатирующая другую. В свою очередь, имперские угнетатели отвечают праведным гневом на попытку утопить их «цивилизацию» в «примитивизме» – точно так же, как поступают высшие классы общества, когда им угрожает революция.
Ситуация оказывается в опасной близости от кровавой чистки, когда (а) движения, претендующие на представительство двух достаточно древних этнических групп, выдвигают заявку на создание собственного государства на одной и той же территории или ее части и (б) эта заявка им кажется легитимной и имеющей определенные шансы на осуществление. Почти во всех опасных случаях в конфликте участвуют две этнические группы, обе группы достаточно сильны, и взаимно противоречащие претензии на политический суверенитет накладываются на давно сформировавшееся ощущение этнического различия – хотя это ощущение и не связано с тем, что принято называть старинной враждой. В результате постоянных взаимопротиворечащих притязаний на политический суверенитет этнические различия раздуваются до серьезной ненависти, и конфликт выходит на опасный уровень чистки. Я выделяю четыре основных истока власти в обществе: идеологический, экономический, военный и политический. Кровавый этнический конфликт связан прежде всего с отношениями политической власти, хотя по мере своего развития он затрагивает также отношения идеологической, экономической и в конечном счете военной власти. Я предлагаю главным образом политическое объяснение этнических чисток.
Ситуация оказывается на грани кровавой чистки тогда, когда осуществляется один из двух альтернативных сценариев. (4а) Более слабая сторона получает импульс к борьбе, а не к подчинению (поскольку подчинение делает конфликт менее кровавым), полагая, что помощь придет со стороны — обычно из соседней страны, возможно представляющей собой этническую родину участников конфликта, – как в модели, сформулированной в работе Брубейкера (Brubaker, 1996). При таком сценарии обе стороны предъявляют политические претензии на одну и ту же территорию – и обе верят, что имеют достаточные ресурсы для их осуществления. Так произошло, в частности, в случае Югославии, Руанды, Кашмира и Чечни. Нынешняя американская война с терроризмом именует терроризмом именно такую внешнюю поддержку и стремится положить ей конец.
(4б) Сильнейшая сторона настолько уверена в своей превосходящей военной силе и идеологической легитимности, что считает себя способной осуществить чистку без особого физического и морального риска. Так происходит в случаях колониального поселенчества, которые мы рассматриваем далее: в Северной Америке, в Австралии и на черкесских землях. В случае армян и евреев мы имеем дело со смешанным сценарием, поскольку господствующая сторона – турки и немцы – полагала, что должна нанести первый удар прежде, чем более слабая сторона – армяне и евреи – заключит союз с гораздо более грозными силами извне. Все эти ужасные события были результатом взаимодействия между двумя сторонами. Мы не можем объяснить эскалацию насилия на этнической почве исключительно с точки зрения действий и убеждений исполнителей. Мы должны проанализировать взаимодействие между исполнителями чисток и их жертвами, а также их взаимодействие с другими группами. Ведь совсем не во всех случаях, в которых взаимодействуют две этнические группы, дело доходит до кровавых чисток. Сначала одна из сторон или обе стороны должны сделать выбор в пользу борьбы, а не в пользу маневрирования и поиска компромисса, а такой выбор случается редко.
Грань кровавых чисток оказывается перейденной, когда государство, осуществляющее суверенитет над спорной территорией, подвергается расколу и радикализации, находясь при этом в нестабильном геополитическом окружении, которое обычно ведет к войне. Подобные политические и геополитические кризисы ведут к появлению радикалов, призывающих к более жесткому обращению с теми, кого они считают этническими врагами. Там, где этнический конфликт между соперничающими группами имеет давнюю историю, он обычно подвергается определенной ритуализации, носит циклический и управляемый характер. Напротив, настоящие кровавые чистки происходят неожиданно, первоначально не планируются и вызываются к жизни посторонними кризисами, такими как война. В случаях, когда государство и геополитическая обстановка сохраняют стабильность, даже серьезные этнические конфликты обычно цикличны и могут управляться на более низких уровнях насилия (см. главу 16, посвященную современной Индии). В случаях же, когда политические институты нестабильны и затронуты войной, насилие может вылиться в массовые убийства, что подтверждается работой Харфа, посвященной политическим чисткам во всем мире (Harff, 2003).
Существуют различные формы политической нестабильности. Некоторые государства находятся в состоянии раскола и распада (например, государство хуту в Руанде); другие были захвачены и заново подверглись консолидации, решительно подавляя инакомыслие и раскол (как государство нацистов). В некоторых государствах, возникших совсем недавно, консолидация носила очень неровный характер (например, в Боснии и Хорватии). Но здесь речь не идет о стабильных и целостных государствах, неважно – демократических или авторитарных. Не будем мы говорить и о несостоявшихся государствах (failed states), в которых, по мнению политологов, существует наибольшая вероятность возникновения гражданских войн (Конго начала XXI в. представляет собой исключение). Этнические чистки в их наиболее кровавых стадиях обычно проводятся государствами, а это требует от государства известной устойчивости и согласованности действий.
Кровавые чистки редко являются изначальным намерением виновных. Крайнюю редкость представляют собой злые гении, с самого начала замышляющие массовые убийства. Даже Гитлер не был таким. Намерение осуществить кровавую чистку обычно возникает как План В, который разрабатывается только после того, как проваливаются первые две программы борьбы с тем, что создатели этих планов считают этнической угрозой. План А обычно подразумевает продуманное решение, представляющее собой компромисс, или прямое подавление. План Б носит более репрессивный характер, чем провалившийся план А; он принимается поспешно в ситуации нарастающего насилия и определенной политической дестабилизации. Когда оба плана проваливаются, некоторые из разработчиков государственной политики начинают искать еще более радикальные решения. Чтобы понять эту динамику, нужно проанализировать непредусмотренные последствия серии действий, ведущих к эскалации. Планы, последовательно сменяющие друг друга, могут вести к эскалации, как логически вытекающей из их характера, так и представляющей собой результат более случайных обстоятельств. Создатели планов могут с самого начала обладать решимостью избавиться от тех, кто не принадлежит к их этнической группе; когда более мягкие методы не дают результатов, они с почти логической необходимостью идут на эскалацию, полные твердой решимости преодолевать препятствия все более и более радикальными средствами. Это относится к Гитлеру и его пособникам: окончательное решение еврейского вопроса выглядит не случайностью, а логичной эскалацией идеологии, беспощадно устранявшей все препятствия на своем пути. С другой стороны, для младотурок окончательное решение армянской проблемы в значительно большей степени было результатом привходящих обстоятельств, порожденных ситуацией 1915 г., которую они считали неожиданной и отчаянной.
Утверждение о том, что этнические чистки не всегда были результатом изначального намерения и отчасти порождались случайными обстоятельствами, создает моральный дискомфорт. Мне часто приходится спорить с теми, кто говорит от имени жертв. Безусловно, геноцид евреев, армян, тутси, туземных народов, подвергшихся колонизации, а также некоторых других, был осуществлен намеренно. Доказательств этому существует огромное количество. Однако выжившие жертвы этнических чисток любят подчеркивать, что их палачи действовали по заранее составленному плану. Это, видимо, связано главным образом со стремлением найти смысл в страданиях. Что может быть хуже, чем считать такие крайние формы страдания случайностью? Вспомним слова Эдгара в «Короле Лире»:
Мы для богов – что мухи для мальчишек:
Им наша смерть – забава[25].
Я думаю, что эта теория неплохо объясняет человеческое общество, но вряд ли мое мнение разделяет большинство жертв. Я вовсе не утверждаю, что кровавые чистки носят случайный характер, а только то, что их причины значительно более сложны и в большей степени включают случайные факторы, чем это допускают теории, в центре которых стоит обличение виновных. В конечном счете они осуществляются намеренно, однако путь к этому намерению обычно извилист.
Существует три категории виновных в чистках: (а) радикальные элиты, использующие партократические государства; (б) группы активистов, создающие парамилитарные формирования, и (в) группы, составляющие социальную базу, обеспечивающие массовую поддержку, хотя это и не поддержка большинства. Элиты, активисты и группы сторонников необходимы для того, чтобы состоялась кровавая чистка. Мы не можем обвинять в ней злонамеренных лидеров или целые народы. В таком случае мы бы приписывали лидерам поистине магические способности к манипуляции или целым народам удивительное единомыслие. И то и другое противоречит всему, что социологи знают о природе человеческого общества. Во всех рассмотренных мною случаях элиты, активисты и группы сторонников сложным способом связаны и образуют общественные движения, которые, подобно другим общественным движениям, отражают соотношение сил, существующих в обыденной жизни. Власть осуществляется тремя путями: сверху вниз в случае элит, снизу вверх в случае давления народных масс и силовым образом «сбоку» в случае парамилитарных формирований. Все эти формы давления взаимодействуют, создавая отношения, существующие в любом общественном движении, в первую очередь иерархические, товарищеские и карьерные. Эти отношения оказывают сильное влияние на мотивы виновных в чистках, как мы это сейчас увидим.
Исследование групп, составляющих социальную базу сторонников кровавых чисток, показывает, что они пользуются большей поддержкой в среде, где популярна комбинация национализма, этатизма и насилия. Основные группы – это этнические беженцы и жители пограничных районов, находящихся под угрозой; люди, больше других зависящие от государства в том, что касается жизнеобеспечения и ценностей; те, кто живет и работает за пределами основных секторов экономики, порождающих классовые конфликты (работники этих секторов чаще предпочитают классовую модель конфликта этнонациональной); люди, воспитанные на том, что физическая сила и насилие представляют собой способ решения социальных проблем или двигатель личного роста, например солдаты, полицейские, преступники, хулиганы и спортсмены; наконец, те, которых привлекает идеология мачо, – молодые мужчины, стремящиеся к самоутверждению и часто подчиняющиеся мужчинам старше себя, которые в юности прошли социализацию на более ранней стадии конфликта. Таким образом, основные оси, по которым стратифицируются участники движений, выступающих за чистки, – это место проживания, экономический сектор, пол и возраст. Радикальные этнонационалистические движения обычно сохраняют нормальную классовую структуру: лидеры происходят из высших и средних классов общества, рядовые сторонники из более низких, тогда как по-настоящему грязную работу часто делает рабочий класс. В этой книге я подвергну исследованию мотивацию карьеры и взаимодействия всех этих групп.
Наконец, обычные люди втягиваются в кровавые этнические чистки через нормальные социальные структуры, и их мотивы носят гораздо более обыденный характер. Для понимания этнических чисток социология власти и силы нужна значительно больше, чем специальная психология, представляющая виновников как людей психически неуравновешенных или больных, хотя к некоторым это и может относиться. Как отмечает психолог Чарны (Charny, 1986: 144), «массовые убийцы часто совершенно обычные люди – те, кого, согласно определению, принятому в психиатрии, мы называем нормальными».
Оказавшись в соответствующей ситуации или социальной среде, каждый из нас может принять участие в кровавой этнической чистке. Ни одна нация или этническая группа от этого не застрахована. В прошлом кровавые чистки осуществляли многие американцы и австралийцы; некоторые евреи и армяне – самые пострадавшие народы XX в. – недавно осуществляли акты жестокости против палестинцев и азербайджанцев (и, в свою очередь, некоторые представители палестинцев и азербайджанцев также виновны в аналогичных преступлениях). Добродетельных народов не существует. Религия подчеркивает, что во всех людях присутствует первородный грех, способность творить зло. Безусловно, находясь в соответствующих обстоятельствах и принадлежа к соответствующим социальным группам, мы почти все способны на такое зло и, вероятно, даже можем получать от него удовольствие. Однако первородный грех представляет собой недостаточное объяснение, поскольку наша способность творить зло реализуется лишь в обстоятельствах, о которых идет речь в этой книге. В случае этнических чисток такие обстоятельства в меньшей степени относятся к первобытности или древности, чем к Современности. В Современности присутствует нечто, позволяющее данной конкретной форме зла осуществляться в массовом масштабе.
Человеческие общества хаотичны, и каждое из них уникально; поэтому мои утверждения не носят характера научных законов. Они даже не полностью покрывают все конкретные случаи, рассмотренные в книге. Например, нацистский геноцид не соответствует в точности тезису 3, потому что евреи не претендовали на суверенитет над какой-либо частью Германии. В главе 7 я предлагаю модифицированную, непрямую версию тезиса 3, согласно которой немецкие этнонационалисты считали, что евреи в качестве заговорщиков участвовали в притязаниях других групп на политический суверенитет (особенно в качестве так называемых «жидобольшевиков»). В каждом случае я определяю меру, в какой мои тезисы применимы к нему, указывая на неизбежные отличия и модификации. В главах 2 и 3 представлена краткая история этнических чисток с древности до Нового времени и показано, что эти чистки вначале представляли собой редкость, а потом стали обыденным делом в европейском мире – вначале в достаточно мягких формах и как явление, подчиненное классовым конфликтам. На протяжении большей части человеческой истории массовые убийства были вещью распространенной, хотя и из ряда вон выходящей. Но убийства ради устранения («чистки») целого народа в прежние времена представляли собой редкость. Ситуация стала опаснее с подъемом религий спасения, а впоследствии с появлением народовластия. Эмпирическое ядро книги состоит, таким образом, из серии исследований, посвященных худшим проявлениям кровавых чисток Современности. В каждом конкретном случае я перехожу от причин самого общего характера, определяющих зоны опасности, к событиям, приведшим к пересечению опасной границы, и далее к самим кровавым чисткам и их виновникам.
Мой анализ сталкивается с двумя методическими трудностями. К счастью, кровавые чистки представляют собой редкое явление. Как можно делать обобщения, опираясь на такое малое количество случаев? Может ли статься, что в каждом случае причины уникальны? В определенной степени это верно. Нацисты были уникальны в своей ненависти к евреям. Но то же самое можно сказать и о положении тутси и хуту в Руанде, живших вперемешку по всей стране и не имевших возможности переселиться на «собственную» территорию. У всех случаев, которые я рассматриваю, есть особенности, требующие учета. Вторая трудность состоит в том, что я рассматриваю только случаи, когда происходит эскалация, ведущая к массовым убийствам, игнорируя более многочисленные ситуации, когда межэтническое напряжение рассасывается. Иными словами, происходит то, что социологи называют формированием выборки по зависимой переменной. Так, в главе 16 я сравниваю положение современных Индии и Индонезии, чтобы показать, почему различные формы этнического соперничества ведут к разной степени насилия. Наконец, в главе 17 содержится обзор предложенных тезисов и тенденций, существующих в современном мире.
Определение терминов: этничность, нация, этническая чистка
Этничность не является объективной категорией. Этнические группы обычно определяют как группы, разделяющие общую культуру и общее происхождение. Тем не менее культура есть понятие расплывчатое, а происхождение обычно фиктивно. Общая культура может указывать на относительно точные характеристики – такие, как общая религия или язык. Но эти слова могут относиться и к общему образу жизни, который невозможно точно определить. Общее происхождение носит мифический характер для любой группы, большей, чем клан или род (то, что я буду называть микроэтничностью). В будущем анализ ДНК, наверное, покажет, что сравнительно неподвижные группы населения в значительной степени генетически однородны, но это будет неверно для большинства крупных групп, претендующих на этническую общность. Люди, определяющие себя как сербы, немцы или шотландцы, в действительности происходят от большого числа генетически однородных малых групп, которые перемещались и вступали в смешанные браки со своими соседями. Большие группы, претендующие на общее происхождение, в действительности представляют собой скопление многочисленных и разнородных микроэтносов. В данной книге обсуждаются эти макроэтничности, сформированные социальными отношениями небиологического и неродственного характера. Ни один из этнических конфликтов, которые мы здесь рассматриваем, не является естественным или исконным.
И эти группы, и конфликты между ними социально сконструированы.
Они конструируются разными способами. Общий язык важен для объединения немцев, но не сербов (они говорят на одном языке с хорватами и боснийцами). Религия важна для сербов (православие отличает их от хорватов, боснийцев и албанцев), но не для немцев, которые делятся на католиков и протестантов. Цивилизационные и расовые теории дали европейцам ощущение того, что они цивилизованные и белые, в отличие от подданных европейских колоний. Экономическое доминирование или подчинение может формировать идентичности так же, как военная сила. Имперские завоеватели часто создают макроэтнические сообщества, наделяя особыми ролями группы, которые они определяют как принадлежащие к единому народу или племени. Наконец, повсеместно имеет большое значение общая политическая история независимого государства или провинции. Так, шотландцы по языку и религии не отличаются от англичан, но имеют другую политическую историю. Исходя из этого многообразия, надежнее определять этнические группы субъективно, в терминах, которые используют они сами и/или их соседи.
Этническая группа есть группа, определяющая себя или определяемая другими как имеющая общее происхождение и культуру. В таком случае этническая чистка есть устранение определенной этнической группы членами другой группы с территории, которую они считают своей. Нация представляет собой группу, которая обладает также политическим сознанием и претендует на коллективные политические права на данной территории. Национальное государство возникает там, где такая группа создает собственное суверенное государство. Не все нации, сознающие себя в качестве таковых, имеют национальные государства или стремятся к этому. Некоторые претендуют только на местную автономию или на гарантии права в рамках более крупного полиэтнического государства.
Этнические группы обращаются друг с другом по-разному, и в большинстве случаев их взаимодействие не сопровождается кровопролитием. С тех пор как появились глобальные средства массовой информации, в наше сознание впечатаны малочисленные случаи, связанные с массовыми убийствами. К счастью, такие случаи редки. Западные средства массовой информации обращают внимание на Африку, только если там происходит что-то действительно плохое. Но на континенте, где все государства полиэтничны, имело место всего несколько случаев кровавых этнических чисток. По оценке Фирона и Лейтона (Fearon & Laitin, 1996), все случаи серьезного насилия на этнической почве произошли менее чем в 1 % всех полиэтнических социумов, существующих в Африке. В таблице 1.1 устанавливается степень насилия и чистки в межэтнических отношениях. Это позволяет нам отличить кровавые этнические чистки от бескровных, а также от вспышек массового насилия и массовых убийств, не ставящих своей целью этническую чистку. Речь идет только о насильственной очистке территории от гражданских лиц. При этом исключаются массовые убийства, получающие легитимацию по правилам ведения войны.
Таблица 1.1 содержит два измерения: степень исключения («вычищения») группы из общества и степень использования насилия для достижения этой цели. Следует помнить, что, поскольку этнические группы определяются культурой, они могут прекращать существование, если их культура исчезает, даже если в физическом плане ее носители остаются на месте. Люди могут менять свою культурную идентичность. Я, однако, не стану бросать вызов обычному пониманию термина «этническая чистка», включая в него только уничтожение культуры. В последнем случае слово «чистка» будет браться в кавычки, как это делается в таблице. Тем не менее важно различать многочисленные формы, которые могут принимать настоящие чистки и «чистки».
Термины, представленные в таблице 1.1, будут употребляться на протяжении всей книги. Первая строка таблицы содержит политические меры, не связанные со сколько-нибудь значительным применением насилия. В строке 1, столбец 1, приводится идеальный подход к этническим различиям, основанный на равенстве и уважении ко всем этническим группам, – мультикультурализм. Некоторые государства, придерживающиеся этой политики, попросту игнорируют этничность, относясь ко всем гражданам как к равным, независимо от этнической принадлежности. В их конституциях не упоминаются права этнических групп, а политические партии и общественные движения, за исключением культурных, не организованы вокруг этничности. Это общий идеал в странах, где иммиграция этнически многообразна, таких как Соединенные Штаты или Австралия. Поскольку такие группы иммигрантов не могут претендовать на собственные государства, они не представляют угрозы для государства существующего, и конституция может спокойно игнорировать их этническую принадлежность. Так, многие жители Соединенных Штатов и Австралии стремятся к плюралистической культуре, но «этнически слепой» политической организации. Их политические интересы могут относиться к классу, региону, гендеру и т. д. в значительно большей степени, чем к этничности.
Таблица 1.1. Типы насилия и чисток в межгрупповых отношениях
Примечание. Темно-серый фон указывает на «центральную зону» с высокой вероятностью кровавых этнических чисток, рассматриваемых в книге. Светло-серый фон показывает «пограничную зону», в которой такие чистки могут иногда случаться.
Более опасной представляется ситуация, в которой разные этнические группы преобладают на разных территориях или могут иным способом стремиться к созданию своих государств или региональных автономий. Идеалам мультикультурализма здесь трудно сохранять этническую слепоту на политической арене. В таком случае этничность не игнорируется, а напрямую встраивается в конституцию с помощью коллективных гарантий для разных этнических групп. Это может осуществляться через конфедерацию (этнические группы в разной степени контролируют регионы, как в современной Нигерии) или консоциацию (гарантированное разделение центральной власти, как в Бельгии). Такие гарантии ставят своей целью привязку всех основных групп к государству. Здесь политика касается этничности так же, как класса, региона, гендера и т. д., и надо надеяться, что в этническом плане эта политика также будет компромиссной. Программы позитивной дискриминации (affirmative action) представляют собой значительно более мягкую, либеральную версию этой политики, гарантирующую чужаку защиту на индивидуальном уровне. Толерантность является более слабой и распространенной версией признания многокультурной реальности. Толерантность предполагает, что мы испытываем к чужим враждебные чувства, но делаем все, что в наших силах, чтобы подавить их. К сожалению, перечисленные формы политики больше подходят для идеального мира, чем для грубой реальности. В большинстве случаев межэтнические отношения не отличаются такой терпимостью.
Следующие два столбца в строке 1 включают случаи, когда этнические группы слабеют или исчезают без насилия, со всеобщего согласия. Это произошло на последней стадии достижения этнической однородности в Западной Европе. К середине XIX в. во Франции или Великобритании соответствующим государствам не нужно было прибегать к особому принуждению, чтобы вытеснить языки меньшинств. Меньшинства сами были согласны, что их региональный язык (например, бретонский или валлийский) – язык «отсталый», лишающий их детей шансов на успех в современном обществе. Аналогично большинство иммигрантов, прибывающих в Соединенные Штаты или Австралию, переходят на английский язык добровольно, не обучают детей родному языку и оставляют многие обычаи, связанные с их этническим происхождением. Их потомки могут сохранять только сентиментальную привязанность к немецкому, словацкому или валлийскому народу. Таким образом, добровольная ассимиляция создает этнически очищенное общество, причем очистка эта достигается не враждебными действиями со стороны доминирующей группы, а с помощью позитивных стимулов. Белые иммигранты в Соединенных Штатах или Австралии в основном потеряли свою прежнюю этническую идентичность, добившись экономического и статусного успеха и социальной ассимиляции, становясь американцами или австралийцами. Это вполне безобидная и маргинальная форма чисток, которую не одобряют лишь те, кто ценит сохранение традиционных культур. Безусловно, само слово «чистка» (даже в кавычках) может быть здесь неуместно.
Во второй строке приведены случаи самой «мягкой» эскалации насилия – институционального принуждения. Видимо, самой распространенной формой такой политики является дискриминация. Она ограничивает права «чужаков», но позволяет им сохранить этническую идентичность. Дискриминация обычно включает предпочтение при приеме на работу, ограничения на район проживания, отрицательные культурные стереотипы, оскорбительное поведение и притеснения со стороны полиции. Дискриминация по отношению к тем или иным меньшинствам существует в большинстве стран. Афроамериканцы все еще страдают от дискриминации по прошествии 150 лет после отмены рабства и 50 лет после начала движения за гражданские права. Достаточно упомянуть «правонарушение», которое в Соединенных Штатах иронически именуется «вождение в чернокожем виде». Речь идет о случаях, когда полицейский останавливает чернокожего потому, что тот находится за рулем «слишком хорошей» машины. Подобная дискриминация достойна сожаления, но она значительно лучше, чем то, что приводится в оставшейся части таблицы.
В тяжелых случаях дискриминации могут быть ограничены права на образование, участие в выборах, занятие общественных должностей или владение собственностью. Доминирующая группа может также навязать «чужакам» пользование своим языком в качестве официального в образовании и общественной сфере. Сегрегация представляет собой частичную чистку на географической основе: «чужаки» загоняются в гетто в условиях апартеида или порабощения. Эта форма угнетения может быть значительно тяжелее, чем более мягкие разновидности тотальной чистки. В конце концов, многие рабы с удовольствием убежали бы от своих угнетателей (что создало бы более однородное общество), но их удерживают насильственно. Здесь сосуществуют этническая и классовая политика. Южная Африка эпохи апартеида проводила почти нормальную классовую политику среди белых и элементы такой политики среди африканцев и цветных, но в целом политика строилась по расовому признаку.
В следующем столбце («Подавление культуры») речь идет о тотальной чистке, хотя она производится исключительно посредством институционального принуждения. Общественные учреждения подавляют культуры «чужаков», которым, таким образом, навязывается идентичность доминирующей группы. Язык группы может быть изгнан из школ или учреждений, ее религия запрещена, характерные фамилии ее членов принудительно изменены. Хотя речь идет о принуждении, обычно оно носит законный характер и не требует большого физического насилия, за исключением тех случаев, когда приходится подавлять спорадическое сопротивление этой политике (об этом см. следующую строку таблицы). Такое подавление редко рассматривается как этническая чистка, особенно в случае его успеха. По прошествии времени обе группы могут и не вспоминать об этом как о чистке. Так произошло, например, с ассимиляцией валлийцев в британскую идентичность, в значительной степени определяемую англичанами. Валлийцы обычно гордятся элементами, которые они, по их мнению, сохранили от своей культуры, но, возможно, не более значительными культурными особенностями, которые они утратили. Другой пример представляет почти полная ассимиляция провансальцев или аквитанцев во французскую идентичность. Многие члены подавляемой группы могут реагировать на такое обращение эмиграцией – в качестве примера можно привести массовый исход ирландцев. Здесь мы также имеем дело с частично навязанной, частично добровольной формой чистки.
С физическим насилием мы впервые сталкиваемся в третьей строке, посвященной выборочному подавлению с помощью государственного аппарата принуждения. «Выборочный» характер этих мер обозначает, что, в отличие от политики, представленной в строке 2, здесь она направлена против протестующих и диссидентов. «Использование государственного аппарата принуждения» обозначает, что подавление сохраняет упорядоченный характер и производится путем применения законов с помощью рутинных, легитимных средств, хотя обычно это включает физическое насилие в ограниченных масштабах. Первый столбец посвящен репрессиям, направленным конкретно на протестующих; во втором речь идет о более серьезных мерах, представляющих собой попытку частично подавить идентичность «чужаков». Сюда относится также производимое средствами государственного принуждения переселение доминантной группы, сопровождающееся изгнанием местных жителей из домов, хотя и не из всего общества. В качестве примера можно привести расселение шотландцев-протестантов на фермах Ольстера начиная с XVII в., сопровождаемое насильственным выселением тысяч ирландских фермеров-католиков. В третьем столбце мы имеем дело с тотальным подавлением культуры, обменом населения и депортацией и эмиграцией средствами государственного принуждения. Речь идет о целом спектре чисток, насильственных, но обычно не сопровождающихся большим кровопролитием. Политические меры, которые здесь обсуждались, предполагают наличие достаточно стабильного государства, считающего, что оно осуществляет законный порядок.
В четвертой строке речь пойдет о серьезном физическом насилии. В первом столбце это насилие остается рутинным и упорядоченным. Генерализованное подавление с помощью государственного аппарата принуждения направлено против групп, к которым относятся протестующие, участники беспорядков, бунтовщики или террористы. Оно заключается в кровавом официальном наказании, направленном на то, чтобы принудить основную часть группы к покорности. Если подобные меры носят рутинный характер, государство использует особые парамилитарные формирования, названия которых хорошо известны «чужакам», – такие, как казаки или «черно-коричневые»[26]. В следующих двух столбцах речь идет о насилии, носящем менее контролируемый характер. Эскалация, ведущая к кровавым частичным чисткам, включает поселенчество/выселение, как в большинстве случаев европейской колонизации, а также погромы и волнения, которые представляют собой многообразные формы краткосрочного насилия, включающие беспорядки и грабежи, а также некоторое количество убийств и изнасилований. Мотивы этих действий носят смешанный характер: государственные органы стремятся переключить агрессию на «чужаков», местные жители получают возможность предаваться грабежам и изнасилованиям, а сторонники этнической чистки стремятся спровоцировать массовое бегство. Погромы обычно толкают людей к эмиграции. Наиболее частыми их жертвами были евреи, армяне и китайцы. Следующая ступень эскалации – «дикая» депортация и эмиграция, когда жестокими средствами подталкивают «чужаков» к бегству, как это происходило в бывшей Югославии в недавние годы. Чистки с более сильной расовой доминантой могут использовать политику биологического характера. Здесь «чужаки» лишаются возможности воспроизводства путем ограничений на браки или сексуальной политики, иногда доходящей до стерилизации или изнасилований, ставящих своей целью не допустить рождения детей, несущих «чуждую» идентичность. Биологические чистки сосредотачиваются на женщинах по понятным причинам: материнство достоверно, а отцовство только предположительно.
В пятом ряду представлены случаи массовой гибели, являющиеся незапланированным результатом политики доминирующей группы. В первом столбце речь идет об ошибочной политике, которая часто выражается в навязывании этническим группам условий работы, к которой они не приспособлены. Сюда же относятся действия революционеров, стремящихся осуществить масштабные социальные трансформации непродуманными способами – например, «большой скачок» в Китае, приведший к ненамеренной гибели миллионов людей. Из этого следует, что, когда ошибка осознается, политика прекращается, и, таким образом, «чужаки» не истребляются полностью. Я не хочу оправдывать ответственных за такую политику, поскольку число погибших может быть огромным. Большинство масштабных ошибок граничат со следующей категорией, которую мы назовем «безжалостной» политикой. Речь здесь прямо не идет об уничтожении чужих, но доминирующая группа относится к ним так плохо, что не особенно беспокоится, если это происходит. Это не совсем верно по отношению к руководству, ответственному за «большой скачок», но неторопливая реакция на катастрофу показывает, что жизнь жертв их особенно не заботила. К этой категории в значительной степени относятся войны, в частности гражданские, где речь идет о гибели мирного населения в результате разорения страны или бомбежки городов. Крайний случай представляет собой изначальная колонизация Карибских островов испанцами. Когда колонизаторы поняли, как их действия отражаются на туземцах, практически все туземцы к этому моменту уже погибли. В данном случае, строго говоря, идет речь об этноциде. Этноцидом мы называем ненамеренное уничтожение целой группы и ее культуры. Меры при этом могут приниматься крайне жестокие, и доминирующая группа может даже приветствовать уничтожение «чужаков». Этноцидом оборачивались многие встречи между поселенцами-колонизаторами и туземцами, когда большинство смертей было вызвано болезнями, воспринятыми «чужаками» от членов доминантной группы. Положение туземцев усугублялось жизнью в резервациях и чудовищными условиями труда, целью которых не было убийство, но которые доводили туземцев практически до смерти. См. об этом подробнее в главе 4.
Наконец, строка 6 относится к намеренному массовому убийству гражданских лиц. Показательным подавлением я называю самые жестокие средства, использовавшиеся имперскими завоевателями в истории, – например, истребление жителей целого города, чтобы вызвать подчинение других городов. В военных кампаниях Новейшего времени использовалась бомбардировка городов без разбора – таких, как Дрезден, Токио и Хиросима. Римляне иногда прибегали к децимации, убивая каждого десятого в непокорной группе населения. На Балканах в 40-е гг. ХХ в. немецкая армия убивала пятьдесят местных граждан за каждого немца, убитого партизанами. Бунтовщики и террористы обычно способны на подобные злодеяния сравнительно малого масштаба, хотя 11 сентября имело место массовая гибель людей. Сегодня все случаи показательного подавления могут в теории преследоваться по международным законам как военные преступления или преступления против человечества, хотя победители в войнах редко подвергаются преследованиям. Гражданские войны обычно приводят к большему числу жертв среди мирного населения, чем войны между государствами.
Далее следуют случаи массового убийства, когда ставится цель частичной чистки. Насильственная смена религии предоставляет жертве выбор: «Смени веру или умри», как говорили сербам хорватские католики-усташи во время Второй мировой войны. Во время погромов евреям тоже часто предлагался такой выбор. Некоторые члены преследуемой группы гибнут – либо из-за своего сопротивления, либо потому, что исполнители преступления хотят показать реальность выбора. Но большинство продолжает жить, подвергшись частичной чистке, лишаясь своей религии, но не всей культуры. Недавно возник термин политицид, обозначающий убийства, нацеленные на руководство и потенциальный руководящий класс преследуемой группы, вызывающей страх (см.: Harff & Gurr, 1988: 360). Политицид может накладываться на показательное подавление, хотя стремление к чистке в нем сильнее. Уничтожение лидеров и интеллигенции ставит своей целью подрыв культурной идентичности «чужаков», тогда как города, принужденные к покорности показательным подавлением, могут сохранять свою идентичность. Убивая всех образованных поляков, нацисты стремились стереть польскую культурную идентичность, точно так же как тутси в Бурунди стремились уничтожить культурную идентичность хуту, убивая всех образованных людей, принадлежащих к этой группе.
Я добавляю сюда собственный термин – классицид для обозначения намеренного массового убийства целых общественных классов. Поскольку классицид может быть более кровавым, чем насильственная смена религии или политицид, в таблице я поставил рядом с этим термином стрелку, направленную в сторону клетки, содержащей категорию «геноцид». Худший образец классицида дали красные кхмеры; сталинисты и маоисты прибегали к этой мере на короткое время. Классы-жертвы считались непримиримыми врагами. Классицид, видимо, характерен для левых, потому что только они подвергаются соблазну думать, что обойдутся без противоположных («эксплуататорских») классов. Правые режимы, опирающиеся на капиталистов и помещиков, всегда признают, что им нужны рабочие и крестьяне для работы. Так, массовое уничтожение индонезийской армией и исламскими парамилитарными формированиями по меньшей мере 500 000 сторонников индонезийской компартии в 1965–1966 гг., хотя и привело к гибели непропорционально большого числа бедных крестьян, было направлено скорее на политического, а не классового врага – на коммунистов, а не крестьян или рабочих. Это был политицид, а не классицид. При коммунистических режимах, таких как режим красных кхмеров, а также при Сталине и Мао, классицид переплетался с ошибочной политикой и «безжалостным» подходом. Все три вида политики могут преследоваться как военные преступления или преступления против человечества.
И наконец, геноцид – термин, изобретенный в 1944 г. польским юристом Рафаэлем Лемкиным. Организация Объединенных Наций видоизменила определение Лемкина и понимает геноцид как преступный акт, направленный на уничтожение этнической, национальной или религиозной группы, которая предназначена для уничтожения как таковая. Это определение иногда подвергается критике, поскольку включает одновременно слишком много и слишком мало. В нем добавлено, что «частичное» уничтожение считается геноцидом. Понятие частичного геноцида имеет смысл только в географическом плане. Поселенцы в Калифорнии в 1851 г., пытавшиеся уничтожить всех индейцев долины Оуэнс, пошли на частичный, то есть локальный, геноцид. Решение сербских командиров в Боснии убить всех мужчин и мальчиков в Сребренице в 1994 г. также может получить это название, так как местные женщины не могли бы выжить в одиночку. Но если убийства сопровождаются насильственной депортацией, как во время чисток в соседнем Приедоре, то это, видимо, нельзя назвать локальным геноцидом. Наоборот, геноцид должен ограничиваться только этническими группами (Andreopoulos, 1994: Part I). Геноцид является намеренным действием, направленным на уничтожение целой группы не только физически, но и в культурном плане (разрушение церквей, библиотек, музеев, переименование улиц). Однако если происходит только культурная чистка, я говорю не о геноциде, а о подавлении культуры. Геноцид обычно совершается большинством против меньшинства, тогда как для политицида верно обратное.
Эта книга посвящена содержанию самой тяжелой части таблицы, где клетки выделены темно-серым цветом и которую я определяю как кровавые этнические чистки. Три прилегающие клетки я пометил более светлым оттенком серого, имея в виду, что в этих приграничных зонах тоже иногда происходят кровавые чистки. В отличие от некоторых исследователей (напр., Jonassohn, 1998; Smith, 1997), я не определяю основное содержание этих клеток таблицы как геноцид.
Проводя эти различия, мы обнаруживаем две парадоксальные черты этнических чисток. С одной стороны, в большинстве случаев они были достаточно мягкими. Кровавые чистки представляли собой редкость. Преобладала ассимиляция, поддержанная мягким институционным принуждением. С другой стороны, большинство развитых стран сегодня представляют ситуацию после этнической чистки, поскольку они в основном этнически однородны (то есть по меньшей мере 70 % населения относит себя к одной этнической группе), притом что в прошлом они отличались значительно более выраженным этническим многообразием. Таким образом, перед нами две основные проблемы. Почему происходили такие чистки? И почему только в некоторых случаях они приобретали такие страшные формы? На эти два основных исторических вопроса и должна ответить моя книга.
Другие подходы к проблеме этнических чисток
Я не первый, кто обращается к этим вопросам. При описании конкретных случаев и разработке теоретического подхода я с благодарностью использую большой корпус существующей литературы. Ниже я собираюсь кратко изложить основные теоретические дилеммы, которые возникают в этой связи, и указать свою позицию по каждой из них.
Примитивные, древние или современные?
В противоположность моему тезису 1, привязывающему этнические чистки к Современности, другие исследователи считают их регрессом в первобытность. Перекладывание ответственности на «примитивные» народы создает ощущение психологического комфорта, поскольку мы можем смотреть на сербов или хуту (а также другие африканские племена, истребляющие друг друга) как на что-то очень далекое от нас, цивилизованных современных людей. Однако в число таких первобытных народов пришлось бы включить группы людей со всех континентов и народы, настолько же развитые для своего времени и настолько же культурно близкие к нам, как американцы и австралийцы XIX в. и немцы XX в. Я пишу эти строки в Лос-Анджелесе, где в замечательном Музее толерантности прекрасно переданы ужасы нацистского «окончательного решения», осуществлявшегося на другом континенте, но полностью игнорируется геноцид, который осуществили в самом Лос-Анджелесе европейские поселенцы против индейцев группы чумаш. В главах исторического содержания будет показано, что этнические чистки были частью современной цивилизации.
Тем не менее слово «примитивный» может иметь и фрейдистское значение. Под слоями социализации, цивилизованности, суперэго и подавления находятся темные глубины агрессивных инстинктов, «оно» (id) и, возможно, даже танатос, стремление к смерти. Если снять или дестабилизировать верхние слои социализации, люди регрессируют к первобытному насилию, как об этом пишет Фрейд в работе «Неудобства культуры». Но такой подход сбивает с толку. Во всех случаях, которые я рассмотрел, ответственные за этнические чистки формировали общественные движения с их собственными учреждениями, идеологией и процессами социализации. Это не были отдельные личности, освобожденные от суперэго. При взрывах ненависти и насилия они не столько освобождались от традиционного давления социализации, сколько подвергались социализации в новых формах. Таким образом, от теории первобытности нам нет большой пользы.
Тезис о примитивном характере этнических чисток в несколько видоизмененной форме представлен у авторов, которые пишут о многовековой ненависти, существующей между народами. Они говорят, например, что сербы и боснийцы-мусульмане враждуют друг с другом со времен битвы на Косовом поле в 1389 г. Тем самым Балканы превращаются в «область чистой памяти», где «каждое индивидуальное ощущение и воспоминание отражается на общем движении сталкивающихся народов» и «подстегивает насилие» (Kaplan, 1993; ср. Vulliamy, 1994: 4). Хотя это не выдерживает критики, конфликты на Балканах действительно вспыхивали несколько раз в течение длительного периода. Смит (Smith, 1986: гл. 2; 2000: гл. 2) предложил для понимания этого явления теоретическую схему, которую он называет «перенниализмом», или «теорией возвращения» (perennialism). Он рассматривает этническую вражду как древнюю, но не столько непрерывную, сколько возвращающуюся. С его точки зрения, минимальная непрерывность заключается в том, что этнические группы сохраняли общее название, миф о происхождении, ощущение истории, культуру, связь с определенной территорией и чувство солидарности. Но они лишь время от времени выходят на первый план, обычно в результате войн, пограничных конфликтов или пребывания в диаспоре. Таким образом, современные нации могут мобилизовать глубоко укорененную коллективную идентичность.
Вопрос в том, насколько далеко то прошлое, в котором, по его мнению, эта идентичность формируется. В большинстве государств вплоть до последних нескольких веков правящие и управляемые классы не обладали общей культурой и поэтому не имели общей этнической идентичности. Вплоть до Нового времени этническая идентичность обычно перекрывалась классовой. Эта модель начала ослабевать с появлением религий спасения. Христианство, ислам и другие религии создали религиозную культуру, общую для всех классов. Но решительный сдвиг произошел, когда под влиянием демократических идеалов в политике все социальные классы и оба пола получили гражданство. Безусловно, недавно введенное Смитом понятие этносимволизма во многом отражает эти факты. Он пишет, что националисты Нового времени заново интерпретировали прошлое, как реальное, так и существующее в сознании народа, с помощью мифов, воспоминаний и традиций, чтобы нация могла включать в себя как можно больше различных групп. Это действительно так, хотя вопрос, насколько реально это прошлое и в каком соотношении находятся память и мифология, еще требует ответа.
Но почему этнические группы должны ненавидеть друг друга? Уходят корни этой ненависти в древность или восходят к Новому времени? Там, где гражданство соприкасалось с более древними «подводными камнями» религиозного характера, ситуация становилась более опасной, как в случае с евреями, с мусульманами на Балканах и на Кавказе и с христианами в Османской империи. Но что бы ни говорил Смит, история этнических конфликтов связана не столько с постоянным повторением, сколько с движением по нарастающей в Новое время. Евреи во всех общественных классах в течение многих веков периодически страдали от угнетения в Римской империи и в христианском мире. Их ощущение коллективной этнической идентичности, наверное, самое древнее. Тем не менее некоторые из худших этнических конфликтов нашего времени насчитывают примерно столетнюю историю. Рассказ о битве на Косовом поле, как его излагают сербы, является современным изобретением, потому что на самом деле битва происходила между двумя армиями, которые сегодня мы сочли бы полиэтническими – одна сражалась за османского султана, а другая за сербского правителя. В XIX в. сербские националисты создали миф об исключительно сербском войске, сражавшемся на Косовом поле (в прежние века это был миф об исключительно христианском войске). Школьникам в Сербии этот миф преподают уже более ста лет, так что он глубоко укоренен в современном сербском сознании.
Безусловно, эпоха этнического соперничества отнюдь не обязательно связана с кровопролитием. Вражда между англичанами и шотландцами, датчанами и шведами тоже идет с давних времен, но она не оборачивалась ничем плохим в последние 200 лет. В случаях, которые я изучал, у серьезных этнических чисток были предвестники – распри, кровавые инциденты, возможно, погромы, время от времени происходившие в течение определенного периода. Гор (Gurr, 2000: 50–53) пишет, что практически всем «беспорядкам на этнической почве», происходившим между 1986 и 1998 гг., предшествовала интенсивная и продолжительная политическая агитация, в ходе которой насилие постепенно нарастало. Харф (Harff, 1998) подчеркивает кратковременную эскалацию, длившуюся три месяца, хотя Бонд (Bond, 1998: 118) и Гор (Gurr, 1998) говорят о неделях, месяцах и даже годах. Конфликты в Югославии спорадически вспыхивали в течение всего XX в. Хотя предыстория конфликта важна, мы должны давать объяснение его недавней эскалации.
Виновники чисток: националистические массы или авторитарные элиты?
В своем тезисе 7 я называю виновными в чистках элиты, активистов и группы, составляющие социальную базу поддержки. Но в исследовательской литературе преобладает значительно более простой подход – в чистках обычно обвиняют целые этнические группы или элиты того или иного государства как таковые. Мы незаметно для себя принимаем именно эту точку зрения, когда говорим, что то-то и то-то сделали немцы, сербы и т. д. Практически во всех книгах, посвященных межэтническим войнам в Югославии, действующие лица описываются как «сербы», «хорваты», «албанцы» и т. д., и я сам, возможно незаметно для себя, употребил несколько коллективных определений такого рода. Авторы популярных описаний этнических чисток часто прямо придерживаются этой позиции, верно это и по отношению к некоторым академическим исследователям. Голдхаген (Goldhagen, 1996) пишет, что немецкий народ как таковой принял идеологию «антисемитизма, направленного на истребление», и это произошло за полвека до холокоста. Странным образом его труд популярен у немцев. Но, как мы увидим позже, он неправ. Дадрян (Dadrian, 1995: 121–127) утверждает, что традиционная воинственность турок вместе с характерной для ислама нетерпимостью создала у турок культурную предрасположенность к резне армянских христиан. Это также неверно. Сигар (Cigar, 1995) достаточно ясно выражает свои взгляды на этнические войны в Югославии такими подзаголовками, как «Чувство превосходства сербов» и «Сербы как нация, находящаяся под угрозой». Я называю такие взгляды националистическими, поскольку именно националисты утверждают, что нация представляет собой единое действующее лицо. Употребляя такое название, я иронизирую, поскольку Голдхаген, Дадрян и Сигар хотят разоблачить национализм, но при этом воспроизводят категории националистической мысли. Ведь целые нации или этнические группы никогда не действуют коллективно. Виновны в чистках некоторые немцы, некоторые сербы, некоторые хуту, среди которых непропорционально представлены группы сторонников, определенные районы, возрастные группы, экономические секторы и т. д., наиболее активно откликающиеся на ценности этнического национализма, этатизм и поддержку насилия. Этнонационалистам нужно сначала справиться с несогласными в собственном этническом сообществе, и часто они убивают больше людей из собственной этнической группы, чем «чужаков» – практика, которую политологи называют принуждением своих: in-group policing (Brubaker & Laitin, 1998: 433; Laitin, 1995). И если этнические группы в самом деле по мере эскалации конфликта становятся более однородными, то именно это и требует объяснения.
Опасности реификации[27] национализма сейчас настолько хорошо известны, что некоторые ученые ударились в противоположную крайность – то, что называется конструктивизмом. Они считают, что этничность и этнические конфликты конструируются общественными движениями, обычно элитами, из случайных событий, которые могли произойти по-другому, создавая этническую идентичность, носящую только частичный и преходящий характер (Brubaker, 1996: гл. 1). Даже если бы дело обстояло так, то, как только этническая идентичность социально сконструирована, она может порождать глубокие и продолжительные чувства, так что она приобретает институциональный и даже структурный характер. Некоторые формы этнической идентичности имеют глубокие корни и подверглись институционализации; другие носят более случайный и непрочный характер.
Наиболее популярную альтернативу обвинению целой этнической группы представляет обвинение элит, особенно государственных. Утверждается, что злодеяния происходят, когда людьми управляют злокозненные лидеры-манипуляторы. Считается, что демократия и народ стремятся к миру, тогда как лидеры и элиты представляют большую опасность. В теории гражданского общества утверждается, что демократия, мир и толерантность процветают в ситуации, когда люди вовлечены в густую сеть социальных отношений, предоставляемых добровольческими учреждениями, и которые защищают их от манипуляций со стороны государственных элит (Putnam, 1993, 2000). Этот подход наивен. Радикальные этнонационалисты часто добиваются успеха именно потому, что их социальные сети в рамках гражданского общества гуще и легче мобилизуют людей, чем аналогичные сети их более умеренных соперников. Это было верно в отношении нацистов (см. мою книгу «Фашисты», гл. 4, а также: Hagtvet, 1980; Koshar, 1986); как мы увидим ниже, это верно также в отношении сербских и хорватских националистов и националистов хуту. Гражданское общество может нести зло.
Тем не менее этнические чистки долгое время рассматривались как проблема государств. Как пишет Фейн, «жертвы предумышленного геноцида XX века… были убиты ради исполнения государственного плана установления нового порядка» (Fein, 1984; ср. Horowitz, 1982; Smith, 1987). Оружие, транспорт и управленческая техника, которыми располагает современное государство, увеличили эффективность массовых бюрократизированных убийств, утверждает Бауман в своем анализе холокоста (Baumann, 1989). Этническая чистка представляет собой продукт наиболее передовой стадии развития современного государства, отражая его потребность в «порядке, прозрачности и оперативности», пишет Неймарк (Naimark, 2001: 8). Организации, занятые защитой прав человека, неизменно считают государственные элиты ответственными за этнические чистки (см. отчет Human Rights Watch за 1995 г.; ср. Brown, 1996). В гражданских войнах в Югославии часто обвиняют Милошевича и сербские элиты (Brown, 1996; Gagnon, 1997; Glenny, 1993). Как утверждают Фирон и Лейтон (Fearon & Laitin, 2000), в последнее время преобладает точка зрения, согласно которой «широкомасштабное этническое насилие провоцируется элитами, стремящимися к завоеванию, удержанию или усилению своей политической власти».
Теория демократического мира также утверждает, что государства, основанные на народном представительстве, отличаются миролюбием, редко ведут войны и почти никогда не воюют друг с другом (Doyle, 1983; см. критику в Barkawi & Laffey, 2001). Корни этой теории лежат в либеральном представлении, что, если народу дать возможность свободно выразить свою волю, это будет воля к миру. Как пишет Руммель (Rummel, 1994: 1, 12–27; 1998: 1), чем более авторитарный характер носит государство, тем больше вероятность, что оно будет убивать собственных или чужих граждан. «Власть убивает; абсолютная власть убивает абсолютно», – повторяет он как мантру. Это, безусловно, верно, но речь идет о тавтологии. Режимы, убивающие значительное число своих граждан, не могут считаться демократическими, поскольку грубо нарушают тот компонент демократии, который относится к гражданским свободам. Однако Руммель полагает, что социальный мир гарантируется электоральным компонентом демократии; он верит в то, что режимы, осуществляющие чистки, приходят к власти авторитарными средствами, а не путем свободных выборов.
Но число исключений из этого правила вызывает тревогу. Начиная с XVII в. европейские поселенцы были более склонны к геноциду, если они жили при конституционной власти, чем при авторитарном режиме. Наверное, поселенческие демократии правильнее описываются как этнократии, то есть демократии для одной этнической группы – именно так Ифтахель (Yiftachel, 1999) характеризует современную ситуацию в Израиле. Советский Союз и Югославия времен Тито обычно приглушали этнические конфликты, и их падение привело к межэтническим войнам, когда группы, составлявшие большинство, захотели основать этнократические режимы (Beissinger, 2002). Брасс (Brass, 1997) и Тамбиа (Tambiah, 1996) показывают, что на Индийском субконтиненте насилие на этнической почве возрастало в периоды предвыборных политических страстей и шло на убыль во времена военной диктатуры. «Мажоритарная демократия» была боевым кличем движения Hutu Power во время геноцида 1994 г., тогда как протестанты Северной Ирландии и жители Шри-Ланки обвиняли своих противников – католиков и тамилов – в подрыве (мажоритарной) демократии. Прямой связи между авторитарным характером государства и этническими чистками не существует.
Так же, как и я, Снайдер считает, что авторитарные режимы лучше справляются с межэтническим напряжением, чем демократии, если только последние уже прочно и стабильно не установились. Он полагает, что государства, недавно вставшие на путь демократизации, подвержены наибольшей угрозе этнонационализма. Снайдер отмечает, что, хотя отчеты Human Rights Watch видят виновников межэтнических войн в авторитарных режимах, в действительности во всех странах, которые они рассматривали: Шри-Ланке, Индии, Южной Африке, Ливане, Израиле, Румынии, бывшей Югославии, России, Армении и Азербайджане, – «недавно прошли выборы с открытым соперничеством, на которых сильные оппозиционные группы отличались большим национализмом, чем правительство» (Snyder, 2000: 267). Тем не менее Снайдер продолжает обвинять в подрыве демократизации злонамеренные, манипулятивные элиты: «Демократизация порождает национализм, когда мощные группы внутри нации… стремятся избежать передачи реальной политической власти среднему гражданину… Конфликты на националистической почве возникают как побочный продукт стремления элит убедить народ принять националистические идеи, сеющие рознь» (Snyder, 2000: 32). Это слишком простое объяснение. Отметим, что наиболее преступные авторитарные режимы имели специфическую форму. Режимы Сталина, Мао и нацистов представляли собой партократические государства, опирающиеся на массовые мобилизационные движения. Жестокости совершались, скорее, в направлении снизу вверх, когда активисты низших уровней сводили счеты с политическими и экономическими элитами. Партократические государства фигурируют во всех рассматриваемых мною случаях, относящихся к XX в. За исключением случаев, связанных с колониальным поселенчеством, где давление осуществлялось снизу вверх, самые страшные злодеяния обычно являются результатом непредсказуемых комбинаций давления сверху вниз, снизу вверх и «сбоку».
Политологи подметили также, что межэтнические войны чаще возникают там, где государство слабеет и разваливается. Переход к демократии делает непригодным обычный набор средств, используемых государством для управления конфликтами: старое государство рухнуло, а новое только формируется (Beissinger, 1998, 2002; Gurr, 1993: 361–363; 2000: 36, 236). Некоторые утверждают, что наибольшее количество массовых убийств, часто хаотичного и анархического характера, приходится на долю не сильных государств, а, напротив, государств-банкротов (Esty et al., 1998; Fearon & Laitin, 2003; Posen, 1993).
Однако в этой книге рассматриваются случаи этнических чисток, имеющих более направленный характер, для чего, как кажется, нужны правительства, сохраняющие определенную степень контроля. Режимы нацистов, младотурок и Милошевича нельзя назвать несостоятельными. Государства, подвергшиеся расколу и радикализации, представляют большую опасность с точки зрения этнических чисток, чем государства-банкроты. Действительно, существует связь между демократией и кровавыми чистками, но это связь более сложная и обоюдосторонняя, чем признают многие теоретики этатизма. Но опять-таки речь идет о конечной стадии процесса распада, восстановления и радикализации государства. Этот процесс мы должны объяснить.
Мотивы участия в чистках: рациональные, эмоциональные или нормативные?
Политологи, изучающие насилие на этнической почве, все больше прибегают к теории рационального выбора (сокращенно – рацтеория). Эта теория утверждает, что люди ведут себя как рациональные личности, стремящиеся к максимальной выгоде. Ее сторонники подчеркивают экономические мотивы, стремятся к наиболее простым объяснениям, опираясь на несколько несложных предположений касательно мотивов человеческих действий, и хотели бы (возможно, только в самых необузданных фантазиях) уложить человеческое поведение в алгебраические формулы.
Рацтеория полезна, но область ее применения ограничена. Лучше всего она действует в отношении конфликтов, имеющих утилитарную, экономическую основу. Лейтин (Laitin, 1998, 1999) показывает, что споры об официальных языках государств редко приводят к серьезному насилию, потому что в этих случаях возможен рациональный компромисс. Возьмем русскоязычное меньшинство, проживающее в Казахстане. Поскольку казахский язык является языком общественного сектора страны, русский может выучить его, чтобы увеличить свои шансы на трудоустройство. Он не должен отказываться от своей этнической принадлежности, поскольку может по-прежнему говорить по-русски дома. Лейтин выделяет точку перелома или кумулятивный эффект. Вначале русский может получать только небольшую выгоду от изучения казахского языка. Если он выучит этот язык, другие русские могут его отвергнуть, а казахи по-прежнему его не примут. Но если один или несколько подобных факторов начинают меняться, выгода от изучения казахского языка увеличивается, а от изучения русского – уменьшается, до тех пор, пока изучение обоих языков не становится одинаково выгодным. Когда польза от изучения русского и казахского уравнивается, тем самым достигается точка перелома, и начинается кумулятивный эффект – теперь все русские начинают учить казахский язык, знание которого становится выгоднее. Но если казахи по-прежнему отказывают русским в рабочих местах, кумулятивный эффект может поменять направление – русские начинают эмигрировать в Россию. Как пишет Лейтин, это происходит, «когда критическое число русских начинает думать, что критическое число русских думает, что критическое число русских уедет». Но даже эмиграция под давлением – это далеко не массовые убийства. Вопрос о языке – вопрос утилитарный, относящийся к работе, и люди могут сохранять этническую идентичность, используя более чем один язык.
Однако соперничающие языки могут рассматриваться не как секулярные, а как священные, выражающие единственно истинную веру. Суданцы убивают друг друга, решая вопрос, будет ли преобладать в их стране арабский или языки христианского мира. Серьезное насилие вспыхнуло и в постсоветских странах, хотя и не по поводу языка. Предметом спора оказались приграничные районы новых государств, где существовало этническое большинство и меньшинство. Соперничающие этнонационалистические движения претендовали на государственную власть над одной и той же территорией, причем меньшинство поддерживалось соседней страной (Beissinger, 2002: 287), как это сформулировано в моих тезисах 3 и 4. Здесь присутствуют мотивы как эмоциональные, так и утилитарные, и их непросто свести к рацтеории.
Правда, сторонники этой теории пытаются понять эмоции. Они сосредотачиваются на страхе. Вайгаст (Weigast, 1989) пишет, что, когда этнонационалисты говорят людям, что те являются мишенью для истребления, люди могут принять рациональное решение сражаться (или бежать), даже если вероятность истребления крайне низка. Ведь если это и правда случится, то наступит конец! Таким образом, насилие, которое кажется иррациональным, может быть вызвано страхом и носить превентивный характер. Каливас (Kalyvas, 1999) показал, что в Алжире некоторые этнические группы подвергаются резне, даже если в настоящий момент они кажутся довольно безобидными. Поскольку они могут представлять угрозу в будущем, лучше предвосхитить такое развитие событий. Рабушка и Шепсле (Rabushka & Shepsle, 1972) пишут, что по мере роста напряжения оба соперничающих сообщества начинают бояться своей гибели. В таком случае их элиты начинают соревноваться друг с другом в крайних формах этнического национализма. Тем самым более умеренные соперники теряют почву под ногами, и сообщество мобилизуется для насилия. В свою очередь, таким образом осуществляются худшие страхи другой группы, и страх уничтожения преобретает реальные очертания для обеих.
Эти сценарии носят вполне реальный характер, хотя могут показаться чрезмерно пессимистическими. Почему умеренные лидеры должны терять поддержку? Они могут предложить мир – вполне желательную цель. Поскольку войны и насилие стоят дорого, обеим сторонам следовало бы предпочитать дипломатические отношения. Фирон (Fearon, 1995) указывает три причины, почему война и насилие кажутся рациональными, хотя объективно таковыми не являются.
Дилемма безопасности (Posen, 1993): усилия каждой стороны по достижению собственной безопасности означают меньшую безопасность для противника. Эскалация заставляет оба сообщества искать защиту у собственных вооруженных сил или боевиков. Страх и чувство унижения ведут к необузданному кровопролитию, носящему превентивный характер. Это может объяснить странную, на первый взгляд, позицию многих убийц, считающих себя жертвами. Эта дилемма означает также, что обладание подавляющим военным превосходством в конфликтной ситуации ведет к соблазну нанести первый удар. Я отразил это в тезисе 4б.
Проблема несоблюдения договоров: эскалация происходит в результате того, что одна из сторон не дает четких обязательств по соблюдению договоров, в результате чего другая сторона тоже к этому не стремится. Еще Дюркгейм заметил, что «не все в договоре договорно». По его мнению, для того, чтобы договоры соблюдались, их участники должны подчиняться одним и тем же нормам. Человек руководствуется в своих действиях не только соображениями выгоды. Нужно также смотреть, каким образом возникают нормы, ценности и социальные идентичности и, исходя из этого, определять собственные интересы. Мы выполняем соглашения с теми, кому доверяем, но как возникает доверие и как оно угасает? Здесь нам нужно более социально ориентированное объяснение, чем предлагаемое сторонниками рацтеории.
Недостаточная или искаженная информация: информация доступна только одной стороне. Например, в ситуации «бряцания оружием» противоположная сторона может не знать, что противник блефует, а это ведет к дальнейшей эскалации. Санстейн (Sunstein, 2000) считает эту ситуацию очень распространенной. Он опирается на экспериментальные исследования и наблюдения над судами присяжных и приходит к выводу, что длительная дискуссия внутри группы часто стимулирует ее членов принять более крайние версии существовавших ранее взглядов. В периоды межэтнического напряжения группа уже может воспринимать «чужаков» в отрицательном свете. Чем больше ее члены общаются только между собой – тем выраженнее отрицательное отношение к находящимся вне ее. Однако опять-таки здесь идет речь о нормах, ценностях и идентичностях. Каким образом получается, что люди определяют себя прежде всего как члены этнической группы, а не придерживаются трансэтнической идентичности – например, классовой?
Проблема в том, что все три явления также предполагают наличие норм, ценностей и процессов формирования идентичности, о которых сторонники рацтеории ничего не говорят. Они обычно принимают, что идентичность этнических групп и межэтнические конфликты уже существуют. Действующие лица отличаются стабильностью. Но коллективных действующих лиц, вовлеченных в конфликт, слишком много, и некоторые формируются в ходе самого процесса эскалации. Идентичность, основанная на отношении к государству, классу, профессии, региону, поколению, гендеру и т. д., переплетается с этнической идентичностью, направляя этничность по новому руслу. Бейсинджер (Beissinger, 2002) отмечает, что с падением Советского Союза поднялась неожиданная волна конфликтов на этнонациональной почве, которые подпитывались эмоциями, общественными нормами, а также групповыми интересами. Участники конфликтов сами удивлялись тому, с какой скоростью они меняли приоритеты и политические стратегии. Толпы совершали преступления, на которые прежде не считали себя способными. Бывшие советские политики неслись на гребне волны этнического национализма, который они раньше презирали.
Главное – кровавые чистки редко выглядят рациональным действием. На каком основании немцы боялись евреев, составлявших всего 0,7 % населения Германии? Большинство групп, осуществляющих чистки, страдают больше, чем в случае, если бы они пошли на компромисс. Германия, Руанда и Югославия были разорены. Милошевич попал под суд, каждый третий лидер сербских парамилитарных формирований убит, а остальные боятся, что тоже будут уничтожены или отданы под суд. Неужели разум не подсказал бы им других путей?
Очевидный ответ состоит в следующем: а с каких это пор человеческие действия направляются разумом? Макс Вебер (Weber, 1978: I, 25) выделил четыре основных типа человеческих действий – целерациональные, традиционные, аффективные (то есть эмоциональные) и ценностно-рациональные. Целерациональные действия, которые изучаются сторонниками теории рацвыбора, безусловно, важны для человеческого поведения. Однако там, где отношения власти или этническая идентичность подверглись интернализации, мы можем не думая, без рационального расчета производить традиционные действия, если другие члены группы говорят нам, что мы находимся под угрозой. Тогда мы определяем свои интересы в терминах этой групповой идентификации. Только в ее рамках мы определяем свои личные интересы. Во время войны мы рутинно подчиняемся приказу убивать, даже если не испытываем ненависти к жертве. Далее, по мере эскалации межэтнических столкновений, начинаются аффективные действия. Любовь к собственной группе, страх, ненависть и гнев по отношению к другой могут одержать верх над соображениями практической пользы. Наконец, мы можем совершать ценностно-рациональные действия, преследуя определенные цели любой ценой. Это действия, имеющие идеологическую мотивацию. Когда люди готовы рисковать жизнью или убивать других ради своих ценностей, соображения практической пользы отодвигаются на задний план. Различия, введенные Вебером, представляются весьма важными при обсуждении этнических чисток. Ниже я буду обсуждать все четыре типа мотивов, когда речь идет об исполнителях чисток.
Рацтеория требует такой строгости и простоты, какие нельзя найти в реальном мире. Теоретические амбиции ее сторонников поистине замечательны: делается попытка реконструировать выбор, совершаемый многочисленными и меняющимися действующими лицами, включая ценности, традиции и эмоции, а также практические цели, в более широком и изменчивом контексте силы и власти. Правда, в моем тезисе 6 предложена рациональная реконструкция мотивов. Я делаю попытку обнаружить сменяющиеся планы этнических лидеров, формально обозначая их исходную основную цель как План А, а ее дальнейшие модификации как План Б, План В и т. д. Эта методология иногда оказывается слишком схематичной и рациональной, так как намерения часто темны и изменчивы. Тем не менее она окажется полезной, поскольку этническая чистка никогда не выдвигалась этнонационалистами как первоначальный план, и мы должны уметь реконструировать последовательную смену их целей. Однако здесь возникает более общий вопрос о мотивах.
Исполнители: обычные люди или фанатики?
Тысячи людей участвуют в кровавых чистках наихудшего рода. Свидетелей больше всего интересовал один вопрос: как, казалось бы, обычные люди могут осуществлять кровавые чистки? Часто проблема формулировалась в виде простого противопоставления: это обычные люди, как мы с вами, попавшие в исключительные обстоятельства, или идеологизированные фанатики?
Самый известный ответ на этот вопрос был дан в экспериментах Стэнли Милгрэма. Участникам эксперимента – простым американцам – было предложено проводить тесты на IQ для другой группы испытуемых. Те, кто давал неправильные ответы, должны были получать сильный электрический шок. Испытуемым объяснили, что ученые проверяют, может ли применение шока улучшить результаты IQ (причем экспериментаторы были одеты в белые лабораторные халаты!). 65 % этих обычных людей (между мужчинами и женщинами не было разницы) подчинялись, когда от них требовали причинить сильную боль, нажимая на рычаг в комнате, расположенной по соседству от комнаты жертвы. Нажимая рычаг, они могли слышать, как жертва кричит от боли за стеной. 30 % все равно соглашалось, если им предлагали самим вызвать шок, прижимая ладонь жертвы к пластинке, через которую пропускается электрический ток. Некоторые участвовали в эксперименте с энтузиазмом и, похоже, получали удовольствие от причинения боли. Но большинство пребывало в глубоком смятении. При более сильном шоке испытуемые кричали, чтобы экспериментатор остановился. Но, несмотря на сильный моральный и физический дискомфорт, они продолжали причинять боль, так как были не в состоянии противодействовать авторитету науки. Как комментирует Милгрэм (Milgram, 1974: 10), «некоторые были совершенно убеждены, что делают что-то не то, но не могли в открытую противоречить авторитету». Но Милгрэм не был таким садистом, как может показаться из-за его эксперимента. Боль симулировалась, «жертвы» были ассистентами экспериментатора, и электрический ток не передавался.
Милгрэм предполагает, что обычные современные люди способны на убийство, если приказ исходит от легитимного научного учреждения. Большее количество людей может пойти на непрямое убийство (из соседней комнаты), так что бюрократическое убийство из-за письменного стола совершить проще, чем убить самому. Не все исследования, проводившиеся в дальнейшем, подтверждают эти выводы. В одном исследовании обнаружилось, что большинство испытуемых отличает легкую боль от боли, способной причинить жертве вред. Такую боль они отказывались вызывать (Blau, 1993). Однако исследование, проведенное на студентах калифорнийских колледжей, вызывает еще большее беспокойство (по меньшей мере у меня, потому что я им преподаю). Их попросили играть роли заключенных и охранников в тюрьме. Эксперимент пришлось прекратить, когда студенты-охранники начали проявлять тенденцию к жестокости и авторитарности (Haney et al., 1973). Эти эксперименты показывают, что обычные люди способны на жестокость, если им дают на это право легитимные учреждения. Ни в одном эксперименте невозможно симулировать настоящее убийство, но регулярные скандалы показывают, что в таких учреждениях, как тюрьмы, психиатрические лечебницы и детские дома, нужно проявлять бдительность, чтобы работники не начали злоупотреблять своей огромной властью над находящимися там людьми.
В книге Милгрэма содержится много упоминаний «окончательного решения». Но его исполнители, так же как и в других случаях, были весьма многообразны. У исполнителей этнических чисток я нахожу девять основных мотивов.
Убийцы по идеологическим мотивам верят в справедливость кровавых чисток. Их особенно легко найти среди верхушки исполнителей, и их действия, по Веберу, носят ценностно-рациональный характер – кровавые средства, как они полагают, оправдываются высокими целями. Такая идеология может оказаться привлекательной в некоторых контекстах (таких, как война) или для групп сторонников – например, беженцев, которые уже пострадали от «чужаков». Эта идеология может привлечь также носителей определенных профессиональных субкультур. Среди врачей и биологов начала XX в. были особенно популярны биомедицинские модели этничности и расы. Но наиболее характерным идеологическим мотивом является лицемерное оправдание убийства как самозащиты. Убийца отвергает обвинение и заявляет, что сам является жертвой.
Убийцы из ненависти мотивированы более обыденной идеологией. Это особенно верно по отношению к рядовым исполнителям, разделяющим предрассудки своего времени и места и совершающими то, что Вебер называл аффективными (эмоциональными) действиями. Евреи, мусульмане и туземцы в колониях вызывали у своих убийц физическое отвращение. Все мы знаем фанатиков, которые в самых разных контекстах могут оправдывать плохое обращение с меньшинствами, которые им не нравятся, особенно если они чувствуют от них угрозу.
Убийц ради насилия привлекает сам акт убийства. Некоторым садистам он доставляет эмоциональное удовольствие. Значительно большее число людей насилие притягивает как возможность разрядиться или освободиться от тревожности. Джек Кац (Katz, 1988) описал «соблазны» насильственных преступлений в Соединенных Штатах. Он пишет, что убийство обычно представляет собой в высшей степени эмоционально насыщенное действие. Чаще всего ощущение угрозы ведет ко всеохватывающему чувству личного унижения, за которым следует праведный гнев, направленный на его преодоление. Как пишет Кац, «гнев питается ощущением униженности». Ненависть на этнической основе может перенести триаду «угроза – унижение – гнев» на коллективный уровень: хуту чувствуют, что власть тутси угрожает им и унижает их, и встреча с каждым представителем этой группы вызывает у них ярость. Власть грубой силы может вызвать ликование, как показывает любой школьный двор. Поскольку с помощью оружия можно преодолеть классовые различия, представители низших классов общества могут испытывать радость от власти над процветающими группами (такими, как евреи, армяне или тутси). Речь идет о худших чертах обычных людей. Существуют, однако, социальные группы, для которых насилие выступает как легитимный способ решения общественных проблем, – такие, как солдаты, полицейские, уголовные преступники, адепты силовых видов спорта или футбольные хулиганы.
Убийцы из страха чувствуют угрозу и боятся, что их убьют или покалечат, если они не будут убивать первыми. Они физически принуждаемы к убийству и часто стремятся его избежать. Такая мотивация носит целерациональный характер.
Убийцы ради карьеры работают в организациях, участвующих в проведении этнических чисток. Выполнение приказов об убийствах они воспринимают как материально выгодное, открывающее карьерные перспективы – или лишающее таковых, если они не принимают участие в убийствах. Это более характерно для этнических чисток, отличающихся бюрократическим характером.
Убийц ради материальной выгоды привлекают перспективы прямого экономического выигрыша, достигаемого грабежом или отъемом рабочих мест, бизнеса или собственности жертвы. Некоторых освобождают из тюрьмы в обмен на согласие убивать.
Дисциплинированные убийцы связаны со структурами легитимной власти, где неподчинение приказам считается преступным. Их главный мотив не столько страх, сколько необходимость рутинного подчинения директивам. Люди любой национальности в прошлом, настоящем или будущем могут превратиться в конформистов путем давления сверху. Из них могут выйти традиционные убийцы в веберовском смысле.
Убийцы за компанию принуждаются к конформизму в результате давления со стороны группы равных, особенно страха, что такая группа может отказать в эмоциональной поддержке. Тут можно вспомнить аффективные действия в веберовском смысле. Частично этим механизмом Браунинг (Browning, 1993) объясняет массовые убийства, совершавшиеся рядовыми немецкими полицейскими.
Бюрократические убийцы встроены в современную бюрократическую машину. Их подчинение носит, скорее, традиционный характер в веберовском смысле и создается институционной рутиной, которая втягивает их в то, что Арендт (Arendt, 1965), как известно, назвала банальностью зла, укорененной в современном обществе. Именно здесь лучше всего применимы результаты экспериментов Милгрэма. Обычные современные люди могут убивать, пишут Бауман (Baumann,1989) и Кац (Katz, 1993). Бартов (Bartov, 1996) согласен с этим и приписывает происхождение этой ловушки «механизированной, рациональной и безличной» машине убийств времен Первой мировой войны.
Таким образом, перед нами большое разнообразие потенциальных убийц – по идеологическим мотивам, из ненависти, ради насилия, из страха, ради карьеры, ради материальной выгоды, дисциплинированных, убийц «за компанию» и бюрократических убийц. Это многообразие подкрепляет мой тезис 8, объясняя, как обычные люди могли принимать участие в кровавых чистках. Некоторые их участники убивали по «идеалистическим», иначе говоря, идеологическим мотивам. Другие просто любили насилие или считали его лучшим способом решения политических проблем. Институции, осуществлявшие убийства, поддерживали дисциплину, дух товарищества, давали возможность сделать карьеру или участвовать в ограблениях, а некоторые из них носили бюрократический характер. Такое большое число участников обязательно включало и совершенно обычных людей. Поскольку мы привели только идеальные типы, следует понимать, что почти у всех исполнителей мотивы были смешанными. И этот список «схватывает» мотивацию в момент убийства. Поскольку малое число исполнителей изначально собиралось идти и убивать (тезис 5), их более ранние мотивы должны были отличаться от более поздних. Таким образом, я прослеживаю карьеры, которые видоизменяют мотивы и осуществляют социализацию в направлении возможности убивать.
Мы не должны также отделять людей от их окружения. Существует соблазн индивидуалистического подхода в этой уникальной сфере человеческого поведения, отчасти из-за огромной важности вопроса о личной вине. Должны ли мы приговаривать и, возможно, казнить определенного человека за действия, которые он совершил лично? Однако мы стремимся к индивидуальному подходу в попытке понять такое поведение. Всякий, кто думал на эти темы, скорее всего, задавался вопросом: «Что делал бы я в таких обстоятельствах, если бы мне приказали убивать мужчин, женщин и детей? Насколько нравственно, насколько смело я вел бы себя?» И тогда мы, наверное, думаем, насколько мы сами трусливы, амбициозны или склонны к конформизму. Тут легко вспоминаются значительно более обыденные случаи, когда мы не смогли помочь человеку в нужде или тому, кто подвергался преследованиям. Такие обычные человеческие слабости, безусловно, имели значение при осуществлении кровавых чисток.
Тем не менее, чтобы ответить на вопрос «Что бы я делал?», мы должны перенестись назад во времени и представить себе, что занимаем сравнимую должность. Профессор вроде меня, помещенный в Германию 1930-х гг., скорее всего, поддерживал бы консервативный национализм и проявлял определенную симпатию к делу нацистов. Студенты находились бы на еще более пронацистских позициях, поскольку нацисты победили на общенациональных студенческих выборах в 1931 г. Если бы я был тогда профессором биологии или медицины, я, наверное, проникся бы идеями научного расизма, перекликающегося с радикальным нацизмом. Будучи в реальности профессором социологии, написавшим книгу о фашизме, я сознаю, что у меня, к сожалению, был предшественник. Профессора Отто Олендорфа академический интерес к фашизму превратил в нациста. Будучи человеком скорее самодовольным, он вначале конфликтовал с нацистским руководством. Но потом он исполнил свой долг, согласившись возглавить одну из айнзац-групп. Его подразделение убило 90 000 человек. Олендорфа казнили в Нюрнберге в 1951 г. Оказавшись в другом социальном контексте, многие из нас могли бы быть на достаточно близком расстоянии от участия в кровавых этнических чистках.
Моя каузальная модель: истоки социальной власти
Для объяснения кровавых этнических чисток нужна всеобъемлющая модель взаимодействия различных форм власти и силы. Я использую модель четырех истоков социальной власти, которая применялась в моих прежних исторических работах (см.: Mann, 1986, 1993). Я рассматриваю этнические чистки как результат действия четырех взаимосвязанных сетей власти, каждая из которых необходима для осуществления этих чисток, но ни одна не может считаться их первопричиной.
Идеологическая власть относится к мобилизации ценностей, норм и ритуалов в человеческих обществах. Я не утверждаю, что идеология ложна, а только то что она выходит за пределы как опыта, так и науки и, таким образом, содержит непроверяемые элементы. Некоторые используют термин «культура» примерно в том же смысле, в каком я использую термин «идеология», хотя я избегаю его как слишком расплывчатого и многозначного. Этнические конфликты сильно идеологизированы. Известное высказывание Бенедикта Андерсона (Anderson, 1983) о том, что нации представляют собой воображаемые сообщества, следует понимать таким образом, что из нашего прямого жизненного опыта не вытекает, что совершенно чужие нам люди могут разделять с нами этническую или национальную идентичность. Такое странное представление создается идеологическими средствами, потому что оно в значительной степени выходит за пределы нашего опыта. Нужна причинно-следственная теория, объясняющая, в каких особых обстоятельствах и с использованием каких механизмов культура/идеология способствует созданию этнической идентичности, замешанной на ненависти. Что такого немцы действительно знали о евреях, из-за чего рассматривали их как угрозу своему коллективному выживанию? Каким образом исполнители чисток переходят к убийствам, преодолевая моральный запрет «не убий»? Каким образом некоторые лидеры и активисты подчиняются ценностнорациональным мотивациям вопреки всем прагматическим соображениям?
Идеологии передаются через коммуникационные сети, некоторые из них располагают большими ресурсами знаний и возможностями убеждения, чем другие. Они мобилизуют общественные движения и средства массовой информации – массовые марши и митинги, печатное слово и электронные средства коммуникации, которые все могут осуществлять власть над людьми. Но люди не всеядны. Они принимают только идеологии, имеющие какой-то смысл в их мире, и активно их переистолковывают. Идеологии, оправдывающие этнические чистки, укоренены в реальных, развивающихся исторических конфликтах, хотя должны конкурировать с альтернативными идеологиями (либеральными, социалистическими и т. д.), обычно также предлагающими правдоподобные объяснения. Я подчеркиваю интенсивный характер их конкуренции в большинстве случаев, по меньшей мере на ранней стадии эскалации. На более позднем этапе контроль над средствами коммуникации может дать бˆольшую идеологическую власть этнонационалистам. Но эта часть процесса требует объяснения.
Экономическая власть тоже имеет значение. Во всех случаях чистки замешаны материальные интересы. Обычно члены этнической группы начинают верить, что у них есть общие экономические интересы, направленные против «чужаков». Согласно моему тезису 2, этничность может перекрывать класс. Классовые чувства смещаются на отношения между этническими группами. Угнетенная группа считает другую имперской эксплуататорской нацией, а себя – нацией эксплуатируемой пролетарской (как хуту в Руанде). Эксплуататоры рассматривают свою имперскую власть как несущую цивилизацию низшим этническим группам. Защиту этой власти от революционной угрозы снизу я называю имперским ревизионизмом. Он очевиден у нацистов, сербов и тутси.
Смещение классовых чувств происходит также в экономиках «этнической ниши», когда меньшинства занимают определенные места в разделении труда – еврейские, индийские или китайские торговцы, ирландские или индийские рабочие. Однако, хотя это может привести к дискриминации и политическому протесту, массовое насилие на этой почве представляет редкость (Gurr, 2000: 229). Подобно языковому вопросу, это вопрос практический, где может быть достигнут компромисс. Как отмечает Чуа (Chua, 2004), по всей видимости, худшие сценарии имеют место, когда классовое недовольство народа может быть правдоподобным образом переключено на группы капиталистов-посредников – таких, как евреи или китайцы. Однако в конечном счете большинство этнических ниш слишком полезно для правящих классов, чтобы поддерживать их уничтожение. Так, Коннор (Connor, 1994: 144164) и Горовиц (Horowitz, 1985: 105–135) утверждают, что экономические интересы редко выступают основной причиной этнического конфликта. Попытки Чуа (Chua, 2004) объяснить геноцид и кровавую чистку в Руанде и Югославии рыночной эксплуатацией в общем-то притянуты за уши.
Но это не так в ситуации, когда рынки ограничены явной монополией, будь то в экономиках, где большую роль играет государство, или при исключительном владении землей. Государство, где доминирует одна этническая группа, может исключать другие этнические группы в том, что касается собственности на землю, получения работы или разрешения на открытие бизнеса. Контроль над государством становится основным способом достижения материального процветания, что заставляет этнонационалистов стремиться к созданию собственного государства. В посткоммунистических экономиках и в развивающихся странах государство может контролировать основные отрасли промышленности и зарубежную помощь и распределять материальные блага в соответствии с этнической принадлежностью. Борьба за государство, представляющее такую ценность, может привести к кровавой чистке среди проигравших. Собственность на землю тоже, по существу, носит характер монополии. В отличие от капитала или труда, земля конечна. Владение землей не дает другим ею пользоваться. Если землей владеет одна этническая группа, это исключает другие. В земледельческих обществах эта ситуация представляет угрозу для жизни. Так, колониальное поселенчество создавало особо кровавые этнические конфликты из-за владения землей. Захват земли без необходимости в труде туземцев часто заканчивался этноцидом или геноцидом. Чистки в колониальных условиях определяются прямым конфликтом за источники экономической власти.
Более прозаические конфликты экономического характера возникают уже в самом процессе кровавой чистки. У жертв отнимают ценные вещи, дома и одежду, когда на яростную этническую ненависть накладывается самая обычная алчность. Однако для этого нужны предварительные условия. Чтобы получить выгоду от ограбления соседей, мы должны быть с военной точки зрения сильнее их. Идеологические и политические санкции также обычно не дают нам грабить соседей. Мы считаем, что это морально неверно, и ожидаем наказания по закону. Вопрос, почему идеологические и моральные ограничения вдруг оказываются неэффективными, требует объяснения. Алчность также не может объяснить, почему в XX в. так широко распространились чистки. Собственность подвергалась насильственному захвату на протяжении всех войн, карательных экспедиций и беспорядков, имевших место в истории. Это историческая константа. В самом деле, захват собственности в ходе чисток обычно носит вторичный характер, редко имеет большое значение при их возникновении и привлекателен главным образом для исполнителей низших уровней в то время, когда чистка уже идет полным ходом.
Если группы идентифицируют себя и свои экономические интересы в этнических терминах, класс может быть вытеснен этничностью. Но для этого нужно, чтобы капиталисты, рабочие, мелкая буржуазия, помещики, крестьяне и другие члены этнической группы считали, что они имеют общие экономические интересы. Убедить их в этом – нелегкая идеологическая задача для этнонационалистов. В Новое время этническое или национальное сознание редко одерживало победу над классовым. Даже в случаях, которые я рассматриваю, националистам приходилось спорить с либералами и социалистами, утверждавшими, что в материальном плане главный конфликт носит классовый или секторальный характер.
Военная власть представляет собой социально организованное, концентрированное насилие, несущее смерть. Она играет решающую роль на последних стадиях в худших случаях этнической чистки. Армии, полицейские силы и нерегулярные негосударственные парамилитарные формирования являются основными носителями военной власти. Я буду рассматривать их финансирование, набор и обучение. Кто имеет доступ к оружию и военной выучке и кто предпочитает насилие как способ решения общественных проблем? Можно ли на насилии сделать карьеру, которая представляла бы форму социализации, связанную с убийством?
В ХХ в. этнические чистки в большинстве случаев происходили во время войн или хаотического перехода от войны к миру (Melson, 1992: гл. 9; Naimark, 2001: 187). Обычные войны могут подчиняться правилам, регулирующим обращение с пленными и гражданскими лицами, однако в правилах есть лакуны. В настоящее время нет четких законов, касающихся бомбежек гражданского населения и психологических пыток, а в прежние времена таких законов не было относительно осады городов и существования за счет сельских жителей. Если война идеологически окрашена, количество общих правил может уменьшиться, и гражданские лица превращаются во врагов. Во время Второй мировой войны на Тихоокеанском фронте имели место злодеяния на расовой почве, направленные против вражеских солдат и гражданского населения. На Восточном фронте жестокости совершались со стороны фашистов и коммунистов. Гражданские войны и войны за независимость, содержащие сильный этнический компонент, представляют опасность для этнических групп, оказавшихся в ловушке за линией фронта. Соблазн проведения кровавой чистки увеличивается, когда ее можно провести без особых военных усилий и страха возмездия (см. мой тезис 4б). В ходе военных кампаний на тактическом уровне может возникать соблазн совершения заранее не планировавшихся жестокостей по отношению к гражданским лицам. Длительная осада может вызвать искушение разграбить город после его захвата. Партизанская война может соблазнить ее участников на убийство гражданских лиц. Армия, имеющая превосходство в фиксированных ресурсах и сталкивающаяся с более мобильным врагом, может нападать на гражданские поселения, чтобы принудить врага к более статичной обороне. Подобную тактику применял генерал Шерман против индейцев Великих равнин. Всё это особенности военной власти, способные привести к кровавым чисткам.
Политическая власть представляет собой централизованное регулирование общественной жизни на определенной территории. Я утверждаю, что к эскалации насилия приводит главным образом столкновение притязаний на определенную территорию (ср. Horowitz, 1985; Wimmer, 2002). Мои тезисы находят подтверждение в количественных данных, собранных в рамках проекта «Меньшинства под угрозой» («Minorities at Risk»). Переменные, лучше всего объясняющие волнения на этнополитической почве в конце 90-х гг., – это наличие политического протеста в течение предшествующих пяти лет, нестабильный, расколотый, но репрессивный режим, концентрация населения на определенной территории, всеохватывающая политическая организация и поддержка из-за рубежа. Все эти факторы, помимо концентрации населения, носят политический характер. Результаты показывают, что экономическая, культурная и политическая дискриминация могут приводить к этническому протесту, но редко приводят к волнениям (Gurr, 2000: 234–236).
Политическая власть по своей сути носит территориальный, принудительный и монополистический характер. Идеология имеет отчасти приватный характер и существенным образом добровольна, экономическая жизнь предполагает рыночный выбор, а военная власть в норме носит институциональный характер и далека от нашей повседневной жизни. Но мы обязаны каждый день подчиняться распоряжениям государства, причем не можем выбирать, какого именно (за исключением случаев эмиграции). Столкновение претензий на суверенитет труднее всего поддается компромиссу и скорее всего приводит к кровавым чисткам. Такие чистки происходят чаще всего, когда группы, обладающие властью внутри обоих сообществ, стремятся создать легитимные соперничающие государства «от имени народа» на одной и той же территории, причем цель выглядит реальной, и более слабая сторона получает помощь извне. Ситуация ухудшается при наличии нестабильных, расколотых партократических государств. В этом состоит основное положение данной книги, указывающее на то, что в этой особенно жестокой сфере человеческого поведения в конечном счете решающую роль играют отношения политической власти.
Глава 2. Этнические чистки в древности и Средневековье
Цель этой главы – показать, что, поскольку в государствах древности и Средневековья этничность обычно перекрывалась классом (тезис 2), этнические чистки происходили редко (тезис 1). Хотя массовые убийства, очевидно, не представляют ничего нового для человеческой истории, в прошлом были крайне редки случаи, когда ставилась цель истребить или изгнать целую группу гражданского населения. Завоевателям обычно нужны были люди, чтобы ими править; целью было подчинение и порабощение, а не уничтожение. Некоторые авторы, однако, с этим не согласны и полагают, что кровавые чистки были так же характерны для досовременных, как и для современных обществ. При этом в качестве примеров приводятся пресловутые ассирийцы, а также такие случаи, как разрушение греческих городов-государств карфагенянами или разрушение Нуманции и Карфагена римлянами (Chalk & Jonassohn, 1990; du Preez, 1994: 4–5; Freeman, 1995; Jonasson, 1998: гл. 17). Смит (Smith, 1997) считает, что «геноцид существовал во все исторические эпохи», хотя он выделяет различные его типы – связанный с завоеваниями, религиозный, колониальный и современный – в зависимости от исторического периода.
Ни одна историческая эпоха не располагает монополией на массовые убийства. Прежние времена, может быть, отличались большей жестокостью, чем нынешние, – например, тогда публичные пытки и казни были в порядке вещей. Мы, современные люди, предпочитаем непрямое, хладнокровное убийство на расстоянии. Мы бомбим с безопасной высоты, но нас отталкивает резня, использующая топоры и мечи (Collins, 1974: 421). В прежние времена обращение с низшими классами общества, включая рядовых солдат, было значительно более жестоким, чем сегодня. Дисциплина была жесткой и образцовой, порка была обычным делом, казни происходили часто. С низшими классами врага обращались еще хуже. Войска питались за счет сельского населения и занимались грабежом и насилием в покоренных городах. Однако, как замечает Смит (Smith, 1997), в войнах прежних времен людей убивали за то, где они находятся, а не за то, кто они. В убийстве нет ничего современного, но убийство с целью очистки территории от определенной группы населения – черта Современности.
Однако даже когда речь идет о чистках, это высказывание требует уточнения. Завоеватели-мигранты, стремящиеся сами заселить землю и использовать ее для земледелия или скотоводства, наделены сильной экономической мотивацией, нацеленной на изгнание туземцев из страны, и могут заняться «дикими» депортациями, которые, в свою очередь, могут перерасти в этноцид, если результатом становится голод. В некоторых случаях дело может дойти до локального геноцида, как это происходило во время некоторых набегов гуннов, монголов и англосаксов. Если набеги совершались скотоводами на районы с оседлым населением, процент погибших местных жителей мог быть высоким, так как скотоводам для хозяйства нужно больше земли, чем земледельцам. Тем не менее большинство массовых движений древности, обычно описываемых как завоевания, носило совсем другой характер.
Индоевропейцы, от языка которых происходят почти все европейские языки, видимо, распространялись на запад не путем завоевания, а благодаря многовековому процессу распространения неолитического земледелия, передового для тех времен. Ренфрю (Renfrew, 1992) приходит к выводу, что ни один человек на протяжении своей жизни, возможно, не переезжал дальше, чем на несколько миль. Большинство предполагаемых завоевателей ранней истории приходило к власти постепенно. Долуханов (Dolukhanov, 1994: 374) пишет, что ближневосточные семиты впервые появились в качестве кочевников-скотоводов, живших рядом с оседлыми земледельцами. Они в значительной степени заимствовали культуру этих земледельцев, проникая в их города в качестве рабочих, наемников и торговцев. Впоследствии они восставали и завоевывали оседлое население. Позже они создавали великие империи – аккадскую, хеттскую и др., – управляя земледельцами, но не изгоняя их.
Большинство наших знаний относится к завоевателям, более близким нам по времени, таким как варвары, покорившие Римскую империю. Вестготы, покорившие долину Гаронны, представляли собой довольно типичный случай. Они составляли лишь одну шестую часть коренного населения долины. Как пишет Браун (Brown 1996: 57–62), их воспринимали не как «пришельцев из космоса», а как хорошо знакомых соседей, которые часто раньше участвовали в защите империи от других завоевателей. Они набирали в свое войско римских изгоев, бедняков, стремившихся улучшить свое положение с помощью насилия. За исключением «редких больших набегов, внушающих ужас» (таких, как набег гуннов Аттилы), которые могли носить в высшей степени разрушительный характер, речь обычно шла о «потраве лугов, вырубке сельскохозяйственных угодий и уничтожении масличных рощ» как способе принуждения к покорности. Сопротивляющихся убивали, женщин насиловали, а голод и болезни довершали дело. «Цель состояла в причинении вреда ровно настолько, сколько необходимо, чтобы местные лидеры подумали, стоит ли им продолжать сопротивление; вместо этого им предлагалось платить дань или открывать ворота новым хозяевам». Готы не хотели устраивать чистки цивилизованных народов, они сами хотели цивилизоваться. Как лаконично сказал остготский король Теодорих, «преуспевающий гот хочет быть похожим на римлянина; только бедный римлянин хотел бы стать готом». Он описывал латеральную ассимиляцию, происходящую между сравнимыми общественными классами двух народов. Готы из высших классов становились римлянами, а некоторые римляне из низших классов превращались в готов. То же самое происходило между монголами и китайцами в периоды относительной слабости Китайской империи. Эти варвары практиковали показательное подавление, за которым следовала не чистка, а частичная классовая ассимиляция. В этом, видимо, состояла самая распространенная схема завоевания варварами более цивилизованных народов. По мере покорения они ассимилировали все больше народов в свою культуру и идентичность. Когда наследники Чингисхана достигли Ближнего Востока, войска «монгольских» завоевателей состояли главным образом из тюркских воинов, подобранных по дороге. Получившееся государственное образование отличалось крайней этнической пестротой – и обратилось в ислам.
Поскольку цель цивилизации состояла (и до сих пор состоит) в том, чтобы избежать тяжелой работы, варварам нужны были люди, которыми они могли бы управлять и которые бы работали и создавали материальный избыток. Если бы они убили этих людей, им пришлось бы тяжело работать самим. В крайнем случае они могли убивать или изгонять целые элиты, причиняющие беспокойство, жителей строптивых городов и некоторые группы местного населения. Истребление жителей города обходится в несколько тысяч человеческих жизней, как в Нуманции и двух греческих городах-государствах, о которых речь шла выше. Их сделали примером в назидание другим. Однако элиты, согласившиеся покориться, были завоевателями ассимилированы. Поскольку большинство империй и варваров-завоевателей покоряло своих близких соседей, те не считали покорителей чужаками. Кровожадность древних завоевателей служила сигналом, побуждающим к сдаче другие города и районы; цель более систематического истребления жителей не ставилась.
В большинстве городов в истории проживало очень разнородное население, и существовала этническая и религиозная напряженность, которая вела к беспорядкам. В худших случаях они перерастали в погромы – необузданные вспышки насилия, направленные на то или иное меньшинство и происходящие как от напряжения внутри сообщества, так и в результате стратегии «разделяй и властвуй», применяемой правителями. Очевидные примеры – обвинение христиан в римском пожаре при Нероне и нападения на евреев в средневековой Европе. В те времена, так же как сейчас, война иногда переходила в этноцид. Разорение больших территорий, сожжение урожая и домов и убийство домашних животных приводят к массовой гибели гражданских лиц, которая считалась приемлемой ценой. Гнев, мстительность, паника, пьянство или паранойя некоторых правителей (очевидные примеры – Аттила, Тимур или Иван Грозный), возможно, приводили к еще бˆольшим ужасам. Крайние случаи насилия оплакивались уже современниками. Смит (Smith, 1997: 232) неправ, утверждая, что такие действия начали вызывать «ощущение морального ужаса» только в Новое время.
Рим воевал с Карфагеном примерно сто лет. Когда Рим начал побеждать, им руководила сильная жажда мести. Проводилась политика, выражаемая формулой Carthago delenda est («Карфаген должен быть разрушен»). Город был разрушен до основания, а земля посыпана солью, чтобы на ней ничего не росло (видимо, эти сведения носят легендарный характер, учитывая количество соли, которое для этого было нужно). Это привело к массовой гибели жителей Карфагена. Тем не менее речь идет об исключительном случае, потому что римские завоеватели толерантно относились к пунической культуре. Она просуществовала в Испании по меньшей мере еще три века, а в Северной Африке и Сардинии еще пять веков, практически до конца Римской империи. Высшим классам пунического общества была почти сразу же предоставлена определенная политическая автономия, и они начали ассимилироваться, причем за ними последовали и другие классы общества (Lˆopez Castro, 1995: 157–159, 210–219).
Этничность в ранней истории
Общее объяснение этому феномену найти нетрудно. Как заметили Эрнест Геллнер (Gellner, 1983) и я (Mann, 1986), большинство крупных государств исторически представляли собой частное владение социальной элиты, культура которой отличалась от культуры масс. В терминах Гидденса – это были классово-разделенные общества. Этнические группы существовали, но в больших обществах одна или две такие группы управляли другими. Таким образом, массовая чистка одного народа другим или во имя другого представляла собой исключительный случай. Такой опасности подвержены лишь общества, в которых весь народ разделяет одну и ту же коллективную идентичность и политические притязания. Возникновение таких народов проходило в два этапа. Первый совпадает с возникновением религий спасения с их проповедью, что люди, принадлежащие ко всем классам и регионам, одинаково наделены душой и в одинаковой степени могут быть спасены. Таким образом, была демократизирована сакральная, но не секулярная сфера. Макроэтнические группы в полной степени сформировались на второй стадии с ее стремлением к секулярной демократии и вытекающим из него потенциалом серьезных этнических чисток, которые, таким образом, характеризуют прежде всего Современность.
Ощущение этнической принадлежности очень распространено в человеческой истории. Основные «кубики», из которых складывается общество, – это родство и соседство. Если такие связи сохраняются в течение поколений, создается ощущение этнической общности. Многие клановые и племенные группы, изучаемые антропологами, представляли собой такие микроэтнические сообщества. При должных условиях они могут расширяться, образуя небольшие народы. Крупные государства ранней истории обычно состояли из большого количества таких маленьких этнических групп. Но можно ли назвать более крупные сообщества макроэтническими? Можно ли сказать, что аккадцы, хетты или ассирийцы обладали ощущением общей идентичности, выходящей за пределы региона и класса?
Долуханов (Dolukhanov, 1994) подытожил археологические знания об этничности в наиболее ранних цивилизациях древнего Ближнего Востока. Неолитическая революция, произошедшая около 8000 г. до н. э., создала широкие и нежесткие «социокультурные сети» взаимодействия, соединяющие множество мелких групп. Для этого времени не была характерна культурная обособленность или коллективное переживание этнической принадлежности. Только появление небольших, сравнительно прочных вождеств между 4000 и 3000 гг. до н. э. вызвало к жизни определенные формы этнического самосознания. Однако когда эти вождества были поглощены большими цивилизациями, обладающими письменностью, этнические границы оказались размыты. Правящая элита, жреческий класс и торговцы могли принадлежать к различным этническим меньшинствам, чуждым основной массе местного земледельческого населения. Так происходило в Аккадской, Хеттской, Ассирийской и Урартской империях, которые скрепляла военная власть, а не общая культура и тем более не этническая солидарность. Безусловно, поскольку большинство завоевателей в регионе говорили на семитских языках, письменная форма одного из них, аккадского, превратилась в общий язык элит по всему Ближнему Востоку, хотя массы на нем нигде не говорили.
В те времена этническая принадлежность не цементировала государства.
Безусловно, социальные и географические расстояния играли решающую роль: насколько далеко вниз и в стороны может распространиться ощущение общей этнической идентичности? Чем меньше расстояние, плотнее население и меньше расслоение на классы, тем скорее возникало чувство общей этнической принадлежности. Давайте рассмотрим инфраструктуры четырех истоков социальной власти.
Идеологическая власть передавалась главным образом через язык, грамотность и религию. Простой народ в крупных обществах прежних времен не располагал общим языком и был неграмотен. Элиты могли использовать один или два официальных общих языка, которые обычно не были для них родными и разговорными. Подобно аккадскому, греческий, латынь и персидский не имели отношения к большинству разговорных языков соответствующих империй.
Древние религии отличались разнообразием. Некоторые из них были связаны с определенным классом. В Месопотамии религиозные ритуалы проводились специально для правящих элит во дворцах и храмах, куда не пускали простых людей. Синкретические религии поглощали многочисленные местные культы и формировали на официальном уровне слабооформленный пантеон. Вызывает сомнение наличие такой интеграции на народном уровне, хотя некоторые культы могли быть широко распространены. Правители обычно толерантно относились к народным и местным религиям. Когда Александр Македонский прибыл в Мемфис, соображения политической целесообразности потребовали от него почтить египетских богов. В ответ он был принят как новый фараон. Римский император Август, как утверждают, испытывал отвращение к египетским жертвоприношениям животных, но сохранились стелы, изображающие, как он приносит жертвы. Покуда группа оказывала почтение официальным божествам, она могла исповедовать любую религию. Поскольку христиане этим требованиям не подчинялись, их преследовали. До появления монотеистических религий спасения для большинства империй характерны были толерантность или синкретизм, причем ислам так и остался толерантным, а индуизм синкретическим. Религии укрепляли мультиэтничность, а не макроэтничность. Некоторые религиозные культуры даже распространились на несколько государств, как в Шумере и Греции, и дали представителям большинства общественных классов (возможно, за исключением рабов) ощущение этнической принадлежности к грекам или шумерам. Но с политической точки зрения это не имело большого значения. Города-государства тратили много времени на борьбу друг с другом, и греки объединились против Персии, только когда столкнулись с угрозой персидской гегемонии. Если бы этого не было, одни из них вступили бы в союз с Персией, а другие воевали бы против нее.
Существовали ли протонациональные религии, которые способствовали цементированию макроэтнической идентичности? В качестве основного примера обычно приводится иудаизм. Действительно, богом всех евреев стал Яхве. Его культ превратился в ядро еврейского ощущения этнической идентичности и стремления евреев к политической свободе. Однако археологи и лингвисты считают, что это произошло значительно позже, чем утверждает библейская традиция, – после падения израильского государства и отчасти потому, что персидские правители поддерживали покоренные народы в их стремлении вырабатывать стабильную коллективную идентичность. Даже тогда это относилось только к Палестине – части страны Израиль (Thompson, 1992: 422). При римлянах евреи, действительно, представляли собой этническую проблему, являясь необычайно сплоченной группой, оказывающей сопротивление и подвергающейся преследованиям. В более поздней истории такой случай представляли собой армяне. Но я сомневаюсь, что подобных случаев было много.
Экономическая власть также имела значение. В большинстве ранних случаев преобладало мелкомасштабное натуральное хозяйство, включавшее деревни и поместья, расположенные в пределах расстояния, которое можно было пройти пешком. Богатые люди могли проехать на более дальнее расстояние; люди, проживавшие возле рек, озер и морей, пригодных для навигации, могли доставлять товары значительно дальше. Торговцы перевозили дорогостоящие товары на большие расстояния, но экономический горизонт большей части населения носил сугубо локальный характер. Вокруг городов, особенно столиц, возникали более густые сети путей сообщения, разраставшиеся глубоко внутрь сельских районов. Ирригация, особенно в экономиках, основанных на орошении, связывала друг с другом и с центрами большие сельскохозяйственные площади. Столицы и сельские районы, необычные экологические условия, высокоэффективные имперские режимы, а также тесные связи между торговцами, ремесленниками и правителями могли порождать определенную степень интеграции, хотя культура торговцев носила космополитический и транснациональный характер. В европейских странах эпохи раннего Нового времени национальное сознание пробуждалось в районах, окружающих столицы, – например, вокруг Лондона и Парижа. Однако в более ранних обществах экономика, достигшая такой степени интеграции, чтобы создать солидарность на макроэтническом уровне, представляла собой большую редкость. В экономических терминах здесь можно говорить об обществах, разделенных на классы.
Большинство крупных государств в истории было создано с помощью военной власти. Обычные семьи сильнее всего чувствовали тяжесть государственной власти из-за военной службы. Военная служба также представляла собой возможность проявить лояльность государству. Однако большинство армий формировалось из воинских каст или феодальных рекрутов, в большей степени проявлявших верность своей касте или господину, чем государству, тем более нации. При сплочении макроэтнических сообществ большую роль играл воинский призыв, особенно в тех обществах, где норму представляли граждане-солдаты, хотя обычно они должны были обладать богатством, чтобы идти на войну с собственным оружием, доспехами и лошадьми. Ассирийская империя опиралась на хорошо обученных пехотинцев, которых набирали из крестьян ее центральных районов. Возможно, они частично разделяли воинскую культуру своих правителей и получали определенную долю военной добычи; таким образом, у разных классов общества возникало ощущение принадлежности к ассирийцам.

