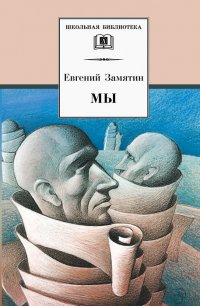Читать онлайн Мы бесплатно
- Все книги автора: Евгений Замятин
Текст печатается по изданию: Замятин Е.И. Мы: Романы, повести, рассказы, сказки. – М.: Современник, 1989.
Главный редактор С. Турко
Руководитель проекта А. Василенко
Корректоры А. Кондратова, Т. Редькина
Компьютерная верстка К. Свищёв
Художник Ю. Буга
Все права защищены. Данная электронная книга предназначена исключительно для частного использования в личных (некоммерческих) целях. Электронная книга, ее части, фрагменты и элементы, включая текст, изображения и иное, не подлежат копированию и любому другому использованию без разрешения правообладателя. В частности, запрещено такое использование, в результате которого электронная книга, ее часть, фрагмент или элемент станут доступными ограниченному или неопределенному кругу лиц, в том числе посредством сети интернет, независимо от того, будет предоставляться доступ за плату или безвозмездно.
Копирование, воспроизведение и иное использование электронной книги, ее частей, фрагментов и элементов, выходящее за пределы частного использования в личных (некоммерческих) целях, без согласия правообладателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.
© Бабицкая В., предисловие, 2022
© ООО «Альпина Паблишер», 2023
* * *
Евгений Замятин. 1919 год.[1]
Предисловие «Полки»
Роман о невозможности принудительного счастья, уже в 1920-е угадавший главные черты тоталитарных идеологий, образец жанра для всех русских и западных антиутопий.
Варвара Бабицкая
О чем эта книга?
В XXVI веке на территории бывшей России построено Единое Государство всеобщего равенства. Люди с номерами вместо имен, живущие в городе из стекла и облаченные в одинаковые голубые униформы, синхронно просыпаются, глотают нефтяную пищу, занимаются сексом по розовым талонам и единогласно избирают одного и того же Благодетеля. Любое отступление от идеального миропорядка карается смертью. Главный герой под нумером Д-503 – строитель «Интеграла», космического корабля, который должен принести систему математически безошибочного счастья на другие планеты. Но случается непредвиденное: Д-503 влюбляется в женский нумер I-330, деятельницу подпольного сопротивления, мечтающую принести в мир тотального контроля и уравнения хаос, вернуть людей к природе. Это атавистическое чувство меняет героя, заставляет его выйти за Зеленую Стену, где живут дикие люди, обросшие шерстью, превращает его в писателя и в революционера: у Д-503 отрастает душа, но это ненадолго.
«Мы» считается первой антиутопией, и многие ее предсказания сбылись раньше намеченного автором срока: в романе можно увидеть практики и принципы тоталитарных государств и ужас перед наступлением цивилизации машин.
Когда она была написана?
Замятин, по первой профессии инженер-кораблестроитель, с 1916 года находился в Англии, где руководил постройкой ледоколов для России. После Февральской революции 1917 года он поторопился вернуться в Россию, чтобы своими глазами наблюдать исторические события – плодом его наблюдений отчасти и стал роман «Мы».
Замятин указывал разные годы работы над романом. В автобиографии 1924 года он сообщает, что роман «Мы» написан в 1921–1922 годах, в другом месте пишет: «Роман мой был написан в 1920 году», а в автобиографии 1928-го – новая датировка: «Веселая, жуткая зима 1917/18 года. Бестрамвайные улицы, длинные вереницы людей с мешками, десятки верст в день, буржуйки, селедки, смолотый на кофейной мельнице овес. И рядом с овсом – всякие всемирные затеи: издать всех классиков всех времен и народов, объединить всех деятелей всех искусств, дать на театре всю историю всего мира… Писал в эти годы сравнительно мало; из крупных вещей – роман “Мы”». Друг Замятина художник Юрий Анненков свидетельствует, что летом 1921 года, отдыхая вместе с ним и со своей женой в глухой деревушке на берегу Шексны, писатель уже окончательно «подчищал» свой роман, параллельно работая над переводами то ли из Герберта Уэллса, то ли из Уильяма Теккерея.
Как она написана?
«Мы» – своеобразная иллюстрация к размышлениям о новом языке искусства, которые Замятин формулирует в начале 1920-х годов в ряде статей – «Рай» (1921), «О синтетизме» (1922), «Новая русская проза» (1923), «О литературе, революции, энтропии и о прочем» (1923) – и лекциях по технике художественной прозы, которые он читает начинающим писателям. В его публицистике возникают и повторяются все основные идеи романа – о бесконечной революции, о взаимодействии энтропии и энергии, которое управляет миром.
В лекции «О языке» (1920–1921) Замятин утверждал, что язык прозы должен быть «языком изображаемой среды и эпохи». Но как поступать автору, который описывает фантастическую среду и еще не наступившую эпоху?
В «Мы» таких приемов несколько.
Чтобы обозначить контраст между современным ему языком 1920-х годов и неведомым языком XXVI века, он вводит неологизмы: «юнифа» (голубая униформа, единственный вид одежды для нумеров), «аэро» (воздушный транспорт, заменяющий нумерам автомобили). Одновременно самые обычные слова русского языка героем закавычиваются, становятся историзмами[2], потому что описывают давно исчезнувшие реалии: «хлеб», «душа», «пиджак», «квартира», «жена».
Странность несуществующего языка Единого Государства показывают новообразованные сложносоставные прилагательные («каменнодомовые», «пластыре-целительные», «волосаторукий», «миллионоклеточный», «детско-воспитательный», «маятниково-точны», «машиноравны») и наречия (I-330 улыбается «иксово», то есть загадочно, Благодетель поднимает руку «чугунно» или «стопудово» – последнее слово в другом значении вошло в русский язык).
Насквозь рационалистическое мышление нумеров отражают научные, в первую очередь математические, метафоры, начиная со сквозного образа интеграла: «две слитных, интегральных ноги, две интегральных, в размахе, руки»; «циркулярные ряды благородно шарообразных, гладко остриженных голов». Вообще, язык Замятина дотошно сконструирован, перенасыщен метафорами – недаром Горький писал, что от него «всегда пахнет потом».
Оборванные предложения, оригинальная пунктуация – двойные тире, постоянные двоеточия – воспроизводят «поток сознания» или речь в момент смятения: «я говорил как в бреду – быстро, несвязно, – может быть, даже только думал. – Тень – за мною… Я умер – из шкафа… Потому что этот ваш… говорит ножницами: у меня душа… Неизлечимая…»
Жанр «Мы» – синтетический: это и философский трактат, и политический памфлет, и любовно-психологический роман, и авантюрная история, и научная фантастика, и все это – в форме дневника.
Что на нее повлияло?
Утопическое «Государство» Платона, его же «Законы» и вся порожденная им утопическая традиция: «Утопия» Томаса Мора, «Город Солнца» Кампанеллы и так далее. От Платона здесь – селективный подход к человеческому размножению, регуляция частной жизни, утилитарное отношение к искусству, которое должно воспитывать граждан в правильном духе и отнюдь не обязано питать их чувствительность и будить воображение («В наше государство поэзия принимается лишь постольку, поскольку это гимны богам и хвала добродетельным людям»), иерархическая структура общества: его философам-правителям, Стражам – защитникам Государства и полиции в одном лице – и обычным ремесленникам и землепашцам условно соответствуют у Замятина «сократовски лысый» Благодетель, Хранители и рядовые нумера.
Множество других философов: например, Николай Фёдоров, который в своей «Философии общего дела» поставил перед человечеством цель – овладев стихийными силами в природе и в самих себе, выйти в космос, освоить его, преобразить и заняться «научным воскрешением предков»; у Замятина таким общим делом становится строительство «Интеграла», космического корабля, который должен принести принудительное счастье жителям других планет, стоящим на более низкой ступени исторического развития.
Писатели-фантасты – прежде всего Герберт Уэллс, чьим «городским сказкам с социальным моментом» Замятин посвятил большой очерк. Но и фантасты-соотечественники: например, Александр Богданов[3], в своих социалистических утопиях рисовавший идеально организованный мир-фабрику. Забавный претекст «Мы» можно усмотреть в антиутопическом рассказе другого Николая Фёдорова, озаглавленном «Вечер в 2217 году» и опубликованном в 1906-м, – там уже обнаруживаются основные признаки замятинской антиутопии: обобществление детей и упразднение семьи, евгеника, «воздушники» и «самодвижки», личные номера, обязательная повинность в «Армии Труда» и т. п. Есть там и бережно законсервированный «старый уголок» с цветником и газетным киоском – возможный прототип замятинского Древнего Дома.
На художественный строй романа сильно повлиял Андрей Белый – отсюда, например, широкое применение математических терминов как метафор.
Всячески – Достоевский. К образу Великого инквизитора и рассуждениям Ивана Карамазова восходит фигура Благодетеля. А весь роман в целом с его идеей «математически безошибочного счастья» – диалог с «Записками из подполья», герой которых вопрошал: «Почему вы так наверно убеждены, что не идти против настоящих, нормальных выгод, гарантированных доводами разума и арифметикой, действительно для человека всегда выгодно и есть закон для всего Человечества?»
В каком-то смысле «Мы» можно рассматривать как развернутую издевательскую иллюстрацию к манифестам идеологов Пролеткульта[4], призывавшим к «машинизированию» не только рабоче-производственных методов, но и мышления.
Наконец, Замятин связывал свою «склонность к шаржу, гротеску, к синтезу фантастики с реальностью» с влиянием Гоголя.
Как она была опубликована?
В 1921 году Замятин отправил рукопись «Мы» в Берлин, в издательство Гржебина[5], с которым был связан контрактами, и одновременно предложил свой роман петроградскому издательству «Алконост», надеясь прежде всего напечатать его в России.
В России, однако, книгу не пропустила цензура: то, что роман «непроходной», стало окончательно ясно к 1924 году. Вероятно, по причине этого запрета роман впервые вышел в свет в английском переводе Г. Зильбурга – в том же 1924 году в Нью-Йорке. За этим последовали чешский (Прага, 1927) и французский (Париж, 1929) переводы – роман стал важной частью мировой литературы прежде, чем добрался до русского читателя. По-русски роман «Мы» впервые был издан пражским журналом «Воля России»[6] (номера 2–4 за 1927 год) – без ведома и согласия автора, в сокращенном варианте и, что примечательно, в обратном переводе с чешского языка.
Полный русский текст романа впервые был напечатан в 1952 году в Нью-Йорке Издательством имени А. П. Чехова[7]: источником публикации стала, по всей видимости, рукопись, присланная автором в Нью-Йорк для перевода (рукопись эта, однако, до сих пор не обнаружена). В 1988 году «Мы» был опубликован в СССР в журнале «Знамя», а в 2011 году в издательстве «Мiръ» роман был опубликован по единственному сохранившемуся авторскому машинописному экземпляру.
Как ее приняли?
Как клевету. Первые слушатели и читатели, познакомившиеся с романом еще до публикации, восприняли его как пасквиль на большевиков. Максим Горький в личной переписке замечал: «Вещь отчаянно плохая. Усмешка – холодна и суха, это – усмешка старой девы».
С гневной статьей выступил критик Александр Воронский[8], создавший прецедент в истории русской литературной критики, – впервые в прессе громилось неопубликованное произведение; позднее это станет доброй советской традицией – «Пастернака не читал, но осуждаю»[9]. Убийственно ядовито писал о «Мы» Виктор Шкловский в статье с выразительным заглавием «Потолок Замятина»: «Герои не только квадратны, но и думают главным образом о равности своих углов. ‹…› По-моему, мир, в который попали герои Замятина, не столько похож на мир неудачного социализма, сколько на мир, построенный по замятинскому методу. Ведь, вообще говоря, мы изучаем не Вселенную, а только свои инструменты». Шкловский назвал Замятина эпигоном Андрея Белого, упрекнув его в механической эксплуатации одного приема: «Весь быт… представляет из себя развитие слова “проинтегрировать”».
Появились, впрочем, и благожелательные рецензии. Яков Браун[10], отмечавший европейскую эрудицию Замятина, его «тонкую, инженерную» работу над формой, «сгущенную (под прессом ста атмосфер) экспрессию образов», сравнил его в этом с Флобером. В то же время Браун сетовал, что Замятин «сам слишком инженер и конструктор, чтобы вырваться за “Зеленую Стену” Разума к гениальным прозрениям», чтобы изобразить «изумительный XX век» – век социализма и «мировой революции духа» (тут нельзя не заметить, что Браун, будучи современником Замятина, не имел возможности оценить верность его пророчеств, которые изумительный XX век во многом оправдал).
Юрий Тынянов в статье «Литературное сегодня» признал роман удачей, отметив стилистическое мастерство автора: «Инерция стиля вызвала фантастику. Поэтому она убедительна до физиологического ощущения». Но и Тынянов – редкий критик, анализировавший «Мы» не с политической, а с художественной точки зрения, – не оценил его синтетический жанр, высказав претензию, что в утопию напрасно «влился роман – с ревностью, истерикой и героиней», между тем как фантастике это не пристало: «розовая пена смывает чертежи».
Что было дальше?
Отношения писателя с коллегами и властями усложнялись начиная с его возвращения в Россию в 1917 году. Замятина, «внутреннего эмигранта» (по определению Троцкого), чуть не выслали на «философском пароходе»[11] в 1922 году после публикации статьи «Я боюсь», в которой он нападал на Пролеткульт и новую советскую ортодоксальность. Спасло заступничество влиятельного большевика, редактора «Красной нови» Воронского – который, однако, в том же году обрушится в печати на неопубликованный роман «Мы».
В 1929 году в советской прессе против Замятина началась скоординированная кампания травли. Поводом к ней стала публикация крамольной повести Бориса Пильняка «Красное дерево» в берлинском издательстве «Петрополис»[12], заодно вспомнили и другое произведение, запрещенное к публикации в России и напечатанное за рубежом, – «Мы». Кампания против Пильняка и Замятина стала первым прецедентом преследования за сам факт зарубежной публикации (вскоре опустился железный занавес, а преследованию подверглись и другие «попутчики»[13] – Булгаков, Платонов, Эренбург). Как отмечала эмигрантская пресса, «впервые с самого начала русской письменности русские писатели не только признали полезным существование цензуры, но осудили попытку уклонения от нее путем заграничных изданий»{1}.
Замятину пришлось покинуть пост председателя Ленинградского отделения Всероссийского союза писателей. Путь в литературу ему был закрыт – остановлен готовившийся к публикации четырехтомник, его пьесы снимали с репертуара и запрещали к постановке. В 1931 году писатель в письме обратился к Сталину с просьбой выпустить его за границу: «Для меня как писателя… смертным приговором является лишение возможности писать, а обстоятельства сложились так, что продолжать свою работу я не могу, потому что никакое творчество немыслимо, если приходится работать в атмосфере систематической, год от году все усиливающейся травли». Просьба эта была удовлетворена благодаря заступничеству Максима Горького: Замятин стал последним писателем, отпущенным в такой ситуации, – этой милости не удостоился ни просивший о том же Михаил Булгаков, ни, позднее, сам Горький.
Книга Замятина породила целый жанр, повлияв на все западные антиутопии, такие как «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли, «1984» Оруэлла и «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери.
В 1982 году роман «Мы» был экранизирован в ФРГ режиссером Войтехом Ясны. В 2018 году началась работа над первой российской экранизацией: ею занимается компания всеядного режиссера Сарика Андреасяна.
Почему роман написан в форме дневника?
Формально Д-503 начинает свои записи, отвечая на социальный заказ[14]: когда огнедышащий «Интеграл» понесет «математически безошибочное счастье» жителям других, отсталых планет, то прежде принуждения предполагается использовать убеждение – нумеров призывают сочинять «трактаты, поэмы, манифесты, оды или иные сочинения о красоте и величии Единого Государства». На деле этот остроумный прием позволяет показать утопический мир под необычным углом.
В классической утопии рассказчик – турист, подобный Рафаилу из давшей название жанру «Утопии» Томаса Мора, чья задача – поведать миру о государстве всеобщего благоденствия, дать очерк о географии, «нравах, учреждениях и законах». Но в замкнутом мире Единого Государства нет «других», которые нуждались бы в таком очерке: для нумеров, живущих под стеклянным колпаком, описываемая реальность – очевидная и единственно возможная во веки веков. «Представьте себе – квадрат, живой, прекрасный квадрат, – пишет Д-503. – Квадрату меньше всего пришло бы в голову говорить о том, что у него все четыре угла равны: он этого уже просто не видит – настолько это для него привычно, ежедневно».
Новизна «Мы» в том, что Замятин изобразил утопический мир изнутри, глазами его жителя-нумера, и этот личный взгляд на коллективный рай породил новый жанр – антиутопию. В настоящей утопии невозможен сюжет: «Даже у нас процесс отвердения, кристаллизации жизни еще не закончился… Идеал (это ясно) там, где уже ничего не случается», – пишет Д-503. Добросовестные записи Д-503 фиксируют нарушения миропорядка и собственное смятение, «как тончайший сейсмограф», показывая, помимо его собственной воли, что статичность Единого Государства – мнимая, она держится на доносах, арестах и смертной казни за любое вольномыслие.
Яков Чернихов. Химзавод. Композиция на тему «завод серной кислоты» (1-й вариант). Из книги «Основы современной архитектуры», 1931 год[15]
Герой в начале книги – носитель коллективного сознания, он считает, что все нумера одинаковы, за вычетом мелких физических различий (вроде формы носов), которые, верит он, наука тоже устранит, исключив любой повод для зависти. И тут в его мире впервые появляется «другой»: «Одни писали для современников, другие – для потомков, но никто никогда не писал для предков или существ, подобных их диким, отдаленным предкам…» – попытавшись представить себе чужое сознание, Д-503 впервые смотрит со стороны на самого себя. Дневник не просто становится зеркалом его психологических изменений, вызванных любовной историей с I-330, его вовлечением в заговор подпольной организации «Мефи» и встречей с дикими людьми из внешнего мира. Процесс писания сам по себе пробуждает в нем личность. Д-503 начинает свои записи с пословного цитирования Государственной Газеты, безличной трансляции «канонического сверхтекста», каждую запись предваряет ее «конспектом» («Конспект: Объявление. Мудрейшая из линий. Поэма»). Но как только в нем под действием страсти и ревности начинает проклевываться «я» – пугающее, дикое, атавистическое, с лохматыми лапами, – текст становится все более импрессионистическим: «…Нет, не могу, пусть так, без конспекта»; «Запись 38-я. Конспект: Не знаю какой. Может быть, весь конспект – одно: брошенная папироска» (так же в гоголевских «Записках сумасшедшего» по мере того, как путается сознание героя, обычные датировки превращаются в «Мартобря 86-го числа. Между днем и ночью» и «Числа не помню. Месяца тоже не было. Было черт знает что такое»).
При этом возможностью описать устройство утопии, досконально известное ее гражданину, автор пользуется очень скупо: мы знаем, что каждый кусок нефтяной пищи положено прожевать 50 раз, но не знаем, как ее изготовляют и где берут нефть; мы не заглядываем на Детско-воспитательный завод и не узнаём множества других бытовых и технических подробностей. Научная фантастика интересует Замятина не сама по себе, а только как стерильная среда для исследования массового сознания, тоталитарной психологии, а его микроскопом становится самый интимный, лирический литературный жанр – дневник.
Почему в едином государстве все дома – из стекла?
Стеклянная архитектура – традиционный для русской утопической мысли образ. Уже в утопических «Петербургских письмах» Одоевского «на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей»; в «Что делать?» Чернышевского Вера Павловна видит во сне счастливое социалистическое общество, живущее во дворцах, где «чугун и стекло, чугун и стекло – только». У этих дворцов был реальный прообраз – Хрустальный дворец из чугуна и стекла площадью 90 000 м², построенный Джозефом Пакстоном по образцу оранжереи в лондонском Гайд-парке ко Всемирной выставке 1851 года[16]. Хрустальный дворец стал для русских классиков символом научного прогресса, промышленности, рационального устройства быта. Если адом была реальность – темные сырые углы, по которым ютился униженный, угнетенный и рахитичный маленький человек Достоевского, то рай предстояло построить на небесах – физически крепкий, сытый, спортивный и загорелый человек будущего, избавленный машинами от изнурительного физического труда, должен был жить на солнце.
Прозрачность стекла символизирует коллективную жизнь. У Чернышевского люди будущего, обобществившие уже быт, процесс принятия пищи, воспитание детей, только на время удаляются по двое в специально отведенные комнаты; у Замятина им соответствует право на час опустить шторы в «сексуальные дни». «А так среди своих прозрачных, как бы сотканных из сверкающего воздуха, стен – мы живем всегда на виду, вечно омываемые светом, – пишет Д-503. – Нам нечего скрывать друг от друга. К тому же это облегчает тяжкий и высокий труд Хранителей. Иначе мало ли что могло быть».
Это описание несет в себе внутреннее противоречие: нумерам «нечего скрывать» только благодаря тотальной слежке. С этим-то образом Хрустального дворца полемизирует Достоевский в «Записках из подполья» – не с архитектурным проектом, разумеется, а с идеей коллективного, рационально устроенного счастья: «…Тогда, говорите вы, сама наука научит человека… что ни воли, ни каприза на самом-то деле у него и нет, да и никогда не бывало, а что он сам не более, как нечто вроде фортепьянной клавиши или органного штифтика», все поступки человеческие «будут расчислены… и занесены в календарь… ‹…› Тогда выстроится хрустальный дворец».
В первые годы советской власти художники и архитекторы – Николай Ладовский, Владимир Татлин, Антон Лавинский – проектировали города будущего, вдохновляясь той же идеей «прозрачного» коммунального общежития. Но эта утопическая архитектура не прижилась – «жалкая клеточная психология» взяла свое, человек из подполья оказался прав. От ветшающих домов-коммун советский проект пришел в конце концов к непрозрачным клеточкам хрущевок.
Зачем в едином государстве так жестко регламентирована сексуальная жизнь?
«Любовь и голод владеют миром», – замечает Д-503 вслед за неизвестным ему Шиллером. Победив голод при помощи нефтяной пищи и построив замкнутый урбанистический космос, Единое Государство подчиняет себе и вторую природную силу. «Lex sexualis» гласит: «Всякий из нумеров имеет право – как на сексуальный продукт – на любой нумер». Табель сексуальных дней и система розовых талонов должны исключить страсть, ревность и другие деструктивные болезненные явления из сексуальной жизни нумеров.
Эта абсурдистская идея не изобретение Замятина – она отражает настроения эпохи. От знаменитой «теории стакана воды», согласно которой половое влечение следовало удовлетворять так же просто и деловито, как голод или жажду, до предложения учредить «гигиенические публичные дома» для безопасного удовлетворения потребностей учащейся молодежи. Идеей регуляции сексуальной жизни, семьи и воспитания детей, вплоть до евгеники[17], была одержима советская власть в первые свои годы. В «Двенадцати половых заповедях революционного пролетариата» Арон Залкинд[18] декларировал право класса «вмешаться в половую жизнь своих сочленов», чтобы направлять их «по линии социалирования сексуальности, облагорожения, евгенирования ее», – здесь рукой подать до рассуждения Д-503 о благодетельности детоводства по аналогии с садоводством и куроводством, Материнской и Отцовской Норм и о дикости неконтролируемого, «ненаучного» совокупления.
Над идеями Коллонтай[19] о сознательном зачатии и коллективном воспитании детей не потешался только ленивый – взять хотя бы «разверстки зачатий» в «Неправдоподобных историях» Эренбурга или «человеческие племенные рассадники» в повести Бориса Пильняка. На излете сексуальной революции, в 1926 году, в нашумевшем рассказе Пантелеймона Романова[20] «Без черемухи» героиня жалуется: «На всех, кто в любви ищет чего-то большего, чем физиология, смотрят с насмешкой, как на убогих и умственно поврежденных субъектов». Именно как болезнь воспринимает свою пробудившуюся страсть герой «Мы».
Такой же болезнью названы в «Мы» сновидения, творчество (род эпилепсии), душа и, в принципе, личное сознание: «Вы, конечно, правы: я – неблагоразумен, я – болен, у меня – душа, я – микроб. Но разве цветение – не болезнь? Разве не больно, когда лопается почка? И не думаете ли вы, что сперматозоид – страшнейший из микробов?»
Секс – это сама жизнь, природа, которая сопротивляется любой симплификации, организованности и целесообразности. Поэтому свой «Lex sexualis» можно найти у каждого утописта, начиная с Платона и продолжая последователями Замятина. В «Дивном новом мире» Олдоса Хаксли людей изготовляют в пробирках, программируя их будущую социальную роль на физиологическом и ментальном уровне, а секс превращая в механическое удовольствие – часть принудительной системы потребления, стимулирующей экономику. В «1984», наоборот, партийцы, прошедшие через «Молодежный антиполовой союз» (своеобразный комсомол), совокупляются только ради продолжения рода с партнерами, подобранными по принципу взаимного отторжения. Жесткая регламентация секса, человеческой репродукции – постоянный мотив антиутопий, вплоть до популярного сегодня «Рассказа служанки» Маргарет Этвуд.
Варвара Степанова. Проект мужского спортивного костюма. 1923 год[21]
Любит ли I-330 героя?
Вопросом этим Д-503 мучается вместе с читателем и приходит к концу романа к неутешительному выводу.
Есть все основания решить, что не любит. Д-503 нужен ей, потому что он строитель «Интеграла» – ракеты, которую подпольщики «Мефи» собираются угнать. Розовые талоны к Д-503 она использует как алиби, не приходя к нему на свидание, а вместо того встречаясь с другими мужчинами в Древнем Доме или готовя революцию. При последней встрече Д-503 окончательно уверяется, что стал объектом манипуляции и I-330 пришла к нему не попрощаться, а разведать, о чем говорил он с Благодетелем. Эта уверенность приводит его в отчаяние и заставляет донести на повстанцев.
Однако тот факт, что в иллюзорности любви убеждает героя именно Благодетель – Великий инквизитор, не имеющий причин говорить подследственному правду, – наводит на мысль, что не все так однозначно.
Даже с учетом того, что I-330 определенно манипулирует Д-503 в своих целях, она идет на огромный риск, сразу после знакомства показывая ему свое истинное лицо, и окончательно предается в его руки, приведя его за Зеленую Стену, – а ведь и сам он до последнего уверен, что донесет на нее в Бюро Хранителей. Интересно, что вообще все женские нумера, которые появляются на страницах «Мы», поголовно влюблены в главного героя. Именно его по-настоящему любит О-90 (между тем как другого своего любовника, R-13, – «только так, розово-талонно»), правоверная контролерша Ю с рыбьими жабрами идет ради него на должностное преступление, покрывая Д-503 перед Хранителями: судя по всему, она любит Д-503 вопреки его неблагонадежности так же, как I-330 любит его вопреки его же правоверности, по ее формулировке – «просто-так-любовью». Разгадка неотразимого сексуального магнетизма Д-503 – в его дикой, природной сущности, ему самому поначалу невнятной.
Любуясь волосатой рукой Д-503, I-330 рассказывает ему, что женщинам Единого Государства случалось любить диких людей из-за Зеленой Стены: «И в тебе, наверное, есть несколько капель солнечной, лесной крови. Может быть, потому я тебя и –». Этот излюбленный Замятиным синтаксический прием – незаконченное предложение с двойным тире, всегда передающее душевное смятение, – самый веский аргумент в пользу искренности I-330.
Случайны ли буквы и цифры нумеров?
Нет. Количество интерпретаций и конспирологических теорий, построенных вокруг системы нумеров, поистине неисчислимо, вот лишь некоторые.
Легко заметить, что согласными звуками и нечетными числами называются в «Мы» мужские нумера – Д-503, R-13, S-4711, а гласными и четными – женские: I-330, О-90, Ю. Кроме того, у Замятина была своя теория звукообразов: «Р – ясно говорит мне о чем-то громком, ярком, красном, горячем, быстром. ‹…› Звуки Д и Т – о чем-то душном, тяжком, о тумане, о тьме, о затхлом. ‹…› …О – высокое, глубокое, море, лоно. …И – близкое, низкое, стискивающее и т. д.».
И в его Д-503 действительно скрыта некая смутная тьма, чем дальше, тем больше берущая над ним верх. Он боится тумана. «Боишься – потому что это сильнее тебя, ненавидишь – потому что боишься, любишь – потому что не можешь покорить это себе», – объясняет ему I-330 («это» – природное начало Д-503, который недаром ненавидит свои атавистически волосатые руки, или, по Фрейду, подсознательное). О-90 олицетворяет в романе женское, природное начало, которое бунтует, не соглашаясь нормировать материнство, – это вполне согласуется со значением «лона» и стихии – «моря». Поэта R-13 действительно отличают громогласность и темперамент, а «стискивающая» I-330 порабощает героя.
Помимо этих умозрительных ассоциаций каждый нумер у Замятина создает устойчивый зрительный и психологический образ, по определению самого писателя – «интегральный». Каждый герой появляется со своим набором характеристик – чем-то вроде постоянных гомеровских эпитетов типа «шлемоблещущий Гектор». Так, при каждом появлении О-90 нам будет сказано, что она круглая, розовая, как розовые талоны, дающие право на секс, «круглая, пухлая складочка на запястье руки – такие бывают у детей». На свое имя похожа I-330 – «тонкая, резкая, упрямо-гибкая, как хлыст». То же – «двоякоизогнутая тень», сутулый и пузатый S-4711 с «оттопыренными… крыльями-ушами» и «глазами-буравчиками»: все признаки у него парные – и даже улыбка «двоякоизогнутая», ведь S – двойной агент, Хранитель и заговорщик в одном лице.
Устойчивые признаки R-13 – «негрские» губы, «черные, лакированные смехом глаза», фонтанирующий звук «п», затылок – «чемоданчик с посторонним, непонятным мне багажом». У R-13 нет очевидного физического сходства с буквой, зато есть явное сходство с Пушкиным (в русском культурном сознании – поэтом вообще), он воплощает собой конфликт поэта и власти. Эта тема была крайне близка самому Замятину: возможно, не случайно здесь выбрана латинская буква R – зеркальное отражение русской Я.
Никита Струве остроумно отметил, что, даже выполняя свой высокий долг – поэтизируя приговор непокорному собрату по перу, R-13 фактически распространяет крамолу, под видом обличения повторяя кощунственные стихи против Благодетеля{2}. Число 13 в его имени – несчастливое, но, кроме того, в нем можно усмотреть намек на черновое название «Облака в штанах» – «Тринадцатый апостол»: Маяковский – один из возможных прототипов R-13.
Характеристики I-330 – «странный раздражающий икс» бровей, иррациональное начало, не поддающееся цифровому выражению, острые зубы, огонь, полыхающий в глазах за шторами ресниц, «улыбка-укус»: она олицетворяет инакомыслие и бунт. Буквой i обозначается в математике мнимая единица, то есть число, квадрат которого равен –1: героиня символизирует собой тот самый √–1, иррациональный корень, который доводит Д-503 до исступления, потому что его нельзя «осмыслить, обезвредить» – но нельзя и отбросить, он существует в самой математике.
А если учесть, что «перевернутый икс» на лице героини превращается в крест, а сцена ее казни напоминает сцену распятия, I может означать Иисуса (33 в ее номере – возраст Христа). Наконец, графически латинская буква I – одновременно римская цифра 1, единица, индивидуальность в мире коллективизма, а по-английски I – это «я»: противоположность «Мы».
Как может существовать в едином государстве древний дом?
Так называемый Древний Дом – своеобразный музей Единого Государства, многоквартирный дом, законсервированный, как можно судить по его обстановке, в 20-е годы XX века. Его назначение – показать нумерам быт древней эпохи, который, как и следует, поначалу производит на Д-503 гнетущее впечатление: «дикая, неорганизованная, сумасшедшая, как тогдашняя музыка, пестрота красок и форм… исковерканные эпилепсией, не укладывающиеся ни в какие уравнения линии мебели».
Это уже второе столкновение Д-503 с миром, отличным от его собственного, ясного и незыблемого. Первое происходит во время лекции по музыкальной композиции – там I-330 демонстрирует превосходство нового изобретения, музыкометра, производящего до трех сонат в час, над кустарным древним искусством, которое требовало «вдохновения – неизвестной формы эпилепсии». Музыка Скрябина вместо положенного смеха внезапно пробуждает в Д-503 вихрь чувств: «Дикое, судорожное, пестрое, как вся тогдашняя их жизнь, – ни тени разумной механичности».
И факт существования подобного этнографического музея, и демонстрация нелепой старинной музыки могут показаться легкомыслием со стороны Благодетеля – для чего сохранять подобные уродства в идеальном мире, если даже в правоверном Д-503 они пробуждают фантазию, остраняя привычный миропорядок.
Но такое легкомыслие свойственно победившим идеологиям. Концерт Скрябина в аудиториуме Единого Государства – прообраз нацистской выставки «Дегенеративного искусства» в мюнхенском «Доме немецкого искусства» в 1937 году; тогда Гитлер, боровшийся с авангардом точно так же, как идеологи Пролеткульта, собирался уничтожить произведения «вырожденцев» – кубистов, футуристов, импрессионистов, дадаистов, сюрреалистов, экспрессионистов, фовистов, предварительно продемонстрировав их народу как отрицательный пример. Выставка вызвала ажиотаж – за четыре года ее посетили почти 3 миллиона человек (не побитый до сих пор рекорд), движимых, надо думать, не одним отвращением: немалая часть посетителей воспользовалась последней возможностью увидеть современное искусство.
Та древняя культура, которая меняет сознание нумера Д-503, легко опознавалась его современниками как культура русского модернизма. Над ней издевался, например, Шкловский: «Иногда героиня уходит из уравненного мира в мир старый, в “Старый Дом”, в этом “Старом Доме” она надевает шелковое платье, шелковые чулки. В углу стоит статуя Будды. Боюсь, что на столе лежит “Аполлон”, а не то и “Столица и усадьба”». «Аполлон» – главный журнал модернистов, который пародировал, скажем, Аркадий Аверченко: «Вечером я поехал к одним знакомым и застал у них гостей. Все сидели в гостиной небольшими группами и вели разговор о бюрократическом засилье, указывая на примеры Англии и Америки.
– Господа! – предложил я. – Не лучше ли нам сплестись в радостный хоровод и понестись в обетном плясе к Дионису?!» «Столица и усадьба» – первый русский глянец, выходивший с подзаголовком «Журнал красивой жизни», здесь – символ изнеженной пошлости. В Замятине коллеги согласно увидели протест обывателя-индивидуалиста, которому недоступно величие революции: бунтовщики «Мефи», по ядовитому замечанию Шкловского, поклоняются статуе работы Марка Антокольского[22], а в скорбном портрете I-330 узнавали Анну Ахматову.
Похож ли Д-503 на Замятина?
Замятин говорил: «Д-503 (и другие мои антигерои) – это я». «Мы» в каком-то смысле проверка на прочность собственных былых идеалов и история разочарования в них: большевик в прошлом, писатель после Октябрьской революции оказался в конфликте с властью большевиков. Как и Д-503, он оказался перед выбором: подчиниться государственной идеологии, отречься от свободы творчества, писать верноподданнические, утилитарные тексты, «хирургически удалив себе фантазию», или эмигрировать – как его «нумер», мечтающий бежать за Зеленую Стену.
Насквозь рациональный склад ума у Д-503 – от автора, чей «инженерный» подход к прозе с похвалой или упреком отмечали современники («гроссмейстером литературы» назвал его Константин Федин). Когда он пишет о литературном ремесле, его речь неотличима от стиля и образности Д-503, вплоть до его любимого слова «ясно»: «Для меня совершенно ясно, что отношение между ритмикой стиха и прозы такое же, как отношение между арифметикой и интегральным исчислением. В арифметике мы суммируем отдельные слагаемые, в интегральном исчислении – мы складываем уже суммы, ряды; прозаическая стопа измеряется уже не расстоянием между ударяемыми слогами, но расстоянием между ударяемыми (логически) словами». Художник Владимир Милашевский писал о Замятине: «По всей четкости своего существа <он> сродни с щелчком логарифмической линейки, арифмометра». Внешний облик писателя Милашевский назвал «дифференциальным и интегральным»{3}