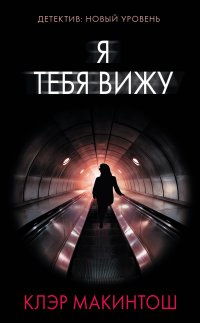Читать онлайн Заложница бесплатно
- Все книги автора: Клэр Макинтош
© Clare Mackintosh, 2021
© Перевод. Е. Токарев, 2023
© Издание на русском языке AST Publishers, 2023
* * *
Посвящается Шейле Кроули
ОПЕРАТОР: Что случилось?
АБОНЕНТ: Я около аэропорта… Вижу… О, Господи!
ОПЕРАТОР: Подтвердите, пожалуйста, свое местоположение.
АБОНЕНТ: Около аэропорта. Там самолет… Он перевернулся. Очень быстро падает. О, Господи, Господи!
ОПЕРАТОР: Экстренные службы уже выехали.
АБОНЕНТ: Но они не успеют – он (неразборчиво). Он разобьется, разобьется…
ОПЕРАТОР: Можете подтвердить, что вы на безопасном расстоянии?
АБОНЕНТ: (Неразборчиво.)
ОПЕРАТОР: Абонент, у вас все нормально?
АБОНЕНТ: Он разбился, разбился вдребезги. Господи, самолет горит…
ОПЕРАТОР: Пожарные команды прибудут менее чем через минуту. «Скорые» тоже. С вами кто-нибудь еще есть?
АБОНЕНТ: Самолет весь дымится – он (неразборчиво). Господи, что-то взорвалось, похоже на огромный огненный шар…
ОПЕРАТОР: Пожарные уже на месте.
АБОНЕНТ: Я почти не вижу самолет, только дым и пламя. Поздно, слишком поздно. Оттуда никому живым не выбраться.
Пролог
Не беги, иначе упадешь.
Мимо парка, вверх по склону. Жди зеленого человечка, нет, еще нет…
Вот!
Кот в окошке. Как статуя. Только кончик хвоста чуть шевелится. Туда-сюда, туда-сюда.
Нужно перейти еще одну дорогу. Зеленого человечка нет и регулировщицы тоже, а ведь должна быть…
Смотрим вправо-влево. Нет, еще нет…
Ну!
Не беги, иначе упадешь.
Почтовый ящик, потом фонарный столб, автобусная остановка, затем скамейка.
Большая школа, не моя. Пока не моя.
Книжный магазин, пустой магазин, потом контора риелтора, где продают дома.
Теперь мясная лавка, там в витрине висят перехваченные за шеи птицы. Я зажмуриваюсь, чтобы не видеть, как на меня таращатся их глаза.
Мертвые. Все мертвые.
Часть I
Глава первая
8:30. Майна
– Перестань, иначе упадешь!
Шедший целую неделю снег спрессовался в наледь, и подстерегающие каждый день опасности по ночам припорашивает свежим снежком. Через каждые несколько метров мои ботинки едут дальше, чем туда, куда ступают ноги, и внутри у меня все замирает, когда я мысленно готовлюсь упасть. Мы движемся очень медленно, и я жалею, что не догадалась повезти Софию на санках.
Она неохотно открывает глаза, медленно, по-совиному, поворачивая голову от магазинных витрин, и утыкается лицом мне в рукав. Я сжимаю ее обтянутую перчаткой руку. София не выносит вида птиц, висящих в витрине мясной лавки, чьи яркие перья на шее жутковато контрастируют с безжизненными глазами, которые они в свое время оттеняли.
Я тоже терпеть не могу смотреть на этих птиц.
Адам говорит, что эта фобия перешла к Софии от меня, словно простуда или какое-то ненужное украшение.
– Тогда откуда она у девочки? – спросил он, когда я стала возражать. Адам вытянул вперед руки, повернувшись к невидимой толпе, будто отсутствие ответа лишь подтверждало его правоту. – Только не от меня.
Конечно, нет. У Адама нет слабостей.
– «Сейнсберис», – произносит София, оглядываясь на магазины, когда мы отходим на безопасное расстояние от птиц. Она по-прежнему произносит это название как «фейнбвис», отчего у меня сладко щемит сердце. Именно эти мгновения я очень ценю, ради которых сто́ит жить.
От ее дыхания в воздухе повисают крохотные облачка пара.
– Теперь обувной магазин. А сейча-а-ас… – София растягивает слово, выжидая, когда наступит время. – «Овощи-фрукты», – объявляет она, когда мы проходим мимо. «Овочи-фукты». Господи, как же я ее люблю!
Этот ритуал начался еще летом, тогда София буквально сгорала от нетерпения, так ей хотелось пойти в школу. Вопросы сыпались градом. Какая у нее будет учительница? Где они станут вешать куртки? Будет ли там пластырь, если она оцарапает коленку? И скажи мне еще раз, какой дорогой мы туда пойдем? Я повторяла ей снова и снова: вверх по склону, через дорогу, потом еще раз через дорогу, а затем на главную улицу. Мимо автобусной остановки около средней школы, вдоль торговых рядов, где книжный магазин, контора риелтора и мясная лавка. За угол к «Сейнсберис». К обувному магазину, потом мимо магазина «Овощи-фрукты», полицейского участка, вверх по склону мимо церкви – и мы на месте.
С Софией нужно иметь терпение, и это дается Адаму с трудом. Ей надо все повторять снова и снова. Убеждать, что ничего не изменилось и не изменится.
Первого сентября мы вместе с Адамом провожали Софию в школу. Взяли девочку за руки, чуть раскачивая ее между нами, будто мы по-прежнему нормальная семья, и я обрадовалась появившемуся оправданию навернувшимся у меня на глаза слезам.
– Она побежит и сразу все забудет, – сказала тетя Мо, увидев мое лицо, когда мы выходили из дома. Вообще-то, она не тетя, а миссис Уатт – слишком пафосно для соседки, которая готовит горячий шоколад и помнит все дни рождения.
Я заставила себя улыбнуться:
– Знаю. Глупо, да?
Глупо хотеть, чтобы Адам жил с нами. Думать, будто этот день значил что-то еще, нежели игру в семью ради дочери.
Мо нагнулась и ласково улыбнулась Софии:
– Желаю тебе хорошего дня, лапочка.
– У меня платье кусается, – последовал недовольный ответ, который Мо пропустила мимо ушей.
– Оно просто чудесное, милая.
Мо выключает слуховой аппарат, чтобы сэкономить на батарейках. Когда я захожу к ней, приходится встать прямо на клумбе около окна гостиной и размахивать руками, пока она меня не заметит. Надо было позвонить! – всегда говорит она, словно я не давила кнопку звонка целых десять минут.
– Что дальше? – спросила я Софию в тот первый школьный день, когда мы миновали овощной магазин. Нетерпение как бы перетекало из ее ладошки ко мне в пальцы.
– Полицейский участок! – торжествующе воскликнула она. – Папин полицейский участок.
Адам работает не там, но для Софии это не имеет значения. Каждая увиденная нами полицейская машина – папина машина, а каждый полицейский в форме – папин друг.
– Потом вверх по склону.
София все запомнила. На следующий день она добавила подробностей – того, что я не видела или не заметила. Кота на подоконнике, телефонную будку, мусорный бак. Эти комментарии сделались частью ее повседневной жизни, столь же важными для Софии, как надевание школьной формы в должном порядке (сверху вниз) или стояние в позе фламинго при чистке зубов, с переменой ног синхронно с переносом щетки с одной стороны рта на другую. В зависимости от настроения эти ритуалы или чаруют меня, или же от них хочется кричать. Вот вкратце то, что значит воспитывать ребенка.
Учеба в школе ознаменовала окончание одной главы и начало другой, и мы приготовились к этому переходу, отправив в прошлом году Софию в детский сад на три дня в неделю. Остальное время она находилась со мной, с Адамом или с Катей, застенчивой, красивой няней-иностранкой, приехавшей с соответствующим количеством багажа и полным незнанием английского. В среду днем она ходила на языковые курсы, а по выходным подрабатывала упаковщицей. Через полгода Катя объявила нас чудеснейшей в мире семьей и попросилась остаться еще на год. Я поинтересовалась, не в бойфренде ли тут дело, и вспыхнувшее румянцем лицо Кати подсказало, что я права, хотя она уклонялась от ответа, кто именно ее кавалер.
Я обрадовалась и одновременно испытала облегчение. Из-за наших с Адамом рабочих графиков мы не могли полагаться на детский сад в плане заботы и ухода за ребенком, к тому же позволить себе нанять няню, как делали многие мои коллеги. Я беспокоилась, не вызовет ли неудобств присутствие в доме постороннего человека, но Катя почти все время проводила у себя в комнате, общаясь по «Скайпу» с оставшимися на родине друзьями. Она также предпочитала есть одна, несмотря на постоянные приглашения разделить с нами трапезу, и пришлась кстати как помощница по хозяйству, протирая полы или сортируя белье до и после стирки, невзирая на мои уверения, что делать это вовсе не обязательно.
– Ты здесь для того, чтобы помогать присматривать за Софией и учить английский.
– Я не возражаю, – отвечала Катя. – Люблю помогать.
Однажды я вернулась домой и обнаружила у нас на кровати несколько пар носков Адама с аккуратной штопкой на пятках, где у него всегда появляются дырки.
– Где ты этому научилась?
Я умела лишь пришить пуговицу и подшить край одежды, хотя и непрочно, но штопка – это сфера деятельности настоящей хозяйки, а Кате еще и двадцати пяти лет не исполнилось.
Она пожала плечами, словно это пустяк:
– Мама меня научила.
– Честное слово, не знаю, что бы мы без тебя делали.
Я смогла взять на работе дополнительные смены, зная, что Катя проводит дочь в школу и обратно, а София просто обожала ее, что никоим образом не являлось некоей данностью. Катя обладала терпением, чтобы бесконечно играть в прятки, София же с течением времени стала находить все более замысловатые «укрытия».
– Я иду искать, кто не спрятался, я не виновата! – кричала Катя, тщательно проговаривая каждое новое выученное слово, прежде чем начинать красться по дому, выискивая спрятавшуюся Софию. – В ящике с обувью? Нет… Может, за дверью ванной?
– По-моему, это рискованно, – заметила я, когда дочь сбежала вниз и торжествующе объявила мне, что Кате не удалось найти ее, свернувшуюся калачиком на полке в сушильном шкафу. – Не хочу, чтобы ты пряталась там, где можешь застрять.
София бросила на меня сердитый взгляд, прежде чем убежать на «матч-реванш» с Катей. Я махнула рукой. Мой отец столь же часто упрекал нас с Адамом за то, что мы пылинки с дочери сдуваем, сколь и я настоятельно просила его не вмешиваться в воспитание ребенка.
– Она упадет, – твердила я, с замирающим сердцем глядя на то, как после его уговоров София лазила по деревьям или они вместе переходили по камушкам широкий ручей.
– Вот так и учатся летать.
Я понимала, что отец прав, и боролась с желанием относиться к Софии как к маленькому ребенку. К тому же замечала, что она буквально расцветала после каждого приключения и обожала, когда с ней обращались, как с «большой девочкой». Катя сразу это поняла, и они быстро привязались друг к другу. Способность Софии приспосабливаться к переменам, особенно в людях, продолжает развиваться, отсюда и мое облегчение, когда Катя попросила остаться. Я боялась последствий ее ухода.
Катя внезапно уехала в июне, лишь через несколько недель после своей просьбы остаться у нас, когда я только-только начала расслабляться. Лицо ее было в красных пятнах и блестело от слез. Катя торопливо собирала вещи, швыряя в чемодан одежду, еще чуть влажную после сушилки. Что-нибудь с бойфрендом? Она отводила взгляд. Или я что-то не так сделала?
– Я сейчас же уезжаю. – Вот и все, что Катя сказала.
– Прошу тебя, что бы то ни было, давай это обсудим.
Катя замялась, и тут я заметила, что она покосилась на Адама. В глазах у нее мелькали обида и боль, а я едва успела повернуться, чтобы увидеть, как Адам покачал головой, словно молча велел ей что-то.
– Что происходит? – спросила я.
Адам как-то пошутил, что в случае размолвки между Катей и мной ему придется встать на сторону более молодой женщины.
– Не так-то легко найти замену хорошей няне, – произнес он.
– Забавно.
– Только не говори, что не поступила бы так же.
Я притворно скорчила гримасу.
– Ну, и что? – спросила я.
Они поругались, это ясно, но из-за чего? Из общих точек соприкосновения у них была только София, если не считать детективных драм, которые Адам обожал, а я терпеть не могла. Лишь они могли заставить Катю выйти из своей комнаты субботним вечером. Если я не работала, то вместо сидения перед телевизором отправлялась на пробежку и возвращалась, одолев десять километров, как раз к последним титрам и окончанию их обмена критическими замечаниями.
Но из-за детективных драм никто не ругается.
– Его спросите! – резко бросила Катя, и я единственный раз увидела ее не в радостном настроении. Снаружи погудела машина – ее такси до аэропорта, – и Катя наконец посмотрела мне в лицо. – Вы прекрасная женщина. Вы не заслуживаете подобного.
Внутри у меня что-то раскололось, будто треснул ледок на краю замерзшего озера. Мне захотелось шагнуть назад, чтобы лед сомкнулся, но было слишком поздно.
Когда Катя ушла, я повернулась к Адаму:
– Ну?
– Что – ну?! – отрывисто бросил он, словно мой вопрос и само мое присутствие раздражало его. Как будто я во всем виновата.
Я сосредоточилась на взгляде, которым они обменялись, на красных от слез глазах Кати и ее скрытом предостережении. Вы не заслуживаете подобного.
– Адам, я же не дура. Что происходит?
– С кем?
И снова еле слышное «тьфу», прежде чем он откликнулся, словно голова Адама была занята другим, чем-то более серьезным, а я отвлекла его на всякие пустяки.
– С Катей, – ответила я так, как иногда общаются с иностранцами. Я испытала ощущение, будто вторглась в чужую жизнь, словно этот разговор из тех, которые раньше мне никогда не нужно было заводить, о каких я и не думала.
Когда Адам отвернулся, чтобы заняться чем-то совершенно ненужным, я заметила, как его шея покраснела. Истина явилась мне, будто ответ на вопрос в кроссворде после того, как газету выбросили, и с моих губ сорвались слова, которые мне не хотелось произносить:
– Ты спал с ней.
– Нет! Господи, нет! Боже мой, Майна, ты именно это подумала?
Раньше Адам не давал мне даже малейшего повода для подозрений. Он любил меня. Я любила его. Я изо всех сил старалась говорить ровным тоном:
– А что мне еще остается думать? Между вами явно что-то произошло.
– Катя по всей кухне разбросала разноцветную глину для лепки. Я на нее наорал. Она приняла это близко к сердцу, вот и все.
Я глядела на Адама и слушала его неуклюжее откровенное вранье.
– Ты мог бы, по крайней мере, сочинить нечто более правдоподобное.
Нежелание Адама напрячься и придумать убедительную «отмазку» причиняло почти такую же боль, как и его вранье. Неужели я так мало для него значила?
С отъездом Кати наша семья дала трещину. София пришла в ярость, и горечь от внезапной потери подруги выразилась в разбитых игрушках и изорванных картинках. Она винила во всем меня по той лишь причине, что именно я все ей рассказала, и мне понадобилось мобилизовать силу духа, чтобы не объяснять дочери, что виноват Адам. Мы с ним ходили кругами: я – колючая и резкая, он – молчаливый и полный напускного негодования, нацеленного на то, чтобы заставить меня засомневаться. Я держалась стойко. Если Катя была своего рода кроссвордом, то теперь, разгадав его, я поняла, что ответы лежали на поверхности. Многие месяцы Адам уклончиво отвечал, когда именно у него выходные, и был весьма осторожен с телефоном, беря его с собой в ванную, если принимал душ. Я была круглой дурой, что ни о чем не догадалась гораздо раньше.
– Вверх по склону, – произносит София. – Потом церковь, затем…
Я слишком поздно сжимаю руку, пальчики дочери выскальзывают из моей ладони, ноги ее разъезжаются в стороны, и она стукается затылком о тротуар. Глаза Софии испуганно расширяются, потом сужаются, когда она соображает, как ей больно, страшно и неловко. Бросив сумку, я быстро подхватываю ее на руки, второпях налетев на шедшего в противоположном направлении мужчину.
– Оп-ля, вставай-ка на ножки! – говорю я не терпящим возражений тоном.
София смотрит на меня, ее нижняя губа дрожит, а темные глаза впиваются в меня в поисках ответа, насколько сильно она упала. Я улыбаюсь, убеждая дочь, что ничего страшного не случилось, и задираю голову, чтобы отыскать облака-силуэты.
– Видишь собаку? Она встает на лапы, голову видишь вон там? А хвост?
София не заплачет. Она никогда не плачет. Вместо этого дочь злится, и ее непонятные крики означают, что виновата я, всегда я. Или же выбегает на дорогу, чтобы доказать что-то понятное только ей. Что я люблю ее? Что я ее не люблю?
София следит за моим взглядом. По небу проплывает самолет, рассекая облака, которые кажутся достаточно плотными, чтобы прервать его полет.
– «Боинг-747», – говорит она.
Я с облегчением выдыхаю. Отвлекающий маневр сработал.
– Нет, это «А-380». Нос не выпуклый и «горба» нет, видишь?
Я осторожно опускаю дочь на тротуар, и она показывает мне промокшие от снега перчатки.
– Бедненькая София. Гляди, вон там церковь, а что за ней?
– Школа.
– Значит, мы почти пришли, – говорю я, прикрывая радужной улыбкой образовавшийся беспорядок и неразбериху.
Моя сумка – вообще-то это сумка Софии – перевернулась, и ее содержимое высыпалось на тротуар. Я сую туда сменную одежду и хватаю бутылочку с водой, она катится от нас, с каждым оборотом то показывая, то скрывая написанное на этикетке имя моей дочери.
– Это твое?
Мужчина, на которого я налетела, что-то протягивает Софии. Это слон с лоснящимся и сплющенным от пяти лет нежной любви хоботом.
– Отдай! – кричит София, даже когда отступает и прячется за меня.
– Извините, пожалуйста.
– Ничего страшного.
Мужчина, похоже, ничуть не обиделся на грубость моей дочери. Я не должна за нее извиняться. Это противоречит тому, что она ощущает, когда то, что ей нужно, – это поддержка. Однако нелегко молчать, видя перед собой вздернутые брови и немое осуждение за то, что ты не научила ребенка, как себя вести. Я забираю слона, София выхватывает его у меня и утыкается в него лицом.
Слон прибыл из дома, где дочь провела первые четыре месяца жизни. Он – единственное, что осталось у нее с того времени, хотя никто не знает, действительно ли он ей принадлежал, или же его прихватили в тот день, когда Софию увезли в больницу скорой помощи. В любом случае они теперь не разлей вода.
София держит слона за хобот, пока мы не доходим до школы. Там она показывает мисс Джессоп мокрые перчатки, а я вешаю пальто Софии и кладу ей в сумку шапочку и шарф. Сегодня 17 декабря, и школа гудит в ожидании праздника. Ватные снеговики пляшут на листах цветного картона, приклеенных к доскам объявлений, а учителя носят яркие серьги, сверкающие то ли радостно, то ли тревожно. На кафельном полу красуются лужицы, у порога, где отряхивают ноги, комья снега, а к вешалкам с крючками тянутся мокрые дорожки.
Я достаю коробочку с обедом для Софии и протягиваю ее мисс Джессоп, продолжая рыться в сумке. Обычно каждый вечер Катя опорожняла сумку, смывая липкие следы от пальцев и тайком выкидывая самые жуткие рисунки. Я все время собираюсь проделывать то же самое, потом каждый день вешаю сумку в прихожей и не вспоминаю о ней, пока на следующее утро мы снова не идем в школу.
– У вас все готово к Рождеству?
Учительница Софии стройная, с гладкой кожей, которая может указывать на двадцать с небольшим лет или же на ухоженные тридцать. Я вспоминаю косметику «Кларенс», какую долгие годы покупала в дьюти-фри, и все процедуры ухода за кожей, которые начинала с благими намерениями, чтобы лишь снова вернуться к влажным салфеткам. Уверена, мисс Джессоп очищает кожу, увлажняет ее и накладывает тональный крем.
– Вроде да.
К запасному свитеру Софии прилипла льдинка, и вокруг нее образовалось холодное влажное пятно. Я стряхиваю льдинку на пол и возобновляю бесплодные поиски среди обрывков картонки для яиц и пустых коробочек из-под сока.
– Не могу найти ее шприц-тюбик с эпинефрином. У вас еще остался тот, что я давала раньше?
– Да, не волнуйтесь. Он в аптечке, на нем стикер с фамилией Софии.
– У меня бантики разного цвета, – заявляет дочь.
Мисс Джессоп наклоняется, чтобы рассмотреть косички Софии: одна стянута красным бантиком, другая – синим.
– Чудесные бантики.
– В школу мне всегда повязывают два синих.
– Ну, вот эти просто замечательные.
Мисс Джессоп снова переключает внимание на меня, и я поражаюсь способности учительницы оставлять за собой последнее слово, тогда как мои пререкания с Софией насчет бантов растянулись на целый завтрак и почти всю дорогу в школу.
– Не забудьте, завтра у нас рождественский обед, так что из дома ничего не приносите.
– Ясно. Сегодня Софию заберет наша няня Бекка. По-моему, вы уже с ней встречались.
– А не мистер Холбрук?
Я смотрю ей в лицо, гадая, не кроется ли за ее улыбкой что-нибудь еще. Разочарование? Чувство вины? Но лицо у нее простодушное и бесхитростное, и я отвожу взгляд, аккуратно сворачивая мокрый свитер Софии. Черт бы побрал Адама за то, что я превратилась в одну из тех жен-невротичек, каких раньше всегда жалела!
– Он не уверен, сможет ли вовремя закончить работу, так что надежнее было вызвать няню.
– Куда сегодня летите?
– В Сидней.
– На «Боинге-777», – сообщает София. – И еще 353 пассажира. Лететь туда двадцать часов, а потом им еще надо будет вернуться, так что это еще двадцать часов, но сначала они остановятся в гостинице.
– Как интересно! Долго вас не будет?
– Пять дней. Вернемся как раз к праздникам.
– Им нужно иметь на борту четырех пилотов, потому что лететь долго, но летят они не сразу, а по очереди.
София разузнала все подробности о самолете, на котором я полечу. На «Ютубе» есть видеоэкскурсия по «747»-му, которую она смотрела, наверное, сотню раз. София знает ее наизусть и молча шевелит губами, синхронно с голосом диктора. На гостей это производит сильное впечатление.
– Порой это выглядит немного жутко, – однажды сказала я отцу с запоздалой улыбкой, призванной немного смягчить признание. Мы с Адамом недавно обнаружили, что София не повторяла по памяти тексты из своих любимых книжек с картинками, а читала их. Ей было три года.
Отец рассмеялся. Снял очки и протер их.
– Она очень способная девочка. Ее ждет большое будущее.
Глаза его влажно сверкнули, и мне тоже пришлось часто заморгать. Ему не хватало мамы, как и мне, но я к тому же подумала, не вспоминает ли отец время, когда они с ней говорили то же самое обо мне.
Психолог пришел к выводу, что у Софии гиперлексия – первый положительный диагноз среди обилия сокращений и негативных ярлыков. Нарушение привязанности. Расстройство дефицита внимания. Такого в предложениях на удочерение не пишут.
Мы с Адамом пару лет очень старались завести ребенка. Мы бы и дальше продолжили свои попытки, однако стресс начал сильно сказываться на мне, и я почувствовала, что становлюсь той самой женщиной. Женщиной, которая совершенно точно знает, когда у нее овуляция, избегает приглашений подруг на праздники за 3–4 недели до рождения ребенка и периодически тратит свои сбережения на ЭКО.
– Сколько это стоит?
Я находилась где-то над Атлантикой и делилась своими тайнами, по крайней мере некоторыми, с коллегой, с кем мне в тот раз выпало работать. Син относилась ко мне по-матерински, и мы рассказывали друг другу о жизни, как только шасси оторвались от полосы.
– Много тысяч фунтов.
– А твои родители могли бы немного помочь?
О маме я ей не рассказывала. Боль еще не утихла. Что же до того, чтобы занять у отца после всего случившегося… Я покачала головой и уклонилась от прямого ответа.
– Дело не только в деньгах. Я бы стала одержимой, это точно. Я уже такая. Мне хочется детей, но также хочется остаться в своем уме.
– Размечталась, – усмехнулась Син. – У меня четверо детей, и каждый раз у меня немного съезжала крыша.
Нашу заявку на удочерение одобрили. На это ушло немало времени, в том числе и потому, что мы четко обозначили, что нам нужен ребенок до года. Работа Адама в полиции открыла ему самые неприглядные примеры работы соцзащиты детей, и никто из нас не считал, что мы сумеем исправить чужие ошибки. Мы думали, что с совсем маленьким ребенком будет легче.
Нам предложили удочерить Софию, когда той было четыре месяца, и она находилась в приюте, куда попала стараниями беспутной мамаши, чьи предыдущие пятеро детей отправились тем же путем. Однако колеса бюрократической машины проворачиваются медленно, и те месяцы, когда девочка жила в приемной семье, а мы были без нее, показались нам бесконечными. Нам было необходимо продемонстрировать социальным службам, что мы полностью готовы, и в то же время нас буквально одолели суеверия. Адам старался обходить приставные лестницы и стремянки и не пересекаться на дорогах с черными кошками. Мы пришли к компромиссному решению, наполнив свежевыкрашенную спальню Софии всем необходимым, в заводской упаковке, готовые «отмотать назад», если что-то пойдет не так.
Решение суда было вынесено, когда Софии исполнилось десять месяцев, и Адам помчался в центр по переработке отходов на машине, до отказа набитой картонной и пластиковой упаковкой. Наконец-то мы стали семьей. Фильмы вселяют в вас веру в то, что «потом все жили долго и счастливо». Однако на деле выясняется, что для этого нужно потрудиться.
И вот София убегает к своим подружкам, а я смотрю ей вслед сквозь стекло. Даже теперь, когда полугодие почти завершилось, у многих детей до сих пор слезы на глазах, когда они прощаются с родителями. Я гадаю, смотрят ли их родители на Софию и думают: «Счастливая мать» так же, как и я гляжу на прижимающихся к родителям детей и думаю то же самое.
Вернувшись домой, я оставляю записку Бекке, шестикласснице, которая иногда присматривает за Софией. Вынимаю размораживаться лазанью на тот случай, если Адам не вернется к ужину, и бросаю чистое полотенце на кровать в гостевой комнате, хотя он прекрасно знает, где находится сушильный шкаф. Трудно после десяти лет перестать жить с оглядкой на кого-то.
– Почему я не могу просто спать в нашей постели? – спросил он в самый первый раз.
Я ответила тихо и спокойно. Не только из-за Софии, но еще и потому, что не хотела, чтобы нам обоим стало еще больнее, чем прежде:
– Потому что это больше не наша постель, Адам.
Она перестала быть нашей с того дня, как уехала Катя.
– Вот почему ты вся такая?
– Какая?
– Холодная. Будто мы едва знакомы. – Лицо его перекосилось. – Я люблю тебя, Майна.
Я открыла рот, чтобы ответить, что я больше не разделяю этого чувства, однако не смогла заставить себя произнести это вслух.
Разумеется, мы пытались консультироваться у психолога. Ради Софии, а не ради себя. Ее проблемы с привязанностью были глубоко укоренившимися и связанными с рефлекторной мышечной памятью о тех месяцах жизни, когда за плачем не следовало успокоения и облегчения. Что с ней станется, если мы разойдемся навсегда? София привыкла, что Адам работает по ночам, а меня не бывает дома несколько дней подряд. Но мы всегда, всегда возвращались.
Адам в лучшем случае отделывался короткими ответами и в разговорах с психотерапевтом был так же уклончив, как и со мной. В июле он согласился съехать.
– Мне нужно время, – сказала я ему.
– Сколько именно?
Я не смогла ответить. Не знала. Потом заметила, как Адам нерешительно поглядывал на чемоданы, вложенные один в другой, словно четырехугольные матрешки. Оптимизм заставил его выбрать самый маленький. В отделе кадров ему подыскали комнату в доме с тремя молодыми полицейскими, полными энтузиазма и дешевого пива, которые, надев новенькую форму, состязались друг перед другом в служебном рвении и геройстве.
– Я не могу поселить там Софию, – заявил он. – Это было бы неправильно.
Поэтому я застелила гостевую кровать, и когда отправляюсь на работу, Адам остается здесь. Неизвестно, кому из нас это кажется тяжелее всего.
Я переодеваюсь в униформу и заново проверяю дорожную сумку. Сегодняшний рейс – большое событие. Последний беспосадочный перелет из Лондона в Сидней состоялся в 1989 году – пиар-акция с двадцатью людьми на борту. Регулярные рейсы были невозможны: понадобились годы, чтобы создать самолет, способный преодолеть это расстояние с полным комплектом пассажиров на борту.
Оставляю послание на кроватке Софии – нарисованное фломастером сердечко со словами «с любовью от мамы». Я всегда так делаю, отправляясь в рейс, с тех пор как она научилась читать.
– Ты получила мое послание? – однажды спросила я, когда звонила по видеосвязи, чтобы пожелать Софии спокойной ночи. Уже не помню, куда я летала, вот только солнце стояло еще высоко, а от вида выкупанной в ванне Софии мне безумно захотелось домой.
– Какое послание?
– У тебя на кроватке. Я оставила его на подушке, как всегда.
От тоски по дому я стала эгоисткой. Мечтала, чтобы София скучала по мне только потому, что по ней скучала я.
– Пока, мамочка. Мы с Катей делаем рождественский вертеп.
Экран накренился, и я осталась разглядывать потолок в кухне. Я завершила вызов, прежде чем Катя сумела меня пожалеть.
По дороге в аэропорт я включаю «Радио-2», но чувство вины забивает его и заставляет прислушаться к себе.
– Люди должны работать, – произношу я вслух. – Такова жизнь.
Я сказала Адаму, что поменялись смены, я пыталась выпутаться, но улечу на пять дней, и что с этим поделаешь? Работа есть работа.
Я соврала.
Глава вторая
9:00. Адам
– Тебя хочет видеть начальница.
У меня разыгрывается изжога, пока я с трудом пытаюсь принять более-менее нормальный вид. Эти четыре слова хотя бы когда-нибудь заканчивались чем-то хорошим?
– А, ну да.
Я сижу за столом, мои руки внезапно становятся слишком крупными и неловкими, словно я лицом к лицу с огромной аудиторией, а не с любопытным взглядом Уэя.
– Она сейчас в отделе уголовного розыска.
– Спасибо.
Я хмуро смотрю на монитор компьютера. Быстро перебираю бумаги на столе, будто что-то ищу. Мне нужно составить предварительное обвинительное заключение по ограблению, снять показания по тяжким телесным повреждениям; дело может обернуться убийством, если потерпевший не выкарабкается. Необходимо сосредоточиться на работе, требующей внимания, вот только вместо этого я потею так, что намокает воротник, и гадаю, что означает этот вызов. Я чувствую, как Уэй смотрит на меня, и думаю, успел ли он выяснить, зачем меня вызывает к себе Батлер.
Пышные хлопья снега медленно падают на внешний подоконник. В комнате забытый всеми телефонный вызов перескакивает от одного пустого стола к другому, пока кто-то наконец решает пожалеть звонящего и берет трубку. Я отыскиваю дело о тяжких телесных и просматриваю список свидетелей. Я могу целый день не появляться в участке, разбираясь со всем этим, и если пропущу сообщение от инспектора уголовной полиции, то… Ну, я снимал показания или говорил по телефону с «Помощью жертвам преступности». Я сую дело в рюкзачок и встаю.
– Надеюсь, ко мне в кабинет направляетесь?
Голос бодрый и веселый, почти приятный, но уверенности у меня не прибавляется. Я повидал достаточно много офицеров полиции, с улыбкой приглашенных в кабинет инспектора уголовной полиции Наоми Батлер, которые через полчаса выходили оттуда, с горечью сжимая в руках подписанную ею копию официально наложенного взыскания.
– Вообще-то, мне надо…
– Это ненадолго.
Батлер не дает мне ни малейшей возможности возразить, когда выходит из отдела уголовного розыска и шагает в сторону своего кабинета, так что мне остается лишь следовать за ней. Начальница в белых кроссовках, брюках в тонкую полоску, серой шелковой блузке, перехваченной ремешком с набивным пятнистым узором. На самом верху одного уха красуется маленькая серебряная сережка. Я шагаю за ней, словно мальчишка, идущий в кабинет директора, перебирая в уме любые причины, по каким она могла меня к себе вызвать, и останавливаюсь на одной, самой главной. На той, из-за которой я могу все потерять.
Когда Наоми Батлер заняла должность инспектора уголовной полиции, она оттащила от окна тяжелый стол и поставила его так, чтобы тот «смотрел» на стеклянную дверь, которую она сейчас закрывает. Это означает, что мне не остается ничего иного, как сесть спиной к коридору. Я совершенно уверен, что в ближайшие несколько минут Уэй найдет предлог пройти мимо с одной-единственной целью: определить степень взбучки, которую я получу. Я сажусь прямо. Спина может многое рассказать о состоянии человека, и я как-нибудь обойдусь без того, чтобы Уэй прибежал обратно и сообщил всем остальным, что я понуро сидел в кабинете начальницы.
– Как дела?
Батлер улыбается, но взгляд у нее жесткий. Она так пристально смотрит мне в глаза, что становится больно, и мне приходится моргнуть, чтобы избавиться от ее «захвата». Один-ноль в пользу Батлер. На спинке ее кресла висит байкерская куртка, которую она носит в любую погоду, и когда Батлер откидывается назад, кожа жалобно скрипит. На столе стоит полицейская рация, настроенная на местную волну. Поговаривают, будто Батлет никогда ее не выключает, даже дома, вмешиваясь в любое заинтересовавшее ее дело.
– Нормально.
– Как я понимаю, у вас проблемы дома.
– Ничего страшного, справлюсь.
Она уж точно не собирается консультировать меня по семейным отношениям. Я гляжу на бледную полоску кожи вокруг ее безымянного пальца и гадаю, кто от кого ушел. Батлер ловит мой взгляд, конечно, ловит, и улыбка исчезает с ее лица.
– У вас есть служебный телефон?
Ее слова застают меня врасплох. Это вроде бы вопрос, но из тех, на которые она знает ответ, и это означает, что Батлер лишь завязывает разговор.
– Да.
Она зачитывает мой номер из блокнота, и я киваю. Меня охватывает настолько сильное желание убежать, что я сжимаю подлокотники стула, чтобы не вскочить.
– Финансовый отдел ограничил операции с вашим телефонным счетом.
Возникает гнетущее молчание, и мы оба ждем, чтобы кто-то его нарушил. Я сдаюсь первым. Даже когда знаешь правила, трудно заставить себя перестать играть в игру. Два-ноль в пользу Батлер.
– Разве?
– Он значительно больше, чем у любого другого сотрудника.
Я чувствую, как по виску медленно стекает вниз капелька пота. Если я ее смахну, Батлер заметит. Я чуть поворачиваю голову и обнаруживаю, что с противоположной стороны стекает такая же капля.
– Я разговаривал с жертвой разбойного нападения, которая уехала во Францию.
– Понимаю, – кивает инспектор уголовной полиции.
Снова молчание. Я никогда не слышал, как Батлер допрашивает подозреваемых, но утверждают, что делает она это мастерски, и теперь это меня не удивляет. Взгляд у нее твердый и жесткий, и я не могу посмотреть ей в лицо иначе, чем затравленно и виновато. Сердце у меня бешено колотится, дергается уголок левого века. Батлер не может этого не заметить. И узнает, что я вру.
Она закрывает блокнот, откидывается на спинку кресла, словно говоря: «Самое трудное позади, теперь беседа по душам». Но я не поддаюсь на эту уловку. Мои мышцы напряжены, будто я на низком старте и вот-вот рвану вперед. Я думаю о Майне, которая едет на работу, и, хоть мне очень не хотелось ее отпускать, я все же рад, что не придется видеть ее целых пять дней.
– Мне направят детализированный счет, – произносит Батлер. – Но если до этого вы хотели бы что-то сказать…
Я нахмуриваюсь, словно понятия не имею, о чем она говорит.
– Поскольку, полагаю, вам известно, что рабочий телефон нельзя использовать для личных звонков.
– Разумеется.
– Вот и хорошо.
Я улавливаю намек и встаю. Говорю «спасибо», сам не понимая, за что. Наверное, за предупреждение, за возможность выстроить защиту, хотя лучшие в мире адвокаты вряд ли сумели бы состряпать версию, чтобы вытащить меня из этой ситуации.
Случившееся с Катей – наименьшая из моих проблем.
Как только Батлер увидит телефонный счет, все кончено.
Глава третья
10:00. Майна
Подъезжая к аэропорту, я замечаю полицейских, и их присутствие свидетельствует о том, что проходит очередная демонстрация. Три месяца назад началось строительство новой взлетно-посадочной полосы, и время от времени около зоны прилета собираются группы протестующих, чтобы высказать свое недовольство. Они по большей части люди безобидные, и, хотя не заявляю об этом вслух, я им сочувствую. Мне просто кажется, что они выбрали себе неверную цель. Мы создали мир, где нужно летать, и этот мир не изменить. Может, лучше бороться с фабричными выбросами или мусорными полигонами?
Я с чувством вины вспоминаю влажные салфетки, которыми пользуюсь каждый день, и решаю снова перейти на косметику «Кларенс». Над дорогой развернули баннер с надписью: «Поля, а не бетонки». Наверное, он появился тут совсем недавно: вокруг аэропорта соблюдаются повышенные меры безопасности. Полиция не может помешать демонстрантам, но снимает лозунги так же быстро, как те возникают. Все это представляется довольно бессмысленным занятием, поскольку любой, направляющийся в аэропорт, здесь работает или собирается куда-нибудь лететь. Плакаты не заставят их передумать и изменить свое мнение.
Я притормаживаю около круговой развязки и мельком смотрю налево, где женщина держит плакат с изображением истощенного белого медведя. Перехватив мой взгляд, она тычет плакатом в мою сторону и что-то кричит. Сердце у меня колотится, я тянусь к кнопке блокировки окон, торопливо нащупывая ногой педаль газа, чтобы поскорее уехать отсюда. Моя нелепая реакция – женщина ведь по ту сторону ограждения – вызывает у меня прилив злобы на всех демонстрантов. Вероятно, я и дальше стану пользоваться этими чертовыми влажными салфетками, лишь бы их позлить.
Доехав до автостоянки, я запираю машину и качу свой чемодан к межтерминальному автобусу. Я обычно иду до сектора экипажей пешком, но на тротуаре скользко от выброшенной с дороги наледи, и то, что дома было свежим снежком, здесь превращается в вязкую кашу. Мне не терпится приземлиться в Сиднее и увидеть яркое солнце, бросить вещи в гостинице и двинуться на пляж, чтобы поспать и сбросить усталость от перелета.
В секторе экипажей гудят голоса, обсуждающие свежие сплетни или новые графики полетов. Я встаю в очередь за кофе и сжимаю еще не согревшимися пальцами пластиковый стаканчик. Женщина окидывает меня оценивающим взглядом:
– Вы на рейс в Сидней?
– Да. – Я чувствую, как краснею, почти ожидая, что она станет меня отговаривать. Вы не должны здесь находиться…
Вместо этого она усмехается:
– Лучше вы, чем я.
Я ищу глазами бейджик с именем и фамилией, но не нахожу его. Кто эта женщина с таким мнением? Она может быть кем угодно – от уборщицы до финансиста. Даже в обычный день через сектор экипажей проходят сотни людей, а сегодня день весьма примечательный. Все хотят «прикоснуться» к рейсу № 79. Стать частью истории.
– Четырнадцать часов до Сантьяго, и это очень даже неплохо. – Я вежливо улыбаюсь, потом достаю телефон, давая понять, что разговор окончен. Но она не понимает намека, приближается и притягивает меня к себе, понизив голос, будто кто-то может нас подслушать.
– На последних летных испытаниях что-то случилось.
Я смеюсь.
– Что вы такое говорите? – громко восклицаю я, будто затаптывая крохотное семечко страха, которое в меня заронили ее слова.
– Проблемы с самолетом. Только все быстренько замяли, заставив членов экипажа подписать обязательства о неразглашении и…
– Хватит!
Я на девяносто девять процентов уверена, что никогда не работала с этой женщиной. Почему из всех здесь присутствующих она прицепилась именно ко мне? Я всматриваюсь в ее лицо, пытаясь определить, откуда она. Может, из отдела кадров? Уж точно не из службы по работе с клиентами – после подобных разговоров никто никогда больше не ступит на борт самолета.
– Чушь собачья! – твердо заявляю я. – Вы действительно думаете, что запустят рейс без стопроцентной уверенности в его безопасности?
– Они вынуждены. Иначе бы их опередила авиакомпания «Кантес», она гораздо дольше разрабатывала этот полет. Испытательные рейсы проводились с малым количеством пассажиров и без багажа. Кто знает, что произойдет с полностью загруженным самолетом?
– Мне нужно идти.
Я бросаю стаканчик с недопитым кофе в урну, чья крышка с грохотом падает, когда я убираю ногу с педали и ухожу. Вот ведь дура! А с моей стороны было нелепо позволить ей меня накрутить. Однако сердце гложет червячок страха. Два дня назад газета «Таймс» взяла пресс-релиз о гонке между «Кантес» и «Уорлд эйрлайнс» и переиначила его. «Насколько быстро, слишком быстро?» – гласил заголовок над статьей, намекавшей на действия в обход правил и снижение издержек. Целый час я говорила по телефону с отцом, заверяя его, что все совершенно безопасно, никто не станет рисковать…
– Я не вынесу, если…
– Пап, все действительно безопасно. Все сто раз проверили и перепроверили.
– Как и всегда. – Голос у него был напряженный, и я радовалась, что отец не видел моего лица. На эту приманку я не клюнула. Мне не хотелось об этом думать.
Год назад в трех пробных рейсах участвовали сорок сотрудников компании. У них тщательно замеряли уровень сахара в крови, кислородный обмен и активность мозга. Скорректировали давление в пилотской кабине, снизили уровень шума и даже меню специально разработали таким образом, чтобы свести к минимуму влияние разницы во времени.
– Удачи! – кричит женщина мне вслед, но я не оборачиваюсь. Удача тут совершенно ни при чем.
Однако сердце у меня продолжает колотиться, когда через несколько минут я протискиваюсь в комнату для инструктажа. Там полно людей – не только экипаж, но и какое-то начальство в костюмах, по большей части мне незнакомое.
– Это Диндар? – поворачиваюсь я к стоящему рядом стюарду, с которым однажды вместе летала. Гляжу на бейджик: его зовут Эрик.
– Да, он самый. Проводит презентацию нового маршрута.
Все сходится. Глава авиакомпании Юсуф Диндар появляется на публике лишь в дни вроде сегодняшнего, когда важная презентация означает множество телекамер плюс лавры и признание для воротил (всегда мужского пола), управляющих «Уорлд эйрлайнс». Гонка за первый беспосадочный перелет «Лондон – Сидней» проходила ноздря в ноздрю, и сегодня утром на самодовольном лице Диндара возникает облегчение от того, что его команда успела первой. Он встает и ждет, пока на него не устремляются все взгляды.
– О нас говорит весь мир!
Все аплодируют. Сзади слышатся радостные выкрики, сверкают фотовспышки. Во время этого преждевременного ликования меня пробирает холодок.
Что-то случилось… Проблемы с самолетом…
Я отбрасываю прочь слова той женщины. Бурно аплодирую вместе с остальными. О нас говорит весь мир. «Лондон – Сидней» за двадцать часов. Ничего не случится. Ничего не случится, повторяю я, словно мантру, стараясь подавить нарастающее во мне чувство обреченности.
Я понимаю, почему разнервничалась после разговора с той женщиной. Потому что я не должна здесь находиться.
Все тянули жребий на попадание в экипаж, хотя было не совсем ясно, выиграли мы в лотерею или же вытянули короткую спичку. В нашей группе в «Ватсапе» последовал шквал сообщений.
– Что-нибудь есть?
– Пока нет.
– Говорят, разослали электронные письма.
– Как же хочется туда попасть!!!
А потом картинка: скриншот с телефона Райана. Поздравляем! Вы назначены в экипаж рейса, 17 декабря открывающего прямое воздушное сообщение между Лондоном и Сиднеем. Под картинкой он поставил эмоджи со слезами и приписал: «Двадцать часов, блин!»
Я написала ему в личку. Предложила занять его место. Не объяснила, зачем мне это нужно, и, конечно же, постаралась не показать, насколько это для меня важно. Но он по-прежнему настаивал на обмене на рейс в Мехико плюс комплект подарочных карт, которые я получила на день рождения. Ненормальная! – заключил он, и мне пришлось с этим согласиться.
И вот я здесь. Чужак, попавший на самый важный рейс за всю современную историю.
– Хочу представить пилотов этого исторического рейса, – произносит Диндар. Он машет им рукой, чтобы они подошли к нему в центр комнаты. Слышится шарканье, когда им уступают дорогу. – Командир воздушного судна Льюис Джуберт и второй пилот Бен Нокс; командир воздушного судна Майк Карривик и второй пилот Франческа Райт.
– Карривик? – уточняю я у Эрика, когда присутствующие хлопают. – В моем списке экипажа его нет.
Он пожимает плечами:
– Поменяли в самый последний момент. Я его не знаю.
А Диндар продолжает:
– На борту будут присутствовать почетные гости.
Под «почетными гостями» он подразумевает тех, кто не платил за билеты. Журналистов, нескольких знаменитостей и «влиятельных людей», которые шестнадцать часов полета будут торчать в «Инстаграме», а остальные четыре часа – пьянствовать.
– Однако я призываю вас относиться к ним так же, как и к заплатившим за билеты пассажирам.
Ну да, верно. Журналисты стремятся оттянуться, разумеется. Бесплатный полет бизнес-классом в Австралию? Вот мой паспорт! Но им еще и нужен материал для репортажей. Представьте: встречаются корреспонденты газеты «Дейли мэйл» и сайта tripAdvisor. «Вот ужас! На межконтинентальном рейсе нет гипоаллергенных подушек».
Как только Диндар и его свита заканчивают поздравлять самих себя, начинается предполетный инструктаж. Майк и Франческа отвечают за взлет и первые четыре часа полета, затем отправятся отдыхать на койки над пилотской кабиной. Льюис и Бен поведут самолет следующие шесть часов, после чего пилоты снова меняются. Что касается бортпроводников, то нас шестнадцать человек, разделенных на две смены. Когда мы не работаем, то лежим на койках в задней части самолета и делаем вид, будто это совершенно нормально – спать в комнате без окон, полной незнакомых людей.
Приходит женщина из отдела охраны труда и предупреждает об опасностях усталости. Напоминает нам, чтобы мы пили достаточное количество жидкости, потом демонстрирует дыхательное упражнение, которое должно помочь нам как можно больше спать во время перерывов. Кто-то из бортпроводников смеется, один притворяется спящим.
– Извините, – произносит он, резко выпрямляясь, с широкой улыбкой на лице. – Кажется, сработало!
Когда мы парами идем через здание аэропорта следом за пилотами, везде царит атмосфера напряженного ожидания, и я чувствую гордость, как всегда перед вылетом. Наша униформа темно-синего цвета с изумрудным кантом на обшлагах, кайме и лацканах. Слева на груди – покрытый эмалью значок с надписью «Уорлд эйрлайнс», справа – бейджик с именем. Наши шарфики изумрудного цвета в развернутом виде представляют собой карту мира, где каждая страна обозначена миниатюрным названием авиакомпании. Сегодня у нас новые значки: «Рейс № 79. Делаем мир меньше».
Штатный фотограф снимает нас со всех ракурсов, и до самого выхода нас сопровождает шепот окружающих нас людей: «Лондон – Сидней».
– Мы будто по красной дорожке идем! – говорит кто-то из сотрудников.
Словно на эшафот идем, думаю я. Не могу избавиться от чувства, что должно случиться нечто ужасное.
Наверное, у многих людей подобное ощущение возникает всякий раз, когда они летят самолетом: неприятная тяжесть в желудке и сосание под ложечкой. Мне всегда казалось, как это грустно и неприятно – проводить чудесные часы полета, вцепившись в подлокотники кресла и крепко зажмурившись в ожидании воображаемых катастроф, которые так и не происходят.
Ко мне это не относится. Для меня полеты – это все. Триумф инженерной мысли, работающей не наперекор природе, а вместе с ней. Адам смеется, когда я восторгаюсь видом самолетов, но что может быть прекраснее зрелища взлетающего «А-320»? Ребенком я едва не стонала, когда папа брал меня с собой в аэропорт, где он стоял у наружной ограды и фотографировал самолеты. Для него главное значение имело искусство фотографии. Он так же проводил долгие часы около реки, стараясь получше запечатлеть летящую цаплю. Незаметно для себя я обнаружила, что сама втянулась в это хобби.
– Как я здорово схватил в кадре «три семерки», – показывал мне отец дисплей цифровой камеры.
– Это не «три семерки», – возражала я. – Это был «747-й» укороченный.
Я любила рисовать и выводила у себя в альбомах изящные контуры носовых частей и кабин, больше не жалуясь, если папа предлагал провести субботний день в аэропорту. Когда мы летали к родственникам, меня не интересовало, какой покажут фильм или что-то там в завернутых в фольгу обедах. Я прижималась носом к стеклу иллюминатора и смотрела, как движутся вверх-вниз закрылки, и ощущала, как самолет легонько качается будто в ответ. Я все это просто обожала.
Сосание под ложечкой и нарастающее предчувствие чего-то плохого выбивают меня из колеи, когда мы поднимаемся на борт. Дверь в кабину пилотов открыта, все четыре летчика сгрудились внутри, готовясь к полету. Я чувствую, как по спине у меня бегут мурашки, и вздрагиваю.
Эрик это замечает.
– Тебе холодно? Это из-за кондиционеров, их всегда врубают на полное охлаждение.
– Нет, все нормально. Только трясет меня. – Я снова вздрагиваю и жалею, что не выразилась как-то иначе. Потом проверяю оборудование в салоне, что проделывала много раз, но теперь все по-другому. Датчики давления. Уплотнители. Кислородные трубки. Огнетушитель. Маски-противогазы, аварийные комплекты… Важна любая мелочь, от этих деталей зависит жизнь и смерть.
– Возьми себя в руки, Холбрук, – тихонько бормочу я.
Вскоре я несу упаковку тоника через бизнес-класс в мини-гостиную и помогаю комплектовать бар. Внутри самолета провели перепланировку предположительно с целью улучшить комфорт пассажиров во время столь долгого перелета. В носовой части, между кабиной пилотов и салоном, расположена бортовая кухня с двумя туалетами по бокам и лесенкой, ведущей к скрытым за дверью спальным местам для смен летчиков. Дальше начинается бизнес-класс с отдельной мини-гостиной и баром, отделенными от остального пространства самолета раздвижной шторой, и еще с двумя туалетами. Экономкласс разделен на две половины с зоной для «вытягивания ног» между ними, ближе к хвосту находятся туалеты. Всего на борту триста пятьдесят три пассажира, все они станут дышать одним воздухом с момента закрытия дверей в Лондоне до их открытия в Сиднее.
Пассажиры бизнес-класса заходят на посадку первыми, уже поглядывая на бар и присматривая себе спальные места, пока мы проверяем билеты и вешаем верхнюю одежду в небольшой гардероб рядом с кухней. Сейчас на борту слишком много бортпроводников – в салоне все шестнадцать приветствуют пассажиров. Половина из них скроется в отсеке для отдыха и уляжется на койки. В бизнес-классе останутся Эрик, Кармела и я; Хассан встанет за стойку бара, а четверо отправятся в экономкласс. Пока все внизу, по салону буквально расползается возбуждение вместе с навязчивым страхом. Двадцать часов. Где еще совершенно незнакомые люди проведут столь длительное время в замкнутом пространстве? В тюрьме, думаю я, и от этой мысли мне становится нехорошо.
Пассажирам бизнес-класса предлагают шампанское. Я вижу, как один мужчина резко дергает спиной, словно опрокидывает рюмку крепкого, прежде чем подмигивает Кармеле, чтобы та налила ему второй бокал.
Двадцать часов.
Скандалистов можно определить с самого начала. Есть нечто такое у них во взглядах и в поведении: Я лучше тебя. Со мной тебе жизнь медом не покажется. Однако это не всегда выпивохи (хотя бесплатное шампанское не особенно помогает), и тот мужчина не вызывает у меня дурных предчувствий.
– Дамы и господа, добро пожаловать на рейс № 79 «Лондон – Сидней»! – Как старшая бортпроводница, я обладаю сомнительной привилегией приветствовать пассажиров. В моих словах нет ничего такого, что делало бы сегодняшний полет особенным, однако уже слышатся восторженные возгласы. – Прошу вас убедиться, что все мобильные телефоны и портативные электронные устройства выключены на время взлета и набора высоты.
Я прохожу в салон и замечаю большую сумку около ног женщины с сильной проседью, в зеленом джемпере.
– Позвольте положить сумку на багажную полку?
– Мне нужно держать ее при себе.
– Если она не поместится на полку для ручной клади, боюсь, ее придется сдать в багажное отделение.
Женщина поднимает сумку и прижимает к груди, словно я пригрозила отнять ее силой.
– Там все мои вещи.
– Прошу прощения, здесь ее оставлять нельзя.
На мгновение наши взгляды встречаются, и каждая из нас хочет одержать верх. Затем женщина раздраженно усмехается и начинает опустошать сумку, рассовывая по многочисленным кармашкам вокруг кресла джемперы, книги и косметички. Я мысленно завязываю «узелок на память» – тщательно проверить ее место после посадки на случай, если она что-нибудь забудет. Снова устроившись в кресле, женщина перестает сердиться и смотрит в иллюминатор, потягивая шампанское.
После объявления командира корабля: «Экипаж, приготовить двери к взлету и провести перекрестную проверку» – общее возбуждение в салоне нарастает. Почти все пассажиры бизнес-класса уже распечатали свои подарочные пакеты, а одна дама успела переодеться в сувенирную пижаму с надписью «Рейс № 79», вызвав веселое удивление у соседей. Перед инструктажем о мерах безопасности показывают видеообращение Диндара, на которое не обращают внимания, потому что никто не знает, кому оно вообще нужно. Мы с Кармелой собираем пустые бокалы.
– Подождите-ка, милочка, там еще осталось.
Женщина с озорным огоньком в глазах улыбается мне, забирая с полноса бокал и допивая шампанское. Я помню ее имя из списка пассажиров – одно из нескольких, которые отложились у меня в памяти. К концу рейса я буду знать по именам все пятьдесят пассажиров бизнес-класса.
– У вас есть все, что нужно, леди Барроу?
– Пожалуйста, зовите меня Патрисией. А лучше просто Пэт, старина Пэт. – У нее игривая улыбка, как у бабушки, которая сует внукам шоколадки, пока мама отвернулась. – Это титул – представление моих детей о шутке.
– Так вы не леди?
– О, еще какая. Полноправная владелица квадратного фута земельных угодий в Шотландии, – высокопарно отвечает она и заразительно смеется.
– У вас есть родственники, которые встретят вас в Сиднее?
Что-то меняется в ее взгляде – мимолетная печаль, она прячет ее за вздернутым подбородком и очередной озорной улыбкой.
– Нет, я сбежала. – Женщина смеется, увидев мое удивленное лицо, а потом вздыхает: – На самом деле, родня на меня злится. А я не совсем уверена, что поступаю правильно, я уже ужасно скучаю по своим собачкам. Но это у меня первый год без мужа, и… – Она внезапно умолкает, а потом делает резкий выдох. – Ну, мне понадобилось сменить обстановку. – Женщина кладет мне на руку ладонь с наманикюренными ногтями. – Жизнь коротка, милочка. Не разбрасывайтесь ею.
– Никоим образом, – улыбаюсь я, но ее слова продолжают звучать у меня в ушах, когда я шагаю по проходу. Жизнь коротка. Слишком коротка. Софии уже пять лет, а дни летят один за другим.
Я объясняю всем, что вернулась на работу, потому что нам нужны деньги, а еще из-за того, что занимающийся Софией соцработник считает, будто это поможет в решении ее проблем с привязанностью. И то и другое – правда.
– Ведь всему этому причина – недостаток внимания, верно? – спросил Адам, когда мы обсуждали этот вопрос. – Тот факт, что в первые месяцы жизни девочку фактически бросили? – Соцработник кивнул, но Адам уже продолжил, размышляя вслух: – Так как ей поможет вре́менное отсутствие Майны?
Я помню охвативший меня страх, что у меня отнимут свободу, которую я только-только ощутила.
– София усвоит, что Майна всегда возвращается, – ответил соцработник. – Вот что самое важное.
В общем, я вернулась на работу, и все от этого были счастливы. Адаму не приходилось беспокоиться о деньгах. София постепенно начала понимать, что я всегда к ней возвращаюсь. Удочерение девочки прошло нелегко, очень нелегко, и мне просто требовалось отвлечься. Нужна была передышка, но еще важнее было скучать по Софии: это напоминало мне, как сильно я ее люблю.
Закончив проверки, я жду оповещения по громкой связи из кабины пилотов: «Бортпроводники, займите свои места для взлета». Усаживаюсь на ближайшее к иллюминатору откидное сиденье. Раздается рев двигателей, полоса под нами все быстрее бежит назад. С глухим стуком выпускаются закрылки, давление воздуха растет, пока не становится трудно определить, слышишь ты его или чувствуешь. Легкий толчок, и колеса отрываются от земли. Я представляю то, что происходит снаружи, – резкий подъем носа, когда мы взмываем ввысь над полосой. Невероятно тяжелый и неуклюжий самолет для столь прекрасного и грациозного маневра, но он все же его выполняет, и мы забираемся выше по мере того, как пилоты форсируют тягу. Небо темнеет, над землей нависают низкие слоисто-дождевые облака, и кажется, будто за бортом скорее сумерки, чем полдень. В иллюминаторы хлещет мокрый снег, пока мы не поднимаемся туда, где его нет.
На трех тысячах метров раздается мелодичный звон, и словно по условному рефлексу все сразу оживает. Сидящая на месте 5J миниатюрная блондинка вытягивает шею, чтобы разглядеть землю внизу. Она напряжена, и я принимаю ее за нервную пассажирку, однако чуть позднее блондинка закрывает глаза и откидывается на спинку кресла. Лицо ее медленно расплывается в отстраненной улыбке.
Все идет своим чередом. Привязные ремни отстегнуты, пассажиры уже на ногах, постоянно звенят звоночки требующих выпивки. Теперь уже слишком поздно. Слишком поздно вспоминать о внутреннем голосе, твердившем мне не работать на этом рейсе. Это голос совести, вот и все. Моего чувства вины за то, что я добилась места здесь вместо того, чтобы остаться дома с Софией. За то, что я вообще тут нахожусь, когда жизнь могла бы сложиться совсем иначе.
Поздно или нет, но голос не унимается.
Двадцать часов, говорит он. За двадцать часов многое может произойти.
Глава четвертая
Пассажир 5J
Меня зовут Сандра Дэниелс, и когда я поднялась на борт самолета, летевшего рейсом № 79, то оставила позади прошлую жизнь.
По-моему, я бы даже не подумала куда-то лететь, если бы не мой муж. Говорят, что жертвы домашнего насилия пытаются сбежать шесть раз, прежде чем это им удается. Я сбежала всего лишь однажды. Я думаю о том, как это влияет на среднюю статистическую выборку, о женщинах, предпринявших восемь попыток. Десять. Двадцать.
Я сбежала лишь один раз, поскольку знала, что, если не сделаю все, как надо, он меня найдет. А если найдет, то убьет.
Утверждают, что в среднем жертв избивают тридцать пять раз, прежде чем те обращаются в полицию. Интересно, как себя ощущаешь, когда тебя били всего тридцать пять раз. Я не считала (а с математикой я никогда особо не дружила), однако я знаю, что два-три раза в неделю за четыре года гораздо больше тридцати пяти. Хотя, наверное, статистики подразумевают что-нибудь серьезное: переломанные кости, удары по голове, от которых становится темно, а из глаз сыплются искры. Не пощечины. Не щипки. Их, похоже, не берут в расчет. Вот так всегда: снова я все преувеличиваю.
Генри тут не совсем виноват, не полностью, в том смысле, что я знаю: людей бить нельзя, конечно же, нельзя. Но он потерял работу, а это сильно сказывается на мужчине, верно? Приходится жить за счет жены, когда тебя принято считать кормильцем семьи, мыть туалет и ждать, когда придет мастер ремонтировать посудомоечную машину.
Это казалось несправедливым. По словам Генри, именно он любил свою работу, а я просто «тянула лямку». Трудилась, а не делала карьеру. Генри стремился продвинуться, и это ему удавалось, я же топталась на месте. Его уважали, он был спецом в своем деле. А я… ну, он рассказал мне, что́ случайно услышал у барной стойки, когда зашел на наш рождественский корпоратив.
После этого я перестала участвовать в посиделках с коллегами. Да и как я могла, выяснив, что они в действительности обо мне думают? Туповатая. Страшненькая. Некомпетентная. Это не стало для меня открытием, однако кому нравится, когда это лишний раз подтверждают? Надо признать, коллеги продолжали притворяться: постоянные улыбки, фразочки «Как прошли выходные?» и «Точно не хочешь пойти с нами?» Я отвечала, что занята, пока они не отстали.
Вскоре Генри снова нашел работу, и я была благодарна, что он предложил мне уволиться. Сомневаюсь, чтобы по мне стали скучать. Во многом это явилось началом новой жизни, и хотя мы это не обсуждали, я была уверена, что Генри преодолеет свое подавленное состояние. Теперь, не работая, я смогла бы поддерживать его гораздо лучше, а в перерывах между работой по дому и готовкой, наверное, ходила бы в спортзал или в кружок рисования. Может, я бы даже обзавелась подругами.
Генри случайно увидел объявление об онлайн-занятиях фитнесом. Стоили они гораздо дешевле, чем абонемент в спортзал, и мне не пришлось бы никуда ездить, так что все это вполне имело смысл. К тому же я начала учиться рисовать. Это было ужасно! Да-да, действительно ужасно. Первым заданием было нарисовать карандашом вазу, и, как сказал Генри, рисунок мог изображать что угодно. Рисовать я прекратила. Глупо было вообще начинать. Как говорится, старую собаку не научишь лаять по-новому.
Однако подругами я обзавелась. И где бы вы думали – на «Фейсбуке»! Генри назвал их «как бы подругами», хотя во многом они были более реальны, чем окружавшие меня люди. Например, семейная пара по соседству или женщина, распространявшая каталоги фирмы «Эйвон» и порой заходившая на чашку чая. Понимаете, я с ними разговаривала, с этими «как бы подругами». Прежде всего об уборке – мы все входили в группу на «Фейсбуке» по лайфхакам в домашнем хозяйстве. Но вы ведь знаете, как бывает: начинается более тесное общение. Поздравления с днями рождения и все такое. Я и сама не заметила, как мы стали переписываться в личке.
Знаешь, он не должен так с тобой обращаться, уверяли они.
В глубине души я это знала, но, когда мне об этом заявили другие, мысль эта прочно укоренилась в моем сознании. В следующий раз, когда Генри меня ударил, я сразу ринулась к компьютеру:
– Он снова это сделал.
– Тебе нужно уехать.
– Не могу.
– Можешь.
Утверждают, что каждая четвертая женщина за свою жизнь хотя бы раз в той или иной форме подвергается домашнему насилию. Двадцать пять процентов всех женщин.
Я оглядываю салон, пересчитывая пассажиров. С точки зрения статистики, по крайней мере, пятерых женщин только в бизнес-классе избивали – или будут избивать – их партнеры. Эта мысль и успокаивает, и ужасает.
Вот пожилая дама. Глаза у нее с озорным огоньком, но в них сверкнули слезы, когда она говорила со стюардессой. Она тоже от кого-то бежит?
Или жена футболиста, которого мы узнали. Она так и льнет к нему, вся такая гламурная, с блестящими волосами и пухлыми яркими губами. В конце концов, никто не знает, что творится за закрытыми дверями. Никто не знал, что творилось за дверями у меня.
Бортпроводницы?
А почему бы и нет? Домашнее насилие одинаково для всех. Я гляжу на бейджики с именами и мысленно сравниваю их с собой. Вот Кармела – жертва? А Майна?
У Майны улыбка озаряет все лицо, но как только она скрывается за шторой, улыбка мгновенно исчезает. Есть у нее в глазах нечто такое, что ее тревожит. На жертву она не похожа, но в свое время я тоже не думала, будто выгляжу как жертва, и не считала себя ею, пока подруги не помогли мне увидеть мир таким, каков он есть на самом деле.
Трудно подобрать слова, чтобы описать мое отношение к «как бы подругам», насчет которых Генри столько язвил.
Как отблагодарить кого-то за то, что спасли тебе жизнь?
А ведь именно это они и сделали. Открыли мне глаза на то, что он творил, и вернули мне давно утраченную уверенность в себе.
Когда самолет рейса № 79 поднялся в воздух, впервые за пятнадцать лет я вздохнула с облегчением. Генри не помчится за мной в Сидней. Он никогда меня не найдет.
Наконец-то я свободна.
Глава пятая
15:00. Адам
Разговор с инспектором Батлер на целый день выбил меня из колеи, отчего на взятие показаний уходило вдвое больше времени, чем обычно.
– У вас все нормально? – Моя первая свидетельница поглядела на накорябанные моей дрожащей рукой каракули и с озабоченным видом склонила голову набок.
Я отшутился: «По-моему, у меня всегда так». Однако заметил, как она обеспокоенно посматривала на бумагу, когда я вносил дополнения в ее показания, а когда зачитал их ей, там оказалось так много ошибок, что пришлось начать заново. Мой молчавший телефон высветил двадцать семь пропущенных вызовов, иконка голосовой почты мигала красным. Сколько времени нужно для составления детализированного счета за телефон? Сколько времени уйдет у Батлер, чтобы просмотреть распечатку и заметить вновь и вновь повторяющийся номер? А числа в крайней колонке становятся больше и больше. Сколько надо времени, чтобы разрушить карьеру, которую пришлось строить двадцать лет?
Я выхожу из участка позднее обычного и дважды медленно объезжаю городок в поисках парковочного места, прежде чем бросаю это занятие и отгоняю машину к дому. Потерянное время означает, что за Софией придется бежать, застревая в снегу и от этого еще больше теряя скорость. Я срезаю угол по церковному подворью, не обращая внимания на предупреждающие знаки, и мчусь мимо идущих навстречу женщин с детьми, сжимающими в руках рисунки. Вот черт! Если родитель опаздывает, ребенка отправляют на продленку и за это берут пять фунтов, даже если опоздаешь всего на пять минут. Может, деньги и небольшие, но теперь в карманах у меня гораздо меньше.
Оскальзываясь, я проскакиваю через калитку, опоздав на пять минут.
– Мистер Холбрук, – хмурится мисс Джессоп, вероятно, размышляя, как мне сказать, что я должен раскошелиться, – Боюсь, Софию уже забрали.
– Кто? – Не Майна: рейс у нее около полудня.
– Бекка. Ваша няня, – объясняет она, словно я мог забыть. – Разве миссис Холбрук вам не сообщила? – Я уже вижу, как она готовит сплетню для болтовни в учительской. У родителей Софии наверняка все разладилось, по-моему, теперь они друг с другом даже не разговаривают…
– Да, сообщила. Просто забыл. Спасибо. – Я заставляю себя улыбнуться, хотя жутко злюсь на Майну за то, что выставила меня идиотом.
Я пускаюсь бегом в сторону главной улицы и нагоняю их на углу у самого полицейского участка. Перехожу на шаг. Темные волосы Софии – такие темные и кудрявые, что люди находят в них сходство с Майной, которого нет и быть не может, – выбиваются из-под шерстяной шапочки и рассыпаются по плечам и спине ее ярко-красного шерстяного пальто. Майна всегда заплетает их за завтраком в косички, которые к обеду, конечно же, напрочь распускаются. София смотрит себе под ноги, выискивая в перемешанной ногами слякоти кусочки нетронутого снега, чтобы ступить туда сапожками.
– Эй, София!
Она оборачивается. Сначала улыбается, а потом лицо ее делается настороженным. Я ненавижу себя за то, что так получается.
– Привет, пап.
– Привет, Адам.
– Все нормально, Бекка? Ты откуда здесь взялась? Я же говорил Майне, что сегодня уйду с работы пораньше.
Она пожимает плечами.
– Я только сообщение получила. Обычно я не сижу с детьми два вечера подряд, но под конец года деньги очень нужны, так ведь? Все эти рождественские подарки, а потом еще и Новый год. В «Быке» устраивают праздник, куда входной билет стоит двадцать фунтов, затем еще и выпивка, а если захотим продолжить…
Я перестаю ее слушать, когда мы шагаем в сторону дома. София пританцовывает вокруг Бекки, держась за ее ладонь. Я тянусь к ее другой перчатке, но София сует руку в карман, и я закусываю щеку изнутри, пока не чувствую соленый привкус.
Черт бы побрал эту Майну! Я же говорил ей, что заберу Софию. Господи, даже сообщение отправил, где все написал черным по белому. Теперь не могу отослать Бекку, не дав ей немного денег, она ведь ожидала, что ей заплатят, когда я вернусь с работы.
– Овощной магазин, – произнесла София. – «Сейнсберис».
У Майны всегда так. Она вопит о том, что мне нужно вносить посильный вклад, а потом выкидывает фокусы вроде этого и выставляет меня дураком.
– Теперь мясная лавка. А вот контора риелтора, где…
– Продают дома, да, мы знаем. Господи, София!
Я чувствую на себе взгляд Бекки, когда девочка умолкает.
Легко быть образцовым родителем, если у тебя нет своих детей, тогда странные детские причуды умиляют, а не раздражают. Может, Бекка поняла бы это, если бы ей тысячу раз пришлось выслушивать «путевые наблюдения» Софии или же пять лет подряд слышать, как Майна каждый вечер читает вслух «Баю-баюшки, луна».
Майна не взглянет на экран телефона, пока не сядет самолет, но накопившееся внутри меня раздражение нужно куда-то выпустить, и я достаю свой телефон. Она считает, что именно я уклоняюсь от общения, когда сама не может разобраться в таких простых вещах, как кто забирает дочь…
Я смотрю на дисплей и на ветку сообщений, которую открыл, готовясь высказать все Майне.
«Няня не нужна. На завтра договорился уйти пораньше, так что смогу…»
Мое сообщение остается незаконченным. Внезапно я вспоминаю звонок из следственного изолятора, когда вчера днем сунул телефон в карман, потому что резюме дела моего подозреваемого наконец-то приготовили для защитника.
Я думал, что отправил сообщение.
Был уверен, что отправил его.
Меня бросает в жар, я ощущаю угрызения совести и вместе с тем злость, как это всегда со мной случается. Все произошло лишь потому, что теперь Майна не отвечает на мои звонки и настаивает, чтобы я ей писал сообщения. Или электронные письма. Электронные письма! Кто пишет их женам?
Так удобнее.
Удобнее кому? Не мне, это уж точно. Майна ведь даже голоса моего не выносит, верно? Для нее лучше держать меня по ту сторону почтового сервера, когда она может делать вид, будто я какой-то работник по хозяйству, с кем приходится иметь дело ради Софии.
– Еще немного побудь, – говорю я Бекке, даже сам улавливая горечь у себя в голосе. Сглатываю ее. – Может, сделаешь Софии чаю? Ей это понравится.
Бекка мнется, а потом кивает.
– Классно.
Майна именно так бы поступила? Или же сказала бы мне, что я швыряюсь деньгами, которых у нас нет. Было время, когда Майна считала, что я поступал правильно. Теперь я все делаю плохо.
Врун.
Обманщик.
Никудышный отец.
Самое ужасное то, что она права. Я врун. Обманщик. Майна не может ненавидеть меня больше, чем я ненавижу сам себя. Она не знает, что при виде своего отражения в зеркале меня тошнит от отвращения. Как до этого дошла наша жизнь?
Батлер, наверное, уже получила счет. Она изучала бы его с маркером в руках, читая между строк. И раскрашивая крах моей карьеры.
Что мне делать? Служба в полиции отличается от большинства других профессий. Ты не работаешь какое-то время, а потом движешься дальше, как будто стоял за стойкой бара или пытался заняться розничной торговлей. Это похоже на работу учителя или врача, становящейся частью тебя. И я вот-вот всего этого лишусь.
Бывший муж, бывший отец, бывший полицейский. Хуже уже некуда.
Когда мы выходим к окраине города, София высвобождает ладошку из руки Бекки. Снова падает снег, и резиновые сапожки девочки оставляют на тротуаре крохотные следы. Она забегает за угол в двадцати метрах впереди нас, я зову ее, но София хихикает и не останавливается.
– Догоняй!
Я перехожу на бег трусцой. Вылетаю за угол – улица пуста. По тротуарам расплескана серая снежная жижа с мостовой, и я выискиваю отпечатки ног девочки.
– София!
– Спокойно, это она так в прятки играет, – раздается в нескольких метрах позади меня голос Бекки. – О, нет! – сценически-громко взывает она. – Где же наша София? – Потом улыбается мне, но я не принимаю ее игру.
– София!
Мимо проезжает автомобиль, я заглядываю в салон, вижу водителя, машинально засекаю номера и направление движения. Чтобы украсть ребенка, нужны секунды. И несколько минут, чтобы скрыться.
– София! – Я перехожу на бег. – Выходи сейчас же, это не смешно!
– Она не выйдет, если думает, что ты на нее злишься, – шипит Бекка мне в спину, после чего выводит нараспев: – Ее нигде не видно!
Я останавливаюсь так внезапно, что едва не падаю.
– Пожалуйста, не учи меня воспитывать ребенка!
Делаю полный оборот, внимательно оглядывая улицу. Где же она?
В любом полицейском расследовании, касающемся ребенка, возникает мгновение, когда размышляешь: А если бы это был мой ребенок? Как бы я поступил? Что бы чувствовал? Всего лишь мгновение: если позволишь раздумьям затянуться, никогда не выполнишь задание.
Мгновение уже растянулось на минуту.
– София! – кричу я так громко, что перехватывает горло, и мне приходится откашливаться.
– Ничего не получится, – мелодраматическим тоном произносит Бекка и вздыхает: – Придется идти домой без нее.
– Нет! – София выскакивает из-за мусорного бака на колесах и буквально врезается в Бекку. – Я здесь!
– Ой, Господи, ты пряталась! А я-то подумала, что ты растворилась в воздухе!
Кровь стучит у меня в ушах, когда я наклоняюсь, хватаю Софию за руку и притягиваю к себе.
– Больше никогда так не делай, слышишь? Что угодно могло случиться.
– Она ведь просто играла…
Я обрываю Бекку свирепым взглядом и заставляю дочь смотреть мне в лицо. Нижняя губа у нее дрожит.
– Прости, папа.
Кровь приливает к щекам, глаза начинает щипать. Сердце постепенно успокаивается. Я слегка улыбаюсь Софии. Отпускаю ее руку и поправляю шапочку.
– Ты меня напугала, Соф.
Она смотрит на меня, не отводя взгляда темных глаз так долго, будто знает все мои тайны.
– Папы не пугаются.
– Порой все пугаются, – весело отвечаю я.
Остаток пути домой София позволяет мне держать себя за руку, и я гадаю, знает ли она, как много это для меня значит. Я перехватываю взгляд Бекки, одни только ее вздернутые брови каким-то образом выдают мысль, что я перестарался. Вслух она этого, конечно же, не говорит. А вот Майна высказала бы. Вечно у тебя конец света получается. Ты всегда убежден, что случится худшее.
Каюсь, виноват. Но это лишь потому, что именно так часто и случается.
– Мама летит на самолете, – произносит София, когда я помогаю ей снять сапожки. Обиваю их друг о дружку и ставлю на коврик около двери рядом со своими рабочими ботинками. Наш дом по адресу Фарм-Коттеджес, 2 – средний из трех террасных коттеджей, в свое время принадлежавших расположенной в полутора километрах от нас ферме.
– Правильно.
У всех трех коттеджей есть садики, выходящие в парк с огромными дубами и дорожкой в форме восьмерки. Одна половина восьмерки – детская площадка, а на другой находится небольшое озеро с крохотным островком, на нем стоит домик для уток. В парке есть большая поляна, где летом пышно цветут наперстянка и васильки, с тропинкой, по которой любит бегать София.
– Она будет лететь двадцать часов, потом вернется домой, на это уйдет еще двадцать часов, но между полетами мама поживет в гостинице.
– Верно.
– Вот умница, – замечает Бекка, глядя в телефон.
– Это «Боинг» «три семерки», на нем летят 353 человека.
– Да.
– А где она?
Я считаю до пяти и мобилизую все свое терпение.
– Ты же мне только что сказала. Мама летит на самолете.
– Да, а где именно?
Есть еще мужчины, испытывающие то же, что и я? Мужчины, чьи дети только и хотят, чтобы быть рядом с мамой? Есть еще отцы, постоянно чувствующие себя утешительными призами, и неважно, как сильно они выкладываются? Похоже, я никогда этого не узнаю, потому что это будет означать, что кому-то расскажешь, как тебе плохо, когда твоя дочь всегда хочет находиться рядом с другим человеком.
Я достаю телефон и запускаю трекер «Полетный радар-24», столь любимый фанатами авиаспоттинга и дальних перелетов.
– Мама… – Я жду, пока в приложении загрузится самолет Майны. – Вот здесь.
– Бела-ус.
– Русь. Как «гусь». Беларусь.
София повторяет за мной, вглядываясь в слово на дисплее, и я понимаю, что она его запомнит. Она никогда ничего не забывает.
– Наздровье, – произносит Бекка.
– Что-что?
Она медленно проходит в кухню, оставив свои сапоги на линолеуме. Под ними уже лужица.
– Это по-русски «Будем здоровы».
Я переставляю ее обувь на коврик и смотрю на мигающую на дисплее телефона точку – самолет Майны на высоте десяти с половиной тысяч метров. Скоро мигающая точка пересечет воздушное пространство России, потом Казахстана, а затем Китая. Наконец она пролетит над Филиппинами, Индонезией и перед тем, как мы с Софией проснемся, пересечет Австралию и приземлится в Сиднее.
– Двадцать часов, – протянул я, когда Майна сообщила, что полетит. – Ничего себе смена!
– Я не директор авиакомпании, Адам.
Я выдержал паузу, прежде чем заговорить снова, не желая ввязываться в ссору, которую она пыталась начать.
– Все же неплохо бы провести несколько дней в Сиднее в это время года.
– Это не праздник и не отпуск!
Я сдался. Мы стояли около дверей школы, чтобы передать слона, которого в то утро случайно забыли дома. София бросилась Майне на шею и обняла ее, а потом кивнула мне, будто мы как-то встречались на конференции по сетевым протоколам. Напомните, чем вы конкретно занимаетесь? Мне подарили несколько часов общения с дочерью со строгим предписанием вернуть ее домой к шести вечера.
А Майна не унималась:
– Перестань заставлять меня чувствовать себя виноватой, Адам! Это моя работа.
– Знаю, я…
– Как будто бы у меня есть выбор.
Она покраснела от злости и принялась демонстративно медленно застегивать пуговицы на пальто Софии. Я заметил, как Майна глубоко и размеренно дышала, а когда выпрямилась, никто бы и не подумал, что что-то произошло.
– Я буду скучать по тебе, – тихо сказал я, гадая, переступил черту или нет, но глаза Майны увлажнились. Она отвернулась, вероятно, надеясь, что я ничего не заметил.
– Это такой же рейс, как и все остальные.
Двадцать часов, как ни крути.
Лихорадочное и возбужденное ожидание этого перелета продолжалось два года. Возможно, я замечал его более приземленно, чем Майна, но компания «Уорлд эйрлайнс» была у всех на виду и на слуху. Телевизионная реклама, демонстрировавшая мягко раскладывавшиеся кресла-кровати в бизнес-классе и вытянутые ноги пассажиров экономкласса. Интервью с пилотами, работавшими на испытательных рейсах, ностальгические сравнения с «Кенгуриным маршрутом», по которому летали в 1940-х годах с остановками в шести странах.
– В 1903 году, – пару дней назад сказал Юсуф Диндар, сидя на гостевом диване в передаче «Завтрак на Би-би-си», – братья Райт бросили вызов земному тяготению, совершив первый управляемый полет на аппарате тяжелее воздуха с двигателем. Более ста лет спустя мы обладаем возможностью держать в воздухе 150 тонн металла двадцать часов подряд. – Он откинулся на спинку дивана и вытянул вдоль нее руку. – Сила притяжения Земли велика, но мы доказали, что преодолели ее. Мы победили природу.
Теперь, когда я вспоминаю его самодовольный взгляд, у меня по спине мурашки бегают. Не сомневаюсь, что у него самые опытные экипажи и самые лучшие самолеты. Однако природа способна поглотить целый город, повалить небоскребы и смыть в океан береговые линии…
Я выключаю сценарий наихудшего развития событий, закольцовкой вертящийся у меня в голове. Майна права: вечно у меня конец света получается. Они три раза прогоняли испытательные рейсы. На них смотрит весь мир. На карту поставлена их репутация, не говоря уже о нескольких сотнях человеческих жизней.
Ничего не случится.
Глава шестая
17 часов до Сиднея. Майна
Мы где-то над Восточной Европой, под нами лишь кружащиеся облака. Я касаюсь пальцами стекла иллюминатора и всматриваюсь в очертания фигур, которые выискивала бы вместе с Софией, будь она здесь. Старуха, сгорбленная и ковыляющая в магазин, гляди, вон ее сумка. Пальма – вон там! Чуточку прищурься…
Вспоминаю, как сама высматривала облака-фигуры рядом с мамой, лежа на спине в саду, пока та пропалывала клумбу. Она держала сад в образцовом порядке, никогда не запоминая названий растений, но как-то чувствуя, что и куда посадить.
– Растениям для хорошего роста нужно пять вещей, – объяснила мама, выкапывая симпатичный кустик, в прошлом году усыпанный мелкими белыми цветочками, а в этом почему-то захиревший. Я села прямо, обрадовавшись случаю блеснуть тем, что выучила по биологии.
– Вода, – произнесла я. – Питание. Свет для фотосинтеза. – Я задумалась. – Тепло?
– Умничка. А пятое?
Я скривилась. Не смогла вспомнить, есть ли пятое вообще.
– Пространство. – Мама осторожно подняла кустик, заполнила образовавшуюся лунку землей, остатки которой рассыпала по соседним растениям. – Вот эти три прекрасно шли в рост, когда их посадили, но теперь этот сильно зажат. Он не погибнет, но и разрастаться не станет. Я пересажу его в другое место, и ему это понравится, вот увидишь.
Я вспоминаю этот разговор всякий раз, когда оказываюсь на борту самолета, ощущая вину оттого, что оставила Софию дома. Чтобы расти и развиваться, нам нужно пространство. Всем нам.
Я долго моргаю и оставляю облака и дальше складываться в фигуры. В самолете светло, всюду слышны разговоры. Блюда, которые мы подаем, тщательно продуманы: сначала те, чтобы пассажиры не засыпали, а затем такие, чтобы они поскорее легли отдыхать.
– Лучше раздать всем снотворное, – заметил Эрик, когда мы просматривали меню. – Дешевле бы обошлось.
Я иду вдоль салона, проверяя, есть ли у пассажиров все необходимое. Там семь рядов. Двойные ряды кресел тянутся вдоль краев салона, посередине располагается блок из четырех кресел. Каждое кресло снабжено ширмами, ими можно отгородиться от соседа, что обеспечивает каждому пассажиру личное пространство. Если захочется поспать, то можно выдвинуть вперед нижнюю часть кресла, устроившись под телеэкраном и превратив и без того удобное кресло в настоящее кресло-кровать. Неплохо для того, чтобы провести двадцать часов. Все это сильно отличается от экономкласса, где у тридцати трех кресел в девяти рядах спинки опускаются на восемь сантиметров.
– Мы уже почти на месте? – спрашивает мужчина, сидящий в одном из кресел по центру.
Я вежливо улыбаюсь, хотя он уже четвертый пассажир, задающий подобный вопрос, причем каждый из четырех убежден в своей оригинальности. Позади него влюбленная парочка отгородилась от всего мира, опустив кресла на одинаковый угол. У них на экранах показывают один и тот же фильм, причем кадр в кадр, что достижимо лишь намеренными усилиями. Наверное, молодожены, однако если так оно и есть, то, согласно списку пассажиров, дама сохранила девичью фамилию.
– Можно мне еще одеяло? – спрашивает женщина лет тридцати с пышными кудрявыми каштановыми волосами, перехваченными широкой лентой. – Я замерзаю.
– Джинни – наполовину ящерица. Для полного счастья ей нужна инфракрасная лампа.
Ее спутник чуть постарше, лоб у него в морщинах. Он улыбается, но глаза у него не сверкают, как у нее.
– Ну, вам будет приятно узнать, что сейчас в Сиднее двадцать пять градусов тепла, – отвечаю я. – Вы туда надолго?
– На три недели. – Джинни резко выпрямляется, словно подброшенная вверх собственными словами. – Мы смываемся, чтобы пожениться!
– Ух ты, как здорово!
Я вспоминаю нашу с Адамом свадьбу: церковь, семейные фотографии, банкет в гостиничном ресторане, а потом неделю в Греции. Разумеется, банально, но в хорошем смысле слова. Тогда все представлялось незыблемым и надежным.
– Джинни!
– Что? Теперь уже безразлично, Дуг, мы перешли черту. Никто нас не остановит.
– Пусть так.
Он надевает наушники, а Джинни заливается краской, ее восторг исчезает. Я оставляю их смотреть фильм, и, хотя они сидят так же близко друг к другу, мне за них как-то тревожно. За нее особенно. Внезапно меня охватывает грусть по той паре, которой были мы с Адамом на греческом острове, и по тому, чем все это закончилось. Любые отношения меняются, когда появляется ребенок, неважно, каким путем пойдете, однако ребенок с особыми запросами придает отношениям такую напряженность, к которой оказались не готовы ни я, ни Адам. Моей реакцией был поиск решений, желание прочитать все о психической травме после удочерения и о нарушениях привязанности.
А реакцией Адама стало бегство.
В физическом смысле он находился рядом, когда не работал, но в плане эмоциональном я стала его терять много лет назад. Не знаю, тогда ли у Адама начались романы, а еще мне не известно, сколько их было. Интрижка с Катей – единственная, о какой я могу сказать наверняка.
Однажды я его спросила прямо. Обнаружила банковскую карту на счет, о существовании которого не подозревала, а потом поняла, что он поменял пароль к смартфону.
– У тебя роман?
– Нет!
– Тогда зачем менять пароль?
– Я три раза ошибался при вводе. Его просто пришлось сменить. – Лицо Адама прямо-таки излучало вранье.
Меня вызывают к креслу через проход, где пожилой мужчина в круглых очках и с редеющими волосами хмуро смотрит на свой лэптоп.
– Вай-фая по-прежнему нет.
– Нет. Прошу прощения, наша команда делает все, чтобы выяснить, в чем проблема, но…
– Ее скоро решат?
Я подавляю желание прижать пальцы к вискам и впериться взглядом в невидимый хрустальный шар.
– Не знаю. Примите извинения за возникшее неудобство.
– Мне он нужен только для работы. – Мужчина выжидающе смотрит на меня, словно возможность снова запустить вай-фай зависит только от меня. – Это очень долгий перелет.
Пилоты почти готовы к первой пересменке. Франческа и Майк на шесть часов отправятся наверх, отдыхать на койках. Когда они вернутся, мы одолеем полпути до Сиднея. Для бортпроводников предназначена вторая зона отдыха в хвостовой части самолета. Туда можно попасть через запираемую дверь в хвостовой кухне. Восемь небольших коек с поролоновой звукоизоляцией, разделенных ширмами. Сомневаюсь, долго ли я посплю после первой смены, но к концу второй все сильно изменится. Экипаж в полном составе займет свои места за два часа до прилета, имея строжайшие инструкции от Динбара выглядеть свеженькими для фотографий после посадки.
Перед обратным рейсом у нас в Сиднее выдастся пара свободных дней. Будет просто прекрасно посмотреть город, но еще лучше – всласть отоспаться, не слыша криков Софии. Ее уже несколько месяцев каждую ночь мучают кошмары вне зависимости от того, когда мы ложимся спать и где она спит. Я просыпаюсь с бьющимся сердцем, сбегаю вниз по лестнице и обнаруживаю Софию, сидящую с прямой спиной, застывшую и пару секунд не реагирующую на мои объятия, прежде чем обмякнет в них.
– Вероятно, она скучает по Кате, – однажды сказала я Адаму.
Намек был более чем прозрачным: во всем виноват он. Он покраснел, как это с ним всегда случается при упоминании ее имени, и я махнула на все рукой. Однако что-то настойчиво не давало мне покоя, словно больной зуб, пока на следующий день я не поняла, в чем же дело. Кошмары начались до отъезда Кати.
– Прошу прощения. – Мальчишка лет девяти-десяти поднимает руку и шевелит пальцами, будто он на уроке и ему нужно выйти. Рядом с ним на кресле-кровати растянулась мама, рот ее чуть приоткрыт, а глаза закрывает маска для сна с вышитой по атласной ткани надписью: «Идет зарядка – не отключать».
– Здравствуй, как тебя зовут?
– Финли Мастерс.
– Привет, Финли! – улыбаюсь я. – Хочешь что-нибудь попить?
– У меня наушники запутались.
Он смотрит на меня серьезно, и у меня вдруг начинает щемить в груди, что очень часто случается, когда я далеко от Софии.
– Да уж, проблема нешуточная. Посмотрим, сумеем ли мы ее решить. – Ногтями я развязываю узелки на шнуре и с улыбкой возвращаю Финли наушники.
– Спасибо.
– Не за что.
Финли – единственный ребенок в бизнес-классе, хотя в первых креслах среднего ряда сидит пара с крохотным младенцем. Он плачет, словно кошка мяукает, негромко, но настойчиво, и я замечаю, как родители обмениваются обеспокоенными взглядами. Я улыбаюсь им, стараясь показать, что ничего страшного не происходит, но они озабоченно осматривают одежду малыша, будто причина его дискомфорта заключается в том, как на нем завязаны ползунки, а не в давлении, влияющем на его крохотные ушки.
Сверяюсь со списком пассажиров – Пол и Лия Талбот – и иду узнать, не нужно ли им что-нибудь. Их ребенку явно не более месяца.
– Три недели и два дня, – отвечает Лия на мой вопрос.
Она австралийка, у нее выгоревшие на солнце волосы и смуглое веснушчатое лицо. Ровные белые зубы придают ей здоровый и спортивный вид. Я сразу представляю, как они на Рождество жарят барбекю у берега моря. Может, когда-нибудь Адам, София и я поступим так же – убежим от холода в теплые, солнечные края.
Значит, все-таки с Адамом? – встревает внутренний голос психотерапевта.
– Какая прелесть! Как его зовут? – спрашиваю я, не обращая внимания на подсознание. Это привычка, вот и все. Пять лет семейной жизни. Адам совершенно четко обозначил свои приоритеты, и они не имеют отношения к жене и дочери.
– Он действительно чудо, – улыбается Лия, глядя на сына. Она старше меня, похоже, ей хорошо за сорок, но выглядит гораздо лучше. – Знакомьтесь: Лахлан Хадсон Самуэль Талбот.
– Как много имен!
– Мы не смогли определиться, – широко улыбается ее муж. Произношение у него английское, но с восходящей интонацией в конце предложений, которую так охотно перенимают живущие в Австралии экспаты.
– Вы выглядите просто потрясающе! – говорю я Лие. – Поверить не могу, что вы только после родов!
От этого комплимента она смущается, прижимаясь губами к головке младенца и вдыхая его запах. Муж обнимает ее за плечи, словно ограждая от меня, будто я сказала что-то не то.
– Если понадобится, чтобы я его взяла, а вы могли бы немного поспать, позовите меня.
– Благодарю вас.
Я отхожу от них, в груди болит так, точно я проглотила камень. Удочерение не избавило меня от горечи бесплодия, не подавило порой появляющуюся инстинктивную тягу к тугому животу или еле заметному шевелению крохотного существа внутри. София для меня все – не обязательно рожать, чтобы быть матерью, – однако это не означает, что можно без боли в сердце думать, как все могло происходить.
Мне хотелось, чтобы София в самом крайнем случае попала к нам новорожденной. Так могло сложиться. Так должно было сложиться. За ее матерью уже наблюдали, социальные службы держали ее на контроле, а более старшие дети находились под опекой. Но надо было пройти весь процесс удочерения, который отнял у нас первый год жизни Софии, а у нее – способность доверять. Этот процесс лишил нас семьи, которой мы могли бы стать.
Ни Адам, ни я не спали в ночь перед тем, как София впервые появилась у нас дома. Мы боялись что-нибудь испортить.
– А если я так никогда и не почувствую себя ее настоящим отцом?
– Почувствуешь! Непременно почувствуешь.
Я знала, что Адам нервничал – ему понадобилось больше времени, чем мне, чтобы проникнуться идеей удочерения. Но я также знала, что скоро он души в ней не будет чаять. Семьи строятся на любви, а не на генах.
Только, похоже, они с Софией так и не привязались друг к другу. Она была капризной и привередливой даже совсем младенцем, и как-то ее обуздать не удавалось никому из нас. В итоге девочка разрешила мне баюкать себя перед сном, но если Адам брал ее на руки, София напрягалась и заходилась от крика. По мере того как становилась старше, она требовала от меня все больше внимания, отстраняясь от Адама.
– Терпение, – повторяла я. – Однажды София прильнет к тебе, так что надо быть готовым.
– Выше голову, дорогуша. Может, этого и не случится.
Меня отрывает от раздумий сидящий за Талботами мужчина, вытянувший длинные ноги из-под столика с бутылочкой воды и книгой.
Когда я училась в университете, то подрабатывала в баре, куда ходили банкиры, шизанутые ботаны и старшекурсники. Как только я оказывалась за стойкой, мои однокашники превращались в интеллектуальных снобов, осыпая меня фразочками типа «давай, дорогуша» и «нормально, милашка», словно мы играли в массовке сериала «Обитатели Ист-Энда». Нынешняя моя работа порой напоминает мне ту. Я знавала всяких бортпроводников с самой разной подготовкой. Среди них были работавшие на «скорой» врачи, университетские преподаватели и отставной полицейский с запоздалой жаждой странствий. Однако большинство пассажиров этого не замечают. Они видят униформу, а значит, официантку. И никакого тебе обучения поведению в экстренных ситуациях, спасению утопающих, умения погасить пожар или вызволить пассажира из заклинившего кресла.
Я приклеиваю улыбку поверх сжатых зубов.
– Вам что-нибудь принести, сэр? Вина?
– Спасибо, я не пью.
– Ну, если что-нибудь понадобится, я рядом.
Я благодарна наличию этого оазиса трезвости, в то время как остальные пассажиры салона становятся все веселее. Внезапно мне хочется оказаться дома, свернуться калачиком на диване рядом с Софией и смотреть мультфильм «Свинка Пеппа». Когда я летаю, то вспоминаю только хорошее. Разве не всегда так? Я даже вспоминаю хорошее из нашей жизни с Адамом – смех, единение, его объятия.
Со стороны бара раздается какой-то шум, и я шагаю туда, посмотреть, не нужна ли помощь. Гомон разговора нарастает, когда в него включается все больше пассажиров бизнес-класса. Некоторые из них в пижамах, по-прежнему веселясь от новизны ощущений, хотя с момента взлета миновало несколько часов. Около стойки стоит парочка, раскованная и оживленная.
– Ты штопор не видела? – У бармена Хассана задерганный вид.
– Понятия не имею, где он. Раньше тут лежал. Сейчас принесу из кухни запасной.
– Вот поэтому-то я и пью только шампанское! Нужен лишь бокал. Или соломинка!
Женщина около стойки смеется густым гортанным смехом, резко контрастирующим с ее миниатюрной фигурой. У нее длинные белокурые волосы, аккуратный макияж с алой помадой на губах. Стоящий рядом мужчина глаз с нее не сводит. Он коренастый, чуть выше блондинки, однако бицепсы его шире ее талии. Волосы у него, вероятно, кудрявые, если бы не очень короткая стрижка, половину лица закрывает густая борода. Большой палец левой руки женщины непринужденно и почти машинально засунут в задний карман брюк мужчины, как у пар, привыкших льнуть друг к другу. У меня перехватывает горло при воспоминании о времени, когда наши отношения с Адамом были достаточно новыми для флирта, но весьма доверительными, чтобы нам было легко друг с другом.
Собираясь уходить, краем глаза замечаю какое-то движение. С легким шелестом раздвигается штора между эконом- и бизнес-классом. Я оборачиваюсь и вижу приближающуюся к бару темноволосую женщину. Около стойки она ждет и смотрит по сторонам на огромный телевизор на стене и на вазочки с бесплатными сладостями для пассажиров.
– Шампанское, пожалуйста.
Хассан мельком глядит на меня.
– К сожалению, бар обслуживает только пассажиров бизнес-класса.
Похоже, он нервничает, руки его повисают над бутылкой с шампанским, словно он все-таки сможет ей налить.
– Мне всего бокальчик.
Так и хочется дать ей выпить, а потом выдворить обратно в экономкласс, но есть что-то в ее поведении такое, что ей все должны, и от этого я взвиваюсь. Делаю шаг вперед.
– Прошу прощения, вам нужно вернуться в экономкласс.
– Вот, мать вашу, я только выпить хочу!
Я улыбаюсь:
– А я лишь хочу, чтобы меня не оскорбляли на работе, однако сдается мне, что никто из нас сегодня желаемого не добьется.
– Как вам пижамки? – Женщина резко оборачивается, буквально плюясь словами в сторону одинаково одетой пары, делающей селфи.
– Эм-м, они очень…
– А вы знаете, что у нас в подарочном пакете? – Она помахивает пальцами, изображая кавычки, а потом срывается на крик: – Песочный коржик, мать его!
– Все, довольно. – Я беру пассажирку под локоть, но она сопротивляется.
– Руки убери! Это общественно опасное посягательство, вот что это такое. – Она оглядывается по сторонам. – Кто-нибудь снимает? Она только что схватила меня.
– Пожалуйста, вернитесь на свое место. – Все у стойки уже таращат глаза, пассажиры бизнес-класса вытягивают шеи, чтобы посмотреть, что происходит позади них. – Бар – для пассажиров бизнес-класса.
– А он с какой радости остается? – Женщина тычет пальцем в сторону коренастого мужчины, старающегося ее не замечать.
– Потому что он… – начинаю я и вижу, как шея у него краснеет, а сам он робко отодвигает недопитый бокал.
– Пардон, – бормочет мужчина, хотя не понятно, обращается он ко мне или же к своей спутнице-блондинке.
– Да что ж такое! – поворачиваюсь я к Хассану, кусающему нижнюю губу.
– Они вместе. Все было тихо, когда они заказывали, и я подумал…
– Прошу всех с билетами бизнес-класса вернуться на свои места, – громко объявляю я. – Бортпроводники с огромным удовольствием примут ваши заказы на напитки.
– Пардон, – снова произносит коренастый мужчина.
Он бросает последний долгий взгляд на блондинку, прежде чем скрыться за шторой и вернуться на свое место. Я складываю руки на груди и в упор смотрю на пьяную женщину. Мы сверлим друг друга глазами целую минуту, прежде чем она отводит взгляд.
– Нувориши! – орет она на прощание, и мне становится жаль коллег из экономкласса, которым пятнадцать часов придется отказываться подавать ей выпивку.
Я резко выдыхаю, чуть краснея от жидких аплодисментов сидящих у стойки бара пассажиров.
– У вас ведь есть дети? – с улыбкой обращается ко мне женщина в пижаме. – Вы таким командным голосом разговаривали.
Я улыбаюсь. Направляюсь в кухню и впервые с начала полета чувствую облегчение. Беспокойство наконец-то исчезает. Предчувствие не обмануло меня: во время рейса что-то должно было случиться, однако ничего такого, с чем бы я не справилась. Я двенадцать лет на этой работе, и нужно постараться, чтобы вывести меня из себя.
Когда я была ребенком, мама всегда протягивала руки к небу, когда над головой грохотал «Боинг-747».
– Быстро! Передай привет всем пассажирам!
– Этот самолет может лететь куда угодно, – посмеивалась я. Но руками, однако, махала – была слишком суеверной.
Эта привычка – вроде приветствий одиноких соро́к – укоренилась и надолго прижилась после кончины бабушек и дедушек, когда больше не было причин отправляться в Алжир или передавать приветы тем, кто по ту сторону океана. Даже после того, как перестала ходить с папой к аэропорту – в моем подростковом возрасте совсем не круто, если заметят, как ты смотришь на самолеты, – я застенчиво поднимала руку, когда видела самолет.
Много лет спустя мы летели из Франции, где у моих родителей по-прежнему оставался дом. Он принадлежал деду и бабушке по отцу – развалюха, полная воспоминаний. Я смотрела из иллюминатора на облака, казавшиеся столь плотными, что на них можно стоять. Школьные каникулы мы проводили во Франции, продолжая традицию, когда я училась в колледже. Пока мама ходила по гостям, общалась с подругами, я видела, как папа расслаблялся вдали от лондонской суеты.
– Как мне хочется стать пилотом! – Тогда я впервые произнесла это вслух, и мне это показалось дерзким. И нелепым.
– Так стань им, – усмехнулся папа.
Чего-то хочешь? Добейся.
В носовой части самолета приоткрылась дверь в пилотскую кабину, я вытянула шею и увидела приборную панель и закругленное обзорное стекло, за которым расстилался ковер из облаков. От волнения у меня кровь застучала в ушах.
– Это очень дорого стоит.
– Дорого – это сколько?
– Типа… восемьдесят тысяч фунтов. Самое меньшее.
Папа молчал целую вечность, а потом пожал плечами, пошуршал газетой и предложил:
– Разузнай поподробнее.
Через полтора месяца они продали дом во Франции.
– Поступай учиться на пилота, – сказал папа.
– Но вы же любили этот домик! – Я вгляделась в лица родителей и не увидела ничего, кроме радостного ожидания. – Он должен был обеспечить вам прибавку к пенсиям.
– Кому нужна пенсия, если у тебя дочь – пилот авиалиний? – подмигнул мне отец. – Ты сможешь содержать нас в старости.
Мама ласково сжала мне руку:
– За нас не беспокойся. Мы очень рады за тебя.
Она сфотографировала меня в тот день, когда я уезжала на учебу, будто шла в первый класс. Я стояла у двери дома в черных брюках и новенькой форме с одной золотой планкой на погончиках.
Я смотрю на юбку, которая на мне сейчас, на ногти с маникюром и колготки телесного цвета. Я люблю свою работу, но изначально она должна была быть совсем другой.
– Попить хочешь? – Кармела держит чайный пакетик над пустой кружкой.
– Давай.
Странно делать перерыв сейчас, всего через несколько часов после взлета, и осознавать, что, когда мы проснемся, нам еще предстоит долгий полет. Под нами люди будут вставать, идти на работу, возвращаться домой и ложиться спать, а мы все это время будем в воздухе. Это просто невероятно, почти откуда-то из иного мира.
В отличие от Эрика, который ни разу не улыбнулся с той минуты, как мы оказались на борту, Кармела вся цветет. Ей двадцать два года, и она собирается переехать к бойфренду, которого буквально боготворит.
– Он работает в Сити, – с гордостью сообщила она, когда мы устроились на откидных сиденьях, готовясь к взлету.
– А чем занимается?
Кармела захлопала глазами.
– Работает в Сити.
Я мысленно отругала себя.
– Ах да, ты говорила. Извини.
Кармела заваривает чай, а я открываю маленький платяной шкафчик рядом с кухней и вынимаю небольшую бумажную коробку, которую пообещала Софии взять на борт.
– Не открывай ее, пока не полетишь, – велела она. София зашла ко мне в комнату, когда я собирала вещи, уже привыкшая к виду раскрытого на кровати чемодана.
Я разворачиваю бумагу. Внутри кусочек бисквитного пирога, его мы вместе пекли на выходных, и от запаха сиропа у меня текут слюнки. Уголок надкушен, я провожу пальцем по неровному краешку, которого касались перламутровые зубки моей дочери.
Под пирогом лежит кусочек бумаги в жирных пятнах. Мамочке с любовью от Софии, люблю-целую. Я показываю листок Кармеле, и она прижимает руки к груди.
– Господи! Это от твоей дочери?
Я киваю.
– Боже мой, как здорово! Жду не дождусь, когда стану мамой. Наверняка ты с ней много чем занимаешься. Рисованием, поделками и всем прочим.
– Почти всегда выпечкой. – Я поднимаю пирог повыше. – Мы очень много печем. Этот испекла практически сама, а ей всего пять лет.
– Потрясающе.
Я отламываю кусочек и кладу в рот, сую записку в карман и заворачиваю пирог, чтобы доесть его на койке. Начинаю прибираться в кухне, готовя все для следующей смены. Кто-то оставил на стойке шприц-тюбик, я беру его в руку, чтобы не смахнуть в мусорное ведро.
– Кто-нибудь знает, чей… – Я осекаюсь. Мое внимание привлекает чуть стертая метка на шприце – небольшой белый прямоугольник с нарисованным смайликом и именем печатными буквами: «София Холбрук».
– С молоком и сахаром? – спрашивает Кармела.
Что здесь делает шприц Софии? Смайлик подсказывает мне, что шприц из ее рюкзачка. Это простое, но эффективное решение Адама проследить, где находится каждый шприц. А метка, несомненно, из тех, какие я аккуратно наносила на ее туфельки, коробочку для обеда и бутылочку с водой.
Я вспоминаю нынешнее утро после того, как отвела Софию в школу. В униформу я переодевалась дома. Даже если шприц лежал у меня в джинсах, он никак не мог переместиться из одного кармана в другой. Может, я положила его в рабочую сумочку, когда приехала в аэропорт? Долгие годы выработали у меня четкую привычку: паспорт и удостоверение личности «живут» в моей рабочей сумочке вместе с кремом для рук, гигиенической помадой и кошельком с наличными. Шприцы я там не держу, зачем мне это? София не ездит со мной на работу.
– База вызывает Майну. Все нормально?
– Извини. С молоком. Спасибо.
Я опускаю синий шприц в карман. Другого объяснения нет. Это я, наверное, пронесла его на борт.
А иначе как он мог сюда попасть?
Глава седьмая
18:00. Адам
– Бекка слепит со мной снеговика, – произносит София. Вопроса в ее голосе нет не потому, что она не очень хорошо разговаривает, а оттого, что у нее такой характер. София меня не просит и не спрашивает, она мне сообщает.
– Уже пора чай пить, да и темно на улице, – замечаю я, однако лицо ее мрачнеет, и я думаю: К черту полезности, к черту осторожное воспитание, почему бы мне хотя бы раз не вызвать у нее улыбку? – Полагаю, можно будет включить свет на улице. Вот будет забавно! Я леплю классных снеговиков. Самое главное – это…
– Нет. Бекка и я слепим снеговика.
– Ладно! – бросаю я, словно ее ровесник. Чем больше соли на рану, тем сильнее болит. Разве родители должны так страдать? А когда должны, надо ли с этим мириться?
Бекка в кухне ковыряет лазанью, которую вытащила из духовки.
– Она овощная, как ты думаешь?
Я забираю у нее вилку и приподнимаю румяную сочную корочку из растопленного сыра.
– Овощи у нее внутри.
Она закатывает глаза.
– Это что, шутка такая? Разве ты не знал, что выделяемый коровами метан в двадцать пять раз вреднее для окружающей среды, чем углекислый газ?
– Попробуй посидеть в комнате для инструктажей с двадцатью неуклюжими полицейскими! Коровы с ними и рядом не стояли.
– Папа говорит, нам можно слепить снеговика!
– Если хочешь, – пожимает плечами Бекка.
Она снова берет в руки телефон, чтобы проверить постоянно появляющиеся уведомления, и я чувствую, как мои пальцы подергиваются. Привычка вызывает мышечную память, и мой большой палец сам может все прокрутить, прежде чем возникнет мысль остановить его.
София открывает холодильник и роется в овощах. С торжествующим видом вытаскивает морковку.
– Теперь шляпа.
Она убегает в коридор на поиски подходящего предмета, а я сую лазанью обратно в духовку, чтобы она не остыла. В морозилке обнаруживается вегетарианский бургер, вероятно, оставшийся с последнего раза, когда Бекка сидела с Софией. Я загружаю его в электрогриль.
Надев сапоги и куртки, Бекка с Софией выходят на улицу. Они загребают руками свежевыпавший снег, дочь радостно визжит от новизны игры в темноте, и я закрываю заднюю дверь, пару секунд глядя на них через стекло.
Мои пальцы сжимают телефон. Я отхожу от двери, но они еще слишком близко, и я отправляюсь в спальню. Перескакиваю через две ступеньки, сердце колотится от ожидания, как начинают течь слюнки, когда знаешь, что пора поесть. Я выглядываю из окна, убеждаюсь, что Бекки и София по-прежнему заняты игрой, и меня охватывают противоречивые чувства, как и всегда, когда я гляжу на дочь.
– Какая счастливая малышка, – однажды сказала мисс Джессоп на родительском собрании.
Майна взглянула на меня.
– Отрадно слышать. Она… Нам с ней трудно. Порой…
Порой. Скорее уж – почти всегда. Она снова смотрит на меня в поисках поддержки.
– Ее поведение может становиться вызывающим, – продолжил я. – У нее возникают срывы и истерики, просто страшные истерики. Они продолжаются по часу или дольше.
Жизнь рядом с Софией напоминает хождение по льду, когда не знаешь, где он треснет. Ты весь во власти эмоций пятилетней девочки.
– Она может быть весьма капризной, – добавила Майна. Она говорила медленно, тщательно подбирая слова. – Ревнивой. В большинстве случаев – по отношению ко мне. Это вызывает… – Она замялась. – Напряжение.
Повисла пауза, пока мисс Джессоп все это осмысливала.
– Должна заметить, что подобного у нас в школе не происходит. Мне известно о ее психическом состоянии, но, если честно, по виду Софии этого никогда не скажешь. Интересно… – Она оглядела нас с Майной и наклонила голову. – Наверное, она так реагирует на какие-то проблемы дома?
Единственное, что помешало мне возмутиться, – это осознание того, что я лишь прибавлю веса ее аргументу. Я подождал, пока мы выйдем за территорию школы, но Майна не выдержала первая.
– Да как она смеет! Значит, это мы виноваты, что у Софии проблемы с поведением? И ничего, что ее биологическая мать рожала и рожала, сама не помня, сколько и кого, и до нас София успела сменить две приемных семьи? – Она расплакалась. – Это все мы, Адам? Мы все делаем не так?
В редкие моменты духовного единения Майна позволяла мне обнять себя.
– Это не мы, – ответил я. Она как-то по-другому пахла, может, шампунь сменила, и у меня кольнуло в сердце оттого, что Майна чуть-чуть чужая. – Уж точно не ты. Ты – прекрасная мать.
Оказавшись один в когда-то нашей супружеской спальне, я гляжу на телефон. Открываю сообщения, и меня охватывает знакомое чувство стыда пополам со страхом. Я жутко облажался. Все глубже и глубже увязал в страшной грязи, из которой не могу выбраться, и потащил за собой Майну и Софию.
В памяти всплывает заплаканное и испуганное лицо дочери. Напуганной настолько, что она даже говорить не могла. Говорила одна Катя после того, как София перестала плакать, и ее посадили перед телевизором, завернув в одеяло, словно она заболела.
– С меня хватит. – Катя отправилась наверх. Я – за ней. – Прошу тебя, Катя…
Она рывком вытащила из-под кровати чемоданы и принялась швырять в них одежду.
– Хватит врать. Все кончено.
– Только Майне ничего не говори, я тебя умоляю. – У нас и так с ней все пошло вразнос. Мы едва разговаривали, и Майна начала задавать мне вопросы, каких я сроду от нее не слышал. Где находился? Во сколько ушел с работы? С кем говорил по телефону? – Она меня бросит.
– Это не моя забота! – Катя обернулась и ткнула меня пальцем в грудь. – Это твои проблемы!
Я закрываю сообщения и открываю «Фейсбук», щелкая по профилю Майны. Я думал, что она забанит меня после того, как вышвырнула из дома, однако ничего не изменилось. В разделе «Семья и отношения» ее статус по-прежнему заявлен как «в браке», и печально смотреть, как я хватаюсь за него, словно за призрачную надежду. Майна поменяла фото профиля. Это селфи без фильтров, сделанное на фоне снега в месте, которого я не знаю. Майна в шапочке с меховым помпоном, а на ресницах белеют снежинки.
Как же я жутко облажался. Потерял единственную женщину, которую по-настоящему любил.
Мы познакомились с Майной на матче по регби, когда она влетела впереди меня к барной стойке.
– Ничего страшного, – произнес я в пассивно-агрессивной британской манере, которая позволяет отмотать назад, если пропустил «извините».
Она повернулась вполоборота, держа в одной руке десятифунтовую купюру, чтобы обеспечить себе место у стойки.
– Простите, я пролезла вперед вас?
Лицо ее не выражало ни малейшего намека на «простите», но к тому моменту мне уже стало безразлично. Волосы у нее были сумасшедше-буйные: кудряшки падали ей на лицо и, закружившись, рассыпались по плечам, когда она обернулась. На левой щеке красовался английский флаг, на правой – французский.
– Понятно, страхуете ставки, – указал я на флаги.
– Я наполовину француженка.
– С какой стороны?
Не очень-то оригинально, однако Майна рассмеялась и угостила меня пивом. Мы вышли на улицу и, не сговариваясь, двинулись подальше от выплеснувшейся на улицы шумной толпы, завернули за угол и уселись на низенькую ограду.
– У меня мама француженка. – Майна отхлебнула пива. – Точнее, алжирская француженка, она переехала в Тулузу еще до моего рождения. Папа у меня наполовину француз, наполовину англичанин, и мы обосновались в Англии, когда мне было шесть лет. – Она улыбнулась – В общем, я гибридная помесь.
Когда я ушел освежить бокалы, меня охватил страх, что Майна вдруг исчезнет, и я силой проложил себе дорогу к стойке, повторяя, что в любви и на войне все средства хороши.
– Почему так долго? – спросила она, когда я вернулся. Блеск глаз выдал ее недовольство.
– Извини, что опоздал, – улыбнулся я.
Майна училась на пилота. Прошло всего несколько недель с начала теоретического курса, с проживанием. Раньше я не встречался с летчицами, тем более такими молодыми и безумно привлекательными, и в голове у меня шумело отнюдь не от выпитого пива.
– Там все не столь ярко и захватывающе, – сообщила она. – По крайней мере, пока. Мы сидим в классах, как в школе, и математики у нас очень много.
– А когда начинаете летать?
– На следующей неделе. На «Сессне-150».
– А что это?
– Ну, скажем так, ей очень далеко до «Конкорда».
Я проводил Майну до дома. С ней бы я отправился вообще куда угодно. А когда мне надо было уходить, она так настаивала, что позвонит мне, хочет снова со мной увидеться, что между нами завязалось нечто этакое, серьезное. Я даже не спросил у нее телефон в обмен на свой номер. Я ни секунды не сомневался, что Майна позвонит.
Вот только она не позвонила. А когда я наконец-то набрался смелости зайти к ней домой, Майна уже съехала. Ни записки, ни сообщения. Меня просто бросили и забыли.
– Ну ты и идиот, – произношу я вслух.
У меня было все. Любимая женщина. Семья. Однажды я уже потерял Майну, а когда обрел вновь, то отринул от себя, и если не стану вести себя осторожно, то лишусь и Софии. Она постоянно цеплялась за Майну, и теперь, когда я здесь не живу, все превращается в борьбу за то, чтобы остаться в ее жизни. Нарушения привязанности лечатся годами – недостаточно находиться рядом с Софией на днях рождения, в каких-то особых случаях или по выходным. Мне нужно быть здесь, когда она поранит коленку, когда ей делается страшно по ночам. Важно показать ей, что я ее не брошу.
Я снимаю ноги с кровати. Может, я помогу закончить лепить снеговика, а София наденет ему шляпу и повяжет шарфик на шее? Даже если ей и не нужна моя помощь, я могу посмотреть. Похвалить, как хорошо все у нее получилось.
Я сбегаю вниз по ступенькам, вновь полный решимости быть… Что это за слово, постоянно мне попадающееся? Вовлеченным. Кладу телефон в карман, довольный собой. Я плюнул на сообщения и не ответил на них. Это доказывает, что у меня есть характер, что бы там Майна ни говорила.
Пол в коридоре мокрый, шлейф талого снега тянется в туалет на первом этаже. Они закончили.
– Слабачки вы, – говорю я, заходя в кухню. – Морозца не выдержали?
Бекка сидит около длинного кухонного стола и во что-то играет на телефоне. Я оглядываю пустую кухню.
– А где София?
– На улице. Я зашла приготовить горячий шоколад.
Чайник недавно вскипел, из носика поднимается пар, но кружек на столе нет.
– Не очень-то ты постаралась.
Я сую ноги в резиновые сапоги, стоящие около задней двери.
Наш садик представляет собой небольшой прямоугольник с запертым на замок сараем в углу и жалкой кучкой кастрюль на веранде. К сараю ведет засыпанная снегом дорожка, выложенная бетонными плитками. Садовники что из меня, что из Майны никакие – это место для игр Софии, вот и все.
Вот только сейчас она не играет.
В саду никого.
София исчезла.
Глава восьмая
Пассажир 2D
Меня зовут Майкл Прендергаст, и я поднялся на борт самолета, летящего рейсом № 79.
Каждый раз, когда в детстве я летал дальними рейсами, родители сидели в бизнес-классе, а я сзади, в ээкономклассе. Мама с папой по очереди вставали и заходили туда посмотреть на меня и задобрить шоколадками, которые им подавали к кофе.
– Тебе не нужно много места, – говорила мать. – К тому же, как только ты повернешь в самолете в бизнес-класс, то навсегда испортишься. Никогда не захочешь опять лететь эконом- или турист-классом.
Я не видел смысла в ее словах. У нас было достаточно денег, чтобы лететь бизнес-классом – на выходные в Лиссабон или на две недели на остров Мюстик, где мы каждый год отдыхали на вилле одного из клиентов отца. Зачем тесниться, если можно путешествовать с комфортом?
Через пять часов полета на Антигуа я прокрался в бизнес-класс, чтобы поглядеть на родителей. Было уже поздно, почти все спали, и я, затаив дыхание, на цыпочках шел по проходу туда, где в кресле растянулась мама. Я был двенадцатилетним дылдой, слишком крупным, чтобы уместиться с кем-то в кресле, но мне как-то удалось втиснуться.
– Тебе сюда нельзя.
– Я на минуточку.
Мама дала мне упаковку чипсов, бутылку газировки и включила наушники, чтобы я мог смотреть телевизор. Я пощелкал каналы – их оказалось в четыре раза больше, чем в экономклассе, – но у меня не представилось шанса даже что-нибудь выбрать, когда над нами нависла чья-то огромная тень.
– Прошу прощения, – произнесла мама. Она улыбнулась стюардессе виноватой улыбкой типа «бац, меня застукали!» и сняла с меня наушники.
– Ну что, пошли? – Стюардесса улыбнулась маме в ответ, однако впилась ногтями мне в плечо, когда вела меня обратно.
Щеки мои пылали от стыда. Я никому ничего не сделал, и что плохого в том, чтобы позволить мне там посидеть? Родители тоже хороши! Как они посмели отнестись ко мне как к человеку второго сорта?
Когда мы приземлились, я наблюдал, как первыми выходили пассажиры бизнес-класса, всматривался в их одежду и багаж, мысленно составляя список брендов, которыми хотел бы окружить себя в жизни. У родителей были чемоданы «Луи Виттон», а у меня – дорожная сумка, прилагавшаяся как бонус к купленному папой «дипломату».
– Когда сам станешь зарабатывать деньги, – сказал отец, – то сможешь иметь любые чемоданы, какие пожелаешь.
Он разорялся насчет понимания, что означают деньги, когда тысяча – это тысяча, как на нее ни посмотри. На карманные расходы мне перепадало порой пять или десять фунтов, в то время как мои друзья получали по двадцатке в неделю.
– Дело тут не в деньгах, – заявил папа, когда мне исполнилось восемнадцать лет. Я пытался поговорить с ним спокойно, по-мужски. – Дело в принципе.
Значит, все-таки в деньгах. Однажды, когда мы летели на Мюстик, в бизнес-классе оказались свободные места.
– Вижу, вы сидите отдельно, – произнесла женщина за стойкой авиакомпании. – Сегодня я могу предложить вам пересесть на более дорогие места всего за триста фунтов.
Триста фунтов! Мне доводилось видеть, как мама тратила куда больше на пару туфель, не поведя и бровью. Сердце у меня возбужденно забилось. Наконец-то это случится! Я уже вообразил себя растянувшимся под теплым одеялом, щелкающим разные киношки и лениво потягивающим кока-колу.
– Спасибо, ему будет удобно и в экономклассе.
У меня челюсть отвисла.
– Но…
Папа пресек все мои возражения, бросив на меня испепеляющий взгляд, прежде чем с улыбкой повернуться к женщине за стойкой:
– Вот дети пошли, а? Не знают, что почем.
Она покосилась на меня, когда я сглотнул слезы, которые, я точно знал, вызовут очередную поучительную тираду со стороны папы, а потом натянуто улыбнулась ему. Мне захотелось ей сказать: Он все время такой. Дело тут не в деньгах и не в принципе. Дело в его характере.
Тогда я весь полет ворочался в кресле, кипя от злости каждый раз, когда сталкивался с желчными взглядами из-за шторы, отделявшей меня от родителей. Я жевал безвкусный, как картон, сэндвич, пил сок из пакетика и гадал, что же подают в бизнес-классе. Мне представлялись мягкие горячие булочки и запотевшие бокалы с холодным свежевыжатым апельсиновым соком.
К счастью, у меня была бабушка. Я проводил с ней долгие часы, пока родители работали. Мы смотрели реалити-шоу, смеялись над Найджеллой, чувственно поглощавшей шоколадный мусс, и обсуждали преимущества «Берберри» по сравнению с «Хьюго Боссом». Бабушка покупала мне подарки, пряча брендовые рубашки в пакеты магазинов «фикс-прайс», чтобы я тайком проносил их домой. Она жила в большом старинном доме, раньше принадлежавшему пастору, с пристроенным бассейном и конюшней, и наслаждалась тем, что называла «жизнью по высшему разряду».
– Это я виновата в стремлении твоей матери к роскоши и мотовству, – однажды сказала бабушка, потягивая чай со сливками. – Мы частенько в субботу утром закатывались на Оксфорд-стрит и накупали столько, что буквально падали под тяжестью пакетов.
– В прошлые выходные она дала мне двадцатку, чтобы я купил себе джинсы, – жалобно отозвался я. – Двадцатку!
Бабушка презрительно усмехнулась:
– Ну, это влияние твоего папаши. Мама твоя никогда не жадничала, пока не вышла за него замуж. Начнем с того, что у него не свои деньги. Он рвач и паразит, вот кто он такой. Познакомился со мной и твоим дедушкой – да упокоит Господь душу его, – увидел все тут и «окольцевал» твою мать быстрее, чем слово «наследство» успеешь произнести. – Бабушка особо не стеснялась в выражениях. – Ну, ничего, – мрачно закончила она. – Он еще увидит.
– Что увидит?
Но бабушка мне так и не ответила, и до самой ее смерти я не понимал, что она имела в виду. Бабушка им показала шиш. Обоим. Ее завещание совершенно четко гласило, что моим родителям не отойдет ни пенни от ее обширных владений с плавательным бассейном и всем прочим.
Она все завещала мне.
Папа возмутился:
– Это переходит всякие границы! Не могла она такого придумать.
Они были в кухне, их голоса доносились до лестницы, на ступеньке которой я сидел, прижавшись спиной к стене.
– Так она захотела, – ответила мама. – Она действительно его очень любила.
У меня закололо в груди, будто я проглотил большой кусок. Я не представлял жизни без бабушки, и внезапное превращение в миллионера, каким бы безумным оно ни было, не могло компенсировать горя от ее утраты.
– У нее, наверное, совсем крышу снесло. Нам придется опротестовывать завещание.
– Разум у нее был острее, чем у многих молодых, и ты это знаешь.
– Ты ведь этого так не оставишь, нет? Деньги должны были достаться нам!
– Строго говоря – мне, – услышал я голос мамы, но папа не обратил внимания на ее слова.
– Господи, парню восемнадцать лет – он совершенно безответственный!
Я ждал маминых контраргументов, но их не последовало. Я судорожно сглотнул. Да пошли они куда подальше! Оба. Деньги я особо не любил, а вот бабушку – очень, однако родителям я ничего отдавать не собирался. Мне больше не надо было их терпеть и под них подстраиваться. У меня был свой дом и достаточно денег, чтобы делать то, что пожелаю.
Жизнь шла прекрасно, и не только для меня, я не скряжничал, как мои родители. На каждый фунт, истраченный на себя, приходилось два, потраченных на других. Я спонтанно угощал незнакомых людей в барах, завершая вечер в окружении новых приятелей. Осыпал своих подружек цветами, шоколадками, драгоценностями, и чем больше тратил, тем сильнее они меня любили. Я делал щедрые пожертвования благотворительным фондам и не обращал внимания на овации, от которых у меня начинала болеть голова.
Разумеется, я летал в бизнес-классе. Всегда. Как повторял мой отец, дело не в деньгах, дело в принципе.
Рейсом № 79 летят люди, раньше не путешествовавшие бизнес-классом. Это сразу заметно по тому, как они открывают каждый ящичек, нажимают каждую кнопочку на панели перед креслом, спрашивают бортпроводника, как обращаться с креслом-кроватью; включены ли в телепакет все киноканалы, когда будут подавать еду… Я откидываюсь на спинку кресла и позволяю себе погрузиться в окружающую атмосферу, словно надеваю костюм от дорогого портного.
Бортпроводники суетливо снуют от одного пассажира к другому и вяло обсуждают между собой двух стюардесс. Они обе привлекательны, несмотря на разницу в возрасте. Та, что постарше, явно главная: она внимательно рассматривает каждое кресло, выискивая любую мелочь, которая может уменьшить наш комфорт. Взгляд ее падает на меня, и я замираю, будто мне внезапно снова двенадцать лет.
Ну что, пошли…
Впившиеся в плечо ногти…
Она улыбается:
– Вам что-нибудь принести, сэр? Вина?
– Спасибо, я не пью.
Не пью уже много лет. Предпочитаю бодрящее жужжание кофеина дурманящему голову алкоголю.
– Ну, если что-то понадобится, я рядом.
Выдыхаю. Забавно через столько лет по-прежнему ощущать себя обманщиком.
– Благодарю вас.
Все под контролем. У меня билет в бизнес-класс. В карманах деньги. Жизнь наконец-то идет так, как мне хотелось.
Глава девятая
12 часов до Сиднея. Майна
В отсеке для отдыха можно скорее ползать, чем ходить, выпрямившись в полный рост. Стены там как бы загибаются внутрь, пока не образуют крышу; форма фюзеляжа тут видна так же четко, как в кабине пилотов. Пол здесь выстлан мозаичным теплоизоляционным покрытием, напоминающим маты в школьном спортзале; индивидуальные ячейки отделены друг от друга шторами, свисающими с потолка, как в больничной палате, а каждая койка тут размером с гроб.
Мы все были слишком взвинчены, чтобы спать. Лишь Эрик задернул штору около своей койки, оставив нас перешептываться.
Остальные семеро из смены растянулись на полу, обмениваясь сплетнями о пассажирах, которыми нельзя спокойно поделиться в бортовой кухне.
– Где-то посередине салона сидит чел – не вру, ей-богу, – в котором веса примерно сто восемьдесят кило, – сообщил кто-то из экономкласса.
– Бедняга, ему, наверное, так неудобно, – усмехнулась Кармела.
– В смысле, бедняга его сосед! У него место рядом с проходом, и у меня там постоянно застревает тележка. А я такая: Э-э, не могли бы вы подвинуть… э-э… животик?
Все покатились со смеху и резко замолчали, когда Эрик шикнул на них из-за шторы. Мы прекрасно знали, что́ это – пытаться уснуть, когда остальным спать не хочется, но вокруг царила атмосфера ребячества – полночные посиделки на поездке в гости с ночевкой. Мы захихикали, прикрыв ладонями рты. Пассажиров, по крайней мере, это не побеспокоит – между салоном и отсеком для отдыха проложена качественная звукоизоляция. Когда мы в отсеке, то полностью отрезаны от остальной части самолета.
Я вроде бы со всеми, однако думаю о своем. Рассеянно прислушиваюсь к игре в стиле телешоу «Капитальный ремонт» и к идеям Кармелы обустроить интерьер квартиры, в то же время стараясь вспомнить, когда в последний раз видела шприц-тюбик Софии.
Вчера утром он лежал в рюкзачке – это я точно знала. Я проверяю его, когда достаю оттуда ее коробочку для обеда и фляжку для воды, и не было никакой причины, чтобы я не проделала этого вчера. Могла ли я вытащить шприц, когда вынимала ее коробочку для обеда после школы? Раньше я этого не делала, а даже если бы и делала, это по-прежнему не объясняет, как я пронесла шприц на борт.
Может, меня кто-то разыгрывает?
Я вспоминаю, как много лет назад Адам, лопаясь со смеху, рассказывал мне о своем «посвящении» в полицейские.
– Сержант объяснил, что мы собираемся напугать нового санитара в морге, показав ему, что один из трупов – живой, – говорил он, с трудом связывая слова из-за распиравшего его хохота. – Так вот, я ложусь на каталку, меня накрывают простыней и суют в холодильный отсек. Ну, лежу я там, тихо ржу, как сыграю привидение, когда меня вытащат, вот только… только… – Еще один взрыв хохота, от которого он сгибается пополам, хотя от одной мысли быть окруженной мертвецами меня затрясло. – Вот только я и ахнуть не успел, как лежавшее выше меня тело произнесло: «Холодища тут зверская, а?»
Адам зашелся хохотом и сделался пунцовым, вспомнив, что с самого начала разыграть хотели именно его.
Мир Адама полон разительных контрастов. С одной стороны, значимые решения и громкие перебранки. С другой – оклеенные пищевой пленкой стены в туалетах, прилепленные к столам прозрачным скотчем мобильные телефоны и ложные вызовы по громкой связи издерганных оперативников к лишенному чувства юмора начальству.
– Смехотерапия, – часто повторяет Адам. Какой-то просвет, пусть и дурацкий, чтобы хоть как-то уравновесить черноту от смертей в ДТП, изнасилований и пропаж детей.
Когда я с ним познакомилась, Адам уже служил в полиции, и я часто размышляла, каким он был раньше. Всегда ли у него случались перепады настроения, при которых он приходит в состояние, откуда мне его не достать. Когда мы поженились, подобные перепады длились несколько часов, самое большее – день, но с течением времени депрессия стала охватывать Адама все дольше. В последний год она сделалась невыносимой.
– Кому ты пишешь?
Мы смотрели телевизор – был конец декабря, – но Адам едва поднимал голову от телефона. Катя сидела у себя в комнате, София спала.
– Так, особо никому.
– Что-то вид у тебя невеселый, кому бы ты ни писал.
Адам поджал губы, с силой тыча большими пальцами в экран. Я не стала допытываться, целый вечер поглядывала на него и не могла сосредоточиться на комедийном сериале, который мы вроде как смотрели.
После того как Адам съехал, а Катя вернулась на Украину, смутное беспокойство не давало мне спать по ночам. Я забывалась тревожным сном и рывком просыпалась, когда мой телефон пищал, принимая сообщения. Адам, терзаемый угрызениями совести или чувством вины, написал мне посреди рейса:
«Прости меня.
Скучаю.
Люблю».
Потом я стала отключать в телефоне звук.
Однажды утром в нем оказалось шесть сообщений и два пропущенных вызова от Адама. Когда я кое-как спускалась вниз, одуревшая от недосыпа, экран настойчиво замигал. Вместо того чтобы включить звонок, я сбросила вызов – слабое проявление презрения, о котором точно пожалею. Внизу мне потребовалась пара секунд, чтобы учуять странный запах, распространившийся по первому этажу. Я заглянула в кухню, гадая, не оставила ли что-нибудь в духовке, но резкий химический запах больше всего ощущался в прихожей и в коридоре.
Коврик у двери был облит бензином.
В полусонном состоянии я принялась соображать, не разлила ли я что-нибудь сама перед тем, как лечь спать, или же притащила что-то с улицы. Открыла дверь, чтобы избавиться от вони, и растерянно захлопала глазами, увидев, как Адам выходит из машины и идет по дорожке к дому.
– Я пытался тебе дозвониться. Все нормально?
Вид у него был безумный, словно он спал меньше моего. Глаза нервно и тревожно бегали по сторонам, будто он что-то украл, хотя я знала, что Адам никогда этого не сделает.
– Зачем ты пытался дозвониться? – Я проснулась от свежего утреннего воздуха, отдельные фрагменты складывались в картину, которую мне хотелось видеть. – И вообще, что ты здесь делаешь?
– Мне нужно забрать кое-что из одежды.
– В семь часов утра? – Я не стала дожидаться объяснений. – Я уже в полицию звонить собиралась. Кто-то налил под дверь бензин.
Я удивилась своему спокойствию, учитывая данные обстоятельства. После того как я выгнала Адама из дома, у меня стало больше сил и уверенности, а недосып добавил отстраненности от происходящего, и я смотрела на себя будто откуда-то сверху.
– Что? – Адам диковато оглянулся по сторонам, словно злоумышленники находились где-то поблизости. – Когда? У тебя все хорошо? С Софией все нормально?
Было в нем нечто наигранное, словно он от меня что-то скрывал. Будто, внезапно поняла я, Адам вовсе не шокирован.
– Нормально. Прошлую ночь София спала со мной. Я позвоню в полицию и оставлю заявление.
– Лучше я это сделаю, все равно еду на работу. Тогда меньше шансов, что заявление отправится в корзину.
Позднее, когда София была в детском саду, я поменяла лампочку в светильнике над крыльцом и спросила тетю Мо, не видела ли та что-нибудь.
– Извините, дорогая, – ответила она. – Врач дал мне что-то, чтобы помочь заснуть, и теперь я сразу отключаюсь. Хотя… Пару недель назад по парку слонялась стайка подростков, они пытались поджечь мусорные баки. Может, это были они.
Я позвонила в полицию, чтобы передать им дополнительную информацию.
– У нас нет данных о хулиганстве по этому адресу.
– Мой муж заявил о нем сегодня утром. Сержант сыскной полиции Холбрук. Он из отдела уголовного розыска.
– Похоже, он пока этим не занимался. Вас держать в курсе?
Сразу после этого разговора я написала Адаму:
«Ты оставил заявление?»
«Да, все по форме. Не уверен, что они смогут что-нибудь сделать, но проверят известных им склонных к поджогу».
Я пристально глядела на телефон. Почему он не заявил? И почему соврал? Пришло еще одно сообщение:
«Мне было бы спокойнее, если бы я пожил дома с вами. Всего несколько дней, спать буду в гостевой комнате».
В потаенных уголках моего сознания начала зарождаться мысль. А может, это Адам налил под дверь бензин, сделав жалкую попытку заставить меня принять его обратно? Вообразил себя этаким рыцарем в сверкающих доспехах?
«У нас все нормально», – ответила я. Я не испугалась. Адам, может, и идиот, но не психопат.
– Вам всем нужно было немного поспать, – говорит Эрик, когда мы выходим из отсека для отдыха и спускаемся в салон по крутой винтовой лесенке. – До следующей пересменки еще очень долго.
– Спасибо, папа, – бормочет кто-то наверху. Слышится сдержанное хихиканье.
Эрик прав, надо было поспать, но болтовня девчонок отвлекала меня от навязчивого вопроса, как шприц-тюбик оказался на борту самолета. А вдруг за этим стоит Адам? Пытается заставить меня чувствовать себя виноватой в том, что я оставила Софию? Или надеется, что я так забеспокоюсь, что мне понадобится его поддержка? Может, это, как бензин, какой-то извращенный способ выставить себя моим рыцарем в сверкающих доспехах?
Те, с кем я работаю, ни при чем, это я точно знаю. Тут все иначе, чем у Адама с напарниками – они сотрудничают много лет и знают, что можно, а что нельзя. Я же каждую смену работаю с новыми людьми. Кто разыгрывает незнакомых людей?
В салоне мой взгляд падает на мужчину в кресле 3F. У Джейсона Поука свежее лицо и ямочки на щеках, от которых девочки-подростки тают, а их мамаши испуганно произносят: «Вот этого остерегайся». Надо было жить в пустыне, чтобы не посмотреть «Шутки Поука», культовый ютуб-канал. Он быстро сделался обыденным, когда переехал на четвертый телеканал. Вспоминается один эпизод, который мы смотрели с Адамом задолго до того, как у нас все разладилось. Поук одет священником – накладной нос, седой парик – и перевирает брачные обеты перед ничего не подозревающей парой. «Любить и ругать, в смысле, оберегать». Сдержанный смех гостей. Поук икает, выдает следующую строчку. Камера наезжает на пожилую даму, надувшую губы, когда Поук поворачивается спиной к счастливой чете и отхлебывает из вытащенной из-под сутаны фляжки с вином для причастия. У невесты отвисает челюсть. За ее спиной шафер покатывается со смеху, когда Поук снимает свой камуфляж, а из ризницы выходит оператор с камерой. «Очередная шутка Поука!» – звучит голос за кадром.
– Классика жанра! – воскликнул Адам, заливаясь смехом.
– Я бы лопнула от злости.
– Только сначала. Потом увидела бы смешное.
– Вот бедняжка. – На экране нам повторяли те же крупные планы, которые мы видели несколько секунд назад. Невеста в ужасе, ее мать в слезах. – Столько времени готовились, а затем появляется этот придурок и все портит.
– Это все шафер подстроил. Поук не учинил скандал на свадьбе.
– Пусть и так.
Я прохожу мимо кресла Поука, покосившись на экран, чтобы увидеть, что́ он смотрит. С удивлением вижу, что там показывают документальный фильм об Освенциме, и краснею, когда Поук поднимает голову и перехватывает мой взгляд.
– Отрезвляет, – произносит он слишком громко из-за надетых наушников.
Наверное, я сама принесла шприц-тюбик на борт. Помню, как перекладывала журнал из повседневной сумки в рабочую, может, шприц застрял между страниц. Или София случайно положила его в коробочку вместе с бисквитным пирогом? Вероятно, так и было.
Я не обращаю внимания на внутренний голос, шепчущий мне, что шприц лежал в школьной сумке Софии, а не в моей. Это не совпадение, что он упал из сумки в сумку не один раз, а дважды. Я обнаружила шприц до того, как открыла коробочку с пирогом. Не обращаю внимания на голос, напоминающий мне о бензине, налитом под дверь; о сброшенных звонках, которые я недавно стала получать; о странном поведении Адама в последние несколько месяцев. Не обращаю внимания ни на что. Это просто шприц-тюбик. Кому какая выгода от появления его в самолете?
Жаль, я не могу написать Бекке и убедиться, что все нормально, станция управления полетами сообщает, что там пока не могут заново запустить Вай-фай. Диндар сделал все возможное для обеспечения рейса: более широкие кресла в экономклассе, самые лучшие фильмы, очистка выхлопа двигателей и бесплатный Вай-фай для всех, независимо от класса. В толстом рекламном проспекте целая страница призывает пассажиров вживую комментировать полет в «Твиттере», используя хештег ЛондонСидней. Он будет просто в ярости.
Я оглядываю салон, пытаясь вычислить журналистов. Первой замечаю женщину с остро очерченным лицом, пишущую колонки в «Мэйл». В жизни она так похожа на свое фото под публикациями, что мне едва ли нужно сверяться со списком пассажиров, хотя я это и проделываю, желая убедиться окончательно. Пишет она под именем Элис Даванти, по летным документам она – Элис Смит. Может, Даванти она по мужу или это просто гламурный псевдоним.
На вычисление второго журналиста уходит больше времени. Я никого не узнаю ни в лицо, ни по имени, и без «Гугла» теряюсь. Медленно шагаю туда-сюда по проходам, заглядывая на экраны лэптопов и в раскрытые книги. Замечаю, что мужчина в круглых очках переснял карту вин в свой ноутбук, а когда иду мимо него во второй раз, он использует обычную камеру, а не телефон, чтобы сделать банальное селфи: «Задрал ноги, смотрю кино». Видно старую школу. Сверяюсь со списком пассажиров: Дерек Треспасс. Несмотря на все его стенания по поводу Вай-фая, он выглядит вполне довольным жизнью.
Я снова прикасаюсь к шприцу, чувствуя себя рядом с Софией и одновременно за тысячи километров от нее. Вспоминаю послание, оставленное ей на подушке, и гадаю, нашла она его или нет. Жаль, что нельзя ей написать. В кабине пилотов есть спутниковый телефон и УКВ-передатчик, при помощи которого летчики каждые полчаса связываются с авиадиспетчерами для проверки или же при входе и выходе из воздушного пространства какой-либо страны. Нередко по этим каналам передаются личные сообщения (мне доводилось летать на рейсах, когда сообщалось о рождении ребенка, а если на чемпионате мира по футболу играет сборная Англии, то отмечается каждый забитый ею гол), но у меня ничего экстренного нет.
– Хочу покрасить стены серым, а главную стену поклеить розово-золотистыми обоями. – Кармела рассказывает мне о купленной ими с бойфрендом квартире.
– По-моему, неплохо.
– Нужен мягкий диван с розовой бархатной обивкой, но вот интересно, а не слишком ли много одного цвета с розово-золотистыми обоями? Что скажешь?
– Наверное.
Я снова гляжу на часы. Время замедлилось, и я жду конца смены, чтобы улечься на койке и задернуть штору. Надеюсь, к тому времени появится Вай-фай, и я смогу написать домой.
В кухню вползает маленькая фигурка. Это Финли, который, наверное, стесняется нажать кнопку вызова.
– Привет, дорогой, – произношу я. – Хочешь что-нибудь перекусить?
Он протягивает мне наушники:
– Не могли бы вы…
– Опять? Господи, что же ты с ними такое делаешь?
На помощь приходит Кармела, развязывая узелки покрытыми белым лаком ногтями.
– Мои постоянно закручиваются. Я аккуратно их сворачиваю, а когда хочу что-то послушать, они как спагетти.
Из салона доносится крик, шум с обеих сторон нарастает. Слышно, как кто-то орет: «На помощь!» У меня душа уходит в пятки. Это наверняка женщина из экономкласса снова закатывает скандал у барной стойки.
Но едва я собираюсь идти разбираться, как в кухню влетает Эрик. Его обычно бесстрастное лицо пылает.
– Что случилось?
Не ответив, он тянется к микрофону громкой связи и говорит спокойным командным тоном, выдающим его волнение:
– Если на борту есть врач, его просят пройти в носовую часть лайнера.
– Кто-то из пассажиров заболел? – спрашивает Кармела.
Я жду, пока Эрик не рявкнет на нее что-то вроде «неужели не ясно?!» Однако он пристально смотрит ей в лицо, и я вижу, что его трясет.
– Не заболел, – отвечает он, – а умер.
Глава десятая
Пассажир 6J
Меня зовут Али Фазиль, и я жалею, что вообще полетел этим рейсом.
По проходам носятся бортпроводники. Повсюду паника – люди кричат, зовут на помощь, встают на сиденья кресел, чтобы посмотреть, что случилось.
Если честно, мне от этого становится легче, поскольку я знаю, что паникую не один я.
Весь полет мне приходилось сидеть вот тут с колотящимся сердцем и взмокшими ладонями, глядя, как все вокруг меня не обращают внимания на опасность, в которой мы оказались. Среди пассажиров наверняка есть неглупые люди, те, кто читает прессу, знает факты. Почему им не так страшно, как мне?
Я знаю, что вы думаете: вам любопытно, почему я полетел рейсом продолжительностью двадцать часов, если я не выношу перелетов? Но порой работа требует, чтобы вы летали, и иного выбора не остается.
Представляю, как бы я написал начальству электронное письмо со словами: «Вообще-то я очень нервничаю, когда летаю, и мысль, что все это время нужно находиться в воздухе, лишает меня сна…»
Какое там летать – меня бы просто уволили.
Сестра твердила мне, что надо увольняться, нельзя быть у кого-то на побегушках, но она знает недостаточно, чтобы все это понять. Есть, конечно, иерархия, как и в любой организации, но мы тянем одну лямку. Мы вроде как семья.
Я пытался избавиться от этой фобии. Прошел курсы гипнотерапии, рефлексотерапии и когнитивно-поведенческой терапии. Смешно, когда ты сам психолог, верно? Неважно, что я делаю: факты всегда одерживают верх.
Вы знаете, сколько людей погибло в авиакатастрофах с 1970 года? 83 772 человека. Разве от этого не запаникуешь? Не подумаешь сто раз, прежде чем подняться на борт самолета?
Причин много. Порой все просто – заканчивается топливо. С водителями автомашин это случается сплошь и рядом, верно? Никто намеренно не остается без бензина, но что-то происходит – приходится ехать кружным путем или застреваешь в пробке, – и вот ты внезапно ползешь и останавливаешься с мигающим красным индикатором топлива. Это очень неприятно: можно часами стоять на обочине или шагать несколько километров, чтобы наполнить канистру, после чего добраться до заправки. Но ты не погибнешь от пустого бензобака.
Если только не летишь самолетом.
В самолетах, знаете ли, топливо тоже кончается, и частенько. Они сбиваются с курса, плохая погода мешает им сесть, или кто-то ошибается в расчетах. Вам известно, что именно пилоты решают, сколько топлива им нужно, а не какая-то машина? А теперь вспомните, сколько раз вы ошибались в расчетах, потому что устали или поскандалили в семье – миллион причин найдется. Всего-то и нужно, что ошибиться, и…
Самолет не может остановиться на обочине. Там нет предупреждающего сигнала, и лайнер не в состоянии медленно затормозить и остановиться. От него не двинешься на заправку. Просто с неба рухнут вниз триста тонн металла.
Вместе с нами. Планктоном, несущимся навстречу смерти.
Иногда разбивается лобовое стекло, и пилота буквально высасывает прямо из кресла. Может случиться пожар: какой-нибудь идиот курит в туалете, а потом гасит окурок бумажным полотенцем для рук. Нас медленно окутывает дымом, пока мы не знаем, то ли задохнемся, то ли сгорим.
А порой, конечно же, это совершается специально.
Пассажиры просто сидят, едят, пьют и делают вид, будто абсолютно нормально висеть в воздухе, и нет ни малейшего шанса рухнуть с неба вниз. Никто не читает памятку по безопасности, не смотрит видео с инструктажем.
Разумеется, я все прочитал и посмотрел. Убедился, что знаю, где находятся выходы. Как только я оказался в салоне, то посчитал ряды кресел, и если погаснет свет, я смогу на ощупь пробраться к двери. Проверил, что спасательный жилет лежит у меня под сиденьем. Если бы было возможно, то вытащил бы кислородную маску и убедился бы, что она исправна.
Я хочу быть готовым ко всему.
В авиакатастрофах выживает более девяноста пяти процентов людей, находящихся на борту, хотя эти проценты включают аварии на взлетно-посадочных полосах, так что данной статистике верить нельзя. Сомневаюсь, что смогут выжить девяносто пять процентов, находящихся в «Боинге-777», который падает в море или врезается в гору. Вряд ли девяносто пять процентов выживут при пожаре, когда они замурованы внутри самолета.
Сейчас все стоят, так что я тоже поднимаюсь, и у меня перехватывает горло. На полу лежит мужчина. Позвали врача, она наклонилась над ним, но он не шевелится, а его лицо…
Я отворачиваюсь. Снова считаю ряды кресел до выхода, проверяю спасательный жилет, достаю памятку по безопасности и перечитываю ее. Жаль, что я не послушался сестру.
Я думал, мы погибнем одновременно: один жуткий, но, слава богу, мгновенный взрыв, который разметает осколки самолета и куски тел на тысячи метров. Но я, наверное, ошибался. Может, мы станем погибать поодиночке.
А этот мужчина – просто первый.
Глава одиннадцатая
19:00. Адам
– София!
Снег чуть смягчает морозный вечерний воздух, молчание становится ответом на мой панический вскрик. Я бегу через сад мимо недолепленного снеговика и трясу дверь сарая, замок на котором покрыт инеем. Сую голову в узкий проем между стеной сарая и забором и снова зову Софию, хотя слежавшийся снег не тронут. Высота у забора почти два метра, она никак не смогла бы через него перелезть, но я все-таки встаю на шаткий садовый стул и заглядываю за забор.
– София!
Когда ей было полтора года, мы пошли всей семьей в детский центр, где заметили женщину, слишком уж пристально смотревшую на нас. Она осторожно приблизилась, и я узнал ее по фотографии из альбома, составленного социальными службами. Это была биологическая бабка Софии, ей перевалило чуть за сорок, и в центре она находилась с самым младшим из своих детей, ровесником Софии. Она ничего не делала, но это нас встревожило, напомнив о мерах безопасности, о каких большинство семей даже не задумываются, размещая фото в «Инстаграме» и регистрируясь на «Фейсбуке».
Неожиданно нас охватила паранойя. Мы никуда не ходили, не оставляли Софию одну в машине, даже когда запирали входную дверь в нескольких метрах от нее. С течением времени биологическая родня Софии не предприняла никаких попыток вступить с нами в контакт, и мы немного расслабились, предоставив дочери независимость, которой так ей хотелось.
Но теперь все по-другому.
Риск больше, последствия хуже, и мне некого позвать на помощь. Ни социальные службы, ни полицию. Я сам заварил эту кашу.
– София!
Я хватаюсь на край забора, деревяшки впиваются мне в пальцы, когда я зову ее, крича в тишину парка. Тусклый зеленовато-желтый свет уличного фонаря падает на тропинку, но ничто не движется, лишь тени вокруг.
Весной, когда я еще цеплялся за иллюзию того, что не делаю ничего плохого, София убежала. Она лежала в кроватке, мы с Майной смотрели телевизор в гостиной и внезапно услышали ее шаги на лестнице. Хлопнула входная дверь. Я поднял голову и увидел во взгляде Майны ту же тревогу, которую ощутил сам. Мы вскочили, вылетели на улицу – я босиком, Майна в тапочках – и разделились, разбежавшись в разные стороны и называя ее имя.
Через двадцать минут я вернулся в дом, обезумев от тревоги. София сидела за кухонным столом и ела печенье, спокойная, словно и не было ничего. Я с облегчением обнял ее и почувствовал, что она на мгновение замерла, как это с ней всегда бывает.
– Ты где была? – спросил я, и чувство успокоения сменилось раздражением.
– Здесь.
София вообще не выходила из дома. Открыла дверь, потом хлопнула ею, а затем спряталась за плотной шторой, которую мы задергиваем зимними вечерами. София наблюдала, как мы, будто сумасшедшие, выскочили на улицу, и слышала наши панические крики, когда мы ее звали.